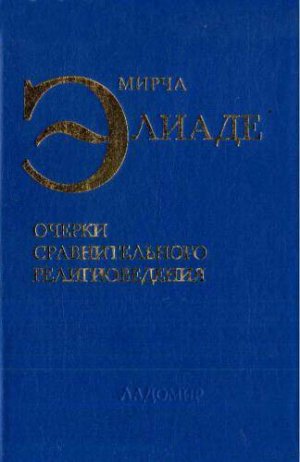
Мирча ЭЛИАДЕ
ОЧЕРКИ СРАВНИТЕЛЬНОГО РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ
PATTERNS IN COMPARATIVE RELIGION, 1958
(TRAITE D’HISTOIRE DES RELIGIONS, 1949)
М.: Ладомир, 1999. — 488 с.
Перевод с английского Ш. А. Богиной, Н. В. Кулаковой, В. Р. Рокитянского, Г. С. Старостина
Предисловие Жоржа Дюмезиля
Послесловие и комментарии В. Я. Петрухина
ПРЕДИСЛОВИЕ
Нельзя сказать, что науки в наш век стареют быстро, поскольку они имеют привилегию не спешить к своему концу. Но как быстро они меняют свой облик! К науке о религиях это относится в той же мере, что и к науке о числах, и к науке о звездах.
Полсотни лет тому назад, и даже несколько позднее, верили, что почти все можно объяснить через сведение религиозных феноменов к некоему общему элементу, через их растворение в некоем общем представлении, имя для которого было выловлено в водах Южных морей: все религии, от самых примитивных до наиболее развитых, представлялись лишь различными вариантами осуществления мана — рассредоточенной мистической силы, не имеющей собственной формы, но готовой принимать любую форму, неопределимой, но характеризуемой самой этой неопределимостью, в силу которой она ускользает от логического рассмотрения. Она присутствовала повсюду, где могла идти речь о религии, и более определенные понятия, такие как сакер и нумен, агиос и тамбос, брахман, дао, даже «благодать» христианства, воспринимались лишь как ее вариации или производные. Целое поколение исследователей посвятило себя задаче установления этого единства Возможно, не без основания. Позднее, однако, пришло осознание того, что они не многого этим достигли: лишь присвоили варварское имя тому, что в качестве специфической характеристики с незапамятных времен позволяло путешественникам, исследователям безошибочно опознавать религиозные проявления, с которыми они сталкивались. Но что сегодня представляется особенно удивительным, что требует осмысления, так это то, что содержанием повсеместных представлений оказывается уже не эта диффузная и малопонятная сила, о которой, по существу, нечего и сказать, а, напротив, структуры, механизмы, равнодействующие, конституирующие всякую религию и различимые во всякой теологии, во всякой мифологии, во всякой литургии. Мы пришли — или вернулись — к идее, что религия есть система, не сводимая к множеству составляющих ее элементов, что она есть продукт мыслительной деятельности, объяснение мира. Говоря кратко, можно сказать, что современное исследование религии развивается под знаком Логоса, а не под знаком мана.
Полсотни лет тому назад, и даже несколько позднее, английский антрополог и французский социолог были едины в постановке двух амбициозных проблем — проблемы происхождения религиозных фактов и проблемы генеалогии религиозных форм. Памятны баталии, которым они предавались по поводу Великого Бога или тотемов. Австралийцам, на которых некоторые школы ссылаются как на последних носителей элементарных форм религиозной жизни, другие школы противопоставляли пигмеев: если первых можно рассматривать как находящихся в некотором отношении на уровне палеолита, то не являются ли религиозные представления вторых еще более архаичными, еще не вполне вышедшими из эмбрионального состояния? Шли споры о генезисе идеи Бога: независима ли она от идеи души или выросла из последней? Предшествовал ли культ мертвых культу природных сил? Вопросы столь же трудные, сколь и тщетные. Эти споры, принимавшие подчас ожесточенный характер, вдохновили их участников на написание замечательных книг и, что важнее, побудили их к наблюдениям и систематизации. Но сами по себе они кончились ничем. В наши дни исследователи их избегают. Наука о религиях предоставила философам решать вопрос об их происхождении — как это сделала несколько раньше наука о языке, как это сделали все науки. Она также отказалась от апостериорного, если можно так выразиться, предписания религиозным формам некоего типа эволюции, некоего необходимого пути развития. Находимся ли мы в XX веке или за шесть тысяч лет до того — мы никогда не находимся вблизи от зарождения форм жизни какой бы то ни было части человечества; мы всегда будем иметь дело с результатами процесса созревания или с цепью случайностей, которые длились десятки столетий; и всегда можно сказать, что полинезийцы и индоевропейцы, семиты и китайцы приходили к своим религиозным представлениям, к своим образам богов весьма различными путями, даже если мы отмечаем черты сходства в конечных пунктах их исторического движения.
Суммируя, можно сказать, что к настоящему времени сложилась тенденция к «восприятию» (по выражению Анри Юбера), к описанию всех существовавших и существующих религиозных систем в их своеобразии и сложности. Но в чем проявляет себя эта тенденция? Какие типы исследований она выдвигает на первый план?
I. Прежде всего, это все более и более подробные описания. Этнографы и историки в ходе своего исследования накапливают самые разнообразные наблюдения и документы и во всякой области, для всякого периода пытаются усмотреть то, что составляет единство, органический характер этой совокупности элементов. Собственно говоря, такие усилия в большей или меньшей степени (причем нередко в достаточно высокой степени) предпринимались во все эпохи.
II. Далее, если вопросы происхождения и генеалогии в их абсолютной форме ушли из поля зрения исследователей, они все же сохранили актуальность в форме более скромной я здравой, применительно к каждому географически и исторически определенному явлению, ставшему предметом описания. В сфере религии, как и в сфере языка, всякое состояние подлежит объяснению и объяснять его нужно не иначе как через его эволюцию, отправляясь от предшествующего состояния, и с учетом имевших место внешних влияний. Отсюда вытекает следующий перечень равно необходимых областей и методов исследования:
1. Для обществ, которые в течение более или менее долгого времени имели литературу или по меньшей мере письменные документы, история религии представляет собой один из частных случаев истории цивилизации или просто истории, и ее исследование как в своей критической, так и в своей конструктивной части не предполагает использования особых методов. «Великие религии», такие как буддизм, христианство, манихейство, ислам, воплощают этот случай в максимальной степени, поскольку литература, из которой мы черпаем информацию о них, восходит практически к началу их эволюции. Впрочем, те же методы используются, хотя и в меньшей степени, в отношении всякой достаточно древней религии начиная с некоторой точки ее развития в ситуации, когда удалось истолковать первые ее зарегистрированные формы.
2. Но указанное условие оказывается очень трудным для исполнения. Мы сталкиваемся с одной и той же трудностью и в случае запоздалого изучения древних религий, и в случае недавно открывшихся феноменов: по разным причинам и читателю Штрелова, и читателю Вед недостает «разгона»; оба они имеют дело со сложной религиозной структурой и даже религиозной литературой, лишенными, однако, каких‑либо средств исторического углубления, т. е. объяснения через предшествующие состояния. И это наиболее распространенный случай; к нему относятся все экзотические религии, открытые исследователями с XVI по XX век, языческие религии Европы, включая религии Рима и Греции, религии древних семитских народов, Китая. В этой области и в этой связи перед наукой о религиях встают следующие несколько задач:
а) Прежде всего, задача чистки: авгиевы конюшни слишком загромождены. Предшествующие поколения оставили нам повсюду объяснения, которые, независимо от того, нелепы они или логичны, должны быть, в общем и целом, отвергнуты. Естественной склонностью всякого историка–специалиста в ситуации, когда, продвигаясь в глубь веков, он попадает в область сумерек, а потом в область полного мрака, является стремление создать в своем воображении, ex nihilo (из ничего), такую предысторию, которая бы с наименьшими издержками прочерчивала путь от первых документов до гипотетического абсолютного начала. Латинисты в своих объяснениях римской религии отправляются от неких туманных numina (божеств; духов умерших — средоточия мана), из которых лишь считанные, в силу благоприятных исторических обстоятельств, конкретизировались в личных богов. Многие индологи все еще не освободились от гипноза миражей Макса Мюллера и продолжают слышать в ведических гимнах естественную реакцию первобытного человека на великий феномен Природы; другие же недалеки от того, чтобы видеть в этих гимнах только чистую игру духа или явление стиля — еще одна форма творения ex nihilo. Все эти объяснения искусственны, и все они заслуживают признания — но как произведения искусства их создателей.
б) Те, далее, кто, решая позитивные задачи применением компаративных методов, пришли к объективному продлению истории, выиграли несколько веков на предысторию. Сравнивая тотемизм арунта с аналогичными, хотя и отличающимися формами, которые практикуют другие аборигены Австралии, удалось определить вероятный ход эволюции начиная с некоторого древнего (разумеется, не примитивного) общего состояния: в силу ли общности происхождения или вековых взаимодействий у австралийцев, по существу, сформировался некий «культурный круг», и к их религиям, к их цивилизациям можно mutatis mutandi (изменив то, что следует изменить) применить те методы сравнительного исследования, которые позволяют лингвисту, когда он располагает группой языков, генетически родственных или сблизившихся в результате интенсивных заимствований, прийти к определенным и надежным данным об их прошлом. Полинезия, различные зоны Африки и Америки в значительной степени доступны для применения таких методов.
Кроме того, при сравнении форм религии, зафиксированных как наиболее древние у различных народов, которые уже не помнят и не ощущают себя творцами начальных этапов своей истории, но относительно которых мы знаем — через рассмотрение их языка, — что они возникли в результате рассеяния одного доисторического народа, можно делать вероятные умозаключения о религии этого доисторического народа и, как следствие, о различной эволюции, которую, отправляясь от этой фиксированной точки, реконструированной, но не произвольной, проделали производные народы вплоть до соответствующих исторических рубежей, вплоть до первых известных форм их религий. Таким именно образом для семитских народов, а позднее — для индоевропейцев удалось отвоевать одно или два тысячелетия tempera incognita (непознанных времен). Прибыль невелика, если сравнить ее с тем, что составляло амбиции Тейлора или даже Дюркгейма, но эта прибыль надежна, и она к тому же служит промежуточным звеном, которое займет достойное место в деле конечного построения естественной истории человеческого духа.
3. Третья категория исследований пересекается с предыдущими. Подобно тому, как наряду с дескриптивной лингвистикой, с исторической лингвистикой (вместе с ее разновидностью — компаративной лингвистикой каждой семьи языков) есть место и для общего языкознания, следует также и в религиоведении, не повторяя ошибок недавнего прошлого, сравнивать — но не генеалогически, а типологически — все, что в самых различных структурах и случаях эволюции представляется сравнимым, — ритуальные и концептуальные функции, имеющие всеобщее распространение, представления, навязывающие себя человеку, каковы бы они ни были, те представления, которые, сосуществуя, обычно воздействуют друг на друга. Следует изучать, выделяя постоянные и переменные составляющие, механизмы мифологического мышления, взаимоотношения мифа с другими составляющими религии, коммуникации между мифом, сказкой, историей, философией, искусством, сновидением. Следует уделять внимание всякому попадающемуся на пути пункту «синтетического наблюдения» — их бесконечное множество — и, пользуясь каждым из них, конституировать некоторый «репертуар», который чаще всего не будет выходом на точную формулировку проблемы, тем более на ее решение, а как и всякий перечень, будет временным и неполным, но в то же время поможет исследователям, работающим в указанных выше историческом, компаративистском и синтетическом направлениях, прояснит им проблематику, вдохновит их.
Такого рода деятельность уже помогла составить важную библиотеку; она исподволь накапливалась, в то время как в центре внимания последовательно оказывались более яркие теории. Сюда относятся собрания «аграрной» информации В. Маннхардта и Дж. Фрэзера, монографии — я перечисляю в случайном порядке — о святилищах, алтарях, жертвоприношениях, о пороге, танце, договоре, скрепляемом кровью, о культовых деревьях или возвышенностях, о культе воды, о дурном глазе, о космогониях, о самых разных животных как элементах мифологических представлений, о мистике чисел, о сексуальных практиках — и о сотнях других предметов, которые описывались авторами, не причислявшими себя ни к какой школе. Разумеется, среди этой продукции большое количество брака, больше, быть может, чем серьезных приобретений. В такие изыскания нередко пускаются люди мало подготовленные, или находящиеся в стесненных обстоятельствах, или же недостаточно щепетильные, и именно здесь, под прикрытием этикета, «социологического» или иного, легко находят себе место шарлатанство, догматизм и самомнение. Не важно — дело преподавателя, как не совсем верно выражаются, «истории религий», — отделить зерна от плевел и предупредить студентов об опасности.
Таковы три области, или три точки зрения, на которые разделяется наука о религиях. Можно сохранять надежду на то, что когда‑нибудь, в далеком будущем, они соединятся в рамках гармоничного синтеза, приносящего удовлетворение от заключенного в нем неоспоримого знания. Наши внуки еще не увидят этого счастливого времени. Долго еще каждый будет работать в своей области, на своем участке — как историки–специалисты, так и обоего рода компаративисты (генеалогисты и типологисты), часто игнорируя друг друга, иногда ссорясь, преступая границы чужих прав. Но не так ли развивается всякая наука, и не через подчинение ли некоему «плану» может она обрести внутреннюю связность?
Время от времени есть смысл осмотреться и определить, где мы находимся. Именно этой цели служит в первую очередь трактат, опубликованный г–ном Мирчей Элиаде. Будучи профессором религиоведения в Бухарестском университете, автор скоро ощутил необходимость «начального курса» по предмету, в котором всякий считает себя знатоком и который в действительности весьма труден. Из курса, читанного в течение семи лет, родилась книга. Горячий, предприимчивый, вооруженный огромной эрудицией и образованием индолога, г–н Элиаде уже немало сделал для нашей науки: я имею в виду его «Йогу», три книжки превосходного румынского журнала по истории религий «Zalmoxis» и, если говорить о совсем последнем времени, замечательное обсуждение проблем шаманизма, опубликованное им в нашем «Revue de l’Histoire des Religions».
Читая названия глав этой книги, встречая поочередно такие слова, как «вода», «небо», «солнце», некоторые, быть может, вспомнят Макса Мюллера; это воспоминание полезно: переведя взгляд с этих слов на тексты, они смогут увидеть, что после чрезмерной реакции на крайности натурализма наука о религиях осознает теперь важность этих представлений, которые составляют первичный, наиболее общий материал для мифологической мысли; но они в то же время увидят, что интерпретация радикально изменилась: эти космические иерофании, как выражается г–н Элиаде, суть лишь оболочка для глубинных мыслительных конструкций; эта морфология сакрального есть перевод на язык символов диалектики сакрального, которая лишь опирается на природные явления Это и есть та «философия до философов», которая обнаруживается при наблюдении простейших религий и на почве которой вырастает работа по объяснению и связыванию воедино, работа теоретическая в самом полном смысле слова. Данная книга должна дать почувствовать свойственные этой «философии» стройность и благородство, а также ее единство для разных континентов (включая нашу Европу) — единство, которое конечно же не следует преувеличивать, но которое благотворно сказывается на состоянии новичка, испытывающего головокружение от блуждания в лабиринте фактов.
Само собой разумеется, г–н Элиаде лучше, чем кто‑либо другой, знает, что всякий такого рода синтез предполагает, даже требует некоторой позиции, каких‑то постулатов, обосновывающих его эффективность, что он всегда носит личный, временный характер и по меньшей мере допускает возможность совершенствования. Эта исходная авторская позиция составляет, впрочем, одно из достоинств книги. Относительно структуры и функционирования мифологического мышления, относительно таких дорогих автору понятий, как архетип и повторение, высказаны ясные и на многое проливающие свет идеи, которым суждена жизнь не только долгая, но и плодотворная.
Наконец, именно сегодня в Париже, во Франции, эта книга оказывает нам особую услугу, ибо следует признать, что, хотя у нас немало историков христианства, буддизма и вообще различных религий человечества, и притом выдающихся, слишком мало ученых (я имею в виду подлинных ученых) посвящают себя сравнительным и обобщающим исследованиям, как потому, что они требуют слишком кропотливой подготовки, так и потому, что они в большой мере дискредитированы любителями, иногда занимавшими вполне официальное положение. В будущем такие исследования не перестанут быть необходимыми и важными. Это хорошо, что Сорбонна ежегодно выдает дипломы по «истории религий» с несколькими специализациями, но — забавный парадокс — этот предмет здесь не преподается. Практически дело сводится к испытаниям филологического характера, с очень строгими требованиями к дипломантам. Что же касается остального, в том числе собственно «науки о религиях», то требования здесь случайны и сомнительны, и я не уверен, что Дж. Фрэзер, который, помимо английского, французского и немецкого, владел лишь греческим и латынью, сумел бы получить диплом по специальности «религия у нецивилизованных народов». А ведь это было бы потерей!
Жорж Дюмезиль
Париж, 1949
ОТ АВТОРА
Современная наука восстановила в правах принцип, авторитет которого серьезно пострадал от путаницы в умах, свойственной XIX веку: «Явление творится масштабом его восприятия». «Сочтет ли естествоиспытатель, изучавший слона исключительно под микроскопом, достаточно полным свое представление об этом животном?» — спрашивал с иронией Анри Пуанкаре. Микроскоп показывает строение клетки и происходящие в ней процессы, то самое строение и те самые процессы, которые одинаковы во всех многоклеточных организмах. Слон и в самом деле представляет собой многоклеточный организм, но можно ли утверждать, что это его исчерпывающая характеристика? На уровне восприятия через микроскоп мы не найдем оснований для определенного ответа. Однако на уровне восприятия невооруженным глазом, где слон, во всяком случае, предстает зоологическим объектом, все становится на свои места. Точно так же религиозное явление может быть воспринято в своем подлинном существе, только если подход исследователя адекватен исследуемому явлению, если, иными словами, к нему подходят с религиозным же мерилом. Попытка познать существо таких явлений средствами физиологии, психологии, социологии, экономики, лингвистики, искусствоведения или какой‑либо другой дисциплины обречена на неудачу; при этом ускользает именно то, что составляет их уникальное и ни к чему не сводимое свойство — их священный характер. Очевидно, что не существует чисто религиозных явлений; ни одно явление не может быть единственно и исключительно религиозным. Будучи принадлежностью человеческого мира, религия в силу этого обстоятельства есть с неизбежностью нечто социальное, нечто языковое, нечто экономическое — человек не мыслим вне языка или общества. Но было бы безнадежным делом пытаться объяснить религию в терминах какой‑либо из этих фундаментальных функций, которые в своей совокупности суть не что иное, как определение того, что есть человек. Это столь же тщетно, как пересказывать «Мадам Бовари», перечисляя соответствующие факты — социальные, экономические, политические; сколь бы они ни соответствовали действительности, специфика произведения литературы останется незатронутой.
Я далек от того, чтобы отрицать полезность разностороннего подхода к религиозным явлениям. Но в первую очередь они должны рассматриваться как таковые, в тех своих характеристиках, которые составляют их своеобразие и не могут быть сведены к чему‑либо другому. Это нелегкая задача. Она предполагает если и не точное определение религиозного явления, то по меньшей мере уяснение его границ и тех отношений, в которых оно находится с другими духовными феноменами. И как замечает Роже Кайюа в начале своей блестящей книжечки «Человек и священное»: «По существу, единственно осмысленное, что можно сказать о священном, или сакральном вообще, содержится в самом значении этого термина: что оно есть противоположность мирского, профанного. Как только мы пытаемся уточнить природу, модальность этой оппозиции, мы наталкиваемся на препятствия. Ни одна формула, сколь бы фундаментальной она ни была, не в состоянии охватить того сложнейшего сплетения, которое нам являет совокупность фактов». Что же касается наших исследований, то нас в первую очередь интересовали как раз эти факты, сложнейший лабиринт фактов, который не укладывается ни в какую формулу и ни в какое определение. Табу, ритуал, символ, миф, демон, бог — вот некоторые из них; было бы, однако, недопустимым упрощением свести все дело к подобному перечню. Наш материал — многообразная, по существу хаотическая масса действий, верований и воззрений, в совокупности составляющих то, что можно назвать религиозным явлением.
Предмет этой книги составляют две взаимосвязанные проблемы: 1) что такое религия? 2) в какой мере можно говорить об истории религий? Сомневаясь в том, что целесообразно начинать с дефиниции религиозного явления, мы решили начать с рассмотрения разнообразных «иерофаний» — в самом широком смысле этого термина (как феноменов, служащих манифестацией сакрального). Таким образом, проблему истории религиозных форм мы сможем поставить только после того, как рассмотрим достаточно большое число этих форм. Нам также не представляется оправданным, с учетом поставленных нами перед собой целей, говорить о религиозных явлениях, двигаясь «от простого к сложному», — мы имеем в виду изложение, начинающееся с наиболее элементарных иерофаний (мана, необычное и т. д.), переходящее далее к тотемизму, фетишизму, поклонению природе или духам, потом богам и демонам и приводящее нас в конечном счете к монотеистической идее Бога. Такой порядок изложения был бы вполне произвольным; он предполагает эволюцию религиозных явлений «от простого к сложному», что является всего лишь гипотезой и доказано быть не может: нам еще нигде не встречалась простая религия, сводящаяся исключительно к элементарным иерофаниям. С другой стороны, такое изложение противоречило бы поставленной нами цели: показать, что такое религиозные факты и что нам в них раскрывается.
Путь, которым мы следовали, если и не более прост, то более надежен. Мы начали это исследование с рассказа о некоторых космических иерофаниях, с сакрального, открывающегося на различных космических уровнях — Неба, Вод, Земли, Камней. Мы выбрали именно эти классы иерофаний не потому, что считаем их самыми древними (историческая проблема пока еще не встает), а потому, что их описание показывает нам, с одной стороны, диалектику священного, а с другой — те формы, которые священное принимает. К примеру, изучение небесных и вещих иерофаний дает нам документальный материал, помогающий нам понять: 1) точный смысл манифестаций священного на этих космических уровнях (Неба и Воды), 2) то, в какой мере уранические и акватические иерофании являются автономными образованиями — иначе сказать, раскрывают ряд взаимодополнительных модальностей священного. Мы переходим далее к биологическим иерофаниям (лунным ритмам, Солнцу, растительности и сельскому хозяйству, сексуальности и т. д.), затем к топическим иерофаниям (освященным местам, храмам и т. д.) и, наконец, к мифам и символам. Обозрев достаточное количество такого материала, мы сможем в будущей книге обратиться к другим проблемам истории религий: «божественным образам», отношениям между человеком и священным и манипуляциям со священным (ритуалы и т. д.), магии и религии, представлениям о душе и смерти, проблеме посвященных лиц (жрец, колдун, царь, проходящий инициацию и т. д.), связям между мифом, символом и идеограммой, возможности построения основ истории религий и так далее.
Это вовсе не значит, что мы будем обсуждать каждую из названных тем отдельно, как в энциклопедических статьях, тщательно избегая, к примеру, упоминаний о мифе или символе в статье, посвященной акватическим и лунным иерофаниям. Не собираемся мы и принимать на себя обязательства ограничить обсуждение вопроса о божественных фигурах пределами главы «Боги» и т. д. Напротив, читатель, вероятно, удивится, обнаружив немало материала о богах Неба и воздуха в главе об иерофаниях Неба и встретив в той же главе упоминания и даже обсуждение символов, ритуалов, мифов и идеограмм. Характер самого предмета изучения предопределяет постоянные тематические переклички между главами. Невозможно говорить о сакральности Неба, обходя молчанием те божественные фигуры, в которых отражается эта сакральность и которые ей причастны, или некоторые из уранических мифов, или ритуалы, связанные с культом Неба, или символы и идеограммы, его олицетворяющие. Во всем перечисленном по–своему выказана некоторая модальность небесного культа или его истории. Но поскольку и для мифа, и для ритуала, и для «божественных фигур» отведены у нас специальные места, в главе о Небе мы, не колеблясь, пользуемся этими терминами в их прямом смысле. Точно так же при обсуждении иерофаний теллурических, растительных и аграрных нас будут интересовать манифестации священного на этих биокосмических уровнях, а вопрос о богах растительного мира и сельского хозяйства будет отнесен в главу о «божественных образах». Но это не означает, что мы не будем упоминать о богах, ритуалах, мифах или символах растительности и сельского хозяйства в начале нашего исследования. Цель этих первых глав состоит в том, чтобы по возможности выявить структуру космических иерофаний, т. е. показать, что являет нам сакральное через свои манифестации — небесные, водные, растительные и т. д.
Если взвесить преимущества и недостатки такого способа изложения, то окажется, что первые явно перевешивают. Тому можно привести целый ряд подтверждений:
(1) Мы избавлены от необходимости давать априорную дефиницию религиозного явления; читатель сможет сам, по мере последовательного освоения глав этой книги, подумать над морфологией священного.
(2) Анализ каждой группы иерофаний (Неба, Вод, Растительности и т. д.), выявляя естественным образом различные модальности священного и помогая понять, как они складываются в целостную систему, должен в то же время расчистить почву для итогового обсуждения сущности религии.
(3) Одновременное рассмотрение «низших» и «высших» религиозных форм позволяет увидеть их общие элементы и избежать тех ошибок, которые свойственны «эволюционистской», или «западнической», точке зрения.
(4) Не происходит излишней фрагментации религиозного целого, поскольку каждый класс иерофаний (акватические, небесные, растительные и т. д.) образует своего рода целое, как с точки зрения морфологии (речь идет о богах, мифах, символах и т. д.), так и с исторической точки зрения (поскольку исследователю нередко приходится иметь дело с множеством культур, отстоящих далеко друг от друга во времени и пространстве).
(5) В каждой главе будет представлена одна из модальностей священного, один ряд отношений человека со священным и, в рамках этих отношений, один ряд «исторических моментов».
В этом, и только в этом, смысле данная книга может носить название «Трактата по истории религий» в той, мы хотим сказать, мере, в какой она вводит читателя в сложное переплетение религиозных фактов, знакомит его с лежащими в их основании фундаментальными структурами и с разнообразием культурных кругов, к которым они относятся. Мы попытались каждую главу построить по особому плану, придать ей даже свой «стиль», чтобы избежать свойственной всякому дидактическому тексту монотонности. Разбивка на параграфы произведена таким образом, чтобы максимально упростить ссылки. В то же время смысл книги может быть понят не иначе как путем ее сквозного прочтения; это ни в коей мере не справочная книга. Приводимая нами библиография должна послужить ориентиром для тех, кто начинает исследования в этой области; ее ни в коем случае нельзя считать исчерпывающей и даже достаточной. Мы, однако, попытались включить в нее представителей возможно большего числа концепций и методологий.
Значительная часть результатов морфологического анализа и методологических выводов этой книги составила предмет нашего курса истории религий в Бухарестском университете и двух курсов лекций, прочитанных нами в Ecole des Hautes Etudes в Сорбонне (Recherches sur la morphologie du sacré, 1946, Recherches sur la sructure des mythes, 1948). Для английского издания были сделаны поправки в тексте, внесены дополнения в библиографию.
Мирча Элиаде
Глава I
ПОДСТУПЫ: СТРУКТУРА И МОРФОЛОГИЯ САКРАЛЬНОГО
1. «САКРАЛЬНОЕ» И «ПРОФАННОЕ»[1]
Все предпринятые до сих пор попытки дать определение феномена религиозного имеют между собой нечто общее: каждое из этих определений по–своему противополагает друг другу сакральное и религиозную жизнь, с одной стороны, и профанное и мирскую жизнь — с другой. Всякий раз, однако, когда мы пытаемся очертить границы понятия сакрального, мы сталкиваемся с трудностями как теоретическими, так и практическими. Ибо раньше, чем пытаться определить феномен религиозного, необходимо обсудить факты религиозного, прежде всего и по преимуществу те факты, что являют себя «в чистом виде» — те, иначе говоря, которые «просты» и, возможно, более близки к своему источнику. К несчастью, такого рода фактов мы не находим нигде — ни в обществах, историю которых мы знаем, ни у «примитивных» народов, не охваченных современной цивилизацией. Практически везде мы сталкиваемся со сложными религиозными явлениями, предполагающими длительную историческую эволюцию.
Далее, значительные практические трудности встают и на пути сбора эмпирического материала. Тому есть две причины: 1) даже если удовлетвориться изучением одной религии, жизни одного человека едва ли хватит, чтобы завершить исследование; 2) если же поставить своей целью сравнительное исследование религий, то для этого будет недостаточно и нескольких жизней. Между тем, нас‑то интересует как раз сравнительное исследование, ибо только оно дает возможность проследить как меняющуюся морфологию сакрального, так и его историческое развитие. Предпринимая такое исследование, мы поэтому вынуждены выбрать лишь некоторые религии из тех, которые зафиксированы историей или открыты этнологией, и к тому же лишь отдельные аспекты или этапы эволюции этих религий.
Этот выбор, даже если ограничить его наиболее типичными проявлениями, отнюдь не прост. В самом деле, для того чтобы очертить границы сакрального и дать ему определение, мы должны располагать достаточным количеством проявлений сакрального, «сакральных фактов». Разнообразие этих «сакральных фактов», будучи с самого начала источником затруднений, постепенно становится парализующим. Ведь речь идет о ритуалах, мифах, божественных образах, священных и почитаемых предметах, символах, космологиях, теологуменах, людях, получивших посвящение, животных и растениях, священных местах и многом другом. Притом каждая из этих категорий имеет свою, богатую и разнообразную морфологию. Мы, таким образом, оказываемся перед лицом необычайно обширного и разнородного фактического материала, в котором меланезийский космогонический миф или брахманистское жертвоприношение имеют не больше прав на внимание исследователя, чем мистические тексты святой Терезы или Нитирэна, австралийский тотем, примитивный ритуал инициации, символика храма Боробудур, ритуальное одеяние и пляска сибирского шамана, повсеместно встречающиеся священные камни, сельскохозяйственные обряды, мифы и ритуалы, связанные с культом Великой Богини, интронизация монарха в архаических обществах или суеверия, связанные с драгоценными камнями, и т. д. и т. п. Каждый из этих фактов может рассматриваться как иерофания[2] в той мере, в какой он присущим ему образом выражает некоторую модальность сакрального и некоторый момент его истории, иначе сказать, одну из бесчисленных разновидностей пережитого или переживаемого человеком опыта сакрального. Каждый из них драгоценен для нас, будучи источником двоякого знания: как иерофания, он раскрывает нам некоторую модальность сакрального; как историческое событие, он выявляет одну из ситуаций, в которые ставит человека его приобщение к сакральному. Вот, к примеру, ведический текст, обращенный к умершему: «Ползи к Матери–Земле! Да спасет она тебя из небытия!»[3] Этот текст открывает нам структуру теллурической сакральности: Земля рассматривается как мать, Tellus Mater. Но в то же время он показывает определенный момент в истории индийских религий, момент, когда эта Tellus Mater обрела качество — в сознании, по крайней мере, некоторой группы людей — защитницы от уничтожения, качество, которое позднее было утрачено под влиянием реформы, связанной с Упанишадами и проповедями Будды[4].
Возвращаясь к тому, с чего мы начали, следует сказать, что все категории фактов (мифы, ритуалы, божества, суеверия и т. д.) равно значимы для нас, если мы хотим понимать феномен религиозного. А такое понимание всегда осуществляется в связи с историей в силу того простого обстоятельства, что всякий раз, когда мы имеем дело с иерофанией, мы имеем дело с историческим фактом. Сакральное являет себя нам всегда в определенной исторической ситуации. Мистический опыт, даже самый интимный и трансцендентный, испытывает влияние обстоятельств своего времени. Еврейские пророки многим обязаны тем конкретным историческим событиям, которые служили оправданием и подтверждением их проповеди, равно как и всей религиозной истории Израиля, позволившей им выразить свой опыт в слове. В качестве исторического феномена — не в качестве личного опыта — нигилизм и онтологизм некоторых мистиков, принадлежавших традиции Махаяны, был бы невозможен без умозрения Упанишад, без эволюции санскрита и т. д. Мы вовсе не хотим этим сказать, что всякая иерофания или всякий религиозный опыт представляет собой уникальный, не допускающий повторения момент духовной истории. Величайшие духовные события подобны друг другу не только содержанием, но часто и формой выражения. Рудольф Отто обнаружил поразительные моменты сходства в словаре и формулировках между Мейстером Экхартом[5] и Шанкарой[6].
Тот факт, что иерофания всегда исторична (т. е. что она всегда имеет место в определенных обстоятельствах), не исключает для нее возможности быть универсальной. Некоторые иерофании имеют локальное значение, но существуют и такие, которые имеют или приобретают универсальную значимость. Индийцы, к примеру, поклоняются дереву, именуемому Ашваттха;[7] манифестация сакрального в этом именно виде растения действительна для них одних, ибо для них одних Ашваттха есть иерофания, а не просто дерево. Следовательно, эта иерофания носит не только исторический (что свойственно всякой иерофании), но и локальный характер. Между тем индийцам известен также и символ Космического дерева (Axis Mundi — ось Мира), а эта мифосимволическая иерофания является универсальной, так как Космические деревья встречаются во всех древних цивилизациях. Следует уточнить, что Ашваттха почитается в той мере, в какой это дерево воплощает в себе сакральность непрерывно возрождающейся Вселенной; иначе говоря, оно служит объектом поклонения постольку, поскольку воплощает в себе или символизирует Вселенную, представляемую Космическими деревьями всех мифологий (ср. § 99). Но при том, что символическое значение Ашваттхи таково же, что и у Космического дерева, данная иерофания, претворяющая растительный вид в сакральное дерево, не действительна ни для кого, кроме членов индийского общества.
Можно привести еще один пример — на этот раз пример иерофании, оставшейся в прошлом народа, в среде которого она имела место. Семиты на одном из этапов своей истории поклонялись божественной супружеской паре — Богу бури и плодородия (fécondité) Баалу и Богине плодородия (fertilité), особенно аграрного плодородия, Белит. Еврейские пророки считали эти культы святотатственными. С их точки зрения — т. е. с точки зрения семитов, которые в результате Моисеевых реформ пришли к более возвышенным, более чистым и более цельным представлениям о божестве, — эта критика была вполне справедливой. И все же древнесемитский культ Баала и Белит — это тоже иерофания; в нем раскрываются — пусть в гротескно преувеличенных, чудовищных формах — сакральный характер органической жизни, стихийные силы крови, сексуальности и плодородия. Это Откровение сохраняло свое значение если не тысячелетиями, то, по крайней мере, в течение многих столетий. Оно продолжало восприниматься в качестве иерофании до тех пор, пока не было заменено другим, которое — сформировавшись в религиозном опыте элиты — утвердилось как более совершенное и более утешительное. «Божественная форма» Яхве возобладала над «божественной формой» Баала. Первый являл сакральное более совершенным образом, чем второй; он освящал жизнь, держа в узде стихийные силы, буйство которых было свойственно культу Баала; он являл такой образ духовности, в котором жизнь и судьба человека обретали новую ценность. В то же время он предоставлял возможность более богатого религиозного опыта общения с богом — одновременно и более «чистого», и более полного. В конечном счете иерофания Яхве одержала победу. Представляя собой универсалистскую модальность сакрального, она по самой своей природе оказалась более открытой другим культурам и стала, через посредство христианства, мировой религиозной ценностью. Мы можем, таким образом, сделать вывод, что некоторые иерофании (ритуалы, культы, божественные формы, символы и т. д.) являются или становятся мультивалентными или универсалистскими; другие же остаются местными или связанными с ограниченным историческим периодом; закрытые для других культур, они погружаются в забвение в ходе истории того самого общества, где они возникли.
2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ
Вернемся, однако, к уже упоминавшейся большой практической трудности — крайней разнородности фактического материала. Дело только усугубляется тем обстоятельством, что область, откуда мы черпали эти сотни тысяч свидетельств, практически безгранична. Притом, с одной стороны (как и в отношении всего исторического материала), то, чем мы располагаем, сохранилось более или менее случайно (это касается не только письменных текстов, но и памятников, мемориальных надписей, устных традиций и обычаев). С другой — сохраненное случаем поступает к нам из множества различных источников. Если, к примеру, для реконструкции ранних форм древнегреческой религии нам приходится довольствоваться немногими сохранившимися текстами, несколькими надписями, несколькими поврежденным и памятниками и несколькими вставными предметами, то для реконструкции германских или славянских религий мы вынуждены обращаться к фольклорному материалу, мирясь с тем риском, который неизбежно присутствует в работе с таким материалом и в его интерпретации. Руническая надпись, миф, записанный через несколько веков после того, как его перестали понимать, несколько символических гравюр, несколько протоисторических памятников, множество ритуалов и народных легенд прошлого века — можно ли представить себе что‑либо более разношерстное, чем фактический материал, которым располагают историки германских и славянских религий?[8] Подобное смешение было бы допустимо при изучении одной религии, но оно серьезно осложняет задачу, когда речь идет о сравнительном изучении религий или попытке охвата большого числа модальностей сакрального.
Дело обстоит приблизительно так, как если бы критику пришлось писать историю французской литературы, не располагая никаким материалом, кроме фрагментов Расина, испанского перевода Лабрюйера, нескольких текстов, цитированных иностранным критиком, литературных воспоминаний отдельных путешественников и дипломатов, каталога провинциальной библиотеки, записей и контрольных работ, выполненных школьником, и еще какого‑то количества подобного рода свидетельств. Но именно такова информация, которой располагает историк религий: несколько фрагментов обширной культовой устной традиции (продукции исключительно одного общественного класса), отдельные упоминания в записках путешественников, материалы, собранные иностранными миссионерами, суждения, извлеченные из светской литературы, немного памятников, надписей и те реминисценции, что сохранились в народных обрядах. Конечно же все исторические науки ограничены в своих возможностях такого рода отрывочным и случайным наследием. Но предприятие историка религий представляется много более дерзким, чем то, что делает любой другой историк, которому нужно восстановить событие или ряд событий на основе сохранившегося скудного материала. Он должен не только проследить историю некоторой иерофании (ритуала, мифа, божества или культа), но в первую очередь понять и сделать понятной модальность сакрального, раскрываемую этой иерофанией. И если интерпретация иерофании есть само по себе дело нелегкое, то разнородность и случайный характер доступного нам материала делают его много более трудным. Представьте себе положение буддиста, у которого — чтобы понять христианство — нет ничего, кроме отрывков из Евангелия, католического служебника, разнородного иконографического материала (византийских икон, статуй святых эпохи барокко, православных священнических облачений), но у которого при этом есть возможность изучить религиозную жизнь европейской деревни. Буддийский наблюдатель отметил бы, без сомнения, существенное различие между религиозной жизнью крестьян и богословскими, моральными и мистическими воззрениями деревенского священника. Но будучи совершенно прав в констатации этого различия, он, однако, совершил бы ошибку, если бы отказался судить о христианстве по тем традициям, которые сохранены одним священником, а «подлинными» признал бы исключительно лишь те формы религиозности, которые можно наблюдать в жизни деревенского сообщества. Модальности сакрального, явленные христианством, на самом деле лучше сохранены в той традиции, которую представляет священник (сколь бы сильно она ни была окрашена историей и теологией), чем в верованиях жителей деревни. Ведь наблюдателя интересует не какой‑то момент в истории христианства, не какая‑то часть христианского целого, но христианская религия как таковая. Тот факт, что лишь один человек из всей деревни знает ритуал, учение и мистику христианства, тогда как вся паства невежественна в этом отношении и практикует элементарный культ, начиненный суевериями (т. е. остатками обесценившихся иерофаний), не имеет, по крайней мере в этом случае, никакого значения. Имеет значение то, что этот единственный человек наиболее полно сохранил если и не первоначальный опыт христианства, то, во всяком случае, его основные элементы и его мистические, теологические и ритуальные ценности.
Эта методологическая ошибка встречается в этнологии достаточно часто. П. Радин[9] считает себя вправе отвергнуть выводы, к которым пришел в своих исследованиях миссионер Гусинде, поскольку тот ограничился интервьюированием одного человека. Такая позиция была бы оправданной только в том случае, если бы исследование ставило перед собой строго социологические задачи: изучить религиозную жизнь огнеземельской общины в данный исторический момент. Если же речь идет о способности огнеземельцев переживать опыт сакрального, то ситуация оказывается совершенно иной. А способность аборигенов к восприятию различных модальностей сакрального как раз и является одной из важнейших проблем истории религий. В самом деле, если удается показать (как это и было сделано в последние десятилетия), что религиозная жизнь наиболее низкоразвитых народов в действительности сложна, что она не может быть сведена к «анимизму», «тотемизму» или культу предков, но что ей ведомы также и верховные существа, наделенные всеми достоинствами всемогущего Творца, то этим эволюционистская гипотеза, отрицающая доступность для первобытнообщинных народов «высших иерофаний», полностью лишается почвы[10].
3. РАЗНООБРАЗИЕ ИЕРОФАНИЙ.
Сравнения, к которым мы прибегли, чтобы дать почувствовать, сколь ненадежен фактический материал, которым располагает историк религий, являются, разумеется, лишь гипотетическими и должны рассматриваться как таковые. Но они призваны обосновать использованный в настоящей работе метод. В какой мере имеем мы право — принимая во внимание разнородность и ненадежность доступного фактического материала — говорить о «модальностях сакрального»? О реальном существовании этих модальностей свидетельствует тот факт, что одна и та же иерофания по–разному переживается и интерпретируется религиозной элитой и остальной частью сообщества. Для народа, сходящегося с началом осени в храм Калигат в Калькутте, Дурга[11] — это грозная богиня, которой приносят в жертву козлов; но для немногих посвященных шакти Дурга — манифестация непрерывно и неудержимо возрождающейся космической жизни. Весьма вероятно, что среди поклоняющихся лингаму Шивы[12] очень многие не видят в нем ничего, кроме архетипа детородного органа; но есть и другие, кто воспринимает его как знак, как «икону» ритмического творения и разрушения Вселенной, выражающей себя в формах и периодически возвращающейся в первичное, доформенное единство, чтобы потом самовыразиться вновь. Что же составляет истинное содержание иерофаний Дурги и Шивы: то, что разгадано «посвященными», или то, что воспринято массами верующих? На последующих страницах мы попытаемся показать, что то и другое равноценно, что смысл, придаваемый этому явлению массами, представляет столь же реальную, столь же подлинную модальность сакрального, манифестируемую Дургой или Шивой, что и интерпретация, которую дают посвященные. И мы сможем показать, что эти две иерофаний согласны друг с другом, что, иначе сказать, открываемые ими модальности сакрального ни в коей мере не противоречат друг другу, что, напротив, они дополняют друг друга, составляя части единого целого. Мы вправе поэтому приписывать равную ценность и данным массового опыта, и данным, отражающим опыт элиты. Обе категории данных являются необходимыми — и не только для того, чтобы мы могли проследить историю той или иной иерофаний, но, что еще важнее, для того, чтобы установить, какие модальности сакрального эта иерофания демонстрирует.
Наши наблюдения — обильно иллюстрируемые в настоящей книге — приложимы и к тому многообразию иерофаний, о котором шла речь выше. Поскольку — как уже было сказано — эти данные разнородны не только по своему происхождению (одни исходят от священников или посвященных, другие — от масс, в одних случаях мы имеем дело не более чем с намеками, фрагментами или слухами, в других — с оригинальными текстами и т. д.), но и по форме. Например, растительные иерофаний (т. е. сакральное, раскрывающее себя через посредство растительных форм) в равной мере принимают форму как символов (таких как Космическое дерево) или метафизических мифов (Древо Жизни), так и «народных» обрядов (церемониальные процессии с Майским деревом, сжигание обрядовых поленьев, аграрные ритуалы); верований, основанных на идее растительного происхождения человечества, мистической связи, устанавливаемой между определенными деревьями и отдельными индивидами или сообществами; поверий о возможности оплодотворения с помощью фруктов или цветов; сказок, герои которых, коварно умерщвленные, превращаются в растения; мифов и ритуалов, связанных с растительными и сельскохозяйственными культами, и т. д. Эти явления различаются не только своей историей (сравните, к примеру, символ Космического дерева у индийцев и алтайцев с верованиями некоторых «примитивных» народов относительно происхождения рода человеческого от определенного растения), но и формой. Какое из них послужит нам моделью для понимания растительных иерофаний? Символы, ритуалы, мифы или, может быть, «божественные формы»?
Самый надежный метод состоит, очевидно, в том, чтобы принимать во внимание и использовать всю эту разнородную информацию, не исключая из рассмотрения ни одного ее важного типа, но стремясь в то же время ответить на вопрос о смысле каждой из иерофаний. Таким образом мы получим цельное множество общих характеристик, на основе которого можно будет — как мы увидим позднее — построить связную систему модальностей растительного культа. Мы увидим при этом, что всякая иерофания предполагает такую систему; что народный обычай, связанный с Майским деревом, заключает в себе ту самую растительную форму сакрального, которую выражает идеограмма Космического дерева; что некоторые из этих иерофаний имеют недостаточно «открытый», почти что «тайный» характер — в том смысле, что лишь отчасти — или зашифрованно — раскрывают сакральный смысл, воплощенный в произрастании или символизируемый им, тогда как другие, подлинно «фанические» иерофании являют сакральное как целое, со всеми его модальностями. Как тайную, недостаточно «открытую», или «локальную», иерофанию можно, к примеру, рассматривать обычай церемониального несения зеленой ветви в начале весны, а как «прозрачную» иерофанию — символ Космического дерева. Но обе они раскрывают одну и ту же модальность сакрального, воплощенную в произрастании: ритмическое возрождение, неисчерпаемая жизнь, сосредоточенная в растительности, реальность, проявляющаяся в периодическом Творении, и т. д. (§ 124). Здесь следует подчеркнуть, что все эти иерофании указывают на некоторую систему взаимосвязанных утверждений, на некоторую «теорию» растительной сакральности и что не в меньшей степени, чем в других иерофаниях, эта теория содержится в иерофаниях недостаточно «открытых».
Теоретические следствия из этих наблюдений будут обсуждаться в конце книги, после того как мы рассмотрим достаточное количество фактов. Пока достаточно показать, что ни историческая разнородность материала (часть которого поступает от религиозных элит, часть — от непросвещенных масс, часть является продуктом развитых цивилизаций, часть — порождением «примитивных» обществ), ни его структурная разнородность (мифы, ритуалы, божественные формы, суеверия и т. д.) не составляют препятствия для понимания иерофании. Несмотря на практические трудности, связанные с этой разнородностью, именно благодаря ей нам открываются все модальности сакрального, поскольку в символе и мифе получают ясное выражение те модальности, которые ритуал не может выразить, на которые он может лишь намекнуть. Различие между уровнем символа и уровнем ритуала таково, что ритуал никогда не может раскрыть то, что раскрывает символ. Но, повторим мы, иерофания, присутствующая в одном аграрном ритуале, предполагает существование системы в целом, т. е. множества модальностей растительной формы сакрального, раскрываемых с большей или меньшей полнотой в других аграрных иерофаниях.
Эти предварительные наблюдения станут понятнее, если взглянуть на проблему с другой точки зрения. То, что ворожея сжигает восковую куклу с прядью волос своей «жертвы», не имея сколько‑нибудь отчетливого представления о предполагаемой этим магическим актом теории, никак не скажется на нашем понимании смысла симпатической магии[13]. Что важно для понимания этой магии, так это знание, что такой акт становится возможен лишь после того, как люди убедились (опытным путем) или установили (теоретически), что человеческие ногти, волосы или какие‑нибудь предметы, которые носил на себе человек, будучи отделенными от него, сохраняют с ним тесную связь. В основе этого верования лежит представление о некой «пространственной сети», которая связывает сколь угодно удаленные друг от друга вещи — связывает посредством симпатии, управляемой особыми законами (органического сосуществования, формальной или символической аналогии, функциональной симметрии). Вера ворожеи в эффективность ее действий оправдана лишь в той мере, в какой существует такая «пространственная сеть». Знает она или нет об этой «пространственной сети», известно ли ей о «симпатии», связывающей волосы с их обладателем, — не имеет никакого значения. Весьма вероятно, что многие сегодняшние ворожеи не имеют такого представления о мире, которое бы согласовалось с их магическими действиями. Но, взятые сами по себе, эти действия могут многое поведать нам о том мире, откуда они принесены, даже если их исполнители не знают этого мира теоретически. Ментальный универсум древнего человека не выводится логически из явно выраженных представлений каких‑либо индивидов; он сохраняется в мифах, символах, обычаях, в которых, несмотря на всевозможные процессы деградации, остается явственно различимым их первичный смысл. В них мы имеем дело со своего рода «живыми ископаемыми», и порой одного такого «ископаемого» оказывается достаточно для восстановления всего организма.
4. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ИЕРОФАНИЙ
В дальнейшем мы еще вернемся к приведенным примерам и рассмотрим их подробнее. Пока они служили нам в качестве первого подступа к теме сакрального — не для определения этого понятия, а в целях ознакомления с материалом, которым мы располагаем. Мы назвали эти явления иерофаниями, поскольку каждое из них раскрывает одну из модальностей сакрального. Манифестируемые модальности и то онтологическое значение, которое мы придаем самой манифестации, — обсуждение этих двух вопросов приходится отложить на конец этого исследования. Будем пока рассматривать каждое явление — ритуал, миф, космогонию или божество — как иерофанию; попытаемся, иначе говоря, рассматривать его как манифестацию сакрального в ментальном мире тех, для кого оно являлось таковым.
Идти предложенным путем отнюдь не всегда легко. Человеку Запада, привыкшему непроизвольно связывать свои представления о сакральном, религии и даже магии с определенными историческими формами иудео–христианской религиозной жизни, чужие иерофании представляются по большей части некими аберрациями. Даже тем, кто склонен сочувственно относиться к некоторым аспектам экзотических религий — и в первую очередь религий восточных, — нелегко бывает воспринять, к примеру, сакральный характер камней или мистический характер эротики. И даже если предположить, что для этих эксцентричных иерофаний найдутся какие‑то оправдания (их, например, будут рассматривать как проявления «фетишизма»), практически очевидно, что найдутся другие, которые останутся для современного человека неприемлемыми, за которыми он не сможет признать достоинство иерофаний, увидеть в них, иначе сказать, модальности сакрального. Вальтер Отто отмечал в своей книге «Боги Греции»[14], насколько трудно современному человеку увидеть сакральное в так называемых совершенных формах, одной из категорий божественного, принятых у древних эллинов. Трудность усугубляется, когда требуется усмотреть манифестацию сакрального в символе или осознать, что времена года, ритмы или обилие форм (не важно, каких форм) суть также виды сакрального. На последующих страницах мы попытаемся показать, что именно таковым было восприятие всего этого людьми архаических культур. И в той мере, в какой мы освободимся от школярских предрассудков, не будем ограничиваться ярлыками «пантеизм», «фетишизм», «инфантилизм» и т. п., мы сможем лучше понимать прошлый и настоящий смысл сакрального в архаических культурах; возрастет при этом и наша способность к пониманию его форм и его истории.
Нам следует научиться отличать и выделять иерофании, где бы они ни проявлялись, в любой области физиологической, хозяйственной, духовной или социальной жизни. Трудно сказать, существует ли хоть что‑нибудь — предмет, действие, физиологическая функция, существо или, скажем, игра, — что когда‑либо и где‑либо в человеческой истории не преображалось в иерофанию. Речь при этом идет совершенно не о том, почему это что‑нибудь стало иерофанией или перестало ею быть в некоторый данный момент. По этому поводу можно лишь с уверенностью утверждать: все, что человек когда‑либо держал в руках, ощущал, встречал на своем пути или любил, могло стать иерофанией. Известно, например, что все детские жесты, танцы, игры, игрушки и т. д. во всем их многообразии имеют религиозное происхождение — все это некогда имело характер культовых предметов и действий. Известно также, что музыкальные инструменты, архитектура, транспортные средства (животные, повозки, суда и т. д.) первоначально имели характер сакральных предметов и занятий. Надо полагать, в мире не существует ни одного сколько‑нибудь важного животного или растения, которое бы никогда за всю историю человечества не приобретало сакрального значения. Равным образом можно утверждать, что все занятия, ремесла, производства, технологии имели сакральное происхождение либо же приобретали культовое значение с течением времени. Этот список можно продолжить за счет повседневных движений (вставание, ходьба, бег), разных видов труда (охота, рыболовство, земледелие), всех физиологических актов (питание, половая жизнь и т. д.), вероятно также, и за счет основных слов языка и т. д. и т. п. Вряд ли следует представлять себе дело таким образом, будто весь род человеческий прошел через все эти фазы, будто всякое человеческое сообщество познало одну за одной все эти иерофании. Такая эволюционистская гипотеза, бывшая, возможно, приемлемой несколько поколений тому назад, сегодня совершенно исключена. Верно другое: где‑то в определенный момент истории всякое человеческое сообщество спонтанно выделяло некоторое количество предметов, животных, растений, жестов и т. д. и возводило их в иерофании, и весьма вероятно, что в конечном счете ничто не избегло такого преображения на протяжении десятков тысячелетий религиозной жизни[15].
5. ДИАЛЕКТИКА ИЕРОФАНИЙ
В начале главы мы обратили внимание читателя на то, что все определения, дававшиеся до сих пор феномену религиозного, противополагают сакральное и профанное. Но не противоречит ли этому типу определений религиозного сделанное выше утверждение, что все что угодно может в определенный момент стать иерофанией? Если все что угодно может воплощать в себе сакральное, в какой мере сохраняет силу дихотомия «сакральное — профанное»? Это, однако, лишь кажущееся противоречие, ибо, хотя и верно, что все что угодно может стать иерофанией и что, вероятнее всего, не существует такого предмета, существа, растения и т. д., которое бы не приобретало в некоторый момент истории и в некоторой точке пространства сакральной ценности, остается справедливым и то, что мы не знаем ни одной религии и ни одного народа, в истории которого присутствовали бы все эти иерофании. Другими словами, в контексте любой религии всегда с сакральными предметами и существами сосуществовали профанные. (Чего нельзя сказать о физиологических актах, занятиях, технологиях, жестах и т. п.; к этому различию мы обратимся позже.) Далее: в то время как некоторый класс объектов может обрести достоинство иерофании, в составе того же класса всегда останутся элементы, таким достоинством не наделенные.
Если, к примеру, речь идет о так называемом поклонении камням, то не все камни признаются сакральными. Мы всегда обнаружим определенные камни, служащие объектами поклонения в силу своей формы, своих размеров или своих ритуальных функций. Следует заметить к тому же, что речь не идет о поклонении самим камням; сакральные камни почитаются лишь в той мере, в какой они суть не просто камни, но иерофании, т. е. нечто иное, чем их обычное, «вещное» состояние. Диалектика иерофании предполагает более или менее явный выбор, выделение. Предмет становится сакральным в той мере, в какой он воплощает (иначе сказать, открывает) нечто иное, нежели он сам. На данный момент для нас не столь важно, обязан ли предмет этой «инакостью» своей необычной форме, своей действенности или попросту «силе» — или же такая «инакость» проистекает из факта «включенности» предмета в тот или иной символический ряд, обретена в силу какого‑либо ритуала освящения или погружения, произвольного или непроизвольного, в среду, насыщенную сакральностью (сакральную область, сакральное время, в некоторое «происшествие» — грозу, преступление, святотатство и т. п.). Что мы хотели бы подчеркнуть, так это то, что иерофания предполагает избрание, четкое отделение иерофанического объекта от всего остального, что его окружает. Это остальное всегда наличествует, даже если иерофанической становится огромная область — например, Небо, или весь окружающий ландшафт, или «отечество». Отделение иерофанического объекта совершается по меньшей мере по отношению к нему самому, ибо иерофанией он становится в тот лишь момент, когда перестает быть простым профанным объектом, когда приобретает новое «измерение» — измерение сакральности.
Эта диалектика отчетливо проявляется на элементарном уровне вспышкообразных иерофаний, часто отмечаемых на страницах этнологической литературы. Все необычное, уникальное, новое, совершенное или чудовищное становится вместилищем магико–религиозных сил и, в зависимости от обстоятельств, предметом поклонения или страха — в силу того, что сакральное всегда вызывает амбивалентные чувства. «Когда собака, — пишет А. Крюйт, — неизменно удачлива в охоте, она — меаза (вестник беды, дурное знамение). Избыток удачи вселяет в тораджа беспокойство. Магическая сила, сообщающая животному способность брать дичь, должна с необходимостью оказаться фатальной для его хозяина: последний скоро умрет, или же лишится урожая риса, или, в еще более частом варианте, его буйволы или свиньи станут жертвой эпизоотии. Это поверье является в центральных районах Сулавеси всеобщим»[16]. Совершенство, в какой бы области оно ни проявлялось, пугает; именно в этом сакральном или магическом значении совершенства следует искать объяснение тому страху, который даже в самых цивилизованных обществах проявляют в отношении святого или гения. Совершенство не принадлежит нашему миру. Оно есть нечто иное, нежели этот мир, или же оно приходит к нам из других краев[17].
Тот же страх или та же боязливая осторожность проявляются в отношении всего чуждого, странного, нового — ибо эти удивительные явления суть знаки силы, которая, будучи почитаемой, может быть и опасной. На Сулавеси, «когда бананы вырастают не на вершине ствола бананового дерева, а на его средней части, это — меаза… Обычно говорят, что это влечет за собой смерть хозяина дерева… Когда две тыквы вырастают на одном стебле (случай аналогичный рождению двойни), это — меаза. За этим должна последовать смерть кого‑нибудь из членов семьи владельца поля, где эта тыква растет. Растение, принесшее эти дурные плоды, необходимо уничтожить. Есть его плодов никто не будет»[18]. Как пишет Эдвин У. Смит, «странные, необычные вещи, непривычные зрелища, невиданные обычаи, незнакомая пища, новые способы действования — все это рассматривается как проявления скрытых сил»[19]. У новогебридских тана все несчастья приписывались недавно прибывшим белым миссионерам[20]. Список этих примеров можно легко пополнить[21].
6. ТАБУ И АМБИВАЛЕНТНОСТЬ САКРАЛЬНОГО
Позднее мы вернемся к вопросу о том, в какой мере подобные факты могут рассматриваться как иерофании. Они, во всяком случае, суть кратофании, манифестации силы и потому вызывают страх и почитание. Амбивалентность сакрального есть явление не только психологического порядка (в том смысле, что оно притягивает и отталкивает), но и порядка аксиологического; сакральное есть одновременно «священное» и «оскверненное». Комментируя слова Вергилия «auri sacra fames» («молва, священная для уха»), Сервий[22] справедливо замечает, что «sacer» может означать как «проклятый», так и «святой». Евстафий[23] указывает на ту же двойственность значения в греческом «hagios», которое может иметь значение одновременно и «чистоты» и «нечистоты»[24]. И с тою же амбивалентностью сакрального мы встречаемся у древних семитов[25] и у египтян[26].
Негативная оценка всякого «осквернения» (контакта с покойниками, с преступниками и т. д.) связана именно с этой амбивалентностью иерофаний и кратофании. «Оскверненное», и, следовательно, «освященное», существует в особом онтологическом режиме, отличающем его от всего, что принадлежит к сфере профанного. Оскверненные предметы и существа практически исключены из профанного опыта — на том же основании, что кратофании и иерофании. Опасно приближаться к оскверненному или освященному объекту, пребывая в профанном состоянии, иначе говоря, без необходимой ритуальной подготовки. То, что называют «табу» — от полинезийского слова, усвоенного этнографами, — это и есть состояние предметов, действий или лиц, «изолированных» и «запрещенных» в силу того, что контакт с ними опасен. Вообще говоря, табу является или становится всякий предмет, действие или лицо, которые либо несут в себе по своей природе, либо приобретают за счет перемещения на другой онтологический уровень некую более или менее загадочную силу. Морфология табу и табуированных предметов, лиц и действий довольно богата. О ней можно составить представление, проглядев третий том «Золотой ветви» Фрэзера, «Табу и опасности для души» или богатейшую фактографию вебстеровского «Табу». Мы ограничимся несколькими примерами, заимствованными из монографии Ван Геннепа «Табу и тотемизм на Мадагаскаре»[27]. Термин, который в мальгашском соответствует «табу», это «фади», или «фали», — слово, обозначающее все «сакральное, заповедное, запретное, связанное с инцестом, заключающее в себе дурное предзнаменование»[28], т. е., в самой глубине своего смысла, опасное[29]. «Фади» были «первые прибывшие на остров лошади, кролики, привезенные миссионерами, новые продукты, особенно европейские лекарства» (соль, йодистый калий, ром, перец и т. п.)[30]. Здесь мы опять сталкиваемся с тем, что необычное и новое выступает в качестве кратофаний. Такие кратофании напоминают вспышки, ибо, как правило, табу действуют недолго; с момента, как они познаны, освоены, интегрированы в автохтонный Космос, они утрачивают способность нарушать порядок вещей. В мальгашском есть еще один термин, «лоза», который словари определяют следующим образом: «все то, что идет вразрез с законами природы: чудо, катастрофа, бедствие, противоестественный поступок, инцест»[31].
Очевидно, что такие явления, как болезнь и смерть, также относятся к категории необычных и пугающих. У мальгашей и у других народов больные и покойники с помощью системы «запретов» резко отделены от остальной части сообщества. Запрещено касаться покойника, смотреть на него, произносить его имя и т. п. Другие ряды запретов относятся к женщине, половой сфере, рождению и к некоторым другим особого рода ситуациям (солдату запрещено есть петуха, случайно убитого в бою, или любое животное, убитое с помощью сагайе; нельзя убивать самца какого‑нибудь животного в доме, хозяин которого находится на военной службе или на войне, и т. д.)[32]. Во всех перечисленных случаях речь идет о временных запретах, обусловленных краткосрочной концентрацией сил в некоторых лицах или предметах (женщине, покойнике, больном) или же опасной ситуацией, в которой оказываются некоторые лица (солдат, охотник, рыболов и т. п.). Но существуют и постоянные табу: относящиеся к королю или святому, к имени, или, например, к железу, или же к определенным местам (таким как гора Амбондром, к которой никто не смеет приближаться[33], некоторые озера, реки и даже целые острова)[34]. В таких случаях запреты связаны с особым способом бытия табуированных лиц и предметов. В силу самого своего королевского достоинства король есть средоточие разнообразных сил, и к нему нельзя приближаться, не приняв определенных предосторожностей; его нельзя трогать и на него нельзя прямо смотреть; нельзя также непосредственно к нему обращаться и т. д. В некоторых областях правитель не должен касаться земли, поскольку он может уничтожить ее силу сосредоточенной в нем силой; его следует переносить с места на место, а если он перемещается сам, то должен ступать по коврам. Меры предосторожности, принимаемые при общении со святыми, священниками или врачами, объясняются теми же страхами. Что касается «табуирования» определенных металлов (например, железа) или определенных мест (островов, гор), причины в этом случае могут быть самые разные: новизна металла или тот факт, что его использовали тайные общества (литейщиков, знахарей и т. д.); величие или загадочность некоторых гор или же тот факт, что они не интегрируются или еще не интегрированы в местный космос, и т. д.
При всем том механизм табу всегда один и тот же: некоторые веши, лица или места причастны совершенно иному онтологическому режиму, и поэтому контакт с ними производит смещение онтологического уровня, которое может оказаться фатальным. Страх перед таким смещением — с необходимостью проистекающий из различий в онтологическом режиме между профанным состоянием и состоянием иерофаническим или кратофаническим — проявляется даже в отношении человека к освященной пище или к пище, предположительно обладающей магико–религиозным действием. «Пища некоторых видов столь свята, что ее лучше не есть вовсе или есть только малыми порциями»[35]. Вот почему в Марокко посетители святых мест или участники празднеств съедают лишь понемногу от предлагаемых им фруктов и блюд. На гумне стараются воздействовать на зерно таким образом, чтобы повысить его «силу» («барака»); но в слишком высокой концентрации эта сила может стать вредоносной[36]. По той же причине опасен мед, богатый барака[37].
Эту амбивалентность сакрального — одновременно притягивающего и отталкивающего — мы с большей пользой обсудим во втором томе настоящего труда. Здесь мы ограничимся тем, что отметим противоречивость установки, проявляемой человеком по отношению к сакральному (в максимально широком смысле этого слова). С одной стороны, он стремится обезопасить и усилить свою собственную жизнь путем возможно более плодотворного контакта с иерофаниями и кратофаниями; с другой стороны, он страшится того, что может полностью потерять достигнутое таким приобщением, оказавшись включенным в план бытия высший по отношению к его профанному состоянию; исполненный желания превзойти это состояние, он, однако, не может его совсем покинуть. Эта амбивалентность отношения человека к сакральному проявляется не только в случае негативных иерофаний и кратофаний (страх перед покойниками, духами, перед всякой «скверной»), но и в самых развитых формах религии. Даже тот род теофании, о котором мы узнаем от христианских мистиков, вызывает у огромного большинства людей не только притяжение, но и отталкивание (как бы ни называли это отталкивание — ненависть, презрение, страх, добровольное неведение, сарказм и т. п.).
Как уже отмечалось, проявления необычного и экстраординарного, как правило, вызывают страх и отстранение. Рассмотренные примеры табу и табуированных действий, существ и предметов приоткрыли для нас механизм, посредством которого кратофании необычного, пагубного, таинственного и т. п. выделяются из круга обычных явлений. Это выделение оказывает подчас положительный эффект; оно не только изолирует, оно возвышает. Безобразие и уродство не только выделяют тех, кто отмечен этими качествами, но и освящают их. «Так, у индейцев оджибве многие числятся колдунами, никак не притязая быть знатоками колдовского искусства, просто из‑за своего безобразия или уродств. У этих индейцев те, кого считают колдунами, имеют, как правило, жалкий вид и отталкивающую внешность. Рид утверждает, что в Конго все карлики и все альбиносы становятся жрецами. Несомненно, что почтение, которое вызывает к себе эта категория людей, проистекает из представления, что они наделены таинственной силой»[38].
Тот факт, что шаманы, колдуны и лекари рекрутируются преимущественно из числа невропатов и тех, кто проявляет признаки нервной неуравновешенности, объясняется тем же престижем необычного и экстраординарного. Подобные стигматы служат знаком избранности; тем, кто ими отмечен, не остается ничего другого, как подчиниться божеству или духам, выделившим их таким образом, и стать жрецами, шаманами или колдунами. Очевидно, что природные внешние признаки (безобразие, уродства, избыточная нервность и т. д.) — это не единственная форма проявления избранности; религиозное призвание часто осуществляется через посредство ритуальных испытаний, которым добровольно или против воли подвергается кандидат, или же путем выбора, осуществляемого жрецом[39]. Всегда, однако, имеет место избрание.
7. МАНА
Необычное и экстраординарное тревожит: оно указывает на присутствие иного, нежели естественное; присутствие или по меньшей мере зов, в смысле предназначенности, этого иного. Замечательно ловкое животное, непривычный предмет или поразительный факт столь же отчетливо выделены, как и человек, который исключительно безобразен, крайне нервен или отделен от остального сообщества какой‑нибудь метой (естественной или приобретенной вследствие церемонии, осуществляемой с целью пометить «избранного»). Такого рода примеры помогают нам уяснить смысл меланезийского понятия «мана», к которому некоторые авторы считали возможным возводить происхождение всех религиозных явлений. Для меланезийцев мана — это таинственная и активная сила, которой наделены некоторые индивиды, а также обычно души умерших и все духи[40]. Грандиозный акт сотворения мира не был бы возможен без мана божества; глава клана также обладает мана; англичане покорили маори, потому что их мана оказалась сильнее; богослужение христианских миссионеров обладает мана, превосходящей мана местных ритуалов. Даже отхожие места имеют свою мана, будучи «приемниками силы» — той, которою обладают человеческие тела и их выделения[41].
Но вещи и люди обладают мана постольку, поскольку они получили ее от некоторых высших существ, потому, иначе сказать, что они мистическим образом причастны сакральному ив той мере, в какой они ему причастны. «Если обнаруживается, что в камне заключена сверхъестественная сила, это потому, что с ним связан некий дух; кость умершего обладает мана, ибо в ней присутствует дух этого умершего; человек может быть столь тесно связан с природным духом или духом умершего, что сам становится носителем мана и может направлять ее на исполнение своих желаний»[42]. Эта сила качественно отлична от физических сил, и действует она произвольным образом. Тем, что человек является хорошим воином, он обязан не только собственным силам и возможностям, но и силе, которую ему сообщает мана умершего воина; эта мана заключена в небольшом каменном амулете, висящем у него на шее, в нескольких листьях, прицепленных к его поясу, в произносимом им заклинании. Тем, что у некоего человека плодятся свиньи или плодоносит сад, он обязан имеющимся у него камням, содержащим особую мана свиней и деревьев. Лодка быстроходна, только если содержит мана, и то же относится к сети для ловли рыбы и к стреле, наносящей смертельную рану[43]. Все, обладающее бытием в превосходной степени, все, иначе сказать, представляющееся человеку действенным, динамичным, плодотворным, совершенным, заключает в себе мана.
В противоположность Тайлору и его школе, считавшим, что начальной фазой религии мог быть только анимизм, английский антрополог Р. — Р. Маррет был склонен рассматривать веру в существование безличной силы как доанимистическую фазу религии[44]. Мы воздержимся пока от уточнения того, в какой мере можно говорить о «начальной фазе» религии, равно как и от исследования вопроса о том, равносильно ли обнаружение такой первичной фазы открытию истоков» религии как таковой. Приведенные примеры мана служат одной цели: прояснить диалектику кратофаний и иерофаний на самом ее элементарном уровне (следует уточнить, что «самый элементарный» ни в коем случае не значит ни «самый примитивный» с психологической точки зрения, ни «самый древний» в хронологическом смысле; элементарный уровень соответствует простоте и прозрачности манифестируемой модальности иерофаний). Приведенные примеры хорошо иллюстрируют тот факт, что кратофания или иерофания выделяет объект среди других точно таким же образом, как необычность, экстраординарность, новизна. Заметим, однако, что 1) представление о мана, хотя мы и встречаем его в религиях за пределами меланезийского круга, не является универсальным и, следовательно, едва ли может рассматриваться как представляющее начальную фазу любой религии и 2) не вполне точно рассматривать мана как безличную силу.
Помимо меланезийцев, существуют и другие народы, которым ведома такого рода сила[45], могущая делать нечто реально могущественным в самом полном смысле этого слова. Сиу называют эту силу вакан; она присутствует повсюду в Космосе, но проявляется только в экстраординарных явлениях (таких как солнце, луна, гром, ветер и т. п.) и в могущественных людях (колдуне, христианском миссионере, мифических и легендарных существах и т. д.). У ирокезов для обозначения того же понятия используется слово оренда: в буре присутствует оренда, оренда птицы, которую трудно сбить, очень ловка, человеком в ярости овладела его оренда и т. д. Оки у гуронов, земи у жителей Антильских островов, мегбе у африканских пигмеев (бамбути) — все эти слова выражают то же понятие, что и мана. Но, повторим, отнюдь не всё и не все обладают оки, земи, мегбе, оренда и т. д., а только боги, герои, души умерших или же люди и предметы, как‑то связанные с сакральным, т. е. колдуны, фетиши, идолы и т. д. Достаточно сослаться на одного из современных этнографов, описывавших эти магико–религиозные феномены, причем в данном случае речь идет о древнем народе, наличие у которого представлений о мана многими оспаривалось. П. Шебеста пишет: «Мегбе присутствует повсюду, но сила его проявляется не везде одинаково интенсивно и не везде единообразно. У некоторых животных его особенно много. Из людей одни обладают мегбе в большей степени, другие в меньшей. Способных людей отличает именно обилие аккумулированной ими мегбе. Богато наделены мегбе и колдуны. Эта сила представляется связанной с душой–тенью и обреченной на исчезновение со смертью ее носителя, переходит ли она к другому лицу или преобразуется в тотем»[46].
Хотя некоторые ученые пополнили этот список еще несколькими терминами (нгаи у масаи, андриаманитха у мальгашей, петара у даяков и т. д.) и хотя были попытки в том же смысле интерпретировать индийский брахман, иранский хварэна, римский империум, нордический хамингья[47] — представление о мана нельзя считать универсальным. Представление о мана есть не во всех религиях, и даже там, где оно есть, оно не представляет собой ни единственную, ни древнейшую форму религии. «Мана… ни в коем случае не универсальна, и, следовательно, использовать это представление в качестве основания для построения общей теории примитивной религии — значит рисовать не только искаженную, но, более того, совершенно ложную картину»[48]. В самом деле, между разными представлениями этого рода (мана, вакан, оренда и т. д.) существуют если и не отчетливые различия, то по меньшей мере нюансы, которыми зачастую пренебрегали первые исследователи. Так, американский этнолог П. Радин, анализируя выводы, которые Джоунс, мисс Флетчер и Хьюитт сделали из своих исследований, посвященных ваканда и манито у сиу и алгонкинов, отмечает, что эти термины означают «сакральное», «странное», «важное», «чудесное», но ни в коей мере не заключают в себе идею «внутренней силы»[49].
В то же время, если Маррет — и не он один — видел в мана «безличную силу», то уже Кодрингтон[50] привлек внимание к тому факту, что «эта сила, хотя сама по себе и безличная, всегда связана с некоторым лицом, которое ее направляет… Ни один человек не располагает этой силой сам: все, что он делает, он делает с помощью персонифицированных существ, природных духов или духов предков»[51]. Недавние исследования (Хокарта, Хогбина, Кэпелла) уточнили сделанные Кодрингтоном различения. «Как она может быть безличной, если она всегда связана с персонифицированными существами?» — иронически спрашивал Хокарт[52]. В Гвадаканале и Малайте, к примеру, папата обладают исключительно духи и души умерших, хотя они и могут применять эту силу на пользу человеку. «Человек может упорно трудиться, но, не заслужив благосклонности духов и не обратив в свою пользу их могущество, он никогда не разбогатеет»[53]. «Делается все, чтобы обеспечить благосклонность духов и тем самым постоянную доступность mana. Наиболее распространенное средство завоевать их расположение — жертвы, но действенными в этом плане считаются и некоторые другие ритуалы»[54].
Далее, Радин отмечал, что индейцы не противополагают друг другу личное и безличное, телесное и бестелесное. «Похоже, что в первую очередь их интересует вопрос о реальном существовании, а существует для них все, что может быть воспринято чувствами, все, что может быть помыслено или пережито наяву или во сне»[55]. Проблема поэтому должна ставиться в онтологических терминах: что существует, т. е. реально, и что не существует, а не в терминах личного — безличного, телесного — бестелесного — понятий, которые не имеют в сознании первобытных народов того точного смысла, который они приобрели в исторических культурах. То, что наделено мана, существует в онтологическом плане и в силу этого является действенным, плодотворным, плодоносным. Мы поэтому не можем говорить о «безличности» мана, ибо для архаического сознания понятие «безличность» лишено смысла. Мы нигде не встречаемся с гипостазированной мана, отдельной от предметов, космических событий, существ или людей. Более того, как показывает тщательный анализ, причиной того, что некий предмет, космическое явление, существо и т. д. обладает мана, всегда оказывается вмешательство какого‑либо духа или же причастность к эпифании какого‑либо божества.
Можно, следовательно, сделать вывод, что взгляд на мана как на магическую безличную силу ничем не оправдан. Соответственно, ложным оказывается и выводимое отсюда представление о существовании некоего дорелигиозного этапа (на котором доминирует исключительно магия). Это представление опровергается, помимо прочего, тем фактом, что не всем народам (и прежде всего из числа наиболее низкоразвитых) знакома мана, а также тем, что магия — хотя она и встречается почти всюду — существует не иначе как вместе с религией. Более того, магия отнюдь не всегда господствует в духовной жизни «примитивных» сообществ; напротив, преобладающего влияния она достигает скорее в более развитых обществах[56]. (Примеры: магическая практика весьма слабо развита у австралийских курнаи и у огнеземельцев; в некоторых эскимосских и корякских сообществах магия распространена меньше, чем у их соседей айнов и самодийцев, которые превосходят их в культурном и иных отношениях.)
8. СТРУКТУРА ИЕРОФАНИЙ
Вспомним, какова была наша цель при рассмотрении иерофаний, кратофаний, мана и т. д. Это делалось не для их обсуждения (что подразумевало бы наличие у нас понятий сакрального, оппозиции религия — магия и т. п.), а просто чтобы проиллюстрировать наиболее элементарные модальности сакрального и дать таким образом о нем самое первое представление. Эти иерофании и кратофании всегда заключают в себе момент избрания; избрание всегда подразумевает силу, действенность, способность избранного вызывать страх или плодоносность, даже если избрание осуществлено путем выделения необычного, нового, экстраординарного; избранное и открывшееся в таковом качестве посредством иерофании или кратофании нередко оказывается опасным, запретным или оскверненным. Мы часто сталкивались с тем, что с этими иерофаниями связаны представления о силе и действенности; мы назвали их кратофаниями именно потому, что их сакральный характер остается недоказанным. В то же время мы видели, сколь неосторожно было бы делать поспешные обобщения; было бы, к примеру, неточностью видеть в мана безличную силу, если учесть, что и религиозному опыту, и профанному восприятию она доступна исключительно в персонифицированном или воплощенном виде; было бы, далее, значительно разумнее формулировать проблему в онтологических терминах и говорить, что обладающее полнотой существования всегда обладает и мана; что, наконец, различение «личное — безличное» в универсуме архаической ментальности лишено точного смысла и было бы осторожнее от него отказаться.
Следует, однако, заметить, что вышеупомянутыми иерофаниями и кратофаниями далеко не исчерпываются религиозный опыт и религиозные воззрения «примитивных» сообществ. Ни одна религия, насколько известно, не сводится к такого рода элементарным иерофаниям и кратофаниям. Категории сакрального и его морфология постоянно выходят за рамки манифестаций мана и необычного, равно как не вмещаются они и в границы культа предков, веры в духов, поклонения природным явлениям и т. д. Иными словами, никакая религия, даже самая «примитивная» (например, религии австралийских племен, андаманцев, пигмеев и т. п.), не сводится к уровню элементарных иерофаний (мана, тотемизм, анимизм). Наряду с этими простейшими религиозными переживаниями и представлениями мы неизменно встречаем следы более или менее богатых религиозных переживаний и представлений, таких, например, как культ Высшего существа. Тот факт, что эти следы не играют слишком большой роли в повседневной жизни племени, сейчас для нас не важен. Мы еще будем иметь случай (§ 12 и далее) констатировать то обстоятельство, что у «примитивных» сообществ вера в Высшее существо, всемогущего Творца мира, живущего на Небесах и являющего себя в уранических манифестациях, в той или иной степени практически повсеместна; в то же время это Высшее существо не играет почти никакой роли в практической религиозности, где оно замещается другими религиозными формами (тотемизмом, культом предков, солнечными и лунными мифами, манифестациями плодородия и т. д.). Исчезновение таких высших существ из сферы религиозно–актуального представляет собой очевидно, проблему истории, оно имеет определенные причины, которые отчасти могут быть выявлены. Но даже и не играя там большой роли, высшие существа входят в состав религиозного достояния «примитивных» сообществ, и потому ими не следует пренебрегать при изучении сакрального опыта архаического человечества в его целостности. Что же касается элементарных иерофаний и вспышкообразных кратофаний, то они суть лишь элементы архаического религиозного опыта, временами в нем доминирующие, но никогда его не исчерпывающие.
С другой стороны, эти элементарные иерофании и кратофании не всегда являются «замкнутыми», моновалентными. Они могут развиваться если не по своему религиозному содержанию, то хотя бы по своей формальной функции. Культовый камень в определенный исторический момент манифестирует некоторую модальность сакрального: этот камень показывает, что сакральное есть нечто иное, нежели окружающая космическая среда, что, подобно камню, сакральное есть нечто абсолютное, неуязвимое и статичное, недоступное изменению. Эта онтофания (получившая религиозную окраску) культового камня может изменять свою «форму» в ходе истории; позднейшее почитание этого камня может быть связано уже не с тем, что он манифестирует непосредственно (т. е. в качестве элементарной иерофании), а с его интегрированностью в сакральное пространство (храма, жертвенника и т. п.), с его восприятием в качестве манифестации божества или по какой‑либо другой такого рода причине (ср. § 74). Он остается чем‑то иным, нежели окружающая среда; его сакральность по–прежнему связана с той первичной иерофанией, которой он был избран, но смысл, ему придаваемый, меняется в соответствии с той религиозной теорией, в которую эта иерофания оказывается вписанной.
Мы еще не один раз столкнемся с такого рода переосмыслением первичных иерофаний, ибо история религий в значительной своей части является историей обесценивания и возвращения ценности в процессе манифестации сакрального. Почитание образов («идолопоклонство») и иконоборчество[57] суть с этой точки зрения естественные духовные позиции перед лицом феномена иерофаний; обе позиции в равной мере оправданны. Дело в том, что для получивших новое откровение (скажем, Моисеево откровение в семитском мире или христианство в мире греко–романском) прежние иерофании не только теряют первоначальный смысл, смысл манифестации одной из модальностей сакрального, но и начинают восприниматься как препятствие на пути совершенствования религиозного опыта. Иконоборцы любого рода и в любой религии черпают оправдание своей позиции как в своем религиозном опыте, так и в том историческом моменте, когда этот опыт был обретен. При наличии современного Откровения, более отвечающего их духовным и культурным способностям, они не могут поверить в иерофании, принятые прошлыми религиозными эпохами, не могут воспринять их религиозное значение.
С другой стороны, и противоположная установка, которую можно для целей настоящего изложения назвать «идолопоклонством», также находит полное оправдание как в религиозном опыте, так и в истории. Эта установка, состоящая grosso modo (в общих чертах) в сохранении и постоянном восстановлении ценности прошлых иерофаний, поддерживается самой диалектикой сакрального, поскольку сакральное всегда являет себя через что‑нибудь; и оказывается ли это что‑нибудь (что мы назвали «иерофанией») одним из предметов ближайшего окружения, объектом космического масштаба, образом божества, символом, нравственным законом или даже идеей — не имеет значения. Во всех этих случаях действует одна и та же диалектика: манифестация сакрального через нечто иное, чем оно само; оно является в предметах, мифах или символах, но никогда непосредственно и во всей своей полноте и целостности. И следовательно, с абсолютной точки зрения сакральный камень, аватара Вишну[58], статуя Юпитера или явление Яхве равно действительны (или равно иллюзорны) в силу того простого факта, что во всех этих случаях манифестация сакрального осуществилась посредством его самоограничения и воплощения. Этот парадоксальный акт воплощения, который и делает возможными все виды иерофании — от самых элементарных до высшего воплощения Логоса в Иисусе Христе, — встречается нам повсюду и на протяжении всей истории религий; к этой проблеме мы еще вернемся. Между тем та позиция, которую мы назвали идолопоклонством, основывается (не важно, сознательно или нет) на восприятии совокупности иерофаний как единого целого. Она предполагает сохранение прошлых иерофаний путем наделения их ценностью на другом уровне религиозного пространства и придания им других функций. Мы ограничимся двумя примерами, почерпнутыми из разных областей и разных исторических периодов.
9. ПЕРЕОЦЕНКА ИЕРОФАНИЙ
Мы видели (§ 5), что все экстраординарное, грандиозное, новое может стать иерофанией, может рассматриваться, в духовной перспективе «примитивных» сообществ, как манифестация сакрального. Кондам Танганьики известно Высшее существо, — Кьяла, или Леза, — которое, как и все высшие существа африканцев, наделено всеми достоинствами небесного Бога, всемогущего Творца и законодателя. Но Леза открывает себя не только в уранических манифестациях: «Все, обладающее какого‑либо рода величием, будь то очень крупный бык или даже козел, огромное дерево или любой другой объект впечатляющих размеров, называют Кьяла, что, видимо, должно означать избрание этих объектов Богом в качестве мест его временного пребывания. Когда на озере бушует шторм, говорят, что это Бог ступает по водам; когда рев водопада становится громче обычного, это раздается глас Божий. Землетрясение вызывается его тяжким шагом, и молния — это Леза, Бог, сошедший во гневе… Иногда Бог также является в образе льва или змеи и в таком виде обращается среди людей, надзирая за их поступками»[59]. Также и у шиллуков именем Высшего существа, Джуок, нарекается все чудесное или чудовищное, все чуждое, все, что шиллук не может понять[60].
В этих примерах мы имеем дело с тем случаем, когда элементарная иерофания или вспышкообразная кратофания обретает значение, если она слита с манифестацией Высшего существа; необычное, экстраординарное, новое получает религиозную ценность в качестве модальности Леза или Джуок. Мы на данный момент воздержимся от стратиграфического анализа этого феномена, анализа, который позволил бы проследить его «историю», понять, предшествует ли вера в Высшее существо иерофаниям экстраординарного или наоборот, или же эти два рода религиозного опыта возникли совместно. Что нам важно, так это религиозный акт слияния элементарной иерофании с эпифанией Высшего существа — в отличие от идолопоклонства, от того, иначе сказать, щедрого взгляда на вещи, по которому идолы, фетиши и физические явления представляют собой ряд парадоксальных воплощений божества. Рассмотренный пример тем более поучителен, что речь идет об африканских народах, верования которых, как можно предположить, не подверглись сколько‑нибудь серьезной систематизирующей обработке со стороны богословов и мистиков. У нас есть все основания говорить в этом случае о спонтанной интеграции элементарных иерофаний в состав сложного представления о Высшем существе (личности, Творце, Всемогущем и т. д.)[61].
Другой пример демонстрирует попытку обосновать «идолопоклонническую» установку с помощью рафинированной герменевтики. Индийская мистическая школа вайшнавов[62] называет арка, «приношением», всякий материальный объект, которому люди поклоняются на протяжении веков (растение туласи, камни салаграма или изваяния Вишну), и, соответственно, рассматривает такие объекты как эпифании Великого Бога. При этом мистики и богословы интерпретируют такую парадоксальную манифестацию как некий момент в диалектике сакрального, которое, будучи вечным, абсолютным и свободным, являет себя в виде материальной частицы, хрупкой и преходящей. Это воплощение Вишну в салаграма или в статуе преследует, согласно учению вайшнавов, сотериологическую цель (в своей великой любви к людям божество являет себя им, принимая привычный для них вид низшего существа). Это имеет в то же время и теологический смысл: воплощение божества демонстрирует его свободу, позволяющую ему принимать любую форму, равно как и то парадоксальное свойство сакрального, что оно может совпадать с профанным, не утрачивая при этом своей подлинной сути. Этот парадокс восхитительно подчеркнул Локачарья: «Будучи всеведущим, Вишну выказывает себя в арка как бы лишенным ведения; будучи духом, он являет себя как если бы он был материальным; будучи истинным Богом, он ведет себя так, как будто им распоряжаются люди; будучи всемогущим, он являет себя слабым; будучи ни в чем не нуждающимся, он являет себя как бы нуждающимся в заботе; будучи недоступным (для чувственного восприятия), он кажется осязаемым».
Возразят, без сомнения, что мы здесь имеем дело с интерпретацией одного из элементов древних народных верований мистиком–богословом, что сам по себе этот факт отнюдь не содержит в себе того, что усматривают в нем мистик и богослов. Трудно, однако, сказать, справедливо ли это возражение, столь на первый взгляд убедительное. Действительно, идолы Вишну хронологически предшествуют высокому богословию и мистике Локачарьи; справедливо также, что благочестивый житель индийской деревни поклоняется арка просто потому, что считает ее воплощением Вишну. Но вопрос в том, чтобы понять, не означает ли это религиозное отношение к идолу — который воспринимается как причастный тем или иным образом к сущности Вишну — того же самого, что и интерпретация Локачарьи — в силу того простого факта, что в обоих случаях религиозной ценностью наделяется материальный объект. По существу, богослов всего лишь явным образом формулирует то, что подразумевается парадоксом идола (равно как и любой другой иерофании): сакральное являет себя в профанном объекте.
Суммируя, можно сказать, что это парадоксальное совмещение сакрального и профанного, бытия и небытия, абсолютного и относительного, вечного и преходящего и есть то, что раскрывает всякая иерофания, даже самая элементарная. Мистик и богослов, такой, как Локачарья, всего лишь эксплицирует для своих современников парадокс иерофании. Эта экспликация имеет, очевидно, смысл переоценки, возвращения ценности, т. е. реинтеграции иерофании в состав новой религиозной системы. Ибо, по существу, различие между арка и герменевтикой Локачарьи сводится к различию в форме выражения, так что парадокс совмещения сакрального и профанного получает конкретное выражение в случае идола и аналитико–дескриптивное выражение в случае герменевтического текста. Фактически это совмещение сакрального и профанного означает сдвиг онтологического уровня. Такой сдвиг предполагается любой иерофанией, поскольку всякая иерофания показывает, манифестирует сосуществование двух противоположных сущностей: сакрального и профанного, духа и материи, вечного и преходящего и т. д. Тот факт, что диалектика иерофании, манифестации сакрального в материальных объектах остается предметом для столь изощренной теологии, как теология христианского средневековья, доказывает, что она составляет важнейшую проблему всякой религии. Можно было бы даже сказать, что все иерофании суть прообразы чуда воплощения, что каждая иерофания есть не что иное, как одна из неудачных попыток раскрытия тайны соединения человека и Бога. Оккам, к примеру, дерзнул написать следующее: «Est articulus fidei quod Deus assumpsit naturam humanam. Non includit contradictionem, Deum assumere naturam asinam. Pari ratione potest assumere lapidem aut lignum» («To, что Бог принял человеческий облик, есть предмет веры. Нет противоречия в том, что Бог мог бы принять ослиный облик. Равным образом он мог бы принять форму камня или бревна»). Таким образом, морфология «примитивных» иерофаний вовсе не выглядит абсурдной в перспективе христианского богословия; свобода, которой располагает Бог, позволяет ему принимать любую форму, даже форму камня или дерева. Если отказаться на время от слова «Бог», то это утверждение можно сформулировать следующим образом: сакральное может быть явлено в любой форме, самой неожиданной. Резюмируя, можно сказать, что парадоксальным и непостижимым здесь является не манифестация сакрального в камнях или деревьях, но сам факт, что оно себя манифестирует и тем самым ограничивает и релятивизирует[63].
10. СЛОЖНОСТЬ ФЕНОМЕНА «ПРИМИТИВНОЙ» РЕЛИГИОЗНОСТИ
Приведенные примеры помогают, как мы полагаем, сформулировать несколько руководящих принципов:
1) Сакральное качественно отлично от профанного, но при этом оно может как угодно и где угодно манифестировать себя в профанном мире — в силу своей способности преображать любой объект в парадокс через посредство иерофании (в том смысле, что объект перестает быть самим собой, естественным объектом, при сохранении неизменным своего облика).
2) Эта диалектика сакрального свойственна всем религиям, а не только так называемым примитивным формам. Эта диалектика проявляется не только в «культе» камней и деревьев, но и в индийском учении об аватарах, и в высшем таинстве воплощения.
3) Нигде мы не встречаемся с такой ситуацией, чтобы существовали только элементарные иерофании (кратофании необычного, экстраординарного, нового, мана и т. д.); всегда присутствуют также следы религиозных форм, считающихся, с точки зрения эволюционизма, более развитыми (высшие существа, моральные законы, мифологии и т. п.).
4) Повсюду, даже помимо указанных следов более развитых религиозных форм, обнаруживается система, включающая элементарные иерофании. Система не ограничивается этими последними; она складывается из всех форм религиозного опыта племени (мана, кратофании необычного и т. п., тотемизм, культ предков и т. д.) и, кроме того, включает в себя корпус традиционных доктрин, не сводящихся к элементарным иерофаниям: например, мифы о происхождении мира и человеческого рода, мифологическое объяснение современной человеческой ситуации, теоретическое толкование ритуалов, моральные представления и т. д. На этом последнем пункте стоит остановиться.
Достаточно просмотреть несколько этнографических монографий (Спенсера и Джиллена или Штрелова об австралийцах, Шебесты или Трилля об африканских пигмеях, Гусинде об огнеземельцах), чтобы заметить, что, во–первых, религиозная жизнь «примитивных» сообществ выходит за пределы тех областей, которые принято отводить для религиозного опыта и религиозных представлений, и, во–вторых, эта религиозная жизнь повсюду сложна, а простое и одномерное ее представление, нередкое в работах обобщающего и популярного характера, связано с некоторым отбором, более или менее произвольным, который осуществляют авторы. Справедливо, что некоторые формы доминируют в составе религиозного комплекса (как, например, тотемизм в Австралии, мана в Меланезии, культ предков в Африке и т. д.), но они никогда его не исчерпывают. Мы, с другой стороны, встречаем множество символов космических, биологических или общественных событий, идеограмм и идей, которые переживаются в религиозном плане как значимые, хотя их связь с религиозным опытом нам, современным людям, не всегда ясна. Мы понимаем, к примеру, что лунные ритмы, смена времен года, половая или социальная инициация или же пространственный символизм могли в прошлом иметь для древнего человечества религиозное значение, т. е. становиться иерофаниями; однако много труднее понять, в какой мере то же можно сказать о таких физиологических актах, как питание или половой акт, или же о таких идеограммах, как «год». Мы, таким образом, сталкиваемся с двойной трудностью: признания сакрального характера физиологической жизни в целом, с одной стороны, и восприятия некоторых мыслительных конструкций (идеограмм, мифограмм, природных и нравственных законов и т. д.) — с другой.
На самом деле, одно из важнейших различий между человеком архаической культуры и современным человеком состоит в неспособности последнего проживать свою органическую жизнь (в первую очередь половую жизнь и питание) как таинство. Психоанализ и исторический материализм полагали, что нашли убедительнейшее подтверждение своим тезисам о той роли, которую играли сексуальность и питание у народов, находившихся еще на «этнографической» стадии развития. Чего, однако, не заметили психоаналитики и исторические материалисты, так это того, что эротизм и питание имели у этих народов совершенно другой смысл, мы даже сказали бы: совершенно другую функцию, чем в наше время. Для современного человека это всего лишь физиологические акты, тогда как для человека архаической культуры они суть таинства, ритуалы, служащие в качестве средств коммуникации с той силой, которая представляет саму Жизнь. Ниже мы увидим, что сила и Жизнь — суть лишь манифестации предельной реальности; элементарные акты становятся в «примитивных» сообществах ритуалами, помогающими человеку приблизиться к реальности, вклиниться в Бытие, освобождаясь от автоматических действий (лишенных содержания и смысла), от профанного, от ничто.
У нас еще будет возможность увидеть, что поскольку ритуал есть всегда повторение архетипического жеста, совершенного in illo tempore (во время оно) предками или богами, человек пытается «онтизировать» через посредство иерофаний самые банальные и незначительные акты. За счет повторения ритуал совпадает со своим «архетипом», и профанное время упраздняется. Мы, можно сказать, соприсутствуем при том же самом акте, что совершился in illo tempore, на заре космогонии. Таким образом, преобразуя все физиологические акты в ритуалы, архаический человек стремится «выйти за пределы», выйти из времени (и становления) в вечность. Здесь не место подробно обсуждать функцию, выполняемую ритуалом, но уже сейчас стоит отметить, что для архаических людей это нормальная тенденция — преобразовывать физиологические акты в ритуал, придавая им тем самым духовную ценность. Принимая пищу или занимаясь любовью, такой человек помещает себя в пространство, которое, во всяком случае, не есть пространство питания или сексуальности. Это верно как для инициальных событий (первые плоды, первый половой акт), так и для половой жизни и питания в целом. Мы можем сказать, что в этих случаях мы имеем дело с нечетко выраженным религиозным опытом, структурно отличным от четко выраженного опыта, каким он представлен в иерофаниях необычного, экстраординарного, мана и т. д. Но значение этого опыта в жизни архаического человека при всем том нисколько не меньше, хотя оно по природе своей может ускользать от внимания наблюдателей. Это поясняет ранее сделанное нами утверждение: религиозная жизнь примитивных народов не вмещается в категории мана, иерофаний и вспышкообразных кратофаний. Религиозный опыт в целом, неотчетливый со структурной точки зрения, проистекает из усилия, которое делает человек, чтобы включиться в онтологичное, сакральное, преобразуя свои фундаментальные физиологические акты в ритуалы.
С другой стороны, религиозная жизнь любого человеческого сообщества, стоящего на «этнографической» ступени развития, всегда включает в себя определенное количество теоретических элементов (символов, идеограмм, космогонических и генеалогических мифов и т. п.). У нас будет случай убедиться, что подобные «истины» человеком архаической культуры воспринимаются как иерофании. Не только потому, что они манифестируют модальности сакрального, но еще и потому, что с помощью этих «истин» человек защищает себя от незначительного, от ничто, одним словом, освобождается от власти профанного. Много было говорено о слабости архаичных людей в вопросах теории. Даже если бы это было так (а многие наблюдатели думают иначе), то при этом слишком часто забывается, что архаическое мышление пользуется не только понятиями или концептуальными элементами, но также, и в первую очередь, символами. Позднее мы увидим, что «манипулирование» символами осуществляется согласно логике символов. Можно сделать вывод, что из видимой концептуальной бедности примитивных культур следует не отсутствие способности к теоретизированию, но то, что свойственный этим культурам стиль мышления радикально отличен от современного «стиля», сформированного на базе эллинского умозрения. В самом деле, даже у сообществ, наименее развитых с этнографической точки зрения, мы обнаруживаем совокупность истин, складывающихся в систему, в теорию (например, у австралийцев, пигмеев, огнеземельцев и т. д.). Эта совокупность истин образует не только Weltanschauung (мировоззрение), но и своего рода прагматическую онтологию (можно даже сказать сотериологию) в том смысле, что с помощью этих «истин» человек стремится обрести спасение через соединение с реальностью[64].
Ограничившись одним примером, обратим внимание на то, что большинство действий, совершаемых человеком архаической культуры, суть, по его убеждению, не что иное, как повторение акта, совершенного в начале времен божественным существом или мифической фигурой. Действие имело смысл лишь в той мере, в какой оно было воспроизведением трансцендентного образца, архетипа. Цель этого повторения состояла также в том, чтобы обеспечить нормальность действия, узаконить его, придав ему онтологический статус; реальным оно становилось лишь постольку, поскольку воспроизводило архетип. Итак, все действия, совершаемые в «примитивных» сообществах, предполагают трансцендентный образец; эффективны эти действия лишь в меру своей реальности, образцовости. Действие есть в то же время ритуал (в меру того, насколько оно интегрирует человека в пространство сакрального) и включение в сферу реального. Эти наблюдения заключают в себе некие оттенки смысла, которые станут много яснее, когда мы сможем обсудить примеры, приводимые в последующих главах. Нам понадобилось упомянуть об этом уже здесь, чтобы высветить этот чаще всего не замечаемый теоретический аспект «примитивной» религиозной жизни.
БИБЛИОГРАФИЯ
Puech Н. С. Bibliographie generate // Mana, Introduction à l’histoire des religions. 2nd ed. P., 1949. Vol. I. P. XVII‑LXIII; Hastings J. Encyclopedia of religion and ethics. Edinburgh, 1908–1923. 13 vols; Shiele F. M., Gunkel H., Zscharnak L, Bertholet A. и др. Die Religion in Geschichte und Gegenwart // Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft 2nd ed. Tübingen, 1926–1932. 5 vols.
Caillois R. L’homme et le sacre. P., 1939; Dussaud R. Introduction a l’histoire des religions. P., 1924; Toy C. H. Introduction to the history of religions. Oxford, 1926; Mensching G. Vergleichende Religionswissenschaft Leipzig, 1938; Mensching G. Allgemeine Religionsgeschichte. Leipzig, 1940; James E. O. Comparative Religion. L., 1938; Bouquer A. C. Comparative Religion. L., 1941.
La Saussaye P. D. Chantepie de. Lehrbuch der Religionsgeschichte. Freiburg‑im‑Breisgau. 2 vols.; 4th ed. — Completely revised by A. Bertholet, E. Lehmann. Tübingen, 1924–1925. 2 vols. Clemen С (in collaboration) Die Religionen der Erde. Münich, 1927; Mickelitsch A. Allgemeine Religionsgeschichte. Graz, 1930; Venturi P. Tacchi (in collaboration) Storia delle religioni. 3rd ed. Turin, 1949. 2 vols.; Histoire des religions. P., 1939–1947. 3 vols.; Gorce M., Mortier R. Histoire generale des religions. Vols. I‑V. P., 1944–1949; König F. и др. Chrisfus und die Religionen der Erde. Vienna, 1951. 3 vols.
Jordan L. H. Comparative Religion, its Genesis and Growth. Edinburgh, 1905; Boulaye de la, Pinard H. L’Etude comparee des religions. P., 1922. 2 vols. 3rd ed., revised and corrected. P., 1929; Pettazzoni R. Svolgimento e carattere della storia delle religioni. Bari, 1924; Schmidt W. Handbuch der vergleichende Religionsgeschichte. Ursprung und Wesen der Religion. Münster‑in‑Westfalen, 1930; Koppers W. Le principe historique et la science comparee des religions // Melanges F. Cumont Brussels, 1936. P. 765–784; Martina E. de. Naturalismo e storicismo nell’ etnologia. Bari, 1942; Widengren G. Evolutionism and the Problem of the Oricin of Religion // ES. Stockholm, 1945. Vol. X. P. 57–96; Kluckhohn C. Some reflections on the method and theory of Kulturkreislehrz // AA. 1936, № XXXVIII. P. 157–196; Koppers W. Der historische Gedanke in Edinologie und Religionswissenschaft // Christus und die Religionen der Erde. Vienna, 1951. Vol. I. S. 75–109.
Mainage Т. Les religions de la préhistoire. P., 1921; Luquet G. H. The Art and Religion of Fossil Man. New Haven, 1930; Clemen С. Urgeschichtliche Religion, Die Religion der Stein-, Bronze- und Eisenzeit, I‑II. Bonn, 1932–1933; Meuli K. Griechische Opferbräuche // Phyllobolia für Peter von der Mühl. Basle, 1946. S. 185–288, особо S. 237 и сл.; Lavioza‑Zambotti P. Origini e diffusione della civilta. Milan, 1947; Blanc A.С Il sacro presso i primitivi. Rome, 1945; Koppers W. Urmensch und Urreligion. — Dessauer F. Wissen und Bekenntnis. 2nd ed. Olten, 1946. S. 25–149; Der historischer Gedanke in Ethnologie und Prähistorie // Kultur und Sprache (WBKL. 1952. IX. S. 11–65), значительно расширенный вариант этой работы в переводе на английский опубликован в кн.: Primitive Man and His World Picture. L, 1952.
Lowie R. H. Primitive Religion. N. Y., 1924; Radin P. Primitive Religion, Its Nature and Origin. L., 1938; Goldenweiser A. Early Civilisation. N. Y., 1922; Goldenweiser A. Anthropology. L., 1935; Schmidt W. The Culture Historical Method of Ethnology. N. Y., 1929; Schmidt W. Untersuchungen zur Methode der Ethnologie: I // APS. 1940–1941. Vols. XXXV‑XXXVI. S. 898–965; Martino E. de. Percessione extrasensoriale e magismo etnologico // SMSR. 1942. Vol. XVIII. P. 1–19; 1943–1946. Vols. XIX‑XX. P. 31–84; Martina E. de. Il Mondo magico. Turin, 1948; Mauss M. Manuel d’ethnographie. P., 1947, особо P. 164 и сл.
Otto R. The Idea of the Holy. L., 1950; Otto R. Aufsätze das Numinose betreffend. Gotha, 1923; Leeuw G. van der. Religion in Essence and Manifestation. L., 1938; Leeuw G. van der. L’homme primitif et la religion. P., 1940; Hirschmann E. Phänomenologie der Religion. Wurzburg‑Anmuhle, 1940; Levy‑Bruhl L. How Natives Think. L., 1926; Levy‑Bruhl L. Primitive Mentality. L., 1923; Levy‑Bruhl L. Primitives and the Supernatural. L., 1936; Levy‑Bruhl L. La mythologie primitive. P., 1935; Levy‑Bruhl L. L’experience mystique et les symboles chez les primitives. P., 1938; о творчестве Леви–Брюля см.: Leeuw G. van der. La structure de la mentalité primitive. P., 1932; Caillet E. Mysticisme et la mentalité mystique. P., 1938; Leroy O. La raison primitive. Essai de la réfutation de la théorie du prelogisme. P., 1926; Martino E. de. Naturalismo e storicismo nell’ etnologia. Bari, 1942. P. 17–75.
Durkheim E. The Elementary Forms of the Religious Life. L., 1915; Hubert H., Mauss M. Méelanges d’histoire des religions. P., 1909; Weber M. Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. 3 vols. 2nd ed. Tübingen, 1922–1924; Hasenfuss J. Die moderne Religionssoziologie und ihre Bedeutung für die religiose Problematik. Paderborn, 1937; Gurvitch G. Essais de sociologie. P., 1938, особо P. 176 и сл.; Wach J. Sociology of Religion. Chicago, 1944; Mensching G. Sociologie der Religion. Bonn, 1947; James E. O. The Social Function of Religion. L., 1940.
О ценности индивида в отсталых обществах см.: Vierkandt A. Führende Individuen bei den Naturvölkern // ZFS. 1908. Vol. XI. S. 1–28; Beck. Das Individuum bei den Australiern. Leipzig, 1925; Koppers W. Individualforschung unter d. Primitiven im besonderen unter d. Yamana auf Feuerland // Festschrift W. Schmidt. Mödling, 1928. S. 349–365; Lowie R. H. Individual Differences and Primitive Culture // Festschrift W. Schmidt S. 495–500; Wach J. Sociology of Religion. P. 31 и сл.; Leenhardt M. Do Kamo. La personne et le myth dans le monde mélanésien. P., 1947.
Van Gennep A. Tabou et totémisme à Madagascar. P., 1904; Frazer J. G. Taboo and the Perils of the Soul. L., 1911; Lehmann A Die polynesischen Tabusitten. Leipzig, 1930 (табу в экономике и торговле — S. 169 и сл.; юридические символы — S. 192 и сл.; распространение слова many в Океании и Индонезии — S. 301 и сл.; сравнительное исследование — S. 312 и сл.); Handy E. S. Polynesian Religion // BMB. Honolulu, 1927. № XXXIV. P. 43 и сл., 155 и сл. и в других местах; Webster H. Taboo. A Sociological Study. Stanford, California, 1942 (природа табу — P. 1–48; табуирование умерших — P. 166–229; сакральные лица — P. 261–279; сакральные предметы — P. 280–310); Radcliffe‑Brown A. R. Tabu. Cambridge, 1940; Steiner F. Taboo. N. Y., 1956.
Hocart H. I. Mana // MN. 1915. № XIV. P. 99 и сл.; Lehmann F. R. Mana. Eine begriffgeschichtliche Untersuchung auf ethnologische Grundlage. Leipzig, 1915. 2nd ed. — 1922; Rohr J. Das Wesen des Mana // APS. 1919–1924. Vols. XIV‑XV. S. 97–124; Thumwald R. Neue Forschungen zun Mana‑Begriff // AFRW. 1929. S. 93–112; Lehmann F. R. Die gegenwärtige Lage der Mana‑Forschung // Kultur und Rasse, Otto Reche zum 60. Geburtstag. Münich, 1939. S. 379 и сл.
Hogbin H. I. Mana // OA. 1936. Vol. VI. P. 241–274; Capell A. The Word «Mana». A Linguistic Study // OA. 1938. Vol. IX. P. 89–96; Firth R. The Analysis of Mana: an Empirical Approach // JPS. 1940. Vol. XLIX. P. 483–510; ср.: Williamson R. W. Essays on Polynesian Ethnology. Cambridge, 1939. P. 264–265: «Верования и обычаи, связанные со полинезийскими словами мана и many, столь разнообразны, что если бы мы попытались сформулировать дефиниции, которые были бы приложимы к ним ко всем, такие формулировки носили бы столь общий характер, что их можно было бы применить к любой человеческой культуре».
Hewitt J. N.В. Orenda and a Definition of Religion // AA. 1892. Новые серии. P. 33–46; Radin P. Religion of the North American Indians // JAF. 1914. Vol. XXVII. P. 335–373; Marrett R. R. Preanimistic Religion // FRE. 1900. Vol. IX. P. 162–182; Marrett R. R. Threshold of Religion. L., 1909. 2nd ed. — 1914; Abbott J. The Keys of Power. A Study of Indian Ritual and Belief. L., 1932.
О брахмане, хамингья, хосия, империуме и т. д.: Arbman E. Seele und Mana // AFRW. 1931. Vol. XXIX; Gronbech V. The Culture of the Teutons. Copenhagen; L., 1931. Vol. I. P. 127 и сл., 248 и сл.; Widengren G. Evolutionism… // ES. Stockholm, 1945. Vol. X; Batke W. Das Heilige im Germanischen. Tübingen, 1942; Wagenwoort H. Roman Dynamism. Oxford, 1947; Van der Valk H. Zum Worte öolos // ME. 1942. S. 113–140; Jeanmaire H. Le substantif Hosia et sa signification comme terme technique dans le vocabulaire religieux // REG. 1945. Vol. LVIII. P. 66–89.
Frazer Sir J. G. The Golden Bow. A Study in Comparative Religion. 3rd ed. L., 1911 и далее. 12 vols., сокращенное издание — L., 1922; Hubert H., Mauss M. Esquisses d’une théorie générale de la magie // AS. 1902–1903. Vol. VII. P. 1–146; Hubert H., Mauss M. Origine de pouvoirs magiques // Mélanges d’histoire des religions. P., 1909. P. 131–187; Vierkandt A. Die Anfänge der Religion und Zauberei // GBS. 1907. Vol. XXII. S. 21–25, 40–45, 61–65; Hartland E. S. The Relations of Religion and Magic, reprinted in Ritual and Belief. Studies in the History of Religion. L., 1914; Clemen C. Wesen und Ursprung der Magie, Nachrichten d. Gesell. d. Wissensch. zu Göttingen. В., 1926–1927; Malinowski B. Argonauts of the Western Pacific. L., 1922 (P. 392–463 — магия и кула, магическое слово и т. д.); Malinowski В. Coral Gardens. L., 1935. Vol. II. P. 214–250: An Ethnographic Theory of the Magic Word; Allier R. The Mind of the Savage. L., 1929; Allier R. Magie et religion. P., 1935; Martino E. de. Percezione extrasensoriale e magismo etnologico // SMSR. 1942. Vol. XVIII. P. 1–19; Ratschow С.H. Magie und Religion. 1946; Evans‑Pritchard E. E. The Morphology and Function of Magic: A Comparative Study of Trobriand and Zande Rituals and Spells // AA. 1929. Vol. XXXI. P. 619–641; James E. O. The Beginnings of Religion. L., 1948.
Глава II
НЕБО И БОГИ НЕБА
11. САКРАЛЬНАЯ ПРИРОДА НЕБА
Самая распространенная в мире молитва обращена к Небесному Отцу: «Отче наш, Иже еси на небесех…» Возможно, что самые ранние молитвы человека были обращены к тому же самому Небесному Отцу. Это объяснило бы свидетельство африканца из племени эве: «Там, где есть небо, там есть и Бог». Венская этнологическая школа (в лице, в частности, Ф. — В. Шмидта, автора наиболее полной монографии об истоках идеи божественности) даже претендует на открытие первобытного монотеизма, исходя преимущественно из веры в небесного бога в самых низкоразвитых человеческих обществах[65]. Вопрос о первобытном монотеизме мы пока что оставим в стороне. Что не вызывает никаких сомнений, так это практически универсальное верование в небесное божественное существо, которое сотворило мир и которое обеспечивает плодородность земли (посылая на нее дождь). Это существо наделено даром безграничного предвидения и мудрости; именно оно, некогда снизойдя на землю, установило моральные законы, а кое–где — племенные ритуалы; оно следит за тем, чтобы эти законы соблюдались, всех же, кто их нарушает, поражает молния.
Ниже мы намерены рассмотреть ряд небесных божеств; однако сначала необходимо уяснить религиозную значимость Неба как такового. Даже и без изучения мифологических доктрин очевидно, что Небо само по себе есть воплощение трансцендентности, мощи и святости. Простое созерцание небесного свода уже дает первобытному разуму религиозный опыт. Это вовсе не подразумевает поклонение небу как части природы. Для первобытного разума природа никогда не является «просто природой». Выражение «созерцание небесного свода» приобретает смысловую нагрузку лишь тогда, когда оно применяется к первобытному человеку, восприимчивому к каждодневным чудесам до невообразимости. Такое созерцание можно приравнять к откровению. Небо раскрывает себя таким, какое оно есть: бесконечным и трансцендентным. Небесный свод — это нечто, далее всего отстоящее от ничтожного человека и его крошечного срока жизни. Символизм его трансцендентности проистекает уже из одного осознания его бесконечной высоты — соответственно, эпитет «высочайший» становится атрибутом божества. Пределы вне досягаемости человека, звездные пространства становятся местом обитания божественного правителя, трансцендентного начала, абсолютной реальности и вечности. В этих пределах живут боги; туда отправляются некоторые избранники из числа людей — с помощью ритуалов, помогающих им взойти на Небеса; туда же, согласно некоторым религиям, попадают души умерших. «Высшее» недоступно человеку как таковому; оно по праву принадлежит сверхъестественным силам. Когда человек совершает церемонию восхождения по ступеням святилища или ритуальной лестницы, он перестает быть человеком; души избранных умерших при воспарении в Небеса оставляют внизу свою человеческую суть.
Все это — следствие простого созерцания неба; но было бы ошибкой усматривать в этом логический, рациональный процесс. Трансцендентное качество «высоты» (надземного, бесконечного) открывается человеку сразу и в целом — как разуму, так и душе. Этот символизм молниеносно осеняет человека, т. е. того, кто осознает себя человеком, кто осознает свое место во Вселенной; это первобытное откровение настолько органично связано с его жизнью, что тот же самый символизм определяет одновременно и работу его подсознания, и наиболее достойные поступки его духовной жизни. Следовательно, очень важно, что хотя символизм и религиозная ценность Неба не выводятся логически из спокойного и объективного созерцания оного, но они не выводятся также и исключительно из мифологической деятельности и иррационального религиозного опыта. Повторимся: Небо воплощает в себе трансцендентность еще до того, как ему начинают придавать определенную религиозную ценность. Небо символизирует трансцендентность, мощь и незыблемость уже в силу своего местоположения. Оно таково потому, что оно высокое, бесконечное, неизменное, могущественное[66].
То, что уже один факт нахождения Неба наверху означает его могущество (в религиозном смысле) и сакральную природу, доказывается самой этимологией некоторых имен богов. Для ирокезов все, что обладает оренда, называется оки но, судя по всему, слово оки означает «то, что находится в высоте»; у них есть даже Верховное небесное Божество по имени Оке[67]. Индейцы сиу обозначают магическую и религиозную силу через слово вакан, которое фонетически сближается со словом вакан, ванкан, в языке дакота означающее «наверху, высоко»; силой вакан обладают солнце, луна, молния, ветер; она была, хотя и не полностью, персонифицирована в имени «Вакан», которое миссионеры переводили как «Господь» и которое на самом деле обозначало Верховное небесное Божество, проявлявшееся главным образом в виде молнии[68].
Верховное Божество у маори зовут Ио; ио означает «поднятый, наверху»[69]. У негров акпосо есть Верховный Бог Уволуву; имя его означает «то, что наверху; верхние сферы»[70]. Примеры эти можно продолжить;[71] мы вскоре увидим, что «Высший», «Сияющий», «Небо» суть понятия, которые более или менее эксплицитно существовали в этой форме и использовались первобытными цивилизациями для выражения идеи божественного. Трансцендентность Бога непосредственно выражается в недостижимости, бесконечности, вечности и творческой силе (дождь) Неба. Природа Неба в целом — это неистощимая иерофания. Следовательно, что бы ни случилось среди светил или в верхних уровнях атмосферы: ритмическое вращение звезд, бегущие облака, бури, ураганы, метеориты, радуги, — все это является частью иерофании.
Когда эта иерофания персонифицировалась, когда появились небесные божества или когда они заместили сакральность Неба как такового, сложно сказать точно. Совершенно несомненно лишь то, что небесные божества всегда были божествами верховными; их иерофании, различным образом разыгранные в мифах, по этой причине остались небесными иерофаниями, а то, что можно было бы назвать историей небесных божеств, в основном представляет собой историю проявлений «силы», «творчества», «законов» и «верховенства». Мы проведем краткое обозрение нескольких групп небесных божеств, которое поможет нам одновременно понять их сущность и характер их «истории».
12. АВСТРАЛИЙСКИЕ БОГИ НЕБА
Байаме, Верховное Божество племен Юго–Восточной Австралии (камиларои, вирадьюри, юалайи), живет на Небе, рядом с огромным водным потоком (Млечный Путь), и принимает к себе души невинных. Он сидит на хрустальном троне; Солнце и Луна — его «сыновья», его гонцы, посылаемые на Землю (точнее, его глаза, как у Халаквулупа огнеземельцев, а также у семангов и самодийцев)[72]. Голос его — гром; он ниспосылает дождь, озеленяющий и оплодотворяющий землю; в этом смысле он также Творец. Ибо Байаме сотворил сам себя и создал все из ничего. Как и другие небесные боги, Байаме[73] видит и слышит все[74]. Другие племена восточного побережья (муринг и др.) верят в похожее на Байаме Божество — Дарамулуна. Имя его эзотерично (как и имя Байаме) и раскрывается только прошедшим инициацию; женщины и дети знают его лишь как «отца» (папанг) и «владыку» (бьямбам). В связи с этим грубые глиняные изображения этого Бога показываются только в течение церемоний инициации; впоследствии их дробят на осколки и тщательно рассеивают вокруг. Некогда Дарамулун недолгое время жил на земле и установил ритуал инициации; после этого он снова вознесся на небо, откуда слышен его голос (в громе) и откуда он ниспосылает дождь. Среди всего прочего в церемонии инициации выделяется торжественная демонстрация «гуделки»: это деревяшка длиной около шести дюймов и шириной около полутора дюймов, с дыркой, в которую продета веревочка; когда эту деревяшку вращают в воздухе за веревочку, она производит шум, похожий на гром или на рев быка. Тождество гуделки и Дарамулуна известно лишь инициированным. Если неинициированные слышат ночью в джунглях странные вздохи, их охватывает благоговейный страх, ибо они думают, что это идет Бог[75].
Верховное Божество племени кулин зовут Бунджиль. Известно, что он живет высоко на небе, выше «темного неба». Именно на это темное небо, как на вершину горы, восходят врачеватели; там их встречает другая божественная фигура — Гаргомич, приветствует их и ходатайствует за них перед Бунджилем[76] (ср. гору, на вершине которой находится низший по отношению к Байаме дух, доносящий до него людские молитвы и передающий людям его ответы[77]). Именно Бунджиль сотворил землю, деревья, животных и самого человека (которого он вылепил из глины, вдунув в него душу через нос, рот и пупок). Однако после этого, передав своему сыну Бимбеалю власть над Землей, а своей дочери Каракароок — власть над Небом, он удалился из мирских пределов. Он живет над облаками, как господин, с огромным мечом в руке[78]. Другие верховные австралийские боги также обладают связанными с небом характеристиками. Почти все они изъявляют свою волю через гром и молнию (например, Пульяллана), ветер (Байаме), северное сияние (Мунгангана), радугу (Бунджиль, Нуррендере) и т. д. Мы уже говорили, что через небесный дом Байаме проходит Млечный Путь; звезды здесь — костры, которые разжигают Алтьира и Тукура (Верховные Боги племен аранда и лоритья; см. библиографию).
В целом можно сказать, что эти божественные существа австралийских племен сохраняют непосредственную и конкретную связь с Небом, с миром звезд и атмосферных явлений[79]. Обо всех них мы знаем, что они сотворили мир и человека (т. е. мифического первопредка всех людей); во время своего краткого пребывания на Земле они передали людям различные мистерии (которые почти полностью сводятся к сообщениям о мифической родословной племени или, в некоторых случаях, к эпифаниям грома, например с использованием гуделки и т. д.), а также установили гражданские и моральные законы. Они добры (каждый из них не иначе как «Наш Отец»), они награждают праведных и защищают добродетель. Они играют главную роль во всех церемониях инициации (как, например, у племен вирадьюри, камиларои, а также юин и кури); к ним даже непосредственно обращаются с молитвами (как, например, юин и кури на Юге). Но вера в этих божественных существ нигде не выходит на передний план. Характерная особенность австралийской религии — это не вера в небесную сущность, в Верховного Творца, а тотемизм[80]. Такую же ситуацию можно обнаружить и в других местах; верховные небесные божества постоянно попадают на периферию религиозной жизни, где их практически игнорируют; главные же роли играют другие сакральные силы, стоящие ближе к человеку и более значимые для его обыденной жизни.
13. БОГИ НЕБА У ЖИТЕЛЕЙ АНДАМАНСКИХ ОСТРОВОВ, АФРИКАНЦЕВ И ДР.
Рисли и Геден нашли следы почти позабытого верования в некое Верховное Божество среди коренного населения Индии — «скорее смутное воспоминание, нежели реальную силу»;[81] «неясные и непочитаемые верховные существа»[82]. Однако, хотя следы этого Верховного небесного Божества почти полностью изгладились, оставшиеся все еще намекают на связь его с миром Неба и природных явлений. На Андаманском архипелаге, среди одного из наиболее первобытных народов Азии, Верховное существо зовут Пулуга. Он имеет весьма антропоморфный образ;[83] однако он живет на Небе, голос его — гром, дыхание — ветер; ураганы — знак того, что он разгневан, ибо всех, кто нарушает его заповеди, он поражает молнией. Пулуга знает все, однако человеческие мысли становятся известны ему только при свете дня (для естественного человека всезнающий означает всевидящий[84]). Он сам создал себе жену; у них есть дети. Он живет на Небе, рядом с Солнцем (женское начало) и Луной (мужское начало), вместе со своими детьми — звездами. Когда Пулуга спит, на Земле наступает засуха. Если идет дождь, это означает, что Бог спустился на Землю и ищет пропитание[85]. Пулуга сотворил мир; он же создал первого человека, Томо. Человечество размножилось и рассеялось по Земле, и после смерти Томо оно начало все больше и больше забывать своего создателя. Как‑то раз Пулуга настолько рассердился, что наслал на землю потоп, который охватил весь мир и уничтожил человечество; спаслись лишь четверо людей. Пулуга сжалился над ними, но люди все равно остались непокорными. В конце концов, раз и навсегда наказав людям соблюдать его заповеди, Бог исчез, и они больше никогда его не видели.
Этот миф об отчуждении Бога от людей как раз соответствует идее полного отсутствия какого‑либо культа. Один современный исследователь, Поль Шебеста, пишет по этому поводу следующее: «Жители Андаманских островов вообще не поклоняются Богу, у них нет ни молитв, ни жертвоприношений, ни просьб, ни благодарений. Они лишь боятся Пулуги и поэтому повинуются его заповедям, некоторые из которых крайне суровы, как, например, запрет на поедание определенных фруктов в течение дождливого сезона. С некоторой натяжкой можно было бы истолковать некоторые их обычаи как определенного рода культ»[86]. Один из таких обычаев — это, возможно, «священное молчание» охотников, когда они возвращаются в деревню после удачной охоты.
Верховного Бога бродячих охотников Огненной Земли, селькнам, зовут Темаукль; однако из священного страха это имя никогда не произносится вслух. Обычно его называют со’онх–хаскан, т. е. «живущий на Небе», или же со’онх–кас–пемер, «тот, кто на Небе». Он извечен, все знает и умеет, он Творец мира; однако процесс Творения был завершен Верховным Богом лишь с помощью мифических первопредков, которых он также создал перед тем, как удалиться в звездные пределы. Ибо фактически этот Бог существует отдельно от людей и ему безразлично все, что творится в мире. У него нет ни изображений, ни жрецов. Он создатель нравственного закона, он судья, он, в конечном итоге, властелин всех судеб. Однако молятся ему лишь в случае болезни: «О ты, пребывающий в вышине, не забирай мое дитя; оно еще слишком мало!» Еще ему приносят определенные жертвоприношения во время плохой погоды[87].
По всей Африке разбросаны следы культа Великого Бога Неба, культа, который почти исчез или же находится в процессе исчезновения (см. библиографию). Его функции выполняют другие религиозные компоненты, в частности культ предков. Как говорит сэр А. — Б. Эллис, «среди негров можно наблюдать общую склонность к почитанию в качестве Главного Бога природы не Солнца, Луны или Земли, а небесной тверди»[88]. А Мэри Кингсли пишет: «Думается, что небесный свод всегда считается великим, но равнодушным богом, на которого не обращают внимания: это Ньянкопон у племени тви и анзамбе, Наам и др. у народов банту. Африканцы считают, что этот бог наделен огромной властью, но не пускает ее в ход»[89].
Мы еще вернемся к безучастному поведению Великого Бога. Пока что остановимся лишь на его небесной форме. Тви, например, обозначают словом ньянкопон — именем своего Верховного Божества — небо и дождь. Они говорят Ньянкопон бом («ударяет»), что значит «гремит гром», или Ньянкопон аба («пришел»), что значит «идет дождь»[90]. Баила (племя народа банту из долины Кафу) верят во всемогущего Верховного Бога–Творца, живущего на Небе, которого они зовут Леза. Однако в их разговорном языке слово леза также обозначает метеорологические явления: «Леза падает» означает, что идет дождь, «Леза сердится» — что гремит гром и т. д.[91] Племя сук называет своего Верховного Бога Торорут, т. е. «небо», а также Илат — «дождь»[92]. Ньяме, как называет своего Бога племя негро, также значит «небосвод» (от корня ньям, «светить»; ср. div-, § 20).
Для большей части племен эве Верховное Божество зовут Маву (это имя происходит от слова ву — «расстилать», «покрывать»); словом маву также обозначают небосвод и дождь. Голубое небо — это покров, которым Маву закрывает свое лицо; облака — его одежда и украшения; его любимые цвета — синий и белый (поэтому жрец Маву не имеет права носить других). Свет — то масло, которым Маву умащает свое тело; он посылает дождь, он всеведущ. Но, хотя ему и приносят регулярные жертвы, культ его постепенно вымирает[93].
У племени масаи есть Великое Божество Нгаи. В нем до сих пор можно наблюдать черты Небесного Бога: он невидим, живет на Небе, его сыновья — это звезды и т. д. Некоторые звезды — его глаза; падающая звезда — это один из его глаз, направляющийся на Землю, чтобы лучше ее рассмотреть. Согласно Холлису, энгаи (нгаи) буквально значит «дождь»[94].
Племя индейцев пауни верит в Тирава Атиуса — «Тираву, Отца всех вещей», создателя всего, что существует, подателя жизни. Он сотворил звезды, чтобы направлять поступки человека; взгляд его — молния, дыхание его — ветер. Поклонение этому богу до сих пор сохраняет черты определенного и ярко выраженного небесного символизма. Дом его находится высоко над облаками, на незыблемых небесах. Тирава стал весьма значительной фигурой в мифологии и религии пауни. «Белые люди говорят о Небесном Отце, мы говорим о Тираве Атиусе, Отце Свыше, но не думаем о нем как о человеке. Мы думаем, что он во всем… Как он выглядит — этого не знает никто»[95].
14. «DEUS OTIOSUS» («БОГ ПРАЗДНЫЙ»)
Почти для всех небесных богов характерно отсутствие культа и прежде всего отсутствие какого‑либо календаря сезонных ритуалов[96]. Так, у семангов на полуострове Малакка также есть Верховное существо — Кари, Карей или Та Педн. Он выше человека ростом и невидим. Когда семанги упоминают о нем, они не говорят дословно, что он бессмертен, однако утверждают, что он существовал извечно. Он создал все на свете, кроме Земли и человека, которые суть творения рук Пле — другого, подчиненного божества[97]. Тот факт, что Земля и человек были сотворены не Кари, крайне важен: это распространенное выражение идеи трансцендентности и пассивности Верховного существа, которое слишком отдалено от человека, чтобы удовлетворять его бесчисленные религиозные, материальные и насущные нужды. Подобно другим небесным божествам, Кари живет на Небе и выражает свой гнев, меча на Землю молнии; собственно говоря, даже его имя означает «удар молнии» (или «гроза»). Он всеведущ, ибо видит все, что происходит на Земле. Вот почему он «первый из всех Законодателей, управляющий общинной жизнью всех лесных людей и ревностно следящий за соблюдением своих заповедей»[98]. Но ему не поклоняются в истинном смысле слова; его призывают с помощью искупительных кровавых жертвоприношений лишь тогда, когда на Землю обрушивается торнадо[99].
То же самое наблюдается у большинства африканских племен: Великий Бог Неба, Верховное существо, Всемогущий Творец играет крайне незначительную роль в религиозной жизни племени. Он чересчур далек или же чересчур хорош для того, чтобы нуждаться в собственно почитании, и его призывают лишь в случае крайней необходимости. Так, например, западноафриканское племя йоруба верует в Небесного Бога Олоруна (что буквально значит «Хозяин Неба»), который, начав процесс сотворения мира, наказал завершить его и править миром Божеству более низкого ранга — Обатале. Сам Олорун отдалился от мирских и человеческих дел, и, хотя он и считается Верховным Богом, у него нет ни храмов, ни статуй, ни жрецов. Однако на него уповают во времена бедствий как на последнюю надежду[100].
У племени фанг Конго важную роль в религиозной жизни некогда играл Нзаме (или Нзамбе) — создатель и властелин Неба и Земли. Однако в настоящее время он отошел далеко на задний план[101]. Нзам6и у банту ныне также стал Великим небесным Богом, которому практически не поклоняются. Туземцы говорят, что он всемогущ, добр и справедлив; но именно из‑за этого они и не почитают его, у них даже отсутствуют какие‑либо его материальные изображения, которых так много у прочих богов и духов[102]. У племени басинги нет культа небесного Творца — Эфиле Мокулу; к нему взывают лишь при произнесении клятв[103]. Главный Бог бантуского племени гереро из Юго–Западной Африки носит имя Ндьямби. Удалившись на небо, он оставил человечество на попечение низшим божествам. Поэтому его и не почитают. «Зачем нам приносить ему жертвы? — сказал один туземец. — Нам не нужно его бояться, ибо он не причиняет нам вреда, не то что духи наших мертвецов (овакуру)». Иногда, правда, гереро возносят ему молитвы, но лишь в случае неожиданной удачи[104]. Алунда — другое бантуское племя — считают, что их Бог Нзамби очень далек от людей и недоступен им; главную роль в их религиозной жизни играют страх перед духами и их почитание. Они молятся акиши, т. е. своим предкам, даже о ниспослании дождя[105].
Такая же ситуация наблюдается и у племени ангони, у которых есть Верховное существо, однако почитают они в основном своих предков; у тумбука, для которых Творец неведом, ибо он слишком велик, «чтобы вмешиваться в людские дела»;[106] у вемба, которые знают, что Леза существует, но поклоняются ему исключительно по требованию своих предков; у вахехе, которые представляют Верховное существо Нгурухи Всемогущим Творцом, но знают, что на самом деле все происходящее в мире контролируют духи мертвых (масока), и поэтому именно им систематически и поклоняются; и т. д. и т. п. Вачагга, большое бантуское племя, живущее у Килиманджаро, почитают Руву — Творца, доброго Бога, хранителя нравственного закона. Он играет большую роль в мифах и легендах, но в религии — очень ограниченную. Он настолько хорош и добр, что люди могут его не бояться: все их страхи сконцентрированы на мире умерших. И лишь в тех случаях, когда молитвы и жертвоприношения духам остаются без ответа, они приносят жертвы Руве (особенно в случае засухи или какой‑либо серьезной болезни)[107].
То же самое мы видим у твиязычных негров Западной Африки в их взаимоотношениях с Ньянкупоном. Ньянкупону практически не поклоняются; у него нет ни культа, ни даже каких‑либо специальных жрецов. Ему возносят молитву лишь в редких обстоятельствах — в период голода или эпидемии или же после особенно яростного урагана; в таких случаях его спрашивают, чем он оскорблен[108]. Дзингбе («Всеобщий Отец») стоит во главе божественного пантеона племени эве. В отличие от большинства прочих небесных божеств, у Дзингбе есть свой особый жрец, которого зовут дзисай, «жрец Неба». Он призывает Бога во время засухи: «О Небо, перед которым мы в долгу, велика ныне засуха; ниспошли же нам дождь, дабы освежилась земля и процветали поля!»[109] Отдаленность и беспристрастие Верховного божества прекрасно выражены в пословице восточноафриканского племени гирьяма, которые описывают своего Бога следующим образом: «Бог [Мулунгу] — наверху, человеки — внизу»[110].
Банту говорят: «Бог, сотворив человека, больше не обращает на него внимания». А негрилло постоянно твердят: «Бог далеко от нас!»[111] Племя фанг, живущее в долинах Экваториальной Африки, выражает свою философию религии в такой песне:
Культа Нзаме не существует, и фанг обращаются к нему только с просьбами о дожде[112]. С теми же просьбами взывают и готтентоты к Тсуи–Гоабу: «О Тсуи–Гоаб, Отец отцов, о ты, наш Отец, да ниспошлет нануб (т. е. облако) на землю потоки дождя!» Поскольку бог всеведущ, он знает обо всех человеческих прегрешениях, поэтому к нему еще обращаются так: «О Тсуи–Гоаб, ты один знаешь, что я невиновен»[113].
Молитвы, обращенные к этим богам, прекрасно резюмируют их небесный характер. Пигмеи Экваториальной Африки верят в то, что Бог (Кмвум) изъявляет свое желание войти с ними в контакт посредством радуги. Вот почему, когда появляется радуга, они берут свои луки, направляют их на нее и начинают петь: «…Ты, победитель в битве, ниспослал на нас гром, который рокотал, рокотал так громко и сердито. На нас ли он рассердился?» — и т. д. Эта «литания» заканчивается молитвой к радуге, чтобы она заступилась за людей перед Верховным небесным Богом и тот больше бы на них не сердился, не посылал гром и не убивал их[114]. Люди вспоминают о Небе и о Верховном божестве, лишь когда им непосредственно угрожает опасность с Неба; в остальное время их набожность уходит в повседневные нужды, а религиозные действа и поклонение направлены на те силы, которые этими нуждами владеют. Но совершенно очевидно, что все это никоим образом не умаляет автономию, величие и первенство верховных небесных существ. В худшем случае это показывает, что «первобытный» человек так же, как и цивилизованный, быстро забывает о них, когда они ему не нужны; что тяготы жизни заставляют его больше обращать внимание на Землю, чем на Небо; что он вспоминает, как важно Небо, только тогда, когда оттуда ему угрожает смерть.
15. НОВЫЕ «БОЖЕСТВЕННЫЕ ФОРМЫ», ЗАМЕНЯЮЩИЕ БОГОВ НЕБА
Собственно говоря, ни в одной из первобытных религий мы не найдем Верховного небесного существа, которое бы играло ведущую роль в религии. У австралийцев доминирующей формой религии является тотемизм. В Полинезии, хотя там и существует вера в Верховное небесное Божество или изначальную божественную пару (см. ниже), для религиозной деятельности типичен необъятный полидемонизм или политеизм. На Япских островах (часть Западно–Каролинских островов) есть ясно выраженная вера в Елафаза — Верховное существо, Творца, Бога и т. д., но на самом деле люди там почитают духов (талиукан). Хотя аборигены острова Ветар в Индонезии практикуют фетишизм[115], они все же верят в Верховное существо — «Старика», который живет на Солнце или на Небе. Вообще в Индонезии Верховное небесное Божество либо слилось с Богом Солнца, либо было им заменено; например, И–лай у селебов ассимилировался с Богом Солнца, которого, однако, туземцы считают продолжателем процесса творения, начатого И–лаем; то же самое можно наблюдать на Тиморе и на множестве других островов[116].
В религиозной жизни Меланезии доминирует вера в мана; однако там можно также найти анимизм и следы веры в бога Неба. Религиозная деятельность огнеземельцев облечена в форму анимизма, несмотря на определенные пережитки культа Верховного небесного Божества Нденгеи, которого они парадоксальным образом представляют в виде огромного змея, живущего тайно в пещере, или же существа с головой змея и каменным телом. Когда он движется, земля сотрясается. Фиджийцы все еще верят, что именно он сотворил мир, все знает, наказывает зло и т. д.[117] Народы Африки, как мы видели, хотя и сохранили в большей или меньшей неприкосновенности веру в Верховное небесное существо, все же отнюдь не подчиняют свою религиозную жизнь монотеизму. В религии индейцев дене главную роль играют шаманизм[118] и поклонение духам, но существует и Верховное небесное существо — Юттоэре (что означает «тот, кто пребывает вверху»).
В других местах на Верховное небесное существо наложилось божество Луны; так, в частности, произошло у аборигенов на островах Банка и на Новых Гебридах. Очень редко — и, несомненно, под влиянием матриархата — Верховное небесное Божество бывает женского пола; так, Хинтубухет из Новой Ирландии, которой присущи все атрибуты Верховного небесного Божества (пассивность и т. д.), — женщина. Иногда Верховное небесное существо заменяется на Великую богиню, как у тода, ассамских кави и др. В Южной Индии Верховное небесное Божество почти не имеет никакого значения, а религиозная жизнь полностью связана с почитанием местных женских божеств grāma‑devatā.
Мотив изначальной пары — Неба (мужское начало) и Земли (женское начало) — распространен повсюду. Так, на индонезийском острове Кейсар главными объектами почитания являются Макаром Маноуве, который живет на Небе и иногда на Солнце, и Макаром Маваху, живущая на Земле[119], представляющие, соответственно, мужское и женское начала. Миф о том, что мир был создан изначальной супружеской парой, в целом характерен для Полинезии и Микронезии; наиболее известная его версия — маорийские Ранги и Папа. Следы веры в изначальную божественную супружескую пару можно найти также в Африке. У южных банту, особенно у племен бавили и фиото, Верховный небесный Бог Нзамби отошел на задний план, оставив на своем месте божество Земли, которое даже зовут тем же именем и чьи священные тайны открываются только женщинам[120]. Мифологический мотив пары Небо — Земля обнаруживается и в Южной Калифорнии (они — брат и сестра, и от их союза происходит все на свете), среди индейцев пима, а также в Нью–Мексико среди равнинных индейцев, среди сиу и пауни и в Вест–Индии[121].
16. СЛИЯНИЕ И СУБСТИТУЦИЯ
Итак, очевидно, что Верховный небесный бог повсюду уступает место другим объектам почитания. Морфология подобной субституции может быть различной, но смысл ее практически везде один и тот же: отход от трансцендентности и пассивности небесного существа и обращение к более динамичным, активным и легкодоступным формам религии. Можно сказать, что мы наблюдаем за «постепенным понижением сакрального до уровня конкретного», когда жизнь человека и окружающая среда приобретают все больше и больше оттенков сакральности. Вера в мана, оренда, вакан и т. д., анимизм, тотемизм, почитание духов умерших и местных божеств и многое другое ставят человека в принципиально иное положение, нежели вера в Верховное небесное существо. Меняется сама структура религиозного опыта: какой‑нибудь Дарамулун или Тирава, например, познается человеком весьма отличным образом от тотемов, grāma‑devatā или духов умерших. Каждая такая субституция означает победу динамических, активных форм религии, богатых мифологическим смыслом, над Верховным небесным существом, которое хотя и высокопоставлено, но пассивно и далеко.
Так, Ранги у новозеландских маори, хотя и фигурирует в их мифах, не является объектом поклонения; вместо него мы находим Тангароа[122], Верховного Бога (Солнца?) маорийского пантеона. В Меланезии мы повсюду натыкаемся на миф о двух братьях, одном — умном, другом — дураке (две фазы луны), которые были созданы Верховным небесным существом и в конечном счете заменили его[123]. Общее правило таково, что Верховное существо уступает место либо демиургу, которого оно само сотворило и который от его имени, пользуясь его наставлениями, упорядочивает Вселенную, либо Богу Солнца. Так, для некоторых бантуских племен демиург Ункулункулу, создавший людей, был подчинен Верховному небесному существу Утикхо, хотя с тех пор и отодвинул его на задний план. У индейцев тлингит (в северо–западной части Тихоокеанского побережья) центральная божественная фигура — Ворон, легендарный герой и демиург, который сотворил мир (или, точнее, упорядочил его, распространил в нем цивилизацию и культуру), создал и освободил Солнце и т. д.[124] Но порой Ворон делает все это по указанию высшего божества (чьим сыном иногда считается). У индейцев тупи Верховное небесное существо заменяет мифический предок и соляризованный демиург Тамоски, а у индейцев гуарани функцию замены выполняет Тамои.
В Северной Америке Верховное небесное существо обычно сливается с мифологическим олицетворением грома и ветра в виде большой птицы (например, ворона): когда он хлопает крыльями, поднимается ветер, язык его — молния[125]. Гром с самого начала был и остается основным атрибутом богов неба. Иногда его обособляют и наделяют индивидуальной автономией. Так, например, индейцы сиу считают, что звезды и все, что есть в атмосфере: солнце, луна, гром (особенно гром) — наделены силой вакан. Индейцы Канзаса говорят, что никогда не видели своего бога Вакана, но часто слышат его голос в громе. У индейцев дакота Вакантанка — это «слово, означающее гром» (Дорси). Индейцы омаха имеют культ грома, называемого Ваканда; в частности, в начале весны люди поднимаются в горы, чтобы покурить в его честь и принести ему в жертву табак[126]. Алгонкины приносят обеты Чеббениатану — «Человеку Наверху», когда им угрожает ураган или когда приближается гром.
Как мы уже говорили (§ 12), в австралийских инициационных ритуалах эпифания грома совершается с помощью звука гуделки. Тот же самый предмет и такая же церемония сохранились в орфических инициационных ритуалах. Гром — оружие бога Неба во всех мифологиях. Любое место, которое он поразил молнией, становится сакральным (enelysion у греков, fulguritum у римлян)[127], и любой человек, пораженный молнией, считается освященным. Дерево, чаще всего поражаемое молнией (дуб), наделено величием Верховного божества (напомним о дубе Зевса в Додоне, о Юпитере Капитолийском в Риме, о дубе Донара под Гейсмаром, о священном дубе Ромове в Пруссии, о дубе Перуна у славян). Много верований, связанных со святостью грома, можно найти по всему миру. Люди думали, что так называемые громовые стрелы, которые на самом деле представляют собой всего лишь доисторические кремни, были наконечниками стрел–молний, поэтому их почитали и набожно сохраняли в таком качестве (§ 78). Все, что падало сверху, несло с собой небесную святость; поэтому особенно почитались метеориты, насыщенные ею до предела[128].
17. ДРЕВНОСТЬ ВЕРЫ В ВЕРХОВНОЕ НЕБЕСНОЕ СУЩЕСТВО
Мы не можем с точностью утверждать, что почитание небесных божеств было первой и единственной верой первобытного человека, а все прочие формы религии появились позже и являются побочными. Хотя, как правило, вера в Верховное небесное существо обнаруживается в наиболее архаичных из нынешних первобытных обществ (у пигмеев, австралийцев, огнеземельцев и т. д.), существуют и такие общества, в которых она отсутствует (например, у тасманийцев, веддов, кубу), И в любом случае, как нам кажется, эта вера не обязательно исключает возможность каких‑либо других форм религии. Несомненно, уже с самых ранних времен человек формировал свое представление о трансцендентности и всемогуществе сакрального, исходя из опыта, связанного с Небом. Для того чтобы Небо воспринималось как Божественная Сфера, не требуется ни мифологического воображения, ни концептуальной разработки. Но с небесной иерофанией могло сосуществовать и множество других.
Бесспорно одно: в общем и целом небесная иерофания и вера в Верховное небесное существо уступили место другим религиозным концепциям[129]. Опять же в общем и целом ясно, что некогда эта вера представляла собой самый центр религиозной жизни, а не периферийное явление, как в нынешних первобытных обществах. Сдержанность в почитании небесных богов сегодня указывает лишь на то, что переместился центр религиозной деятельности, и ни в коем случае не на то, что эти небесные боги являются творениями абстрактного мышления первобытного человека (или его «жрецов»), или что у него не было и не могло быть с ними каких‑либо реальных религиозных отношений. К тому же, как мы уже говорили, отсутствие поклонения небесным богам прежде всего указывает на отсутствие какого‑либо религиозного календаря; иногда спорадически каждому из этих верховных существ воздают почести в виде молитв, жертвоприношений и т. д. Иногда у них даже есть настоящий культ, о чем, например, свидетельствуют грандиозные ритуальные праздники в Северной Америке, устраиваемые в честь Верховных существ (Тирава, Чеббениатан, Авонавилона). Даже в Африке можно привести некоторые примеры: ночные танцы в честь Цагна у бушменов;[130] регулярное поклонение Уволуву (у которого есть жрецы, места поклонения и жертвоприношений) у акпосо; периодические человеческие жертвоприношения в честь Громовержца Абасси Абумо у ибибио (у Абасси имелись святилища во всех дворах жителей Калабара — соседей ибибио); молитвы и жертвоприношения в честь Лезы и т. д. Племя конда поклоняется своему Верховному Богу Мбамба, танцуя, распевая песни и молясь: «Мбамба, да преуспеют наши дети! да размножится наш скот! да разрастется наш маис и батат! да сгинет чума![131]» Вачагги обращаются к Руве с молитвами и жертвоприношениями: «О ты, Человек Неба, Вождь, прими эту голову скота. Мы молимся тебе, чтобы ты далеко отвел от нас болезнь, нисходящую на землю». Набожные люди возносят Руве молитвы утром и вечером без всякого жертвоприношения[132]. В жертву Мулугу приносят коз, а акикуйу приносят бесчисленные жертвы Энгаи из первых плодов своего урожая и овец[133].
Анализ различных стадий австралийской религии ясно показывает, что на самой первой ее стадии небесное божество занимало центральную позицию в религиозной жизни[134]. Первоначально Мунгангана жил на Земле среди людей; лишь потом он оставил их и удалился на Небеса. По всей Австралии до той или иной степени распространен миф о постепенном отдалении божественных существ. В любом случае, вряд ли можно найти следы веры в этих небесных существ в каких‑либо более ранних религиозных представлениях. Утверждалось, например, что она произошла из культа мертвых, но в Юго–Восточной Австралии (где эта вера одна из наиболее архаичных) такого культа вообще не существует[135]. И именно там, где больше всего распространены церемонии инициации (т. е. как раз в Юго–Восточной Австралии), Небесное божество связано с тайными ритуалами. Напротив, там, где эзотеризм постепенно исчезает (в случае с большинством центрально–австралийских племен арунта и лоритья), Небесное Божество (Алтьира, Тукура) практически утратило всю религиозную силу и сохранилось лишь в области мифологии. Это означает, что вера в небесных божеств некогда, бесспорно, была полнее и интенсивнее. Через инициацию человек познает истинную теофанию, миф о происхождении племени, свод моральных и социальных законов, одним словом, свое место в Космосе. Таким образом, инициация — это не просто ритуал перерождения, но также получение образования. Знание, глобальное восприятие мира, интерпретация природы как единства, открытие конечных причин бытия и прочее — все это становится возможным благодаря созерцанию Неба, небесной иерофании и верховным небесным божествам.
Однако мы совершили бы недопустимую ошибку, толкуя эти действия и помыслы исключительно как продукт интеллекта (как это, например, делает Шмидт). Напротив, они представляют собой действия цельного человека, который, хотя, конечно, частично и занят проблемой причинности, но выше всего ставит проблему бытия и, собственно говоря, оказывается в ее центре. Все эти откровения с метафизической подкладкой (происхождение человечества, сакральная история бога и первопредков, метаморфозы, смысл символов, тайные имена и другое), получаемые в рамках церемонии инициации, нацелены не просто на удовлетворение жажды знаний неофита, но прежде всего на консолидацию его бытия как единого целого, на обеспечение непрерывности жизни, процветания и счастливой участи после смерти.
Подводя итоги, можно сказать, что для нас важнее всего присутствие небесных божеств на наиболее ранних уровнях австралийской религии, в рамках церемоний инициации. Как мы уже сказали, инициация одновременно обеспечивает перерождение инициированного и открывает ему тайны метафизического характера; она питает и жизнь, и силу, и знание. Она показывает, насколько тесно связаны теофания (так как в процессе инициации открываются истинное имя и природа бога), сотериология[136] (так как церемония инициации, как бы она ни была элементарна, обеспечивает спасение неофита), и метафизика (ибо инициированный получает откровение относительно функционирования и происхождения универсума, происхождения человечества и т. д.). Но в самом сердце этой секретной церемонии находится бог Неба, то самое божество, которое некогда сотворило мир и человека и спустилось на Землю, чтобы учредить культуру и ритуал инициации[137].
Изначальное исключительное право небесных богов быть не только Творцами и Всемогущими, но и всеведущими, абсолютно мудрыми объясняет факт их трансформации в некоторых религиях в абстрактные божественные фигуры, персонифицированные концепты, используемые в целях объяснения универсума или выражения его абсолютной реальности. Ио, Бог Неба в Новой Зеландии и на Таити, существование которого открывается лишь посвященным в эзотерическое учение жрецов, представляет собой скорее философский концепт, нежели реальное божество[138]. Другие небесные боги, например Нзамби у банту или Сусостинако у индейцев сиу, асексуальны, в чем выражается проявление абстрактного мышления, обозначающее трансформацию божества в метафизический принцип. Действительно, Авонавилона у индейцев зунья представляется без каких‑либо личных свойств и может с равным основанием считаться божеством как женского, так и мужского пола (Ланг[139] называл его «Он–Она»)[140].
Верховные небесные боги могли трансформироваться в философские концепты лишь потому, что сама небесная иерофания могла быть трансформирована в метафизическое Откровение, т. е. потому, что созерцание Неба по своей природе давало человеку возможность осознать не только случайность себя самого и трансцендентность божества, но также и сакральную ценность знания, духовной «силы». Что, как не созерцание чистого голубого неба днем или звездных пространств ночью, дает возможность полнее ощутить божественное происхождение и священную суть знания, всемогущество того, кто видит и понимает, того, кто «знает» все потому, что он везде, видит все, все создает и управляет всем? Конечно, для современного мышления такие боги, как Ио, Брахман[141] и другие с их расплывчатыми мифологическими контурами, представляются довольно абстрактными, и мы привыкли рассматривать их скорее как философские концепты, нежели как божества в собственном смысле слова. Но нельзя забывать, что для первобытного человека, который их изобрел, знание и понимание были — и до сих пор являются — эпифанией «власти» и «сакральной силы». Тот, кто все видит и знает, есть все и может все. Иногда такое Верховное существо, небесное по происхождению, становится основанием универсума, творцом и повелителем ритмов природы и стремится к слиянию либо с принципом, или с метафизической субстанцией универсума, либо с Законом, с тем, что среди изменчивых и временных явлений остается вечным и универсальным, — с Законом, который не могут отменить даже сами боги.
18. БОГИ НЕБА У НАРОДОВ СЕВЕРА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Когда от верований «первобытных» народов мы обращаемся к так называемым политеистическим религиям, оказывается, что основные различия проистекают из их истории. История, естественно, модифицировала и первобытные теофании: ни один из первобытных небесных богов не является «чистым», ни один из них не представляет собой первоначальной формы. Их «формы» изменялись либо посредством влияния извне, либо же просто из‑за того, что составляли часть человеческих традиций. Но когда речь заходит о так называемых политеистических религиях, действие истории становится неизмеримо сильнее. Религиозные концепции, равно как и вся духовная и ментальная жизнь этих исторически творческих народов, претерпели различные влияния, симбиозы, изменения и затмения. Божественные «формы», как и все другие «формы», произведенные этими цивилизациями, сотканы из бесчисленных и разнообразных элементов. К счастью, над религиозной жизнью и всем, что она творит, доминирует то, что можно назвать «тенденцией к архетипу»[142]. Сколь бы многочисленны и различны ни были компоненты, составляющие какое‑либо религиозное творение (любая божественная форма, ритуал, миф или культ), в их облике всегда прослеживается тенденция возврата к единому архетипу. Поэтому мы в состоянии проанализировать некоторых небесных богов политеистических религий и разобраться в их происхождении и развитии, не обращаясь к их истории, т. к. каждый из них, независимо от его истории, стремится достичь своей первоначальной «формы», вернуться к своему архетипу. Это, однако, не означает, что фигуры этих небесных богов просты или что мы собираемся далеко зайти в их упрощении.
Первый из новых элементов, просматриваемых в этих богах по сравнению с теми, которых мы обсуждали в предыдущих параграфах, — это их верховная власть. Теофанию никогда невозможно свести просто к атмосферным явлениям и к тому, что происходит на небесах; власть этих богов никогда не исчерпывается одним лишь сотворением мира. Они становятся «хозяевами», владыками Вселенной. Следовательно, говоря о так называемых политеистических религиях, мы не можем судить о небесных богах, не упоминая об этом новом элементе верховного владычества; он проистекает из того же самого небесного исключительного права, но представляет собой новое выражение религиозного значения «власти» и вызывает определенные изменения в концепте божественности.
Наш краткий очерк мы начнем с Верховных небесных богов, почитаемых народами Заполярья и кочевниками Северной и Центральной Азии. Самодийцы поклоняются Нуму, Божеству, живущему на Небе (или на седьмом Небе), и чье имя означает «небо»[143]. Но его нельзя физически отождествить с небом, поскольку, как указывает Шмидт[144], самодийцы также считают, что Нум — это море и земля, т. е. весь мир. У коряков Верховное Божество зовут «тот, кто наверху», «хозяин того, что наверху», «надзиратель», «тот, кто существует», «сила», «мир». У айнов оно называется «божественный Хозяин Неба», «Небесный Бог», «божественный Творец миров», «Защитник» и т. д.; но также Камуи, что означает «небо»[145]. Верховное Божество коряков живет в «небесной деревне». Центральные эскимосы верят, что их Верховный Бог живет на Небе; они называют его «небесное существо»[146]. Не приходится и говорить, что эти имена и атрибуты не исчерпывают личности Верховного Бога у народов Севера. Прежде всего он — всемогущий Бог, часто единственный, и властелин мира. Но небесная природа его теофании и ее древность очевидны; и, подобно небесным богам «первобытных» сообществ, этот Верховный Бог также принимает участие в религиозной жизни народов Севера наравне с низшими богами и духами[147]. Иногда, если молитвы духам оказываются безуспешными, молятся ему одному. Так или иначе, в процессе жертвоприношения ему достаются голова и длинные кости жертвенного животного, в то время как духи и хтонические божества получают лишь теплую кровь[148].
Монголы обозначают Верховное Божество словом тенгри, которое значит «небо» (ср. также бурятское тенгери, волжскотатарское тангере, бельтирское тингир, якутское тангар и, возможно, чувашское тура)[149]. У черемисов (мари) Бога Неба зовут Юмо с исходным значением «небо»[150]. У остяков (ханты) и вогулов (манси) самое распространенное имя Нуми–Торум («Торум — высокий» или «Торум, живущий в вышине»[151]. Еще южнее, у иртышских остяков, имя Бога Неба происходит от слова сенке, чье исходное значение было «светящийся, яркий, светлый»: например, Нум–Сенке («Сенке, живущий в вышине»), Ем–Сенке («Сенке добрый») и т. д.[152]
Другие титулы и эпитеты богов Неба лишь дополняют наше представление об их природе и функциях. Бельтиры обращаются с молитвами к «милосерднейшему Хану» (Каира–Кан) и «Хозяину» (каян)[153]. Минусинские татары называют своего Верховного Бога «Создателем Земли» (кар каяны);[154] якуты — «Мудрым хозяином–Творцом» (урун айы тойон) или «Высочайшим хозяином» (ар тойон), алтайские народы — «Великим» (ульган, ульген) или «Величайшим» (бай ульген); в их заклинаниях он даже называется «белый свет» (ак аяс; ср. остякское сенке) и «светлейший Хан» (аяс кан)[155]. Остяки и вогулы прибавляют к имени Торум следующие характеристики: «Великий», «светлый», «золотой», «белый», «Высочайший», «Господи, Владыка, Отец мой», «добрый золотой свет свысока» и т. д.[156] В молитвах и письменных текстах бога Неба часто зовут «Отцом»[157].
Простое перечисление этих имен и титулов указывает на небесную, полновластную и творческую природу Верховного бога. Он живет в небесах[158] — на седьмом небе (или на девятом, или на шестнадцатом — Бай Ульгень, ср. § 33). Его трон находится в самой высокой небесной точке или же на вершине космической горы (ср. § 143). Абаканские татары (хакасы) даже говорят о «сводчатых палатах» Бога Неба, буряты — о «доме, сверкающем золотом и серебром», а алтайские народности — о «дворце» (орго) с «золотой дверью» и «золотым троном»[159]. У бога есть сыновья и дочери[160], он окружен слугами и гонцами, которых встречает шаман во время своего экстатического восхождения на небо. (Один из этих гонцов — Яик — живет на Земле и играет роль посредника между Ульгеном и людьми; другой — Суила — наблюдает за поведением людей и докладывает о своих наблюдениях Хозяину[161]). Однако иерогамного мифа у урало–алтайцев не обнаруживается, хотя буряты в своих заклинаниях и обращаются к Небу «Отец», а к Земле «Мать»[162].
Верховный небесный бог — создатель Земли и человека. Он — «Творец всех вещей» и «Отец». Он произвел все видимое и невидимое, он заставляет землю плодоносить[163]. У вогулов Нуми–Торум — не только создатель людей, но и цивилизатор, научивший их ловить рыбу и т. д.[164] Понятие Творения тесно связано с понятием космического закона. Небо — архетип универсального порядка. Бог Неба гарантирует как продолжение и неизменность космических ритмов, так и стабильность человеческого общества. Он «хан», «вождь», «хозяин», т. е. универсальный владыка. Следовательно, его приказы необходимо уважать (в титулах Бога ясно просматривается понятие «приказа» и «приказывающего»)[165]. Монголы верят, что Небо видит все, и когда они дают обет, то объявляют: «Да узнает об этом Небо» или «Да будет Небо тому свидетелем»[166]. В небесных знамениях (кометы, засухи и прочее) они читают откровения и приказы Бога. В качестве Творца, всезнающего и всевидящего, стража закона, Бог Неба — правитель Космоса; тем не менее сам он непосредственно не правит: там, где существуют какие‑либо политические образования, он правит через своих земных представителей — ханов.
В письме Мангу–хана, переданном Вильямом Рубрукским королю Франции, мы находим самую четкую формулировку верований монголов: «Таково повеление вечного Бога: на Небе есть лишь один вечный Бог, и на Земле должен быть лишь один хозяин — Чингисхан, сын Бога!» А на печати Чингисхана была следующая надпись: «Один Бог на Небе, один хан на Земле. Печать Властелина Мира».
Это понятие Владыки мира, сына или представителя Бога Неба на Земле, можно найти и у китайцев (а также у некоторых народов Полинезии). В древних китайских текстах Бог Неба имеет два имени: Тянь («Небо» и «Бог Неба») и Шан–ди («Владыка–вышина», «Владыка в вышине»). Именно Небо следит за космическим порядком, предстает в качестве верховного владыки над девятью областями небес. «Небо — династическое провидение, всевидящая и законотворческая власть. Оно — Бог обетов. Люди клянутся светом дня и зари; они призывают в свидетели голубой небесный свод, голубое небо, высокое небо, что сияет и сияет»[167].
Император — это «сын Неба» (тянь–цзы), представитель Бога Неба на Земле. Китайское тянь мин соответствует монгольскому дзаяган — «небесный приказ». Владыка гарантирует не только надлежащую организацию общества, но и плодородность земли, естественную последовательность природных ритмов. В случае землетрясения или какого‑либо другого бедствия китайский император кается в своих грехах и проходит через ритуал очищения. В «Шицзин» правитель терзается при виде чудовищной засухи: «В каком нас ныне обвиняют преступлении, что Небо послало нам смерть и пытки?.. О! Лучше бы на меня одного пали эти опустошение и гибель, а не на нашу страну!»[168] Ибо император — это «первый человек», представитель космического порядка и страж закона.
Сочетание «Небо — Творец — Всеобщий владыка», гарантирующее космический порядок и продолжение жизни на Земле, дополняется все той же специфической чертой богов Неба — пассивностью. В пределах великих политических империй, таких как китайская и монгольская, миф о верховном владычестве и само существование этих империй «усиливают позиции» бога Неба. Но когда он не получает помощи со стороны «истории», в мыслях своих почитателей он становится пассивным и отдаленным, как это и произошло с Верховным божеством урало–алтайцев. Для некоторых народов Сибири и Центральной Азии бог Неба настолько далек, что он вообще не интересуется тем, что делают люди. А у тунгусов Буга («Небо», «Мир») знает все, но не вмешивается в дела человечества и даже не наказывает злодеев. Уран айы тойон или Айбыт ага (Ага, Отец) у якутов живет на седьмом небе, восседает на троне из белого мрамора и управляет всем на свете, но творит лишь добро (другими словами, не наказывает). Тунгусы в окрестностях Туруханска верят, что Бог Неба иногда приносит им удачу, а иногда вредит, но говорят, что не знают, каким образом он решает, что из двух деянии предпочесть[169].
Впрочем, можно сказать, обобщая, что боги Неба урало–алтайских племен лучше сохранили свои изначальные черты, чем боги Неба других народов. У них нет иерогамий, и они не трансформированы в богов бури или грома[170]. (Как и в североамериканских мифологиях, урало–алтайцы представляют гром в виде птицы, но никогда не приносят ему жертв[171].) Богов Неба почитают, люди молятся им ради пищи[172], у них есть настоящий культ, хотя и нет изображений[173], а в жертву им обычно приносят белого оленя и собак[174]. Но нельзя сказать, что вера в Верховное существо доминирует в религиозной жизни этих народов; существует целая серия ритуалов, верований и суеверий, не имеющих к нему никакого отношения.
19. МЕСОПОТАМИЯ
Шумерский термин для обозначения божества — дингир[175] на самой ранней стадии обозначал небесную эпифанию: «светлый, сияющий» (дингир переводилось на аккадский язык как эллу — «светлый, сияющий»). Идеограмма, употреблявшаяся для слова «божество» (произносилась дингир), использовалась и для слова «Небо» (и в этом случае произносилась ана, ану). Первоначально этот знак был иероглифом, обозначавшим звезду. Когда его произносили как ан(а), ан(у), он обозначал трансцендентность Космоса как такового: «высокий, высшая сущность».
Тот же знак ан использовался для выражения значения «дождливое небо» и — по метонимии — «дождь». Таким образом, интуитивное понятие божества как такового (дингир) основано на небесных иерофаниях (высота, свет, сияние, небо, дождь). Вскоре небесные иерофании были отделены от этого понятия и сосредоточились в фигуре одного персонифицированного Божества — Ану, имя которого означает «Небо» и который, несомненно, появился в истории еще до начала четвертого тысячелетия до н. э. Будучи шумерского происхождения, Ану тем не менее стал Верховным Богом у вавилонян. Однако, как и прочие боги Неба, через некоторое время он перестал играть первостепенную роль. Ану — по крайней мере в исторический период — представляется несколько абстрактным Богом. Его культ не был широко распространен[176]; его редко называют в религиозных текстах, а имя его не фигурирует в списках божественных имен[177]. Он не является Богом–Творцом, в отличие от Мардука. До сих пор не найдено ни одной статуи Ану[178], и это, по–видимому, подтверждает тот факт, что он никогда не оказывал активного влияния на вавилонскую религиозную жизнь в исторический период.
Ану, разумеется, живет на Небе. Его дворец, расположенный в высшей точке небесного свода, не был затронут водами потопа[179]. Там, как на греческом Олимпе, его навещают другие боги.
Его храм в Уруке называется Е–ап–па — «Дом Неба». Ану сидит на троне, при нем все атрибуты власти: скипетр, диадема, головной убор, посох[180]. Он верховный правитель, и, копируя символы его власти, все цари подчеркивают свою избранность и свое превосходство; символически царь получает власть непосредственно от Ану[181]. Вот почему к нему взывают только цари и никогда — простые люди. Он — «Отец богов» (абу илани) и «Царь богов». Его называют «Отец»[182], но скорее намекая на его верховное владычество, чем в обычном смысле слова.
В Законах Хаммурапи к нему обращаются как к «Царю Ануннаки», а обычные его титулы таковы: ил шаме («Бог Неба»), аб шаме («Небесный Отец»), шар шаме («Небесный Царь»). Царственность как таковая исходит от Неба[183].
Звезды — воинство Ану[184], ибо он, как Владыка Мира, Бог–воин (ср. библ. Саваоф — «господь воинства»). Главное празднество, посвященное ему, справляется в начале Нового года, тогда же, когда празднуется сотворение мира (§ 153). Но с течением времени праздник Нового года стал посвящаться Мардуку — Богу более молодому (начало его возвышения датируется временем Хаммурапи, около 2150 до н. э.), более динамичному (он сражался с морским чудовищем Тиамат и убил его) и, что еще более важно, Богу–Творцу (Мардук создал из тела Тиамат Вселенную). Этот переход главного празднества Ану к Мардуку согласуется с возведением Бога бури Энлиля–Белу в ранг Верховного Бога вавилонян (§ 27). Последствия замены бога Неба на этих динамичных, творческих и приближенных к человеку божеств станут яснее по мере повествования.
20. ДЬЯУС, ВАРУНА
Здесь нет необходимости подробно обсуждать фигуру гипотетического Бога ясного неба Дьяуса, общего для всех арийских племен[185]. Очевидно, что индийский Дьяус, римский Юпитер, греческий Зевс и германский бог Тюр — это различные формы, образовавшиеся с течением истории из данного первичного небесного божества, и что из самих их имен следует исходное двойное значение «света (дня)» и «сакрального» (ср. санскрит, div, «светить», «день», dyaus, «небо», «день»; dios, dies; deivos, divus). Имена этих верховных индоарийских божеств указывают на их органическую связь с ясным, светлым небом. Но это не означает, как полагают многие исследователи[186], что с исходным образом Дьяуса не связаны никакие метеорологические явления, как‑то: гроза, молния, гром и т. д. Наиболее архаичные боги Неба (такие как Байаме и Дарамулун, ср. § 12) управляли этими явлениями, а молния была их главным атрибутом. Тот факт, что имя арийского Бога Неба подчеркивает его сияющий и сверкающий характер, не исключает присутствия в личности Дьяуса и других небесных теофаний (урагана, дождя и др.). Это правда, как мы увидим ниже (§ 26), что огромное количество таких богов Неба стали «специализироваться» и превратились в богов грозы или плодородия. Но эти «специализации» следует рассматривать как результат различных тенденций (как‑то: тенденция к конкретизации; превращение понятия «Творения» в понятие «плодородия» и др.), часто наблюдаемых в истории религий.
Было бы чересчур затруднительно свести исторические образы индоарийских небесных божеств к какой‑либо единой теофании или же единому ряду небесных теофании. Их характер богаче, а функции сложнее. Сакральные силы, содержащиеся в них и управляемые ими, распространяются на многие сферы — сферы не всегда космические. Решающим элементом в характере всех этих божеств является их верховное владычество, а оно не может быть объяснено исключительно через сакральность Неба. Сравним, к примеру, случай с индоарийским Богом Неба. Дьяус редко выступает в Ведах или в постведийских письменных памятниках в виде божества как такового;[187] обычно его имя означает «небо» или «день» (дьяви дьяви — «изо дня в день»). Несомненно, что некогда Дьяус пользовался автономией настоящего Божества; следы этого дошли до нас в Ведах, как‑то: пара Дьявапритхиви («Небо и Земля»[188]), обращение к «Небу–Отцу», к «Всезнающему Небу»[189]. Иерогамия, всеведение и способность творить — это специфические атрибуты настоящего небесного божества. Но Дьяус подвергся процессу «натурспециализации», т. е., другими словами, он перестал считаться олицетворением святости Неба и превратился просто в обозначение дневного состояния неба («небо», «день»). В данном случае это также результат его «пассивности»: сакральный элемент отделяется от явлений природы, и слова, некогда используемые в целях описания сакрального, в конечном итоге становятся профаническими: значимость небесного божества заменяется на обозначение неба и дневного состояния неба. Но подобная «секуляризация» Дьяуса ни в коем случае не уничтожает и не ослабляет теофанию Неба; она лишь означает, что Дьяус уступил свое место другому божеству. «Натурализовавшись» и прекратив выражать идею сакральности Неба, Дьяус перестал исполнять функции Верховного небесного Бога[190].
Эта смена бога произошла сравнительно рано, потому что уже с начала ведийского периода место Дьяуса было занято другим Богом — Варуной (u‑ru‑va‑na в богазкейских надписях XIV в. до н. э.), который сохранил все небесные атрибуты, но которого уже нельзя назвать просто Богом Неба. Мы достоверно знаем, что Варуна — вишвадаршата, «видимый повсюду»;[191] что он «разделил два мира»;[192] что ветер — его дыхание[193], что его и Митру почитают как «двух могущественных и великих хозяев Неба» и что, «затемняя облака, показывается он при первом рычании грома и божественным чудом посылает с неба дождь», что это он «разворачивает свои чудесные труды в небе» и т. д. Еще на ранней стадии Варуна приобрел лунарные свойства[194] и так тесно был связан с дождем, что стал Богом Океана[195]. Обе эти перемены произошли в результате трансформации его исходной небесной формы. Подмена исходных божественных фигур лунарными или (более общий случай) усвоение ими лунарных элементов — явление, часто встречающееся в истории религий. Ритмы Луны управляют дождем и морями — право на ниспосылание дождя переходит от бога Неба к богу Луны.
Исходная небесная природа Варуны объясняет и другие его достославные свойства — например, всезнание. «Его соглядатаи спускаются с Неба и тысячами своих глаз следят за Землей. Царь Варуна видит все… Он даже считает, как часто люди моргают глазами своими…»[196] Варуна всеведущ и непогрешим, «он видит след птиц, летящих в воздухе… он знает направление ветра… и он, знающий все, выведывает все секреты, все дела и намерения…»[197]. Вместе с Митрой он размещает своих соглядатаев в растениях и в домах, ибо эти боги никогда не закрывают глаз[198]. Варуна — сахасракша, «тысячеглазый»:[199] тысяча глаз — это мифологическое обозначение звезд, метафора, которая изначально (а может быть, и в дальнейшем) обозначала небесное божество[200]. Варуна — не единственный Бог с «тысячью глаз» — они есть у Индры и Вайю[201], а также у Агни[202] и Пуруши[203]. Между первыми двумя из них и небесными явлениями (ураганы, ветры и тому подобное) мы можем установить некоторую связь, но Агни — это Бог огня, а Пуруша был мифическим великаном. Их «тысячеглазие» следует не из каких‑либо их небесных функций, а из того, что во всех гимнах, обращенных к ним, они рассматривались как всеведущие и всемогущие боги, иными словами — как Верховные Владыки.
21. ВАРУНА И ВЕРХОВНАЯ ВЛАСТЬ
Возвращаясь к вопросу о том, можно ли считать Варуну исключительно небесным божеством, нужно заметить, что в Ведах часто подчеркивается не столько его небесный характер, сколько его качества Верховного владыки: «воистину Варуна — это высшая Кшатра»[204]; а Х. Гюнтерт[205] и Дюмезиль[206] обнаружили формулировки, безусловно доказывающие наличие у Варуны этой фундаментальной черты. Верующие чувствуют себя в его присутствии «рабами»[207], при том что сознание униженности не сопровождает их в процессе поклонения другим богам[208]. В качестве владыки мира Варуна — страж космического порядка. Вот почему он «видит» все, и даже скрытый грех не ускользает от его глаз; именно Варуне молится человек, когда ему не удаются дела, спрашивая Бога, какие грехи он совершил или же чем он его оскорбил[209]. Варуна является гарантом соглашений между людьми, «опутывая» их взаимными клятвами. Любого, кого Варуна намерен погубить, он «опутывает»;[210] и все должны бояться «пут» Варуны[211], ибо эти путы парализуют и изнуряют человека. Варуна — божество, обладающее исключительным правом «опутывания», которым также обладают верховные боги других религий (§ 23) и которое свидетельствует о его волшебной силе, о его духовной, высшей, царской власти.
Даже само имя Варуны можно объяснить через его «опутывающую» силу, ибо в настоящее время этимология, связанная с корнем вар (вриноти) «покрывать», «окружать» (якобы указывающая на его небесные качества), отвергнута в пользу интерпретации, предложенной Х. Петерсоном и принятой Гюнтертом[212] и Дюмезилем[213], согласно которой это имя восходит к индоевропейскому корню uer «связывать» (санскр. варатра — «ремешок, веревка», лит. veru, vert — «нанизывать, вышивать», рус. вереница). Варуну всегда изображают с веревкой в руке[214], и множество церемоний связано с освобождением людей от «пут Варуны» (даже узлы имеют к нему специфическое отношение)[215].
Хотя эта «опутывающая» сила и могла быть увеличена позднейшим воздействием хтонических и лунарных божеств на Варуну[216], она все же указывает на то, что верховное владычество этого Бога в своей основе носит магический характер. В дополнение к интерпретации Гюнтерта[217], который утверждает магическую значимость «пут» и «сетей», Дюмезиль совершенно справедливо раскрывает их царственную функцию. «Варуна — главный обладатель майя, магического воздействия. Путы Варуны магические, как и само его владычество; они служат символом мистических ветвей власти, которыми обладает вождь и которые называются: правосудие, управление, служба царской и общественной безопасности и другие. Скипетр и оковы — данда и паша — и в Индии, и в других местах являются почетным олицетворением этих ветвей власти»[218]. Соответственно, на индийской церемонии посвящения в цари Варуна занимает почетное место; вообще церемония раджасуйя всего лишь воспроизводит архетипический акт, в процессе которого был освящен сам первый Верховный Владыка, Варуна[219].
Следовательно, было бы ошибочно думать о Варуне как просто о Боге Неба и объяснять все (его персону, миф и ритуалы), исходя исключительно из его небесной характеристики. Как и другие боги, называемые небесными, Варуна является сложной фигурой и не может быть ни сведен к «натурэпифаниям», ни ограничен социальными функциями. Прерогативы верховного владычества развивались постепенно и приращивали прерогативы небесные: Варуна все видит и знает, поскольку, находясь в своем звездном доме, он возвышается над Миром; но в то же время он все может, поскольку управляет Космосом, и он наказывает всех нарушителей своих законов, «опутывая» их (болезнями или бессилием), поскольку он страж универсального порядка. Во всех этих атрибутах и функциях ясно просматривается одна общая черта: безмятежный, священный, можно даже сказать пассивный, характер его «власти». Он не присваивает себе никаких прав, ничего не завоевывает, ни за что не борется (в отличие, например, от Индры); он уже могуществен, он уже Верховный Владыка и одновременно созерцатель («жрец, посещающий собрания»)[220]. Варуна — царь, но не царь, воцарившийся по своей воле (сварадж, как Индра), а самрадж — царь универсальный[221], т. е. власть принадлежит ему по праву в силу его природы, и эта власть дает ему возможность действовать с помощью магии, через «власть мысли», через «знание».
Таким образом, мы обнаруживаем замечательную симметрию между тем, что можно назвать «небесным» и «царским» аспектами Варуны: они соединяются вместе и дополняют друг друга; Небо трансцендентно и уникально точно так же, как и Владыка Мира; тенденция к пассивности просматривается у всех верховных небесных богов, живущих в высших сферах, отдаленных от человека и более или менее безразличных к его каждодневным нуждам. Пассивность первобытных верховных божеств Неба можно обнаружить и в Варуне: это видно по его созерцательному характеру, а также по его манере действовать не физическими методами, как Индра, а с помощью магических, духовных сил. Такая же симметрия существует между атрибутами бога Неба и владыки Мира в первобытных обществах: оба гарантируют порядок и плодородность при условии соблюдения законов. Дождь обеспечивает плодородие; однако любое нарушение закона, любой грех подвергает опасности естественное протекание времен года и таким образом угрожает самой жизни общества и природы. Как мы увидим ниже, Владыка выступает в качестве гаранта благополучия и плодородия земли не только в мифологии, но и собственно в обрядах поклонения ему. Но заметим сразу же, что это понятие владычества над Миром, осуществляемого исключительно через духовную и магическую деятельность, своим развитием и масштабами обязано прежде всего понятию небесной трансцендентности. Проявляясь на самых различных уровнях, это понятие сделало возможной полную картину «магического владычества». С другой стороны, теория «магического владычества» сама оказала заметное влияние на исходную фигуру бога Неба. Таким образом, Варуну, по крайней мере с исторической точки зрения (т. е. таким, каким он предстает в Ведах и постведийской литературе), нельзя считать просто Богом Неба, так же как его нельзя считать Богом Луны или Океана. Он совмещает функции (или имеет тенденцию к совмещению функций) всех этих богов, и в то же время он в первую очередь Бог–Владыка[222].
22. ИРАНСКИЕ БОГИ НЕБА
У иранцев также был Верховный Бог Неба; ибо, согласно Геродоту[223], «они обычно поднимались на самые высокие горы и приносили жертвы Зевсу, чьим именем они называли окружающее их небесное пространство». Мы не знаем, как звали этого изначального Небесного Бога на иранских языках. Божество, которое мы находим в Авесте, божество, которое попытался преобразить Заратустра, сделав его центральной фигурой в своей религиозной реформе, носило имя Ахура–Мазда — «Господин Мудрость», «Всезнающий». Одним из его эпитетов был vouru casani, «широковидящий»[224], указывающий на его небесную принадлежность. Однако после реформы Заратустры Ахура–Мазда был очищен от натурэлементов, и наиболее ясно очерченные следы древнего Бога Неба мы скорее находим в поздних памятниках, отражающих возврат к первоначальному иранскому политеизму.
Исследования в области сравнительного изучения религий с самого начала обнаружили в Ахура–Мазде двойника Варуны. Хотя некоторые ученые и отвергали эту теорию[225], мы не видим тому никаких серьезных причин. Общие черты этих двух богов, как было показано пятьдесят лет назад Ольденбергом (в его работе «Varuna und die Adityas»), убедительно ее подтверждают: и Варуна, и Ахура–Мазда являются «богами–владыками»[226]. В Авесте повсеместно встречается древняя формула Митра–Ахура[227], где Митра ассоциируется с неким Ахурой, который еще не стал историческим Ахура–Маздой, но скорее напоминает Верховного асуру ведийских памятников — Варуну. Таким образом, авестийский Митра–Ахура соответствует ведийскому двойному имени Митра–Варуна. Мы бы не стали, подобно Гертелю[228], Нюбергу[229] и Виденгрену[230], рассматривать Митру в качестве ночного Неба, а Ахура–Мазду — в качестве Неба дневного[231]. Но небесные признаки эпифании Ахура–Мазды несомненны. Ибо «его одежды — непоколебимый свод небес»;[232] со всех сторон неба он посылает дождь, питающий «людей, которые набожны, и животных, которые полезны»;[233] его зовут «тот, кто видит многое, кто видит лучше всех, кто видит далеко, кто лучше всего видит издали, кто следит, кто знает, кто знает лучше всего»;[234] «тот, кто не обманывает»;[235] «тот, кто знает… он непогрешим, он обладает безупречным и всеведущим разумом»[236]. «Невозможно обмануть Ахуру, ибо он видит все», — говорится в Ясне[237]. Подобно другим небесным богам, Ахура–Мазда никогда не спит и не подвержен действию усыпляющих средств[238]. Вот почему ни одна тайна не ускользает от его «пронзительного взгляда»[239]. Ахура–Мазда гарантирует ненарушение договоров и выполнение обещаний; открывая Заратустре причину, по которой он сотворил Митру, Ахура–Мазда сказал, что всякий, нарушающий договор (митра = договор), навлекает несчастье на всю страну[240]. Таким образом, именно он обеспечивает устойчивость человеческих отношений, основанных на взаимном договоре, равно как и уверенное равновесие природных сил и общего благосостояния. Поэтому Митра тоже всеведущ, у него десять тысяч глаз и тысяча ушей[241], и, как и Ахура–Мазда, он непогрешим, всемогущ, никогда не спит и постоянно бдителен;[242] его также называют «тот, кого невозможно обмануть» (адаоямна) и «всеведущий» (виспо, видва).
Однако все эти атрибуты и функции подразумевают не только небесную эпифанию, но и другие права — например, право на верховное владычество[243]. Ахура–Мазда знает и видит все не только потому, что он Бог Неба, но также потому, что он Владыка, блюститель закона и каратель зла; так как он Владыка, он обязан гарантировать должную организацию и процветание как природы, так и общества, ибо малейшего нарушения порядка достаточно для того, чтобы поставить под угрозу мировое равновесие на всех уровнях. Мы располагаем чересчур ограниченным количеством иранских религиозных памятников (главным образом из‑за реформы Заратустры), чтобы реконструировать исходный образ Ахура–Мазды как Бога Неба. Можно даже усомниться в том, был ли Ахура–Мазда когда‑либо в чистом виде Богом Неба, или, будучи Верховным Богом, он одновременно являлся Богом Судьбы[244], архетипом правителя и жреца[245], двуполым Богом;[246] не исключено, что уже с самого начала своей «истории» он представлял собой сложную теофанию, в которой небесные элементы, естественно, играли важную, но ни в коем случае не эксклюзивную роль.
Необходимо также обратить внимание на дозороастрийское представление об Ахура–Мазде как о deus otiosus[247], который творит не непосредственно, а с помощью spenta mainyu[248], т. е. через посредничество «доброго духа», так что он несколько напоминает демиурга, сопровождающего Верховное небесное существо в первобытных религиях. Это настолько общее явление, что, как кажется, оно должно соответствовать некоторой фундаментальной тенденции в религиозной жизни; мы вернемся к этому ниже. В случае Ахура–Мазды эта тенденция была пресечена реформой Заратустры — многие религиозные реформаторы (например, Моисей, пророки, Мухаммед) возвращали к жизни древних верховных богов Неба, которые, превратившись в dei otiosi, в религиозной жизни масс были вытеснены более конкретными и динамичными фигурами (богами плодородия, великими богинями и т. д.). Но религиозная реформа подразумевает наличие сакрального опыта, кардинально отличного от того, с которым мы имеем дело в данном исследовании, и поэтому ее было бы полезнее рассмотреть где‑либо в другом месте.
23. УРАН
В Греции Уран более четко сохранил свой естественно–природный характер: он был Небом. Гесиод изображает[249], как он, приближаясь и расстилаясь во всех направлениях, «жаждущий любви» и приносящий ночь, окутывает Землю. В этом космическом браке заключено четкое определение функции Неба. Но помимо этого мифа от Урана не дошло до нас ничего, даже ни единого изображения. Его довольно шаткую культовую власть узурпировали другие боги, прежде всего Зевс. Таким образом, судьба Урана также свидетельствует о том, что небесные божества постепенно изгонялись из религиозной жизни и деятельности, многократно лишались власти, подменялись и смешивались и, в конце концов, уходили в забвение. Абсолютно забытый в ходе развития религии, Уран выжил лишь благодаря мифу, переданному Гесиодом, — мифу, который, хотя и не дает понять, какие с ним были связаны ритуалы, все же удовлетворяет желание знать, как был сотворен мир. Он показывает, что изначально существовало если и не одно Небо, то, во всяком случае, божественная пара Небо — Земля[250]. От этого вечного священного союза были рождены первые боги (Океан, Гиперион, Тея, Фемида, Феб, Крон и др.), а также циклопы и другие чудовищные создания. Уран был прежде всего «мужем, который оплодотворяет», как и прочие боги Неба, например, Дьяус (которого называли сурета, «доброе семя»;[251] от его объятий с божественной женой Притхиви были рождены люди и боги[252]).
Но, в отличие от прочих богов Неба, плодовитость Урана была опасной. Его чада были не обычными обитателями этого мира, а чудовищами (сторукими, пятидесятиглазыми, огромного роста и т. д.). Поскольку Уран «ненавидел их с самого первого дня» (Гесиод), он прятал их в недра Земли (Геи), так что она страдала и стонала. Подстрекаемый Геей, его младший сын Крон подстерег своего отца, когда тот по своему обычаю в сумерках направлялся на Землю, отсек его детородный орган и выбросил его в море. Это увечье прекратило появление новых чудовищ Урана и тем самым — его верховное владычество. Как показал Дюмезиль[253], у этого мифа есть соответствие в мифе о бессилии Варуны и в ритуале введения в должность индийских вождей. В другом месте мы еще вернемся к сложному вопросу об «опасностях верховного владычества»; сейчас нужно лишь отметить важнейшее значение этих двух мифов и соответствующих им ритуалов (обеспечение и контроль плодородия). Поражает также симметрия между двумя Верховными Владыками — Ураном и Варуной: несмотря на эволюцию Урана в естественно–природную сторону, он все же «был первым властелином мира»;[254] его старшую дочь звали Басилея[255]. Варуна обладает исключительным правом на «опутывание»; Уран также «опутывает» своих детей, пряча их одного за другим в теле Геи. Варуна «отбирает дыхание» у своего сына Бхригу и отправляет его на ученье в подземный мир;[256] а Уран заковывает в цепи циклопов и бросает их в Тартар[257]. Крон наследует ему в качестве Владыки Мира и заковывает своих противников в цепи; орфики такой же магической силой наделяют Зевса.
Отличие Урана от остальных богов Неба заключается в его чудовищной плодовитости и ненависти, которую он сам питает к своим творениям. Все небесные боги — творцы; они создают мир, других богов, живые существа. Плодовитость — лишь один из элементов их творческого призвания. «Святое Небо пьянит пронзание плоти Земли», — говорит Эсхил в одной из своих утраченных трагедий («Данаиды»)[258]. Поэтому небесные боги индо–средиземноморских районов тем или иным образом постоянно отождествлялись с быками. В «Ригведе» Дьяуса называют «быком»;[259] как мы увидим, то же самое происходит с большинством эгейско–восточных богов. Однако плодовитость Урана представляет опасность. Как заметил Мэйзон в своем комментарии к «Теогонии» Гесиода[260], оскопление Урана пресекает его несущую ненависть и извращенную плодовитость и появлением Афродиты из пены, окровавленной детородным органом Урана, устанавливает порядок в порождении живых существ, предохраняющий от беспорядочного и опасного произведения потомства в будущем.
Эта оригинальная особенность Урана, по крайней мере, в том виде, в каком она представлена у Гесиода, до сих пор в полной мере не объяснена. Зачем ему, единственному из всех небесных богов, понадобилось непрерывно порождать чудовищ и одновременно «ненавидеть» их, вплоть до «заковывания» их в Тартаре или во чреве Земли? Не есть ли это смутное воспоминание, искаженное в отрицательную сторону представление о том мифическом времени, illud tempus, когда процесс Творения еще не был строго нормирован, когда все что угодно порождалось всем чем угодно, когда волк жил вместе с агнцем, а леопард лежал вместе с козленком? Это время рассвета и рая на Земле действительно должно было характеризоваться абсолютной свободой на всех уровнях реальности, а следовательно — среди самых различных живых существ. Множество традиций содержат рассказы о постоянно изменяющихся и чудовищных формах живых существ, творимых при начале начал. Можно предположить, что миф о чудовищных детях Урана проистекает из греческого рационализма и имеет целью продемонстрировать ценность упорядоченной Вселенной, которая связана с появлением Афродиты и которой позже начал управлять Зевс, Вселенной, в которой все существа строго распределены по видам, в которой присутствуют порядок, равновесие и иерархия[261]. Или же борьба между детьми Урана — это лишь процесс замены доэллинских божеств на эллинских богов?
24. ЗЕВС
Как бы мы ни объясняли возникновение этих монструозных созданий, факт остается фактом: культ Урана исчез уже в доисторические времена. Его место было занято Зевсом, имя которого доказывает его небесную сущность. Как и Дьяус, Зевс в своем имени сохраняет значения «светлости» и «дня» (ср. санскритское div — «светить», «день»; на Крите день назывался dia)[262], и с этимологической точки зрения оно также родственно латинскому dies. Но, бесспорно, не следует ограничивать сферу его деятельности «ясным, светлым, сияющим небом» и рассматривать его метеорологическую активность исключительно как результат позднейшего развития или влияния извне. Оружием Зевса была молния; места, пораженные молнией — enelysia, — посвящались ему. Значение титулов Зевса вполне ясно: все они в той или иной степени свидетельствуют о его связи с грозой, дождем и плодородием. Так, его зовут Омбрий и Гиэтий (дождливый), Урий (посылающий благоприятный ветер), Астрапий (мечущий молнии), Бронтон (грохочущий громом) и т. д. Его также называют Георг (земледелец) и Хтоний (живущий в земле)[263], поскольку он управляет дождем и обеспечивает плодородие полей. Даже его животный аспект (Зевс Ликейский — в облике волка, которому приносят человеческие жертвоприношения)[264] овеян магией с земледельческой ориентацией (поскольку жертвоприношения совершались во время засух, бурь и т. п.).
Уже давно было замечено, что Зевсу, хотя он и является Верховным Божеством греческого пантеона, посвящено относительно небольшое количество праздников и что его культ скромнее, чем у многих других богов. Предлагалось немало различных объяснений такой аномалии[265]. Нам думается, что, как это свойственно и прочим небесным божествам, Зевс не обязательно должен присутствовать на переднем плане религиозной жизни. Тем не менее он занимает господствующее положение в двух ее важнейших элементах — земледелии и искуплении грехов. Все, что обеспечивает хороший урожай (дождь и всяческие погодные явления), и все, что очищает от греха, относится к ведомству Неба. «Очищение» и «инициация» — с помощью грома или чего‑либо, олицетворяющего гром (типа гуделки или громовой стрелы), — это первобытные ритуалы (§ 12), которые свидетельствуют не только о древности небесных богов, но также о древности элементов волнения, бури, присутствующих в них. Многие исследователи настолько заворожены этимологией Зевс — Дьяус, что забывают двойственную структуру первобытного представления о небесных божествах. Зевс — это конечно же Верховный Владыка; но он в более явной форме, нежели другие боги, сохранил также и свои качества «Отца». Он Зевс–Патер (ср. Дьяус–Питар, Юпитер), архетип патриархального главы семейства. Представление о нем как о pater familias отражает социологические концепции арийских народов. Оно объясняет концепцию Зевса Ктесия, «Hausvater» («Отца семейства», «хозяина дома»), которого эллины представляли как настоящего домашнего гения в форме змея и брали с собой во все путешествия. Будучи «Отцом» и «Верховным Владыкой», Зевс совершенно естественно становится также Богом города — Зевсом Полиэном, и именно от него цари получают свою власть. Но эта многосторонность всегда сводится к одной и той же исходной точке: верховенство принадлежит Отцу, т. е. Творцу, создателю всех вещей. «Созидательный» элемент в Зевсе просматривается очень четко, но не на космогоническом уровне (ибо мир был создан не им), а на биокосмическом: он управляет источниками плодородия, он — повелитель дождя. Он «Творец» потому, что он «делает плодородным» (иногда он и сам становится быком, ср. миф о Европе). Его «Творение» прежде всего зависит от того, как ведет себя природа, особенно дождь. В его верховенстве видны одновременно черты отца и царя; он гарантирует благосостояние семьи и процветание природы как своей творческой силой, так и своей властью хранителя порядка вещей.
25. ЮПИТЕР, ОДИН, ТАРАНИС И ДРУГИЕ
В Италии Юпитеру, как в Греции Зевсу, поклонялись на вершинах гор. С горами вообще связана самая различная символика (§ 31): они «высокие», они близко от неба, на них встречаются облака и с них нисходит гром. Конечно же в Греции наибольшие почести воздавались Олимпу; однако Зевс, как и Юпитер, присутствовал на всех горах. Титулы Юпитера столь же «говорящие», как и у Зевса: Лукелий, Фульгур, Фульгуратор (Светящийся, Удар молнии, Громовержец). Как и Зевсу, Юпитеру был посвящен дуб, поскольку это дерево чаще всего поражает молния. Дуб на Капитолии был посвящен Юпитеру Феретрию, qui ferit («поражающему»), также известному как Юпитер Лапис (Юпитер–Камень), символом которого был кварц. Как и другие небесные боги, Юпитер наказывал ударом молнии; в частности, он наказывал всех тех, кто не сдерживал слова или нарушал договор. Юпитер Лапис освящал договоры между народами; фециал, жрец, ведающий международными вопросами, объявлял: «Если римский народ нарушит этот договор, да поразит его Юпитер так же, как я ныне поражаю камнем этого поросенка!» Юпитер был высшим божеством, абсолютным монархом — Jupiter Omnipotens, Jupiter Optimus Maximus (Юпитер Всемогущий, Юпитер Наилучший, Наибольший). Эти эпитеты можно найти даже в литературных произведениях: «summe deum regnator» (Высший правитель богов);[266] «meus pater, deorum regnator, architectus omnibus» (Мой отец, правитель богов, создатель всего);[267] «deum regnator, nocte caeca caelum e conspectu abstulit» (Правитель богов слепой ночью убрал из виду небо)[268] и т. д. В качестве истинного космического владыки Юпитер вмешивается в историю не с помощью физической или военной силы, как Марс, а с помощью своей магической власти. Дюмезиль[269] подметил эту магию Юпитера в одном эпизоде из римской истории: сабиняне, уже захватившие Капитолий, грозят уничтожить всю паникующую римскую армию, и Ромул умоляет Юпитера: «Да перестанут страшиться римляне, останови их позорное бегство!» В ту же минуту храбрость чудесным образом возвращается к римлянам, они предпринимают контратаку и побеждают[270]. Юпитер пустил в ход магию — прямое воздействие на их духовные силы.
Говоря о религии семнонов[271], Тацит упоминает о том, что это германское племя верит в Верховного Бога, regnator omnium deu (Бог — правитель всего), хотя и не упоминает его имени[272]. Согласно опять же Тациту, германцы прежде всего поклонялись Меркурию и Марсу, т. е. Вотану (Вотанац, древнесеверный Один) и Тюру (Тивац[273], древневерхненемецкий Циу, англосаксонский Тио; от слова tiwaz, соответствующего dieus, deivos, divits, которое обобщающе значит «бог»). Тивац считается regnator omnium deus[274], древнегерманским Богом Неба. Тор (Донар; Тунрац), как Индра и Юпитер, — это бог грозы и битвы. Различие между Ураном, который «оковывает» своих врагов и знает будущее (он предупредил Крона о грозящей ему опасности), и Зевсом, который «героически» сражается с помощью своих молний, или же различие между «волшебником» Варуной и воином Индрой соответствуют такому же (естественно, с небольшими вариациями) различию в германской мифологии. Тор — это прежде всего Бог–борец, архетип германских героев; Один, хотя он также участвует в бесчисленных битвах, побеждает без всяких усилий благодаря своей «магии» (вездесущности, способностям принимать различный облик, парализовать противника страхом, «сковывая» его). Как было показано Дюмезилем[275], германцы сохранили первичную индоарийскую двойную картину «магического владыки» и «героического владыки», обладателя духовной власти и обладателя физической власти[276].
Таким образом, в случае с Одином (Воданом) и Тором (Донаром) мы сталкиваемся с небесными богами, которые обладают качествами, связанными с этими двумя типами владычества, хотя и модифицированными из‑за различных влияний и побочных наслоений. В частности, Один (Водан) представляет собой особо трудный случай, и ему невозможно дать какое‑либо простое определение. Развитие его образа шло в нескольких направлениях: он получал атрибуты божеств земледелия и плодородия, а также божеств хтонических, становясь хозяином душ умерших героев. В последнее время все яснее и яснее становится аналогия между верой в Водана и шаманизмом кочевников Северной и Северо–Западной Азии[277]. Водан — это «великий шаман», который в течение девяти ночей висит на Мировом древе[278] и открывает руны, приобретая таким образом магическую силу (несомненно, намек на ритуал инициации). Само его имя показывает, что он — хозяин wut, furor religiosus (религиозной ярости); Wodan, id est furor («Boдан — это ярость», как говорит Адам Бременский). Хмельной восторг, пророческий экстаз, магические учения школ скальдов — все это имеет свои соответствия в технике шаманизма. Это вовсе не должно означать, что Один–Водан — это для германцев чужеродный, заимствованный Бог (как пытались доказать некоторые исследователи); просто–напросто позднейшая «специализация» наделила его различными типами власти, придав ему сходство с более экзотическими богами[279].
Кельты верили в Тараниса, который, несомненно, был небесным Богом грозы (от кельтского корня taran — «громыхать», ср. ирландское torann — «гром»). Балтийский Перкун (perkunas — «молния») и праславянский Перун (ср. польское piorun — «гром») также были верховными небесными богами, чаще всего проявлявшимися в грозе. Их имена сопоставляют с ведийским божеством Парджаньей и германской Фьергун, матерью Тора, а в последнее время — с Форкисом, отцом Плеяд[280]. И имена (perkus, quercus), и культы этих небесных божеств указывают на их тесные связи с дубом, а также с различными птицами, предвещающими погодные изменения (грозу или наступление весны)[281]. Однако у них есть и маркированная «специализация», во всяком случае, в периоды их исторической засвидетельствованности: они прежде всего божества грозы, управляют временами года и ниспосылают дождь, что делает их также божествами плодородия. Дуб в Додоне был посвящен Зевсу, однако рядом с ним жили священные голубки, символ великой Матери–Земли, что предполагает древнюю иерогамию небесного Бога грозы и Великой богини плодородия — явление, которое мы подробнее рассмотрим ниже.
26. БОГИ ГРОЗЫ
«Специализацию» небесных богов на ураганах и дождях, а также особый акцент на их плодородной мощи в большей степени надо отнести на счет их пассивной природы и склонности уступать место другим иерофаниям, более конкретным, более личностным, более близким к повседневной жизни человека. Такая судьба небесных богов объясняется прежде всего трансцендентностью Неба и постоянно возрастающей человеческой «жаждой конкретного». Процесс «эволюции» небесных богов достаточно сложен. Для того чтобы упростить его описание, нам следует различать две линии развития: во–первых, линию бога Неба — хозяина Мира, абсолютного монарха (деспота), стража закона; во–вторых, линию бога Неба — Творца, средоточия мужского начала, мужа Великой Богини–Земли, подателя дождя. Излишне говорить, что мы нигде не найдем только одну из этих линий, что они никогда не развиваются параллельно, но постоянно пересекаются, что владыка — это часто и податель дождя, что «плодородящий» — это часто и деспот. Однако бесспорно то, что процесс «специализации» обычно четко выделяет сферы влияния этих двух типов богов.
В качестве классического примера богов первого типа (верховных владык, стражей закона) можно привести Тянь, Варуну, Ахура–Мазду. Второй тип (податели плодородия) в морфологическом отношении богаче[282]. Однако заметим, что во всех фигурах, объединенных в первом типе, присутствуют постоянно повторяющиеся мотивы: брачный союз с Богиней–Землей; гром, гроза и дождь; ритуальные и мифологические связи с быком. К богам второго типа («плодородящим» и «богам грозы») можно отнести Зевса, Мина и бога хеттов, но также и Парджанью, Индру, Рудру, Адада, Ваала, Юпитера Долихена, Тора — по сути дела, всех тех, кого считают богами грозы. Каждое из упомянутых выше божеств, естественно, имеет свою «индивидуальную» историю, в той или иной степени отличающую его от других. Применяя к мифологии терминологию химии, можно сказать, что во всех этих случаях «составы» этих божеств получаются из смешения различных «веществ». Но эти процессы мы будем рассматривать позднее, когда приступим к изучению «форм» различных богов, а не просто их «могущества». В настоящем разделе мы имеем дело прежде всего с теми значащими элементами, которые присутствуют у них всех. Вот наиболее важные из них: способность производить жизнь (отсюда их сопоставление с быками, поскольку Землю часто изображают в виде коровы), гром и дождь — по сути дела, эпифании силы и ярости, необходимые источники той энергии, от которой зависит жизнь всей Вселенной. Божества различных атмосферных явлений произошли, несомненно, от «специализации» небесных божеств, но, сколь бы радикальна ни была эта «специализация», ей никогда не удается уничтожить их небесный характер. Мы вынуждены, таким образом, расположить богов грозы рядом с собственно небесными богами; и как у тех, так и у других мы обнаруживаем одинаковые способности и одинаковые атрибуты.
Возьмем, например, Парджанью, индийского бога урагана. Его небесная природа не вызывает сомнений: Парджанья — сын Дьяуса[283], и иногда их даже путают, например, когда его принимают за мужа Притхиви, богини Земли[284]. Парджанья управляет водами и всеми живыми существами[285], ниспосылает дождь[286], обеспечивает плодовитость людей, животных и растений[287], и вся Вселенная дрожит, когда он насылает на нее бурю[288]. Парджанья конкретнее и динамичнее Дьяуса, и ему лучше удалось сохранить свое место в индийском пантеоне; но это уже не первое место. Парджанья уже не «знает все», как Дьяус, и не является Верховным Владыкой, как Варуна. «Специализация» сузила границы его власти, и, что еще более важно, даже внутри этих границ он уязвим. Его с легкостью заменила бы новая иерофания грозы и оплодотворяющей энергии, потребуй того новые ритуалы и новое мифологическое творчество.
Так и случилось в ведийский период. Парджанья уступил свое место Индре — самому популярному из всех ведийских богов (в одной Ригведе к нему обращено не менее двухсот пятидесяти гимнов при десяти, обращенных к Варуне, и тридцати пяти — к Митре, Варуне и Адитьям, вместе взятым). Индра — это прежде всего «герой», храбрый воин с неукротимой энергией, победитель чудовища Вритры (который сковал все воды Вселенной), ненасытный поглотитель сомы. Какие бы ни предлагались интерпретации, нельзя не увидеть космическое значение Индры и его функцию демиурга. Индра застилает собой небо[289], он больше Земли[290], небесный свод — его корона[291], а количество сомы, которую он поглощает, чудовищно — однажды он одним глотком осушил три озера[292]. Опьяненный сомой, он убивает Вритру, вызывает смерчи и заставляет дрожать всю Землю. Все, что делает Индра, отмечено избытком силы и удали. Он олицетворение жизненного изобилия, космической и биологической энергии; при нем живее бегут соки в растениях и кровь в жилах, он вдыхает жизнь в семена, дает свободу рекам и морям и разрывает тучи. Оружие, которым он убил Вритру, — молния (ваджра); оружием этим также владеют Маруты — более мелкие божества–смерчи, подчиняющиеся Индре. «Рожденных из смеха молнии»[293] Марутов постоянно умоляют не бросать свои «копья»[294] в людей и скот и не убивать их[295].
Грозы — это высшее проявление творческой силы; Индра ниспосылает дождь и ведает всевозможной влагой, так что он одновременно Бог плодородия[296] и архетип жизнепроизводительных сил[297]. Он урвавапати, «хозяин полей», и шираспати, «хозяин плуга», он «мировой бык»[298], он сообщает плодородие полям, животным и женщинам;[299] на свадьбах его просят о даровании невесте десяти сыновей[300], и в бесчисленных мольбах упоминается его неистощимость в порождении жизни[301]. Все атрибуты и возможности Индры взаимно связаны, и, соответственно, взаимосвязаны все сферы его правления. Независимо от того, мечет ли он молнии, поражающие Вритру, или освобождает воды, или ниспосылает бурю, предшествующую дождю, или поглощает легендарное количество сомы, или оплодотворяет поля, или демонстрирует свою невероятную потенцию — в нем всегда так или иначе являет себя жизненная сила. Малейший его жест, даже если он просто фанфаронит или бахвалится, идет от переизбытка энергии. Миф об Индре есть лучшее выражение идеи фундаментального единства всех проявлений изобилия жизни. Динамическая сила плодородия одинакова на всех уровнях бытия, и нередко даже сама лексика показывает, что сущности, приносящие плодородие, связаны друг с другом, имея общий корень: этимологически варша — «дождь» сближается с вриша — «самец». Индра постоянно держит в движении космические силы, чтобы биосперматическая энергия циркулировала по всей Вселенной. Он обладает неистощимым источником жизненности, на коем и основываются надежды человечества[302]. Но Индра — не демиург; он содействует жизни и победоносно распространяет ее по всей Вселенной, но не творит ее. В случае с Индрой созидательная функция, которой наделены все небесные божества, «специализирована» и трансформирована в функцию генеративную и жизнепридающую.
27. ОПЛОДОТВОРИТЕЛИ
Индру постоянно сравнивают с быком[303]. Его иранский двойник, Вритрагна[304], являлся Заратустре в облике быка, жеребца, барана, козла и кабана[305], которые суть «разные символы мужского, воинственного духа, изначального могучего темперамента»[306]. Индру также иногда называют бараном (меша)[307]. Такие же животные эпифании можно найти у Рудры — доарийского божества, ассимилировавшегося с Индрой. Рудра был отцом Марутов; один из гимнов[308] напоминает о том, как «бык Рудра зачал их в светлой груди Пришни»[309]. Оплодотворяющий Небесный Бог в облике быка совокупился с Богиней–коровой космических размеров. Пришни было одним из ее имен; другим было Сабадургха; однако эта богиня всегда представляется в облике коровы, творящей все живое. Ригведа[310] упоминает о «корове Вишварупе, которая всему придает жизнь»; в Атхарваведе[311] корова совокупляется со всеми богами поочередно и производит потомство на всех уровнях бытия; «боги имеют жизнь от коровы и люди также, корова становится этим миром, обширным, как царство Солнца»[312]. Адити, мать Высших существ Адитьев, также представляется в виде коровы[313].
Подобная «быкооплодотворяющая специализация» богов атмосферы и плодородия не ограничивается одной Индией; она распространена в достаточно широком ареале, включающем Африку, Европу и Азию. Но сразу же заметим, что эта «специализация» выдает также и влияние извне, иногда иноплеменное, иногда религиозное. В Индре, например, видны следы неарийского влияния (Рудра); однако, что еще интереснее, его функции были модифицированы элементами, которые не имеют отношения к функциям Бога дождя, грозы и космического плодородия. Его причастность к быкам, например, и к соме наделяет его определенными лунарными прерогативами[314]. Луна управляет морями и дождями; любое плодородие — дар Луны (§ 49 и сл.); рога быка с давних времен ассоциировались с месяцем. Позже мы еще вернемся к этим сложным модификациям. Но нужно помнить, что оплодотворяющая «специализация» заставляет богов Неба принимать в себя всякую иерофанию, непосредственно связанную с плодородием Вселенной. Если акцент ставится на метеорологических (гроза, молния, дождь) и порождающих функциях небесного бога, он не только непременно становится супругом великой матери Земли–Луны, но также перенимает и ее атрибутику; в случае с Индрой это сома, бык и, возможно, также некоторые черты Марутов (в той степени, в какой они олицетворяют блуждающие души умерших).
Бык и молния уже с самого раннего периода истории (около 2400 до н. э.) были символами, связанными с богами Неба и природных явлений[315]. В архаических культурах рев быка уподоблялся грому и урагану (ср. австралийскую «гуделку») эпифаниям плодотворящих сил. Вот почему мы сталкиваемся с быками в иконографии, ритуалах и мифах, относящихся ко всем богам природных явлений афро–евразийского ареала. В доарийской Индии среди протоисторических культов Мохенджо–Даро и Белуджистана был культ быка. «Игры быков», до сих пор сохранившиеся на плоскогорье Декан и в Южной Индии[316], существовали там еще в доведийский период, в третьем тысячелетии до н. э. (о чем свидетельствует печать из Чанху–Даро — около 2500 до н. э.). Протодравиды, дравиды и индоарийцы[317] равно почитали быка — либо как эпифанию бога природных явлений и порождения потомства, либо как один из атрибутов этого бога. Храмы Шивы полны изображений быка, ибо средство передвижения (вахана) Шивы — бык Нандин. В языке каннада ко значит «бык», но также обозначает и небо, молнию, луч света, воду, рог, гору;[318] здесь наиполнейшим образом сохранено единое религиозное целое — небо–молния–плодородие. Тамильское ко(н) обозначает божество, но множественное число кон–ар значит «пастухи»[319]. Возможно, существует определенная связь между этими дравидийскими словами и санскритским го (индоевропейское gu‑ou), а также шумерским гу(д), которые имеют значения «бык» и «могущественный, храбрый»[320]. Можно также указать на общность происхождения семитских, латинского и греческого обозначений быка, подтверждающую единство этого религиозного образа (ср. ассир. шуру, евр. шор, финик. тор и т. д. и греч. tauros, лат. taurus).
В Иране быков часто приносили в жертву, чему активно противился Заратустра[321]. В Уре в 3–м тысячелетии до н. э. бог атмосферы изображался в виде быка[322]. В древней Ассирии, как и в Малой Азии, «бог, которым люди клянутся» (т. е. изначально небесный бог), имел облик быка[323].
В связи с этим крайне значимым для нас является верховенство, достигнутое такими богами грозы, как Тешуб, Адад и Ваал в ближневосточных религиях. На этих богах следовало бы несколько задержаться. Мы не знаем, как звали верховного бога хеттов, мужа богини Аринны[324], Одно время неправильно считали, что его имя Цасхапуна[325]. Это имя записывалось посредством двух идеограмм вавилонского происхождения — U и I M. В лувийском языке эти идеограммы читались как Даттас, а хурриты называли этого бога Тешуб. Он был Богом Неба и урагана, ветра и молнии. (В аккадском языке идеограмма I M читалась как зунну — «дождь», шару — «ветер», реману — «гром»[326].) Различные его титулы свидетельствуют о его небесной символике и положении абсолютного монарха: «царь Неба», «властелин страны Хатти». Самый обычный для него эпитет — «могущественнейший»; его символизируют молния, топор или палица[327].
Следует помнить, что во всех ближневосточных культурах власть прежде всего символизируется быком; в аккадском языке выражение «сломать рог» эквивалентно выражению «уничтожить власть»[328]. Бог — супруг Аринны также представлялся в виде быка (его изображения были найдены во всех храмах); бык был его священным животным. По письменным текстам, ему посвящены два мифических быка — Шерри и Хурри;[329] согласно мнению некоторых исследователей, эти быки — его сыновья[330]. Единственный миф о нем, который мы знаем, — это миф о его битве со змеем Иллуянкой[331], в котором мы вновь встречаемся с темой битвы между богом грозы и плодородия и страшной рептилией (например, между Индрой и Вритрой или Зевсом и Тифоном; прототипом для этих пар служат Мардук и Тиамат[332]). Заметим, опять же, множество локальных эпифаний, присутствующих в этом Боге. В биографии Суппилулиумы упоминается двадцать один U;[333] это доказывает, что все они исконные боги мест, населенных хеттами. Культ бога U был широко распространен в Малой Азии и Западной Азии, хотя он и назывался разными именами.
Шумеро–вавилоняне знали его под именами Энлиль и Бел. Хотя он я занимал третье место в их триаде космических богов, он считался наиболее значительным Богом во всем пантеоне, будучи сыном Ану, Верховного небесного Бога. Здесь опять прослеживается хорошо известный переход от небесного deus otiosus к активному богу плодородия. По–шумерски его имя означает «хозяин яростного ветра» (лиль — «могучий ветер, ураган»). Поэтому его еще зовут Лугаль амару — «божество ветра и урагана» и Уму — «буря», а также Энугугга, т. е. «хозяин бурь»[334]. Соответственно Энлиль управляет водами; это он устроил всемирный потоп. Его зовут «могущественный», алим, Бог рога, хозяин Вселенной, царь Неба и Земли, Отец Бел, великий воин и т. д.[335] Его жена — Нингалла, «Великая корова», Умум рабетум, «Великая Мать», обычно называемая Белту или Белит — «госпожа»[336]. Его небесное происхождение и метеорологическая функция также видны в названии его храма в Ниппуре — «Дом Горы»[337]. «Гора» продолжает оставаться символом небесного божества даже после того, как оно «специализировалось» в бога плодородия и верховного владычества.
В Телль–Хафадже, старейшем из известных нам святилищ, рядом с изображением богини–матери было найдено изображение быка[338]. Бога Эля, занявшего первое место в раннефиникийском пантеоне, называли «быком» (шор), а также Эль («милосердный бык»[339]). Однако вскоре он был заменен на Ваала, «Хозяина, Господина», которого Дюссо обоснованно отождествляет с Богом Ададом[340]. То, что Ваал и Адад — синонимы, подтверждается также табличками из Эль–Амарны[341]. Голос Адада слышен в громе, он мечет молнии и ниспосылает дождь. Протофиникийцы сравнивали Адада с быком: тексты, расшифрованные лишь недавно, описывают, как «сила Ваала (т. е. Адада) поразила Муту своими рогами, как дикие быки…»[342]. А в мифе об охоте Ваала его смерть сравнивается со смертью быка: «…так упал Ваал… подобно быку»[343]. Неудивительно, что у Ваала–Адада была супруга Ашерат (Анат, Астарта) и что его сын Алийану — это божество воды, плодородия и растительности[344]. В жертву Ваалу–Ададу также приносили быков (ср. знаменитую сцену жертвоприношения Илии и пророков Ваала на горе Кармел[345]). Ассирийского бога Бела, преемника Ану и Энлиля, называют «божественным быком», а иногда Гу — «быком» или «великим бараном» (Дара–Гал)[346].
Подобная взаимозависимость между «генеративными» и «небесными» символами во всех типах богов грозы заслуживает внимания. Адад, представляемый в виде быка, часто имеет при себе символ молнии[347]. Но молнию иногда изображают в виде ритуальных рогов[348]. Бог Мин, прототип египетского Бога Амона, также назывался «быком своей матери» и «великим быком» (Ka wr). Одним из его атрибутов была молния, а его функции как подателя дождя и жизни видны из одного из его титулов «разрывающий дожденосную тучу». Мин не был коренным богом Египта; египтяне знали, что он вместе со своей супругой, коровой Хатор, пришел из страны Пунт, т. е. со стороны Индийского океана[349]. В завершение этого очень краткого изложения необычайно богатой темы (ср. библиографию) заметим, что именно в облике быка Зевс похитил Европу (эпифанию Великой Матери), имел связь с Антиопой и попытался овладеть своей сестрой Деметрой. А на Крите можно прочесть весьма своеобразную эпитафию: «Здесь лежит великий Бык, которого звали Зевс»[350].
28. СУПРУГ ВЕЛИКОЙ МАТЕРИ
Как мы видим, структура, состоящая из дождевого неба, быка и Великой богини, была одним из элементов, единых для всех доисторических религий Европы, Африки и Азии. Несомненно, наибольший акцент в ней делался на тех функциях небесного бога в обличье быка, которые связаны с зарождением и насаждением жизни. В Мине, Ваале, Ададе, Тешубе и других быках–богах–громовержцах, женатых на Великих богинях, больше всего почитают не их небесную природу, а их оплодотворяющие способности. Своей святостью они обязаны сакральному союзу с великой Матерью–Землей. Их небесная природа ценится лишь постольку, поскольку она творит жизнь. Небо — это прежде всего место, где «ревет» гром, где собираются облака, где закладывается тучность нив, — в сущности, место, где обеспечивается продолжение жизни на Земле. Трансцендентность Неба выражает себя в основном через природные явления, а его «власть» определяется всего лишь неограниченной потенцией семяизвержения. Иногда это просматривается в самом языке. Шумерское ме означает «человек, мужчина» и одновременно «небо». Боги природных явлений (грома, грозы, дождя) и боги порождения потомства (быки) утрачивают свою небесную автономию, свое абсолютное владычество. Каждого из них сопровождает (и зачастую каждым из них повелевает) Великая богиня, от которой в конечном счете зависит плодородие Вселенной. Они уже не Творцы, создавшие Космос, как изначальные небесные боги, но всего лишь оплодотворители и производители потомства на биологическом уровне. Их главной функцией становится иерогамия с богиней. Вот почему мы постоянно сталкиваемся с ними во всех культах плодородия, особенно в культах земли, где они, однако, никогда не играют ведущей роли; эта роль постоянно достается либо Великой Матери, либо их сыну, богу растительности, который периодически умирает и вновь воскресает.
Иногда «специализация» небесных богов в конечном итоге радикально изменяет весь их облик; утрачивая свою трансцендентность, становясь «доступными» и в результате необходимыми для человеческой жизни, превращаясь из dei otiosi в dei pluviosi (бог дождевой), в богов–производителей в облике быков, они постоянно принимают на себя функции, атрибуты и почести, ранее для них чуждые, к которым они, пребывая в своей высшей небесной трансцендентности, не имели никакого отношения[351]. Как и всякая «божественная форма», испытывая тенденцию к превращению в центр любых религиозных явлений и к управлению всеми областями Космоса, боги грозы и боги — податели жизни включают в свою атрибутику и в свои культы (особенно благодаря своим союзам с Богиней–Матерью) элементы, не входившие в их исконную небесную природу.
К тому же метеорологические явления не всегда связаны в примитивном сознании исключительно с божеством Неба; так, сочетание «молния–гроза–дождь» иногда считается (например, у эскимосов, бушменов и в Перу) лунной иерофанией[352]. Бычьи рога издавна сравнивались с полумесяцем и уподоблялись Луне. Менгин[353] установил связь между серпом луны и женскими фигурками из Ориньяка (которые в одной руке держали рог[354]); многочисленные идолы в виде быка, часто связываемые с культом Великой Матери (Луны), датируются неолитическим периодом[355]. Генце[356] исследовал это представление о Луне как подателе жизни в пределах достаточно широкого культурного региона. Лунарные божества Средиземноморья и Востока изображались в виде быка и наделялись атрибутами быка. Так, например, вавилонского бога Луны Сина называли «могучий телец Энлиля», а Наинара, бога Луны в Уре, — «могучий небесный бычок, наичудеснейший сын Энлиля» или «могущественный, бычок с крепкими рогами» и т. д. В Египте божеством Луны был «звездный бык»[357]. Ниже мы увидим, насколько тесны отношения между культами Земли–Луны и культами плодородия. Дождь («семя» бога грозы) вписывается в иерофанию вод — важнейшую сферу, где доминирует Луна. Все, что связано с плодородием, более или менее непосредственно входит в огромную орбиту действия Луны–Воды–Жены–Земли. «Специализировавшись» в области мужской силы и производства потомства, небесные божества оказались тесно связанными с этими доисторическими образами, либо ассимилировав их, либо став их составной частью.
29. ЯХВЕ
Единственные небесные боги дождя и плодородия, которым удалось сохранить свою автономию, несмотря на союзы с сонмом Великих богинь, — это те, чье развитие шло в основном по линии верховного владычества; те, кто держались за свой скипетр, равно как и за свои молнии и власть над плодородием, и таким образом остались гарантами мирового порядка, хранителями жизненных стандартов и олицетворением Закона. Таковы Зевс и Юпитер. Разумеется, образы этих двух богов–правителей сформировались под влиянием специфической тяги римского и греческого менталитета к понятиям нормы и закона. Но подобная рационализация возможна лишь в том случае, когда она основана на религиозной и мифической интуиции относительно гармонии и вечности природных ритмов. Хорошим примером верховного владычества Неба также является божество Тянь, представляемое как иерофания Закона и космических ритмов. Эти ипостаси небесных богов станут яснее, когда мы приступим к изучению религиозных понятий верховного владыки и верховного владычества.
«Эволюция» Верховного Бога евреев в некотором смысле параллельна эволюции Зевса и Юпитера. Образ и религиозная история Яхве слишком сложны, чтобы резюмировать их в нескольких строках. Заметим, однако, что его небесные и атмосферные иерофании очень рано стали центральным источником религиозного опыта, в свою очередь служившего источником более поздних откровений. Яхве демонстрировал свою власть с помощью грозы; его голос — гром, молния — «огонь» или «стрелы»[358] Яхве. Вот как Господь Израиля является Моисею при передаче ему Закона: «…были громы, и молнии, и густое облако над горою»;[359] «гора же Синай вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее в огне»[360]. Девора в священном ужасе вспоминает, как от шагов Господа «земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду»[361]. О своем приближении Яхве предупреждает Илию следующим образом: «…большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом; но не в ветре Господь. После ветра землетрясение; но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь; но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра»[362]. Огонь Господень снисходит на «всесожжение» Илии[363], когда пророк молится, чтобы тот появился и смутил жрецов Ваала. Горящий куст в истории Моисея, столп огненный и столп облачный, который вел израильтян через пустыню, — все это эпифании Яхве. А завет Яхве с потомками Ноя после его спасения от потопа символизирует радуга: «Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением завета между Мною и между Землею»[364].
Эти иерофании Неба и природных явлений, в отличие от иерофаний других небесных богов, прежде всего показывают «власть» Яхве. «Бог высок могуществом Своим, и кто такой, как Он, наставник?»[365] «Он сокрывает в дланях Своих молнию и повелевает ей, кого разить… И от сего трепещет сердце мое и подвиглось с места своего. Слушайте, слушайте голос Его и гром, исходящий из уст Его. Под всем небом раскат его, и блистание его до краев земли. За ним гремит глас; гремит Он гласом величества Своего…»[366] Господь — истинный и единственный хозяин Космоса. Он может все сотворить и все уничтожить. Его «власть» абсолютна, поэтому его свобода действий безгранична. Владыка, с которым никто не в силах состязаться, он по своей прихоти сменяет гнев на милость. Эта неограниченная свобода, которой обладает Господь, — самое эффективное проявление его трансцендентности и автономии; ибо Господь ничем не может быть «связан» — ничто не может «обуздать» его, даже добрые дела и повиновение его законам.
Это понятие «власти» Бога как единственной абсолютной реальности служит отправным пунктом для всех позднейших мистических размышлений и спекуляций по поводу свободы человека и его возможности достичь спасения, если он повинуется Закону и тщательно блюдет нравственность. Никто не «невинен» перед Богом. Яхве действительно поставил «завет» с народом, но его верховное владычество означает, что он способен в любой момент его расторгнуть. То, что он не поступил таким образом, проистекает не из факта установления «завета» (ибо ничто не может «связать» Бога), а из факта его бесконечной доброты. На протяжении всей религиозной истории Израиля Яхве представляется в виде Бога Неба и грозы, всемогущего Творца, абсолютного Владыки и «Господа Воинства», опоры царей из династии Давида, создателя всех норм и законов, которые делают возможным существование жизни на Земле. «Закон» во всех своих проявлениях основывается на откровениях, получаемых от Яхве, и объясняется ими. Но, в отличие от других верховных богов, которые не могут нарушать собственные законы (как Зевс, который не смог спасти от смерти Сарпедона[367]), Яхве всегда сохраняет абсолютную свободу действий.
30. ЗАМЕНА НЕБЕСНЫХ БОГОВ НА БОГОВ ПЛОДОРОДИЯ
Замена богов Неба на богов грозы и богов производства потомства повлекла за собой и перемены в отправлении культа. На празднике Нового года Мардук заменил Ану (§ 153). Великое ведическое жертвоприношение — Ашвамедха в конце концов стало посвящаться Праджапати (иногда Индре), хотя до этого посвящалось Варуне; а поскольку Варуна некогда занял место Дьяуса, вполне вероятно, что это заклание коня изначально совершалось в честь древнего индоарийского Бога He6a[368]. Вплоть до нынешнего времени урало–алтайские народы приносили коней в жертву верховным небесным богам (§ 33). Основной исходный элемент Ашвамедхи заключается в ее связи с сотворением мира. Конь отождествляется с Космосом, а принесение его в жертву символизирует (т. е. воспроизводит) акт Творения. Смысл этого ритуала станет яснее в другой главе (§ 153 и сл.). Здесь укажем лишь на то, что Ашвамедха, с одной стороны, связана с процессом Творения, с другой стороны — имеет важное значение как церемония инициации. То, что Ашвамедха также представляет собой ритуал инициации, ясно видно из следующего стиха в «Ригведе»: «Мы стали бессмертны, мы увидели свет, мы нашли богов»[369]. Любой, познавший тайну этой инициации, восторжествовал над второй смертью (пунармритью) и больше не боится смерти. Инициация — это, собственно говоря, завоевание бессмертия и преображение из человеческого в божественное состояние. То, что таким образом объединяются обретение бессмертия и воспроизведение акта Творения, знаменательно: приносящий жертву перестает быть простым человеком и становится бессмертным с помощью ритуала Творения. Такая же связь между инициацией и космогонией обнаруживается в мистериях, посвященных Митре.
Подобно Праджапати, которому позже стало посвящаться это жертвоприношение, приносимая в жертву лошадь символизировала Вселенную. Иранцы считали, что все злаки и прочие растения выросли из тела изначального быка, убитого Ахриманом; в германской традиции мир был извлечен из тела великана Имира[370]. Нет нужды обсуждать скрытый смысл этих мифов, равно как и их аналогов на Дальнем Востоке (например, миф о Паньгу) или в Месопотамии (мир, созданный Мардуком из тела чудовища Тиамат). Все, что нас в данном случае интересует, это драматическая природа акта Творения в этих мифах: Космос уже не создается ex nihilo (из ничего) Верховным божеством, он появляется благодаря жертвоприношению (или самопожертвованию) одного из богов (Праджапати), изначального чудовища (Тиамат, Имир), сверхчеловека (Пуруша) или изначального животного (иранский бык Экадат[371]). Источник всех этих мифов следует искать в реальном или аллегорическом человеческом жертвоприношении (так, Пуруша означает «человек»); как обнаружил Гахс, эта модель существует у самых разных народов и всегда связана с церемониями инициации в тайных обществах[372].
Драматическая природа жертвоприношения в связи с Творением изначального живого существа показывает, что эти мифы о Творении не являются «первобытными», а представляют собой определенный этап длительного и сложного мифическо–религиозного процесса становления культа, шедшего полным ходом еще в доисторические времена.
Ашвамедха — отличный пример, показывающий сложность ритуалов, посвященных богам Неба. Замены, слияния и симбиозы происходят в истории отправления культов не реже, чем в истории самих этих богов. В вышеприведенном примере можно обнаружить еще одну замену: индийское заклание коня заменило более древнее принесение в жертву быка (существовавшее в Иране, где космогонический миф упоминает об изначальном быке; между прочим, Индру изображали сперва в окружении быков и лишь позже — в окружении жеребцов; «Воистину Праджапати — это великий бык»[373]). В ведийской литературе Ашвины, одно имя которых уже свидетельствует об их связи с лошадьми[374], ездят не на лошадях, а на горбатых буйволах[375].
Ашвииы, как и Диоскуры (Dios kuroi, ср. латыш. dewa deli, литов. diewo sunelei), — сыновья бога Неба. Миф о Диоскурах многим обязан небесным иерофаниям (рассвет, Венера, фазы луны) и культу созвездия Близнецов; также широко распространена вера в то, что рождение близнецов предполагает союз смертного с богом, особенно с богом Неба (см. библиографию). Ашвины всегда изображались вместе с каким‑нибудь женским божеством — либо с Ушас, Богиней Зари, либо с Сурьей. Диоскуров также сопровождала женская фигура — мать или сестра: Кастора и Поллукса — сестра Елена; Амфиона и Зета — мать Антиопа; Геракла и Ификла — мать Алкмена; Дардана и Ясона — Гармония и т. д. Заметим, что:
а) Ашвины, Диоскуры, любые мифологические близнецы, независимо от их имени, — сыновья бога Неба (обычно плод его союза со смертной женщиной);
б) они всегда находятся рядом со своей матерью или сестрой;
в) их деятельность на Земле всегда благотворна. И Ашвины и Диоскуры — целители, они уберегают людей от опасности, защищают моряков и т. д. В некотором смысле они — представители сакральной власти на Земле, хотя их образ, бесспорно, намного сложнее и их нельзя адекватно описать всего лишь как распорядителей этой властью. Но какие бы мифические и ритуальные черты ни содержал этот образ, его благотворная деятельность не подлежит сомнению.
Диоскурам не везде досталась ведущая роль в религиозной жизни. Там, где не имели успеха «сыновья бога», имел успех «сын бога». Дионис был сыном Зевса, и его появление в религиозной истории Греции было духовной революцией. Осирис также был сыном Неба (богини) и Земли (бога); финикийский Алийану был сыном Ваала и т. д. Во всех этих случаях божества, о которых идет речь, были тесно связаны с растительностью, страданием, смертью и воскресением, а также с инициацией. Все они динамичны, восприимчивы к страданиям, несут искупительные функции. Не только тайные эгейские и восточные религии, но также и основные народные верования сгруппировались вокруг этих богов, формально называвшихся богами растительности, но на самом деле богов драматических, разделяющих свою судьбу с людьми, испытывающих, как и они, страсти, страдания и смерть. Никогда еще боги так близко не приближались к людям. Диоскуры помогали человечеству и защищали его; боги–спасители даже брали на себя человеческие страдания, умирали и воскресали из мертвых для искупления людских грехов[376]. Та самая «тяга к конкретному», которая постоянно оттесняла небесных богов с их отдаленностью, с их бесстрастием и безразличием по отношению к ежедневным проблемам на задний план, проявляется в важных функциях, которыми обладает «сын» Небесного бога — Дионис, Осирис, Алийану и другие. «Сын» часто взывает к своему Небесному отцу; однако важная роль, которую он играет в истории религии, объясняется не его родственными связями, а его «гуманностью», тем, что он определенно разделяет участь человечества, хотя и выходит за ее границы благодаря своему периодическому воскресению.
31. СИМВОЛИЗМ НЕБА
Мы рассмотрели ряд божеств Неба или божеств, тесно связанных с небесной иерофанией. Во всех проанализированных нами случаях мы замечаем то же явление ухода небесных богов со сцены и замену их на более динамичные, конкретные и близкие человеку теофании. Однако было бы ошибочным ограничивать иерофании Неба возникающими из него божественными или полубожественными фигурами. Сакральная природа Неба проявляется также и в бесчисленных ритуалах и мифах, которые, по всей видимости, непосредственно не связаны с небесными богами. Сакральное начало, исходящее от Неба, продолжает воздействовать на религиозный опыт человека даже после того, как собственно бог Неба отступил на задний план, через символизм «вышины», «восхождения», «Центра» и прочее. Часто можно также обнаружить, что при подмене небесного божества божеством плодородия небесная природа его символизма остается в неприкосновенности.
Ближе всего к небу расположены горы, и поэтому они наделены двоякой святостью: во–первых, они обладают пространственным символизмом трансцендентности (они «высокие», «вертикальные», «высшие» и т. д.), во–вторых, они представляют собой особую зону всех атмосферных иерофаний, а следовательно, служат жилищем для богов. В каждой мифологии есть своя священная гора, какой‑либо более или менее знаменитый вариант греческого Олимпа. У всех небесных богов есть специальные возвышенности, предназначенные для богослужения. Символическая и религиозная значимость гор безгранична. Горы часто считают местом, где встречаются Небо и Земля, и, следовательно, «центральной точкой» — точкой, через которую проходит Axis Mundi (Мировая Ось), местом, предельно насыщенным сакральностью, где можно перейти из одной области Космоса в другую. Так, в месопотамской религии «Гора Стран» соединяет Небо и Землю[377], а в индийской мифологии гора Меру возвышается в Центре мира, и Полярная звезда излучает свой свет прямо над ней[378]. У урало–алтайцев также есть центральная гора Сумбур, Сумур или Семеру, над которой находится Полярная звезда[379]. Согласно верованиям иранцев, священная гора Хара–Беразаити (Харбурз) находится в центре Земли и прикреплена к Небу[380]. Химинбьёрг в «Эдде», как следует уже из одного ее названия, — «небесная гора», т. е. место, в котором радуга (Биврёст) касается небесного купола[381]. Подобные верования распространены также у финнов, японцев и других народов.
Будучи местом, где встречаются Небо и Земля, гора располагается в Центре мира и конечно же является высочайшей точкой на земле. Вот почему так много сакральных объектов («святых мест», храмов, дворцов, священных городов) уподобляются «горам» и сами превращаются в «Центры мира», некоторым магическим образом становятся частью вершины Космической горы (ср. § 145). Палестинские горы Фавор и Геризим также были «центрами»; поэтому Палестина, Святая Земля, считалась высочайшим местом на земле, которое не было затронуто потопом. «Земля израильская не была покрыта потопом», как написано в одном раввинском тексте[382]. Для христиан Центр мира — это Голгофа, ибо она является пиком Космической горы и местом, где был создан и похоронен Адам. Согласно исламской традиции, самое высокое место на земле — Кааба, ибо «Полярная звезда доказывает, что… оно расположено напротив центра неба»[383].
Сами названия некоторых священных храмов и башен свидетельствуют об их ассимиляции с Космической горой: «дом на холме», «дом холма всех стран», «гора гроз», «союз Неба и Земли» и т. д.[384] Шумерский эквивалент слова «зиккурат» u‑nir (холм), который Ястров интерпретирует как «видимый издалека»[385]. Сам зиккурат представляет собой «Космическую гору», т. е. символическое изображение Космоса; семь его уровней символизируют семь небес с их планетами (как в Борсиппе) или же семь цветов Вселенной (как в Уре)[386]. Храм в Боробудуре сам изображал Космос и был выстроен в форме горы[387]. Распространение сакральности храма (холма, Центра Вселенной) на весь город превращало некоторые города Востока в «центры», пики Космической горы, перекрестки космических областей. Так, Ларса помимо прочего называлась «домом слияния Неба и Земли», а Вавилон[388] — «домом основания Неба и Земли», «союзом Неба и Земли», «домом светоносного холма» и т. д.[389] В Китае столица идеального владыки располагалась точно в Центре Вселенной[390], т. е. на вершине Космической горы.
Позже мы еще вернемся к космологическому символизму Центра, в котором такую важную роль играют горы (§ 143). Здесь отметим лишь освящающую власть «высоты». Высокие места насыщены сакральными силами. Все, что близко от Неба, получает ту или иную долю его трансцендентности. «Высота», «высокое» становится трансцендентным, сверхчеловеческим. С точки зрения различных уровней бытия любое восхождение есть прорыв, проникновение по ту сторону, избавление от профанного мира и человеческого статуса. Излишне говорить, что сакральная значимость «высоты» объясняется сакральной значимостью высших слоев атмосферы и, следовательно, сакральностью Неба как такового. Гора, храм, город и т. п. освящаются потому, что им придаются атрибуты Центра, т. е. они были изначально отождествлены с высшей точкой Вселенной, где сходятся Небо и Земля. Следовательно, освящение, связанное с ритуалами восхождения на холм или по лестнице, имеет силу потому, что оно помещает верующего в высшую небесную сферу. Богатство и разнообразие символизма восхождения на первый взгляд выглядит хаотичным; однако есть обобщающая черта всех связанных с ним ритуалов и символов — сакральная значимость «высоты», т. е. небесного. Преодоление человеческого состояния через вхождение в святое место (храм или алтарь), через ритуальное освящение или через смерть имеют конкретные обозначения — «переход», «вознесение», «восхождение».
32. МИФЫ О ВОСХОЖДЕНИИ
Умереть — значит переступить границы человеческого статуса и «проникнуть по ту сторону». В религиях, которые размещают потусторонний мир на Небе или в какой‑либо высшей сфере, души умерших либо взбираются туда по горным тропинкам, либо карабкаются по дереву или даже по веревке[391]. Общепринятое обозначение смерти у ассирийцев — «цепляться за гору». А в египетском языке мйнй («хватать», «цепляться») служит эвфемизмом для «умереть»[392]. Солнце спускается за горы, и туда же ведет тропинка в потусторонний мир. Яма, первый мертвец в индийской мифологии, прошел через «высокие перевалы», чтобы показать «дорогу многим людям»[393]. Среди урало–алтайцев распространена вера в то, что дорога, по которой идут умершие, ведет вверх по холмам; Болот, каракиргизский герой, равно как и Гесер, легендарный хан монголов, проникает в потусторонний мир, пройдя через туннель на вершину холма — почти как при испытании, связанном с инициацией. Шаман попадает в преисподнюю, поднявшись на несколько высоких гор[394]. Египтяне в своих погребальных текстах используют выражение ‘skt pt (‘skt означает «ступенька»), которое свидетельствует о том, что лестница, предлагаемая Ра для подъема с Земли на Небо, настоящая[395]. «Лестница — там, откуда я вижу богов», — написано в Книге Мертвых[396]. «Боги делают для него лестницу, чтобы он с ее помощью поднялся на небеса»[397]. Во многих могилах Древнего и Среднего Царств были найдены амулеты с изображением лестницы (m’qt)[398].
По той же тропе, по которой души умерших отправляются в другой мир, идут и те, кому удается попасть на Небо заживо из‑за какого‑либо благоприятного стечения обстоятельств или успешного выполнения некоего ритуала. Идея «восхождения» на Небо по веревке, дереву или лестнице широко распространена на всех пяти континентах. Ограничимся лишь несколькими примерами[399]. У австралийского племени диери есть миф о дереве, которое магическим образом вырастает до Неба[400]. В племени нумгабурран рассказывают о двух чудесных соснах, которые растут до тех пор, пока их верхушки не коснутся Неба[401]. Люди из племени мара рассказывают о похожем дереве, на которое их предки залезали, чтобы попасть на Небо, и снова спускались[402]. Жена маорийского героя Тауаки, которая была небесным духом, жила с ним до тех пор, пока не родился их первый ребенок; после этого она залезла на крышу и исчезла. Тауаки взобрался на Небо по виноградной лозе, и впоследствии ему удалось вернуться на Землю[403]. В других версиях того же мифа герой взбирается на Небо по дереву какао, по веревке, по паутине или попадает туда верхом на бумажном змее и прочее. На Гавайских островах говорят, что он поднялся по радуге; на Таити — что он залез на высокую гору и по дороге встретил свою жену[404]. В Океании один из широко распространенных мифов повествует о том, как герой достиг Неба с помощью «цепочки стрел», т. е. выстрелив первой стрелой в небо, второй — в первую и так далее до тех пор, пока от неба до земли не протянулась цепочка стрел[405]. Миф о восхождении на Небо по веревке также встречается в отдельных районах Океании[406], в Африке[407], в Южной[408] и Северной[409] Америке. Как правило, там же существует и миф о восхождении на Небо по паутине. Миф о лестнице, ведущей на Небо, был известен в древнем Египте[410], а также в Африке[411], в Океании[412] и в Северной Америке. Восхождение может также осуществляться по дереву[413], по какому‑либо другому растению или по горе[414].
33. РИТУАЛЫ ВОСХОЖДЕНИЯ
Со всеми этими мифами и верованиями связаны соответствующие конкретные ритуалы «вознесения» и «восхождения». Выбор и освящение места для жертвоприношения представляют собой некоторый процесс возвышения профанного пространства: «Воистину жрец, совершающий богослужение, изготовляет себе лестницу и мост, чтобы достичь мира небесного», — говорит «Тайттирия–самхита»[415]. В другом месте того же произведения описывается торжественное восхождение по лестнице: жрец, поднявшийся наверх и достигший столба для жертвоприношений, воздымает руки и кричит: «Я достиг Неба и богов; я стал бессмертным!» Ритуальное восхождение на Небо называется дурохана («трудный подъем»). В ведийской литературе можно найти много других выражений такого же типа[416]. Косингас, царь–жрец нескольких фракийских племен (кебренов и сикебоев), грозится покинуть свой народ и отправиться к Богине Гере по деревянной лестнице[417]. Восхождение на Небо посредством ритуального подъема по лестнице, возможно, было составной частью орфической инициации[418]. Оно, несомненно, присутствовало также в митраической инициации. В мистериях Митры ритуальная лестница («высшей точки») имела семь ступенек, каждая из особого металла. Согласно Цельсу (Ориген, «Против Цельса»), первая ступенька была свинцовая и соответствовала «небу» Сатурна, вторая — оловянная (Венера), третья — бронзовая (Юпитер), четвертая — железная (Меркурий), пятая — из «денежного сплава» (Марс), шестая — серебряная (Луна) и седьмая — золотая (Солнце). Восьмая ступенька, по сообщению Цельса, — сфера неподвижных звезд. Поднявшись по этой ритуальной лестнице, подвергающийся инициации, по сути дела, проходил через «семь небес» и таким образом достигал эмпиреев.
У урало–алтайских народов шаманы исполняют один и тот же ритуал как в своем путешествии на Небо, так и в церемониях инициации. «Восхождение» совершается либо в рамках обычного жертвоприношения, когда шаман вместе с жертвой (душой коня) отправляется к Верховному Богу Бай Ульгеню, либо при волшебном излечении больных, которые обращаются к шаманам. Принесение в жертву коня — главная религиозная церемония тюркских народов — совершается раз в год и продолжается в течение двух или трех ночей. Вечером первого дня строится новая юрта; в ней помещается береза, у которой отрубают ветки и вырезают девять ступенек (тапты). Для жертвоприношения выбирают белого коня; в юрте зажигают огонь, шаман, призывая всех духов одного за другим, проносит свой барабан сквозь дым, затем выходит наружу, садится верхом на сделанное из тряпья и набитое соломой чучело гуся, машет руками, как бы летя, и поет:
Цель этого ритуала — завладеть душой приносимого в жертву коня (пура), которая, как считается, убегает при приближении шамана. Схватив душу, шаман освобождает «гуся» и приносит в жертву только коня. Вторая часть церемонии совершается на следующий вечер, когда шаман сопровождает душу коня к Бай Ульгеню. Пронеся свой барабан через дым, надев ритуальную одежду, воззвав к небесной птице Меркьют, чтобы она «прилетела распевая» и «села ему на правое плечо», шаман начинает свое восхождение. С легкостью поднимаясь по зарубкам на ритуальном дереве, шаман проходит одно за другим все девять небес и детально описывает своим слушателям все, что происходит на каждом из них. На шестом Небе он восхваляет Луну, на седьмом — Солнце. Наконец, достигнув девятого Неба, он падает ниц перед Бай Ульгенем и предлагает ему душу приносимого в жертву коня. Этот эпизод — кульминационная точка экстатического восхождения шамана. Он узнает, принимает ли жертву Бай Ульгень, и получает предсказания погоды; затем шаман падает на землю и после кратковременного молчания как бы просыпается после глубокого сна[419].
Зарубки или ступеньки, высеченные на березе, символизируют планетные сферы. В процессе церемонии шаман просит о помощи различные божества, при этом особый цвет каждого из них свидетельствует о причастности их к той или иной планете[420]. Как и в митраическом ритуале инициации, когда все стены города Экбатаны окрашиваются в разные цвета[421], символизирующие соответствующие небеса, Луна стоит на шестом месте, а Солнце — на седьмом. Число девять — субституция более раннего числа семь; ибо для урало–алтайцев у «столпа мира» семь зарубок[422], а небесные сферы символизируются мифическим древом с семью ветвями[423]. Восхождение по ритуальной березе эквивалентно восхождению по мифическому древу, стоящему в Центре Вселенной. Отверстие в верхней части юрты отождествляется с отверстием, расположенным напротив Полярной звезды, через которое можно проникнуть с одного космического уровня на другой[424]. Вся церемония, таким образом, проходит в Центре мира (§ 143).
Такое же восхождение совершается в случае инициации шамана. Буряты сажают рядом девять деревьев, неофит залезает на верхушку девятого и проходит по верхушкам всех остальных[425]. Опять‑таки в юрте помещают березу, конец которой выступает над юртой сквозь отверстия наверху; неофит, поднимаясь по ней с мечом в руке, выбирается наружу и таким образом осуществляет свое путешествие на последнее из небес. Береза в юрте соединена с другими девятью березами веревкой, на которой висят лоскуты разноцветного ситца, призванные символизировать небесные сферы. Эту веревку называют «мостом»; она служит символом путешествия шамана в Дом богов.
Шаман также совершает подобное восхождение, излечивая больных, которые приходят к нему за помощью[426]. Мифические путешествия на Небо, совершаемые тюрко–монгольскими героями, поразительно напоминают шаманские ритуалы[427]. Согласно якутскому верованию, некогда были шаманы, которые на самом деле возносились в Небо; зрители могли наблюдать, как они скользят меж облаков вместе с приносимым в жертву конем[428]. Во времена Чингисхана то один, то другой прославленный монгольский шаман время от времени возносился на Небо на своем боевом коне[429]. Остякский шаман поет о том, что он поднялся в Небо по веревке, расталкивая звезды, преграждавшие ему путь[430]. В уйгурской поэме «Кудатку Билик» одному из героев приснилось, что он поднимается по пятидесятиступенчатой лестнице, наверху которой какая‑то женщина дала ему напиться воды; освеженный ею, он смог попасть на Небо[431].
34. СИМВОЛИЗМ ВОСХОЖДЕНИЯ
Ведь и Иакову приснилась лестница, достигающая Неба, по которой «Ангелы Божии нисходят и восходят»[432]. Камень, на котором спал Иаков, был Вефиль («Дом Господень»), и Иаков поместил его «в Центре Вселенной», ибо именно там происходит соединение всех областей Космоса (§ 81). В исламской традиции Мухаммед увидел поднимающуюся в Небо из Иерусалимского храма (Центра par excellence) лестницу, справа и слева охраняемую ангелами: по этой лестнице души праведников отправлялись к Богу[433]. Данте на Небе Сатурна также увидел золотую лестницу, которая поднималась на головокружительную высоту и достигала самой дальней сферы небес; по ней поднимались души блаженных[434]. Символизм ступеней, лестниц и восхождений сохранился и в христианском мистицизме. Святой Жан Делакруа представляет ход мистического совершенствования как подъем на гору Кармель («Subida del Monte Carmelo») с утомительными и крутыми тропами.
Все мистические видения и состояния экстаза так или иначе включают в себя вознесение на Небо. Порфирий свидетельствует, что Плотин[435] четыре раза испытывал это состояние небесного экстаза в период, когда они жили вместе[436]. Святой Павел также «восхищен был до третьего Неба»[437]. Учение о восхождении душ на седьмое Небо, в результате ли инициации или же после смерти, было чрезвычайно популярно в последние века дохристианской эры. То, что оно пришло с Востока, несомненно;[438] однако как орфизм, так и пифагоризм сыграли большую роль в его распространении в греко–римском мире. Эти традиции целесообразнее будет рассмотреть ниже; тем не менее необходимо упомянуть о них уже здесь, так как их конечной причиной является сакральный характер Неба и высших сфер. В каком бы религиозном контексте восхождение ни встречалось, каким бы статусом ни обладало (шаманского ритуала или ритуала инициации, мистического экстаза или онирического видения, эсхатологического мифа или героической легенды), всякий раз это восхождение — подъем на горы или вознесение к звездам, полеты по воздуху и прочее — обозначает переступание через человеческое и проникновение на более высокие космические уровни. Сам факт отрыва от Земли уже представляет собой освящение или обожествление восходящего. Аскеты Рудры «идут по пути ветра, ибо боги вошли в них»[439]. Люди, занимающиеся йогой, и индийские алхимики летают по воздуху и покрывают огромное расстояние за несколько секунд[440]. Умение летать, обладание крыльями становятся символической формулой превышения человеческого статуса; способность подниматься в воздух указывает на доступ к высшей реальности. Разумеется, даже в феноменологии восхождений существует коренное различие между религиозным опытом и магической техникой: если святой «взят» живым на Небо, то йоги, аскеты и маги достигают Неба своими собственными усилиями. Но и в том, и в другом случае восхождение отделяет их от массы рядовых и неинициированных душ: они вхожи на небеса, насыщенные святостью, и могут уподобляться богам. Их соприкосновение со звездными пространствами сообщает им божественность.
35. ВЫВОДЫ
Вкратце резюмируем все вышесказанное:
а) Небо уже по самой своей природе в качестве звездного свода и атмосферной области имеет богатую мифологическую и религиозную значимость. «Высота», «пребывание наверху», «бесконечное пространство» — все это иерофании трансцендентного, в высшей степени сакрального начала. «Жизнь» атмосферы и природных явлений, по всей видимости, представляет собой неумирающий миф; и как верховные существа первобытных народов, так и великие боги самых ранних цивилизаций в истории человечества обнаруживают более или менее органическую связь с небом, воздухом и природными явлениями.
6) Однако эти верховные существа нельзя рассматривать исключительно как небесные иерофании. Их характер сложнее; у них есть «форма», т. е. присущий исключительно им способ существования; следовательно, их нельзя объяснять, исходя лишь из небесных явлений или человеческого опыта. Ибо эти верховные существа — Творцы; они добрые, вечные («старые»), их считают основателями Мирового Порядка и стражами Закона — все эти атрибуты лишь частично объясняются через небесные иерофании, в чем и состоит проблема «формы» верховных существ, которая будет подробнее обсуждаться в другой главе.
в) Учитывая эту нерешенную проблему (довольно значительную), мы можем выделить в «истории» верховных существ и/или небесных богов один феномен, крайне значимый для религиозной истории человечества; тенденцию к утрате их культа. Они нигде не играют ведущей роли, напротив, постепенно отдаляются от человека и заменяются другими формами религии: культом предков, поклонением духам и богам природы, духам плодородия, великим богиням и т. д. Важно заметить, что подобная замена, как правило, совершается в пользу более конкретного, более динамичного, более плодовитого божества или религиозной силы (таких как Солнце, Великая Мать, мужское божество и т. д.). Эти последние всегда либо олицетворяют плодородие, либо оделяют им; другими словами, они в конечном итоге являются олицетворениями или подателями жизни. (Даже страх перед умершими и демонами есть всего лишь страх перед тем, что эти враждебные силы могут угрожать жизни, и поэтому их надо заклинать и иейтрализовывать.) Глубокий смысл этой замены станет яснее, когда мы обратимся к вопросу о религиозной значимости жизни и жизненных функций.
г) Иногда (несомненно, в результате возникновения земледелия и связанных с ним форм религии) бог Неба снова завоевывает позиции в качестве бога явлений природы и бога грозы. Но эта «специализация», хотя она и придает ему множество дополнительных атрибутов, ограничивает его всевластие. Бог грозы динамичен и «силен», он бык, оплодотворитель, вокруг него разрастаются мифы, его культ становится пугающе огромным; но он больше не Творец Вселенной и человека, он более не всеведущ; иногда он — всего лишь супруг Великой богини. Именно против этого бога грозы, великого самца, склонного к оргиям, богатого драматическими эпифаниями, со щедрым и кровавым культом, включавшим жертвоприношения и оргии, восстал семитский мир, подняв религиозную революцию, монотеистическую, пророческую и мессианскую по форме. Именно в этой борьбе между Ваалом, с одной стороны, и Яхве и Аллахом — с другой, в поле зрения человека вновь были привнесены «небесные» ценности, противостоящие «земным» (деньгам, плодородию, власти), равно как и критерий качества (взращивание внутри себя веры, молитвы и любви), противостоящий критерию количества (физическому акту жертвоприношения, всезначимости ритуальных жестов и др.). Но из того, что в ходе сакральной «истории» эти эпифании первоначальных жизненных сил были вытеснены, не следует, что они не обладали никакой религиозной значимостью. Как мы покажем ниже, эти первобытные эпифании изначально служили для освящения физической жизни; они омертвели лишь после того, как утратили свои первоначальные функции, перестав быть сакральными и став всего лишь жизненными, экономическими и социальными «феноменами».
д) Во многих случаях небесный бог был вытеснен богом Солнца, после чего оно становилось источником плодородия и защитником жизни (см. ниже, § 36 и сл.).
е) Иногда вездесущность, мудрость и пассивность бога Неба пересматривались заново в метафизическом смысле, и он становился эпифанией естественного порядка и нравственного закона (как Ио у маори); божественная «личность» уступала место «идее»; религиозный опыт (сам по себе весьма незначительный в случае практически со всеми богами Неба) уступал место теоретическому осмыслению или философии.
ж) Некоторые боги Неба сохранили свои позиции в религиозной жизни народа или даже усилили их, будучи воспринимаемы также как боги–владыки. Это те боги, которым лучше всего удалось удержать свое главенство над пантеоном (Юпитер, Зевс, Тянь), и те, которые стали знаменем монотеистической революции (Яхве, Ахура–Мазда[441]).
з) Однако даже когда боги Неба перестали занимать в религиозной жизни господствующее место, звездные сферы, небесный символизм, мифы и ритуалы, связанные с восхождением, — все это продолжало играть важную роль в системе сакральных объектов.
То, что находится «наверху», «возвышено», в любом религиозном контексте всегда является источником раскрытия трансцендентного начала. Божественные «формы» могут подвергаться изменениям; сам факт, что они явлены человеку в виде «форм», подразумевает, что у них есть своя история, свой ход развития; однако сакральная значимость Неба остается таковой везде и в любых обстоятельствах. Небу перестают поклоняться, мифология заменяет его на другие объекты, но оно все равно имеет огромное символическое значение. Этот небесный символизм послужил основанием для ряда ритуалов (восхождения наверх, инициации, коронации и прочее), мифов (о Космическом древе, Космической горе, цепи стрел и др.) и легенд (например, о магическом полете). Символизм Центра мира, играющий столь важную роль во всех великих религиях, состоит из небесных элементов (более или менее отчетливо) — Центра и Оси Вселенной, точки соприкосновения между собой трех космических областей; только в Центре может произойти прорыв, проникновение из одной области в другую.
В качестве краткого резюме можно сказать, что сакральная «история» либо успешно отодвинула на задний план божественные «фигуры» небесной природы (верховные существа), либо исказила их (боги грозы или оплодотворители); однако эта «история», сама по себе представляющая лишь обновление человечеством сакрального опыта и его интерпретации, не смогла ликвидировать четкое, упорное представление о Небе как о сакральном объекте; это представление внеличностное и вневременное, и оно не подвержено действию сакральной «истории». Небесный символизм удержал свое место в рамках всех религий потому, что его статус не меняется со временем; в сущности, именно этот символизм придает вес всем религиозным «формам» и поддерживает их, никогда ничего при этом не утрачивая (§ 166 и сл.).
БИБЛИОГРАФИЯ
Проблема небесных богов у народов с низким уровнем цивилизации обсуждалась нами, как правило, в связи с верховными существами и «первобытным монотеизмом». Соответственно, большая часть упоминаемых здесь работ прежде всего рассматривает эти существа как божественные «формы», а их характеристики, связанные с Небом, — лишь как вопрос второстепенный (не считая, разумеется, работ Петтаццони и Фрэзера, целью которых является исчерпывающая иллюстрация именно небесных черт).
Pettazzoni R. Allwissende höchste Wesen bei primitivsten Völkern // AFRW. 1930. Vol. 29. S. 108–129, 209–243; Clemen C. Der sogenannte Monotheismus der Primitiven // AFRW. 1929. Vol. 28. S. 290–333; Pettazzoni R. Saggi di Storia delle Religioni e di Mitologia. Rome, 1946. P. 12 и сл.; L’onniscienza di Dio. Turin, 1955.
Howitt A. W. The Native Tribes of South‑East Australia. L., 1904. P. 362 и сл., 466 и сл.; Pettazzoni R. Dio. Vol. 1 (L’Essere Celeste nelle Credenze dei Popoli Primitivi). Rome, 1922. P. 2 и сл.; Schmidt W. Der Ursprung der Gottesidee. 2nd ed. Vol. 1. Münster, 1926. S. 416–478; Schmidt W. Der Ursprung… Vol. 3. Münster, 1931. S. 828–990, а также сопровождающая документация.
Howitt A. W. Native Tribes… P. 494 и сл., 528 и сл.; Pettazzoni R. Dio. Vol. 1. P. 6 и сл.; Schmidt W. Der Ursprung… Vol. 1. S. 410 и сл.; Vol. 3. S. 718–827.
Matthews R. H. Ethnological Notes on the Aboriginal Tribes of New South Wales and Victoria. Sydney, 1905. P. 84–134, 162–171; Van Gennep A. Mythes et legendes d’Australie. P., 1906. P. 178 и сл.; Pettazzoni R. Dio. Vol. 1. P. 16 и сл.; Schmidt W. Der Ursprung… Vol. 1. S. 337–380; Vol. 3. S. 650–717 (попытка провести границу между историей Бунджиля и его мифологическими трансформациями).
Howitt A. W. Native Tribes… P. 616 и сл.; Schmidt W. Der Unsprung… Vol. 1. S. 380–397; Vol. 3. S. 591–649. (Шмидт полагает, что на Мунгангану натуристская мифология оказала меньшее влияние, чем на остальных австралийских верховных существ.)
Schmidt W. Die Stellung der Aranda unter den australischen Stämmen // ZFE. 1908. S. 866–901; Schmidt W. Der Ursprung… Vol. 1. S. 434–449; см.: Nieuwenhuis A. W. Der Geschlechtstotemismus an sich und als Basis der Heiratsklassen und des Gruppentotemismus in Australien // IAFE. 1928. Vol. 29. S. 1–52; против: Schmidt W. Der Ursprung… Vol. 3. S. 574–586, и Vatter E. Der Australische Totemismus. — Mitteilungen aus dem Museum f. Völkerkunde in Hamburg. 1925. Vol. 10, особенно S. 28 и сл. и S. 150; Strehlow C., Von Leonhardi M. Mythen, Sagen und Märchen des Aranda‑Stammes in Zentral‑Australien. Frankfurt a. M., 1907; Spencer B. The Arunta. L., 1927. 2 vols. См. также полемику Ланга и Гартленда по поводу работы Эндрю Гарта «The Making of Religion». L., 1898; Hartland E. S. The High Gods of Australia // FRE. 1908. Vol. 9. P. 290–329; Lang A. Australian Gods // FRE. Vol. 10. P. 1–46; Hartland E. S. High Gods: A Rejoinder // FRE. P. 46–57; ответ Ланга: FRE. P. 489–495. См. также большой критический анализ Шмидта: APS. 1908. Vol. 3. S. 1081–1107[442].
Man E. H. On the Aboriginal Inhabitants of the Andaman Islands. L., 1883; Brown A. R. The Andaman Islanders. Cambridge, 1922; относительно существования на Андаманских островах веры в Верховное существо была развернута большая полемика между В. Шмидтом и А. Р. Брауном в журнале «Man». 1910. Vol. 20. P. 2 и сл., 33 и сл., 66 и сл., 84 и сл.; см.: Schmidt W. Stellung der Pygmäenvölker. Stuttgart, 1910. S. 193–219, 241–67; Schmidt W. Die religiösen Verhältnisse der Andamanesen‑Pygmäen // APS. 1921–1922. Vol. 16–17. S. 978–1005; Schmidt W. Der Ursprung… 2nd ed. Vol. 1. S. 160–163; всестороннее исследование в: Pettazzoni R. Dio. Vol. 1. P. 92–101; Schmidt W. Der Ursprung… Vol. 3. S. 50–145, где автор пытается провести границу между исходными характеристиками Пулуги и влиянием на него извне (натуризм, анимизм, магия, матриархат, лунарная мифология; в самом деле, Браун не смог обнаружить в северной и центральной части Андаманских островов никаких следов Верховного существа и нашел лишь религию матриархального типа с культом Билики, в то время как вера в Пулугу в южной части островов, обнаруженная авторами «Man», подтверждается).
Schebesta P. Religiöse Anschauungen der Semang über die Orang hidop, die Unsterblichen // AFRW. 1926. Vol. 24. S. 209–233; Schebesta P. Among the Forest Dwarfs of Malaya. L., 1929; Schebesta P. Orang‑Utan, Bei den Urwaldmenschen Malayas und Sumatras. Leipzig, 1928; Schebesta P. Les Pygmées. French ed. P., 1940. P. 93 и сл.; Evans Ivor H. N. Studies in Religion, Folk‑lore and Custom in British North Borneo and the Malay Peninsula. Cambridge, 1923; Evans Ivor H. N. Papers on the Ethnology and Archäology of the Malay Peninsula. Cambridge, 1927; общее исследование: Pettazzoni R. Dio. Vol. 1. P. 101–118; Schmidt W. Der Ursprung… Vol. 3. S. 152–279.
Vanoverbergh M. Negritos of Northern Luzon // APS. 1925. Vol. 20. P. 148–199, 399–433; о религиозной жизни: P. 434 и сл.; Schebesta P. Les Pygmées. P. 145 и сл.; см. также: Skeat W. W., Biagden O. Pagan Races of the Malay Peninsula. L., 1906[443].
Общее исследование:Pettazzoni R. Dio. Vol. 1. P. 186–259; Frazer J. The Worship of Nature. L., 1926. P. 89– 315; Schmidt W. Der Unsprung… Vol. 4 (Der Religionen der Urvölker Afrikas). Münster, 1933; см. также: Vol. 1. S. 167 и сл.; Vol. 6. 1935, в разных местах; Vol. 7. 1940. S. 3–605, 791–826; Vol. 8. 1949. S. 569–717; Vol. 12. 1955. S. 761–899; Vol. 7 (Die afrikanischen Hirten völker). 1940; Le Roy Mgr. A. La Religion des Primitifs. 7th ed. P., 1925 (перевод первого издания, The Religion of the Primitives. L., 1923); Smith E. W. African Ideas of God. L., 1950; см. также: Pettazzoni R. Miti e Leggende. Vol. 1 (Africa, Australia). Turin, 1948. P. 3–401. Spieth J. Die Religion der Eweer. Göttingen; Leipzig, 1911; Hollis A. C. The Masai. Oxford, 1905. P. 364 и сл.; Smith E. W., Dale A. M. The Ila‑speaking Peoples of Northern Rhodesia. L., 1920. Vol. 2. P. 198 и сл.; Tauxier L. La Religion Bambara. P., 1927. P. 173 и сл.
О Нзамбе (и против утверждения Петтаццони (р. 210), что ему безразличны мирские дела) см. также: Van Wing J. L’Etre supreme des Bakongo. — RSR. Vol. 10. S. 170–181.
Trilles H. Les Pygméees de la forêt équatoriale. P., 1932; Trilles H. Les Pygmées… L’Ame du Pygmée d’Afrique. P., 1945; Immenroth W. Kultur u. Umwelt der Kleinwuchsigen in Aftika. Leipzig, 1933, особенно S. 153 и сл.; Schebesta P. Les Pygmées. P. 13 и сл. Wanger W. The Zulu Notion of God // APS. 1925. P. 574 и сл., предполагает, что имя Ункулункулу можно возвести к шумерскому прототипу AN‑gal‑gal (если зулусское ун — то же самое, что и шумерское ан, ану, «Небо», «Бог на Небе»). Widengren G. (Hochgottglaube im Alten Iran. Uppsala; Leipzig, 1938. S. 5–93) приводит богатый материал по африканским богам Неба и сравнивает их с иранскими богами, S. 394–395[444].
Pettazzoni R. Dio. Vol. 1. P. 109–185; Codrington R. H. The Melanesians. Oxford, 1891. P. 116 и сл.; Lang A. The Making of Religion. 3rd ed. 1909. P. 200 и сл.; Dixon R. B. Oceanic Mythology. Boston, 1916, по всей книге; Scharer H. Der Gottesidee der Ngadju Dajak in Siid‑Bomeo. Leiden, 1946. S. 15 и сл., 175 и сл.
Craighill Handy E. S. Polynesian Religion. Honolulu, 1927. P. 144 и сл.; Williamson R. W. Religious and Cosmic Beliefs of Central Polynesia. Cambridge, 1933.
Walleser S. Religiöse Anschauungen und Gebräuche der Bewohner von Jap, Deutsche Südsee // APS. 1913. Vol. 8. S. 617, 629 и сл., особенно S. 613 и сл.
Craighill Handy Е.S. Polynesian Religion. P. 36 и сл.; Craighill Handy E. S. The Hawaiian Cult of Io // JPS. 1941. Vol. 1. №3.
Numazawa F.К. Die Weltanfänge in der japanischen Mythologie. Lucerne, 1946; см. также библиографию к главе VII[445].
Pettazzoni R. Dio. Vol. 1. P. 260–273; Dangel R. Tirawa, der höchste Gott der Pawnee // AFRW. 1929. S. 113–144; Schmidt W. Der Unsprung… Vol. 2. S. 21–326 (племена Центральной Калифорнии); S. 328–390 (северо–западные индейцы); S. 391–672 (алгонкины); Vol. 5, 1937. S. 1–773; Vol. 6, по всему тому. Общее исследование того же автора: High Gods in North America. Oxford, 1933.
Pettazzoni R. Dio. Vol. 1. P. 324–348 (против: Koppers W. Unter Feuerland‑Indianern. Stuttgart, 1924. S. 139–157); Schmidt W. Der Unsprung… Vol. 2. S. 873–1033 (об индейцах Огненной Земли, особо ссылаясь на работы Гузинде и Кейперса); Vol. 6, по всему тому; Gusinde M. Die Feuerland‑Indianer. Vol. 1 (Die Selk’nam). Mödling bei Wien, 1931. Vol. 2 (Die Yamana). Mödling bei Wien, 1937; Koppers W. Sur 1’origine de l’idée de Dieu. A propos de la croyance en Dieu chez les Indiens de la Terre de Feu. — NV. Fribourg, 1943. P. 260–291; Koppers W. Die Erstbesiedlung Amerikas im Lichte der Feuerland‑Forschungen // Bull. d. Schweizerischen Gesellschaft f. Anthropologie u. Ethnologie, 1944–1945. Vol. 21. S. 1–15.
Тома 2, 5 и 6 «Der Ursprung der Gottesidee» содержат хорошую библиографию и анализ огромного материала по первобытным верованиям в обеих Америках. См.: Der Ursprung… Vol. 5. S. 522 и сл., 716 и сл.; Vol. 6. 1935. S. 520 и сл. Но см. также в: Cooper J.М. The Northern Algonquin Supreme Being // Primitive Man. 1933. Vol. 6. P. 41–112 и в: Pettazzoni R. Miti e Leggende. Vol. 3 (America Settentrionale). Turin, 1953, особенно P. 337 и сл.[446]
Schmidt W. Der Ursprung… Vol. 3. S. 331–364; Vol. 6. S. 70–5, 274–281, 444–454; Vol. 7. S. 609–701; Gahs A. Kopf-, Schädel- und Langknochenopfer bei Rentiervölkern // W. Schmidt‑Festschrift Vienna, 1928. S. 231–268.
Castren A. Reisen im Norden in den Jahren 1838–1844. Leipzig, 1953. S. 229–233; Lehtisalo T. Entwurf einer Mythologie der Jurak‑Samoyeden // Mémoires de la Soc. Finno‑Ougrienne, 1924. Vol. 53; Donner K. Bei den Samojeden in Sibirien. Stuttgart, 1926; общее исследование, описание и дополнительную документацию см. в: Schmidt W. Der Ursprung… Vol. 3. S. 340–384.
Jochelson W. The Koryak. Leiden; N. Y., 1905–1908. 2 vols.; Jesup North Pacific Expedition. Vol. 6; Czaplicka A. Aboriginal Siberia. A Study in Social Anthropology. Oxford, 1914, особенно P. 261–269, 294–296; Schmidt W. Der Ursprung… Vol. 3 S. 387–426.
Batchelor J. The Ainu and their Folk‑lore. L., 1901; Lowenthal J. Zum Ainu‑Problem // MAGW. 1930. Vol. 60. S. 13–19; Sternberg L. The Ainu Problem. — APS. 1929. Vol. 24. P. 755–801; Schmidt W. Der Ursprung… Vol. 3. S. 427–492; см. также Ohm Т. Die Himmelsverehrung der Koreaner // APS. 1920–1921. Vol. 35–36. S. 830–840.
Boas F. The Central Esquimo // 6th Annual Report of the Bureau of American Ethnology, 1884–1885. Washington, 1888. P. 409–670; Rasmussen K. Intellectual Culture of the Iglulik Eskimos. Copenhagen, 1930; Rasmussen K. Intellectual Culture of the Caribou Eskimos. Copenhagen, 1931; Birket‑Smith F. Über der Herkunft der Eskimo und ihre Stellung in der zirkumpolaren Kulturentwicklung // APS. 1930. Vol. 25. S. 1–23; Thalbitzer W. Die kultischen Gottheiten der Eskimos // FRW. 1928. Vol. 26. S. 364–430; Schmidt W. Der Ursprung… Vol. 3. S. 493–526[447].
Karjalainen К.F. Die Religion der Jugra‑Völker. Vol. 1–3. Porvoo; Helsinki, 1921, 1922, 1927 (FFC, №41, 44, 63); Holmberg‑Harva U. Die Religion der Tcheremissen. Porvoo, 1926 (FFC, №61); Holmberg‑Harva U. Siberian Mythology (The Mythology of all Races. Vol. 4. Boston, 1927); Holmberg‑Harva U. Die religiösen Vorstellungen der altaischen Völker. Helsinki, 1939 (FFC, №125); Schmidt W. Das Himmelsopfer bei den innerasiatischen Pferdezüchter Völkern // ES. 1942. Vol. 7. S. 127–148; Schmidt W. Der Ursprung… Vol. 9. 1949. S. 3–67 (прототюрки), 71–454 (алтайские татары), 457–794 (абаканские татары); Vol. 10. 1952. S. 1–138 (монголы), 139–470 (буряты), 503–674 (тунгусы), 675–758 (юкагиры); Vol. 11. 1954. S. 1–398, 565–707 (якуты), 399–467 (карагасы и сойоты), 469–567, 683–712 (Енисей). Шмидт приводит сжатое описание религий скотоводческих племен Центральной Азии в Vol. 11. S. 565–704 и в Vol. 12. S. 1–613. Häckel J. Idolkult und Dual‑system bei den Uiguren. Zum Problem des eurasiatischen Totemismus // AFV. Vienna, 1947. Vol. 1. S. 95–163.
Radloff W. Proben der Völksliteratur der türkischen Stämme. St. Petersburg, 1866. Vol. 1. S. 147 и сл.; Eliade M. Le Chamanisme. P. 175 и сл.; Schmidt W. Der Ursprung… Vol. 9. S. 172–215.
Koppers W. Pferdeopfer und Pferdekult der Indogermanen // WBKL. Salzburg; Leipzig, 1936. Vol. 4. S. 279–412, 396 и сл.; Häckel J. Idolkult… S. 142 и сл[448].
Mathias P. Uiguren und ihre neuentdeckten Nachkommen // APS. 1940–1941. Vol. 35–36. S. 78–99, особенно S. 89 и сл. (Тэнрэ называют Хан Тэнрэ, «небесным императором», или просто тэнрэ, «небо». Он — Творец мира, жизни, человека. S. 89. Ему приносят жертвы. S. 90.)
Vannicelli L. La Religione dei Lolo. Milan, 1944. Pallisen N. Die alte Religion des mongolischen Volkes während der Herrschaft der Tschingisiden // Micro‑Biblioteca Anthropos. Freiburg, 1953. Vol. 7; Donner K. Über soghdisch vom «Gesetz» und samojedisch vom «Himmel, Gott» // SO. Helsinki, 1925. Vol. 1. S. 1–6. Но см. также в: Schmidt W. Der Ursprung… Vol. 3. S. 505 и сл.; Eliade M. Le Chamanisme. P. 206 и сл.
De Groot J. J. M. The Religion of the Chinese. N. Y., 1910. P. 102 и сл.; Granet M. La Religion des Chinois. P., 1922. P. 49 и сл. Согласно Э. Шаванну, Шан–ди («Верховный Владыка») и Тянь («Небо») первоначально обозначали два отдельных божественных существа (подобно Урану и Зевсу); см.: Le Dieu du sol dans l’ancienne religion chinoise // RHR. 1901. Vol. 43. P. 125–246. О Шан–ди см. также: Söderblom N. Das Werden des Gottesglaubens. Leipzig, 1916. S. 224 и сл., где дается четкое представление о ненатуристских чертах древнего китайского Бога. См.: Eberhard W. // APS. 1942–1945. Vol. 37–40; Peitazzoni R. L’onniscienza di Dio. Turin, 1955. P. 400 и сл.
Ebert M. Reallexikon der Vorgeschichte. Vol. 13. S. 60 и сл.; Hermes G. Das gezähmte Pferd im alten Orient // APS. 1936. Vol. 31. S. 364–394; Amschler W. Die ältesten Funde des Hauspferdes // WBKL. Vol. 4. S. 498–516; Herzfeld E. Völker und Kulturzusammenhänge im Alten Orient // DF. Berlin, 1928. Vol. 5. S. 33–67, особенно S. 39 и сл.; Koppers W. Urtuerkentum und Urindogermanientum im Lichte der völkerkundlichen Universalsgeschichte // Belleten, den ayri basim. Istanbul, 1941. №20. S. 481–525, 488 и сл. Но см. также: Tallgren A. M. The Copper Idols from Galich and their Relatives // SO. 1925. Vol. 1. P. 312–341.
Эта проблема обсуждается в двух монографиях Кейперса: Die Indogermanenfrage im Lichte der historischen Völkerkunde // APS. 1935. Vol. 30. S. 1–31, особенно S. 10 и сл.; и «Urtuerkentum», passim. В том же направлении: Schrader О. Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde. 2nd ed. В.; Leipzig, 1917–1929. Vol. 2. S. 24. См. также: Nehring A. Studien zur indogermanischen Kultur und Urheimat // WBKL. Vol. 4. S. 9–229, особенно S. 13 и сл., 93 и сл.; противоположная точка зрения в: Hauer J. W. Zum gegenwärtigen Stand der Indogermanenfrage // AFRW. 1939. Vol. 36. S. 1–63, особенно S. 14 и сл. См. также: Schmidt W. Rassen und Völker in Vorgeschichte des Abendlandes. Vol. 2. Lucerne, 1946. S. 171 и сл., 192 и сл., 208 и сл.
Hirt H. Die Indogermanen. Strasbourg, 1905–1907. Vol. 1–2; Schrader O. Reallexikon; Childe C. G. The Aryans. L., 1926; Germanen U. Indogermanen. Festschrift für Hermann Hirt Heidelberg, 1932–1934. Vol. 1–2; Koppers W. Indogermanenfrage; Nehring A. Studien zur indogermanischen Kultar und Urheimat; Hauer J. W. Zum Gegenwärtigen Stand; Dumezil G. Le nom des «Arya» // RHR. 1941. №363. P. 36–59[449].
Von Schröder L. Arische Religion; I: Einleitung. Der Altarische Himmelsgott. Leipzig, 1914; Kretschmer P. Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache. Gottingen, 1896. S. 77 и сл.; Feist S. Kultur, Ausbreitung und Herkunft der Indogermanen. В., 1913. S. 319 и сл.; Wilke G. Die Religion der Indogermanen in archäologischer Betrachtung // MB. Leipzig, 1923. №31. S. 107 и сл.; Koppers W. Die Religion der Indogermanen in ihren kulturhistorischen Beziehungen // APS. 1921. Vol. 24. S. 1073–1089; Koppers W. Indogermanenfrage. S. 11 и сл., 16 и сл.; Hopkins S. Sturtevant, Indo‑European Deiwos and Related Words. Philadelphia, 1932; Nehring A. Studien. S. 195 и сл.; Kretschmer P. Dyaus, Zeus, Diespiter und die Abstrakta im indogermanischen // GLA. 1924. Vol. 13. S. 101–114.
Тексты, переводы и огромную критическую библиографию см. в: Renou L. Bibliographie védique. P., 1931, особенно P. 170 и сл. До сих пор не утратили своего значения три тома А. Бергэня: Bergaigne A. La Religion védique d’apres les hymnes du Rig Veda. P., 1878–1883. Исчерпывающее описание мифов и верований см. в: Hillebrandt A. Vedische Mythologie. 2nd ed. Breslau, 1927–1929. Vol. 12, и Keith A. B. The Religion and Philosophy of the Veda and Upanishads. Harvard Oriental Series. №21–22. Cambridge, Mass., 1925. 2 vols[450].
Текущее состояние проблемы и попытку интерпретации с точки зрения тройного функционального разделения см. в: Dumezil G. Naissance d’archanges. P., 1945. P. 15 и сл[451].
Guntert H. Der arische Weltkönig und Heiland. Halle, 1923. S. 97 и сл.; Dumezil G. Ouranos‑Varuna. P., 1934; Dumezil G. Mitra‑Varuna. P., 1940; cp. Geiger B. Die Amesa Spentas. Vienna, 1916; Levi S. La Doctrine du sacrifice dans les Brahmanas. P., 1898; Hopkins E. W. Epic Mythology. Strasbourg, 1920. Кречмер ошибочно полагает, что Варуна — это хеттский Арунас, позаимствовавший много азиатских и вавилонских черт; см.: Varuna und die Urgeschichte der Inder // WZKM. Vol. 33. S. 1 и сл. О Варуне как об «опутывателе» см.: Eliade M. Les Dieux lieurs et le symbolisme des noeuds // RHR. 1947–1948. Vol. 134. P. 5–36; ср.: Eliade M. Images et Symboles. P., 1952. Ch. 3[452].
Индоевропейский миф о каменном небе, сходящемся с землей, который был составлен из мозаичных фрагментов X.Райхельтом, см.: Reichelt H. Der steinerne Himmel // IGF. 1913. Vol. 32. S. 23–57, не подтверждается текстами; ср.: Benveniste E., Renou L. Vrtra and Vrtraghna. P., 1935. P. 191, примеч. 3[453].
Тексты, общее исследование, критику и библиографию см.: Pettazzoni R. La Religione di Zarathustra. Bologna, 1920; Gray L. H. The Foundations of the Iranian Religions. Bombay, Cama Oriental Institute, 1929; Benveniste E. The Persian Religion According to the Chief Greek Texts. P., 1929; Benveniste E., Renou L. Vrtra and Vrtraghna; Nyberg H. S. Questions de cosmogonie et de cosmologie mazdéennes // JA. 1929, anp. — июнь. P. 193–310; 1931, июль — сент. P. 1–124; 1931, окт. — дек. P. 193–244; Nyberg H. S. Die Religionen des alten Iran, trans. Schäder. Leipzig, 1938; Widengren G. Hochgottglaube im Alten Iran. Uppsala, 1938; Dumezil G. Naissance d’archanges[454].
Oldenberg H. Varuna und die Adityas // ZDMG. 1896. Vol. 1. S. 43 и сл.; Meillet A. La Religion indo‑européenne, перепечатано в Linguistique historique et linguistique générale. P., 1921. P. 323 и сл.; Dumezil G. Mitra‑Varuna. P. 59 и сл.; Naissance d’archanges. P. 30 и сл.; Hertel J. Die Sonne und Mitra im Awesta. Leipzig, 1927; ср.: Paul O. Zur Geschichte der iranischen Religionen // AFRW. 1940. Vol. 35. S. 215–234 (полемика с Нюбергом); также: Wust W. Ib., P. 234–249. См. также: Heimann В. Varuna‑Rta‑Karma // Festgabe H. Jacobi. P. 210–214.
Одна из книг на эту тему стоит целой библиотеки, а именно: Cook А. В. Zeus, a Study in Ancient Religion. Cambridge, 1914–1940. 5 vols. Общую картину см.: Nilsson M. P. Geschichte der griechischen Religion. Münich, 1941. Vol. 1; о Зевсе как отце богов см.: Calhoun G. Zeus the Father in Homer // TAAP. 1935. Vol. 66; Nilsson M. P. Vater Zeus // AFRW. 1938. Vol. 35. P. 156 и сл.
Dumezil G. Ouranos‑Varuna; Staudacher W. Die Trennung von Himmel und Erde. Fin vorgriechischer Schöpfungmythus bei Hesiod und den Orphikern. Tübingen, 1942[455].
Dumezil J. Mars, Quirinus. P., 1941 и Naissance de Rome. P., 1944. ch. 1; Koch C. Der römische Juppiter. Frankfurt a. M., 1937[456].
De Vries J. Altgermanische Religionsgeschichte. Vol. 1, 2. В.; Leipzig, 1935, 1937. Блестящий анализ мифов о верховном владычестве и военных мифов приводится в небольшой книге Ж. Дюмезиля «Mythes et dieux des Germains». P., 1939. См. также: Tonnelat E. Les Religions des Celtes, des Germains et des anciens Slaves // MA. P., 1948. Vol. 3. P. 323 и сл. Глубокая критика различных современных направлений в интерпретации германских религий, а также конструктивная попытка применить к исследованию этих религий «культурно–исторический» метод венской школы обнаруживаются в двух работах А. Клосса: Closs A. Neue Problemstellungen in der germanischen Religionsgeschichte // APS. 1934. Vol. 29. S. 477–496, и Class A. Die Religion des Semnonenstammes // WBKL. Vol. 4. S. 448–673; Closs A. Die Religion der Germanen in ethnologischen Sicht // Christus und die Religionen der Erde. Vienna, 1951. Vol. 2. S. 267–365. См. также: Hillebrecht H. Die Hauptgottheiten der Germanen bei Tacitus // AFRW. Vol. 37. P. 144 и сл.; Much R. Die Germania des Tacitus. Heidelberg, 1937; Pettazzoni R. Regnator Omnium Deus // SMSR. 1943–1946. Vol. 19, 20. P. 142–56; Hofler O. Germanische Sakralkönigtum. Vol. 1. Tübingen, Münster, Cologne, 1952[457].
Clemen С. Die Religion der Kelten // AFRW. 1941. Vol. 37. S. 122; Lambrechts P. Contributions a l’etude des divinites celtiques. Bruges, 1942. P. 54 и сл.
Mansikka V. J. Die Religion der Ostslavem. Vol. 1. Helsinki, 1922 // FFC. №43. S. 30–34, 54–57, 60–65, 379 и сл.; Brueckner A. Mitologia slava. Bologna, 1923. P. 58 и сл. (имя Перкун–Перун возводится им к названию дуба); Niederle L. Manuel de l’antiquité slave. P., 1926. Vol. 2. P. 138 и сл.; Unbegaun В. О. Les Religions des Celtes, des Germains, et des anciens Slaves // MA. 1948. P. 405–407[458].
См. также: Krappe A. H. Les Péléiades // RAR. 1932. Vol. 36. P. 77 и сл.; Harrison J. Themis. 2nd ed. Cambridge, 1927. P. 94 и сл.
Hopkins S., Washburn J. Indra as God of Fertility // JAOS. Vol. 36. P. 242–268; Charpentier J. Indra. Ein Versuch die Aufklärung // MO. Uppsala, 1931. Vol. 25. S. 1–28; Benveniste E., Renou L. Vrtra et Vrtraghna. P., 1935. P. 184 и сл. Кречмер (Kleinasiatische Forschungen. 1929. Vol. 1. S. 297 и сл.) полагал, что ему удалось обнаружить в хеттском иннара источник индоиранского Индры; однако Зоммер показал, что это на самом деле была хеттская богиня Инара (с одним «н», ср.: Benveniste E., Renou L. P. 186). В работе: Przyluski J. Inara and Indra // RHA. Vol. 36. P. 142–146 — говорится, что «ведический Иидра и хеттская Инара, возможно, оба относятся к ряду двуполых божеств, напоминающих Великих Богинь, таких, как двуполая Венера, Fortuna barbata, Зерван, Кала» (P. 146). Однако это чересчур поверхностная точка зрения; не доказано, что Великая богиня «в семитском и индоевропейском пантеонах была заменена на Великого бога» (P. 142); божественная андрогиния не всегда вторична (ср. P. 160); ритуальный гермафродитизм нельзя объяснить в терминах гибридных культов, в которых поклоняются чему‑то среднему между Великой богиней и Великим богом.
См. также: Machek V. Name und Herkunst des Gottes Indra // AOL 1941. Vol. 12. №3–4; Dumezil G. Tarpela, 1947. P. 117 и сл. Многочисленные упоминания об Индре как о боге плодородия: Meyer J. J. Trilogie altindischer Machte und Feste der Vegetation. Zürich; Leipzig, 1937. 3 vols., особенно vol. 3. S. 164 и сл.
Meissner В. Babylonien und Assyrien. Vol. 1–2. Heidelberg, 1920–1925; Dhorme E. Choix de textes religieux assyro‑babyloniens. P., 1907; Dhorme E. La Religion assyro‑babylonienne. P., 1940; Dhorme E. Les religions de Babylonie et d’Assyrie // MA. Vol. 2. P., 1945 (это лучшее исследование на настоящий момент); Furlani G. La Religione Babilonese‑Assira. 2 vols. Bologna, 1928–1929, с исчерпывающей библиографией; Jean Ch. La Religion sumerienne d’apres les documents sumeriens antérieurs a la dynastie d’Isin. P., 1931; Furlani G. La Religione degli Hittiti. Bologna, 1936; Dussaud R. Les Religions des Hittites et des Hourrites, des Pheniciens et des Syriens // MA. Vol. 2. P. 333–414[459].
См. также: Ward W. H. The Seal Cylinders of Western Asia. Washington, 1910; Gotze A. Kleinasien — в серии «Kulturgeschichte des Alten Orients». Vol. 3, 1. Münich, 1933.
Следующие работы Б. Грозного побуждают к размышлениям, хотя и не всегда убедительны: Die älteste Völkerwanderung und die protoindische Zivilisation. Prague, 1939; Die älteste Geschichte Vorderasiens. Prague, 1940, и работы, опубликованные в AOI. 1941 и далее; см. также: Histoire de l’Asie Ancienne, de l’Inde, et de la Crete, P., 1946[460].
Malten L. Der Stier in Kult und mythischen Bild // JDAI. 1928. Vol. 63. S. 90–139; Otto E. Beiträge zur Geschichte des Stierkults in Ägypten. Leipzig, 1938; Autran C. La Préhistoire du Christianisme. Vol. 1. P., 1941. P. 39 и сл.; Namitok A. Zeus Osogoa // RHR. 1941. №364. P. 97–109, особенно P. 102, №4, и 103, №6 (относительно недавних открытий изображений быков в Индии и т. д.); Dhorme E. Les Religions de Babylonie. P. 96 и сл.; Schlobies H. Der akkadische Wettergott in Mesopotamien. Leipzig, 1925; Furlani G. La Frusta di Adad // Rendiconti d. Accad. dei Lincei, Classa di Scienze Morali. 1932. P. 574–586; Tallquist K. Akkadische Götterepitheta. Helsinki, 1938. P. 246 и сл.; Dussaud R. La Mythologie phénicienne d’après les tablettes de Ras Shamra // RHR. 1931. Vol. 104. P. 353–408; Dussaud R. Le Sanctuaire et les dieux phéeniciens de Ras Shamra // RHR. 1932. Vol. 105. P. 245–302; Dussaud R. Le Vrai Nom de Ba’al // RHR. 1936. Vol. 113. P. 5–20; Dussaud R. Les Découvertes de Ras Shamra et l’Ancien Testament 2nd ed. P., 1941; Dussaud R. Peut‑on identifier l’Apollon de Hiérapolis? // RHR. 1942–1943. №368. P. 128–149, особенно P. 138 и сл.; Nielson D. Ras Shamra Mythologie und biblische Theologie. Leipzig, 1936; Namitok A. Le Nom du dieu de l’orage chez les Hittites et les Kassites // RHR. 1939, июль — авг. P. 21 и сл.; Engnell I. Studies in Divine Kingship in the Ancient Near East. Uppsala, 1943. P. 213.
Gressmann Н. Altorientalische Bilder zum Alten Testament. 2nd ed. В.; Leipzig, 1926–1927, №317, 326, 330, 335, 339, 350, 345; Contenau G. Manuel d’archéologie orientale. P., 1927. Vol. 1. P. 206, fig. 129; Vol. 2. P. 942; Demircioglu H. Der Gott auf dem Stier. Geschichte eines religiösen Bildtypus. Berlin, 1936[461].
Cook А. В. Zeus. Vol. 1. 1914. P. 605–663; Cumont F. Etudes Syriénnes. P., 1917. P. 173–202; Kan A. H. Juppiter Dolichenus. Lede, 1943.
О Египте
Rusch A. Die Entwicklung der Himmelsgott in Kult zu einer Todesgottheit. Leipzig, 1922; Wainwright G. A. The Sky‑Religion in Egypt. Cambridge, 1938; Autran С. La Flotte à l’enseigne du poisson. P., 1938; Junker H. Die Götterlehre vom Memphis. Berlin, 1940. S. 25 и сл. (о Небесном Боге Уре (wr)).
Schmidt W. Der Ursprung… Vol. 2. S. 55, 63, 71, 228 и сл.; гром–птица в североамериканской мифологии — Schmidt W. Der Ursprung… S. 635 и сл.; в африканской мифологии — Frazer J. The Worship of Nature. P. 155; ср.: Harris R. Boanerges. Cambridge, 1913. P. 13 и сл.; Stith Т. Motif‑Index of Folk literature. Helsinki. Vol. 1. 1932. P. 80 и сл.; Tallquist K. Himmelsgegenden und Winde. Eine semasiologische Studie // SO. Helsinki, 1933. Vol. 2.
Ф. Керн (F. Kern) пытается проанализировать мифологический процесс, в котором небесный бог скотоводческих племен превращается в бога грозы в своей работе «Die Welt, worin die Griechen traten» // APS. 1929. Vol. 24. S. 167–219, см. особенно S. 179 и сл. В. Шмидт усматривает такой же процесс (который он называет приобретением богом Вселенной ипостаси бога атмосферы) среди различных эскимосских племен (Der Ursprung… Vol. 3. S. 505).
Grabar. Le Theme religieux des fresques de la synagogue de Doura // RHR. 1941. №363. P. 27, n. 1. Об атмосферных эпифаниях Яхве см.: Sommer A. D. Nubes tenebrosa et illuminans noctem // RHR. 1942–1943. №365. P. 5–31; о «славе» Яхве см. P. 18 и сл. и n. 1.
Christensen A. Le Premier homme et le premier roi dans l’histoire legendaire des Iraniens. Uppsala, 1918, 1931, 2 vols.; Güntert H. Der arische Weltkönig und Heiland; Schröder F. R. Germanische Schöpfungsmythen // GRM. 1931. Vol. 19. S. 126 и 81–99; Bortzler F. Ymir. Ein Beitrag zu den Eddischen Weltschöpfungsvorstellungen // AFRW. 1936. Vol. 33, №3–4; Koppers W. Das magische Weltschöpfungsmysterium bei den Indogermanen // Van Ginneken‑Festschrift P., 1937. S. 149–155.
Dumont P. L’Aśvamedha, Р., 1927; Negelein J. von. Das Pferd im arischen Altertum. Königsberg i. Pr., 1903; Malten. L Das Pferd im Totenglauben // JKDAI. В., 1914. Vol. 29. S. 179–256; Hindringer R. Weiheross und Rossweihe. Münich, 1932; Koppers W. Pferdeopfer und Pferdekult der Indogermanen // WBKL. 1935. S. 279–411; Bleichsteiner R. Rossweihe und Pferderennen im Totenkult der Kaukasischen Völker // WBKL. 1935. S. 413–495; против тезиса Кейперса, см.: Hauer // AFRW. 1939. Vol. 36. S. 23 и сл.; Wiesner L. Fahren und Reiten in Alteuropa und im Alten Orient // AOR. 1939. 38, №3–4; Wiesner L. Fahrende und Reisende Götter // AFRW. 1941. Vol. 37. S. 36–46; ср.: Schmidt W. Rassen und Völker. Lucerne, 1946–1949. Vol. 2. S. 102 и сл.
Ср. также работы, упомянутые в исследовании: Hermes G. Das gezähmte Pferd im neolitischen und Frühbronzezeitlichen Europa // APS. 1935. Vol. 30. S. 805–823; 1936. Vol. 31. S. 115–129; Hermes G. Das gezähmte Pferd im alten Orient // APS. 1936. Vol. 31. S. 364–394; Flor F, Das Pferd und seine kulturgeschichtliche Bedeutung // Wiener kulturhistorische Studien. 1930. Vol. 1. О культе лошадей в Малой Азии см.: Rostovtzeff S. Siria. Vol. 12. P. 48 и сл.; в Китае и Японии — Erkes E. Das Pferd im alten China // ТP. 1940–1941. Vol. 36; Van Gulik R. H, Hayagriva. The Mantrayanic Aspects of the Horse Cult in China and Japan. Leiden, 1935, особенно P. 41 и сл.
Güntert H. Der arische Weltkönig. S. 253 и сл.; Harris R. The Cult of the Heavenly Twins. Cambridge, 1906; Eitrem S. Die göttlichen Zwillinge bei den Griechen. Christiania, 1902; Cook A. B. Zeus. Vol. 2. P. 1003 и сл.; Chapouthier F. Les Dioscures au service d’une déesse. P., 1935; Keith A. B. Indian Mythology. Boston, 1917. P. 30 и сл.; Krappe A. H. Mythologie universelle. P. 53–100; Krappe A. H. La legende des Harlungen // Etudes de mythologie et de folklore germaniques. P., 1928. P. 137–174; Sternberg. Der antike Zwillingskult im lichte der Ethnologie // ZFE. 1929. Vol. 61. S. 152–200; Sternberg. Der Zwillingskult in China und die indischen Einflüsse // Bossier Archiv. 1929. Vol. 13. S. 31–46; Negelein J. von. Die aberglaubische Bedeutung der Zwillingsgeburt // AFRW. 1906. Vol. 5. S. 271–273; Van Gennep A. Tabou et totémisme à Madagascar. P., 1911. P. 176[462].
Autran С. La Flotte à l’enseigne du poisson. P. 31 и сл.; Dussaud R. Découvertes de Ras Shamra. P. 100; Jeremias A. Handbuch der altorientalischen Geisteskultur. 2nd ed. В., 1929. P. 130 и сл.; Eliade M. Cosmologie si alchimie babiloniana. Bucharest, 1937. P. 26 и сл.; Eliade M. Le Chamanisme et les techniques archaiques de 1’extase. P., 1951. P. 235 и сл.; Eliade M. Images et Symboles. P., 1952. ch. 1; Kirfel W. Die Kosmographie der Inder. Bonn; Leipzig, 1920; Holmberg‑Harva U. Der Baum des Lebens // Annales Academicae Scientiarum Fennicae. Helsinki, 1923. S. 33 и сл.; Burrows E. Some Cosmological Patterns in Babylonian Religion // Hooke S. H. The Labyrinth. L., 1935. P. 43 и сл.; Dombart Т. Der Sakralturm: I // Ziqqurat. Münich; Dombart T. Der babylonische Turm. Leipzig, 1930; Jastrow M. Sumerian and Akkadian Views of Beginnings // JAOS. 1917. Vol. 36. P. 274–299; Van Buren E. Douglas. Mountain Gods // ORA. Rome, 1943. Vol. 12. №1, 2.
В Египте: Budge W. From Fetish to God in Ancient Egypt Oxford, 1934. P. 346; Budge W. The Mummy. 2nd ed. Cambridge, 1925. P. 324, 327; Weill R. Le Champ des roseaux et le champ des offrandes dans la religion funéraire et la religion générale. P., 1936; Muller W. M. Egyptian Mythology. Boston, 1918. P. 176; Eliade M. Le Chamanisme… P. 415 и сл.
В Индии: Coomaraswamy A. Svayamatrnna‑Janua Coeli // CZ. 1939. Vol. 2. P. 1–51; Eliade M. Durodhana and the Waking Dream // Art and Thought: A Volume in Honour of the late Dr. Ananda K. Coomaraswamy. L., 1947. P. 209 и сл.
В Полинезии: Grey Sir G. Polynesian Mythology and Ancient Traditional History of the New Zealanders (a reissue). Auckland, 1929. P. 42 и сл.; Chadwick H. M., Chadwick N. K. The Growth of Literature. Cambridge, 1930. Vol. 3. P. 273 и сл.; Pettazzoni R. The Chain of Arrows; the Diffusion of a Mythical Motive // FRE. Vol. 35. P. 151 и сл.; Pettazzoni R. Saggi di Storia delle Religioni e di Mitologia. Rome, 1946. P. 63 и сл.
В Океании: Dixon R. Oceanic Mythology. Boston, 1916. P. 139, 293 и сл.; Chadwicks. The Growth… Vol. 3. P. 481.
В Африке: Werner A. African Mythology. Boston, 1925. P. 135 и сл.
В Америке: Alexander Н. В. Latin‑American Mythology. Boston, 1920. P. 271, 308; Stith Th. Tales of the North American Indians. Cambridge; Mass., 1929. P. 283, 332 и сл.
Stith Th. Motif‑Index of Folk Literature. Helsinki, 1934. Vol. 3. P. 7–10; Eliade M. Le Chamanisme… P. 423 и сл.
Radlov W. Aus Sibirien: Lose Blätter aus dem Tagebuch eines reisenden Linguisten. Vol. 1–2. Leipzig, 1884. S. 19 и сл.; Czaplicka M. A. Aboriginal Siberia. Oxford, 1914; Holmberg‑Harva U. Der Baum des Lebens // Annales Academiae Scientarum Fennicae. Helsinki, 1923; Holmberg‑Harva U. Die Religion der Tcheremissen. Porvoo, 1926. P. 108 и сл.; Holmberg‑Harva U. Die religiösen Vorstellungen der altaischen Völker. Helsinki, 1938; Kopruluzade M. F. Influence du chamanisme turco‑mongol sur les ordres mystiques musulmans. Istanbul, 1929; Chadwick N. K. Shamanism among the Tartars of Central Asia // JRAI. 1936. Vol. 66. P. 75 и сл.; Schmidt W. Der Ursprung… Vol. 9. S. 278 и сл.; Vol. 10. S. 231 и сл., 321 и сл.; Eliade M. Le Chamanisme… P. 175 и сл.[463]
Глава III
СОЛНЦЕ И ПОКЛОНЕНИЕ СОЛНЦУ
36. ИЕРОФАНИИ СОЛНЦА И ИХ РАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ
Когда‑то, еще в то время, когда изучение истории религий находилось в зачаточном состоянии, полагали, что поклонение Солнцу — явление, свойственное всему человечеству. Первые исследования по сравнительной мифологии раскрыли его следы практически везде. Однако в 1870 г. Бастиан[464], весьма авторитетный этнолог, пришел к выводу, что при строгом подходе поклонение Солнцу можно обнаружить лишь в немногих регионах Земли. А спустя полвека сэр Джеймс Фрэзер, обратившись к этой проблеме в связи со своими кропотливыми исследованиями в области поклонения Природе, подметил отсутствие каких либо точек соприкосновения между различными солярными элементами, встречающимися в Африке, Австралии, Меланезии, Полинезии и Микронезии[465]. То же самое характерно и для обеих Америк. Фактически только в Египте, Азии и первобытной Европе то, что мы называем поклонением Солнцу, стало настолько распространенным, что по временам возвышалось (как, например, в Египте) до господствующего положения.
Учитывая, что по ту сторону Атлантического океана солярная религия была развита лишь в Перу и Мексике, т. е. лишь у двух «цивилизованных» народов Америки, единственных, которые достигли определенного уровня реальной политической организованности, — принимая это во внимание, нельзя не разглядеть некоторую связь между преобладанием культа Солнца и тем, что мы бы назвали «исторической» судьбой. Можно сказать, что там, где благодаря владыкам, героям или империям «история находится на марше», Солнце главенствует. С целью объяснения этого параллелизма между поклонением Солнцу и историческим распространением цивилизации было выдвинуто множество гипотез, порой откровенно фантастических. Кое‑кто говорил даже о «детях Солнца», которые постоянно кочуют по Земле, сея одновременно культ Солнца и основные принципы цивилизации[466]. Мы не будем, как и раньше, затрагивать проблему «истории»; заметим лишь, что если небесные фигуры встречаются практически по всему миру, то божественные солнечные фигуры обнаруживаются сравнительно редко.
Чуть ниже мы вернемся к этим фигурам; однако прежде всего мы должны избежать одного ошибочного взгляда, который может легко трансформироваться в ошибочную методологию. С одной стороны, необходимо помнить, что солярные божественные фигуры (боги, герои и т. д.) исчерпывают иерофании Солнца не в большей степени, чем какие‑либо другие фигуры исчерпывают иерофании, частью которых являются. С другой стороны, мы должны понять, что, в отличие от иных природных иерофаний, таких как Луна или Вода, — сакральная значимость Солнца не всегда ясна современному западному складу ума. Уточним: то, что понятно, а следовательно, легко схватывается в любой солнечной иерофании, — это, как правило, лишь ее выхолощенные остатки после длительного процесса рационального объяснения, доходящие до нас через язык, обычаи и культуру. Солнце превратилось в общее место смутных представлений о религиозном опыте, а солярный символизм сводится в основном к ряду жестов и фраз, лишенных важного жизненного содержания.
В наши планы не входит объяснение тех изменений, которые трансформировали исходную структуру солнечной иерофании в представлении современного человека; следовательно, мы не собираемся проводить анализ того, как изменились за последние несколько веков — в результате открытия важных астрономических и биологических функций Солнца — отношение к нему человека, те связи, которые человек устанавливает с Солнцем через собственный непосредственный опыт, и сама природа солярного символизма. Приведем лишь один пример: интеллектуальная деятельность еще со времен Аристотеля была по возможности направлена на то, чтобы притупить наше восприятие тотальности солнечных иерофаний. То, что произошло с культом Луны, доказывает, что эти новые интеллектуальные ориентиры не обязательно препятствуют самому опыту, связанному с иерофанией. Действительно, никто не станет утверждать, что человек Нового времени ipso facto (в силу самого факта) невосприимчив к лунным иерофаниям. Напротив, мы так же четко, как и первобытные люди, видим, как сочетаются между собой символы, мифы и ритуалы, связанные с Луной. Возможно, тот факт, что менталитеты «первобытного» и «современного» человека столь схожим образом воспринимают сакральную значимость Луны, связан с сохранением, даже в предельно рационалистичном уме, того, что называется «ночной сферой разума». Луна, таким образом, воздействует на тот пласт человеческого сознания, который не затрагивается даже самым въедливым рационализмом[467].
Верно, что в «дневной сфере разума» доминирует солярный символизм; притом, как правило, такой, который, хотя и не всегда конструируется искусственно, часто представляет собой результат цепочки рассуждений. Это не означает, что любой рациональный элемент в иерофаниях Солнца обязательно является поздним, искусственным наслоением. Как мы видели выше, разум играет важную роль даже в наиболее примитивных иерофаниях, а религиозный опыт не является априорно несовместимым с тем, что доступно пониманию. Что действительно есть позднее и абсолютно искусственное наслоение — так это эксклюзивное превосходство разума. Ведь религиозная жизнь, которую можно вкратце определить как опыт, связанный с кратофаниями, иерофаниями и теофаниями, влияет на жизнь человека в целом, и было бы неестественным пытаться поделить эту целостность на отдельные области и даже создать их иерархию. Убедительное доказательство этого — первобытные солнечные иерофании. Как мы увидим, они демонстрируют определенное восприятие реальности как единого целого, равно как и последовательную, доступную пониманию структуру сакрального. Однако это понимание ни в коем случае нельзя свести к ряду «очевидных истин» или к какого‑либо рода опыту, не связанному с иерофаниями. Приведем пример: связи между Солнцем и темнотой, или между Солнцем и умершими, или же специфически индийский бином «Змей–Солнце»[468] основаны на восприятии жизни и реальности как единого целого и никогда не станут понятны с чисто рациональной точки зрения[469].
37. «СОЛЯРИЗАЦИЯ» ВЕРХОВНЫХ СУЩЕСТВ
В предыдущей главе (§ 17) мы рассмотрели тенденцию к удалению верховных небесных существ с переднего плана религиозной жизни и замене их на магическо–религиозные силы или на более активные, более полезные и, как правило, более близкие к «жизни» божественные фигуры. На самом деле пассивность, подмеченная нами в верховных существах, — это, как показано в ее анализе, всего лишь их явное безразличие ко всем нетривиальным превратностям человеческой судьбы. Нуждаясь в защите (против вражеской силы, заклятий и проч.) и в реальной помощи (ибо ему требуется для поддержания жизни уверенность в помощи магии плодородия и т. д.), человек чаще обращается к другим религиозным «формам» и постепенно начинает все более и более зависеть от предков, культурных героев, Великих богинь, магическо–религиозных сил (таких, как мана), космических центров плодородия (Луна, Воды, Растительность и т. д.). В результате по всему индо–средиземноморскому ареалу мы наблюдаем, как верховная небесная фигура заменяется на бога небесных явлений и бога–оплодотворителя, супруга (иногда просто прислужника или подчиненного) Великой Матери–Земли (или Луны, или Растительной жизни), иногда — на Отца — бога растительности.
Этот переход от «Творца» к «оплодотворителю», это перетекание всемогущества, трансцендентности и бесстрастия Неба в динамизм, энергию и драматизм новых атмосферных, оплодотворяющих, вегетативных фигур весьма многозначителен. Он четко показывает, что один из главных факторов принижения бога в глазах человека, более всего очевидный в аграрных обществах, — это все возрастающее значение жизненных ценностей и жизни как таковой в менталитете человека практики. Беря исключительно индо–средиземноморский ареал, можно сделать небезынтересное наблюдение, что в верховных богах Месопотамии часто сочетались прерогативы как оплодотворителей, так и богов Солнца. Наиболее известный пример такого бога — Мардук[470]. Однако это характерно и для других богов того же типа, т. е. для тех, которые находятся в процессе принятия на себя верховной власти. Можно даже сказать, что эти боги растительности также обладают солярными атрибутами, постольку поскольку мистика и мифы о верховном владычестве содержат растительные элементы[471].
Сочетание элементов Солнца и растительности убедительно объясняется тем, что к функциям Верховного владыки прибавляют функцию хранения и распределения «жизни» как на космическом, так и на социальном уровне. Таким образом, процесс постепенного превращения небесных божеств в божества солнечные — это такой же процесс, как и превращение их, в других условиях, в богов атмосферы и плодородия. Так, хеттский Бог Неба уже в самый ранний период своего существования испытывал сильнейшую тенденцию к превращению в Бога Солнца[472] и тяготел к космическому и биологическому верховному владычеству, т. е. обладал чертами бога растительности, позволившими ему вклиниться в образ Бога–Царя–Древа Жизни[473].
В любом случае подобные процессы происходили и раньше и чаще, чем об этом свидетельствуют данные по Ближнему Востоку, где, как следует помнить, превалировала мистика верховного владычества. Уже на самых ранних стадиях развития в первобытных культурах начинается передача атрибутов бога Неба богу Солнца, равно как и слияние с богом Солнца Верховного существа. Радуга, столь часто принимаемая за небесную эпифанию (§ 14), ассоциируется с Солнцем и, как, например, у огнеземельцев, становится «братом Солнца»[474]. Еще чаще можно обнаружить родство между Верховным богом Неба и богом Солнца. У пигмеев семангов, огнеземельцев и бушменов Солнце — это «глаз» Верховного бога[475]. В ведийской Индии и других местах также происходило нечто подобное (см. об этом ниже). У племен вирадьюри и камиларои, живущих в Юго–Западной Австралии, Солнце считают самим Грогорагалли (сыном Творца, божественной фигурой, благоволящей к человечеству);[476] однако (несомненно, под влиянием матриархата) Луна считается вторым сыном Верховного существа[477]. Самодийцы считают Солнце и Луну глазами Нума (т. е. неба); Солнце — это добрый глаз, Луна — злой глаз[478]. Юраки, населяющие тундру вокруг Обдорска (Салехарда), при первом появлении Солнца зимой устраивают большой праздник, однако жертвы на нем приносятся Нуму; это показывает, что изначально эта церемония была связана с небом. Лесные юраки считают Солнце, Луну и «громовую птицу» символами Нума; дерево, на котором вывешиваются приносимые в жертву головы животных, называется «деревом Солнца», хотя первоначально это жертвоприношение совершалось в честь Нума[479]. У чукчей Солнце заняло место Верховного божества; главные жертвы приносятся добрым духам, прежде всего солнечному свету. Согласно Гахсу, поклонение Солнцу по всей Северной Азии распространилось стараниями тех же чукчей и юкагиров.
38. АФРИКА И ИНДОНЕЗИЯ
Превращение Верховного небесного существа в бога Солнца[480] — явление, широко распространенное в Африке. Целый ряд африканских племен зовут Солнцем свое Верховное существо[481]. Иногда, например у племени мунши, Солнце считается сыном Верховного существа Авондо, а Луна — его дочерью[482]. Однако баротсе считают Солнце «местом обитания» Бога Неба Ньямбе, а Луну — его женой[483]. В других местах бог Неба ассимилируется с Солнцем, просто–напросто сращивается с ним; так, у племени луо Бог Ньямбе — это и есть Солнце[484], а у кавирондо Солнце замещает собой Верховное существо[485]. Каффа до сих пор называют свое Верховное существо Або, что значит одновременно «Отец» и «Солнце», и видят в Солнце его воплощение. Однако, согласно Ф. — Х. Биберу[486] (одному из известных специалистов в этой области), такая «соляризация» есть не более чем плод позднейшего развития; первоначально же Або был Богом Света или Богом Неба.
Любопытно заметить, что, хотя Верховный бог Африки и превратился в бога Солнца, он все равно перестал играть важную роль в религиозной жизни. У различных бантуских племен Восточной Африки, в частности у килиманджарского племени вачагга, Верховное существо зовут Рува (что значит «Солнце»); оно действительно живет на Солнце, однако до сих пор сохранило некоторые черты, связанные с Небом, включая пассивность, столь типичную для богов Неба; поэтому Руву почитают ничуть не в большей степени, чем этих богов; ему приносят жертвы и возносят молитвы лишь в случае крайней необходимости[487].
Такую же субституцию можно обнаружить и в Индонезии. Пуэмпалабуру, Бог Солнца у племени тораджи, постепенно вытесняет Бога Неба Илаи и продолжает его работу по сотворению мира[488]. Это повышение Бога Солнца в ранг демиурга почти совпадает с соответствующим явлением в Америке, у племени тлинкит, где демиург в образе ворона идентифицируется с Солнцем и получает от Верховного Небесного Бога, чьим слугой или сыном является, поручение продолжить и завершить начатый этим Богом процесс Творения[489]. Этот элемент динамики и организации, который появляется у солнечного божества, на другом уровне соответствует элементу плодородия у богов атмосферы (§ 26). Однако бог Солнца обладает не большей творческой силой, чем они; подобно им, он подчиняется Творцу и лишь владеет «мандатом» последнего на завершение процесса Творения. Тем не менее солярный демиург получил то, что не досталось большинству богов Солнца, которые заменили Верховное существо или слились с ним: больший вес в религиозной жизни и мифологии. Достаточно лишь напомнить о ключевой позиции, занимаемой Вороном в североамериканской мифологии, и Орлом (субститутом или символом Солнца) в северной и североазиатской мифологии[490].
39. СОЛЯРИЗАЦИЯ У МУНДА
Самый наглядный пример превращения Верховного существа в Бога Солнца обнаруживается у коларских племен Индии. Бенгальские мунда ставят Солнце — Синг–Бонгу — во главе пантеона. Это весьма снисходительный Бог, он не вмешивается в людские дела, но тем не менее он также имеет свой культ. Ему приносят в жертву белых козлов или белых петухов, а в августе, когда собирают урожай риса, ему предлагают первые плоды земли[491]. Он женат на Луне; его считают инициатором Творения, хотя в самом космогоническом мифе участвуют подчиненные ему демиурги — черепаха, краб и пиявка, которые по приказу Синг–Бонги поочередно подносят ему почву со дна океана[492].
Племена кхонда, живущие в провинции Орисса, почитают Верховного Бога–Творца Бура Пенну («Бога Света») или Бела Пенну («Бога Солнца»); процессу соляризации здесь способствует благожелательная и по большей части пассивная природа этого божества — культ Бела Пенну отсутствует[493]. Бирхоры, живущие в Чхота Нагпуре, приносят в жертву своему Верховному Божеству, Богу Солнца, белых козлов или кур, особенно во время бедствий или для обеспечения хорошего урожая. Как можно догадаться, наличием жизнеспособного культа Верховное существо, связываемое с Солнцем, обязано той роли, которое оно играет в механизме «произведения жизни». Это отчетливо видно из молитв, сопровождающих возлияния и жертвы, предлагаемые ему. При рождении ребенка его отец совершает возлияние водой, обращается лицом на восток и одновременно произносит следующее: «О Синг–Бонга, я посвящаю тебе это возлияние водой. Да потечет из груди матери молоко, подобно этой воде!»[494] А для обеспечения хорошего урожая риса глава семьи так обещает принести в жертву белую курицу: «Я даю тебе этот обет, о Синг–Бонга. Пусть вырастет зерно в изобилии, а я принесу тебе в жертву эту белую птицу во время молотьбы». Затем он отпускает белую курицу и приносит в жертву черную. То, что это жертвоприношение происходит в день полнолуния в месяце Байшак (апрель — май), не оставляет никакого сомнения относительно его смысла: черную курицу приносят в жертву божеству земли и полей, которому полностью подчинено плодородие почвы[495]. Это типичный пример того, что происходит с Верховным существом, когда оно соприкасается с Солнцем. Солнце само превращается в Верховное существо, замещая всемогущую, творящую небесную фигуру. Наличие поклонения богу Солнца обязано прежде всего его оплодотворяющей силе; однако и в этом случае его не считают непогрешимым, ибо верующие предусмотрительно взывают также к силам Луны, Земли и полей, распоряжающимся плодородием.
Солнце также является Верховным существом у ораонов, другого племени мунда, которые называют его Дхармеш. Основная составляющая их религиозной жизни — это, несомненно, ублажение духов, бхут[496]. Тем не менее, как и в случае с богами Неба, когда помощь прочих магическо–религиозных сил оказывается сомнительной, ораоны обращаются к Дхармешу: «Ныне мы испытали все, но есть еще ты, могущий помочь нам!» И ему приносят в жертву белого петуха, восклицая: «Боже, ты — наш Творец, сжалься над нами!»[497] В ходе недавних исследований выяснилось, что у племен мунда было и настоящее, исконное Верховное существо, относительно поздно вытесненное божествами Солнца и Луны. Согласно Боддингу, слияние Верховного Бога племени санталов Тхаккура и Бога Солнца (это новое Верховное существо также называют Чханда — «солнце») также представляет собой продукт позднейшей эволюции. Раманн исследовал эту соляризацию и лунаризацию Верховных существ среди племен мунда и гондов. А Кейперс в известном сравнительном исследовании («Бхагван, Верховное божество бхилов») пытается доказать не только исконный характер Верховных божеств, обнаруживаемых у додравидийских и доарийских племен, но также и возможное их влияние на пантеон индоевропейских завоевателей[498].
40. СОЛЯРНЫЕ КУЛЬТЫ
В Индонезии и на Малаккском полуострове поклонение Солнцу встречается очень редко. Мы уже привели несколько примеров «соляризации» индонезийских Верховных существ (§ 38). Тимор и близлежащие острова — единственные исключения из этого правила. Там Бог Солнца все еще играет важную роль, хотя в религиозной жизни, как и в остальной Индонезии, доминирует почитание умерших и духов природы. На Тиморе «Господин Солнце» Уси–Нено — муж «Госпожи Земли» Уси–Афу, и от их союза произошел весь мир. Тем не менее большая часть приносимых им жертв все равно достается Богине Земли; Солнцу посвящено лишь одно ежегодное великое жертвоприношение при сборе урожая[499].
На острове Ветар, к северу от Тимора, Верховное существо, хотя и соляризованное, все еще сохраняет следы изначальной небесной природы; его называют «великий господин» или «старик в вышине» (ср. § 12 и сл.). Он живет в небесных чертогах, но также и на Солнце и воплощает в себе идею мужественности, в то время как Земля олицетворяет женское начало. Представление о нем аборигенов очень расплывчато, и жертвы ему приносят только в случае болезни[500], что, несомненно, свидетельствует об определенном отходе Верховных небесных существ с переднего плана религиозной жизни.
К востоку от Тимора, на островах Лети, Сармата, Бабер и Тимор Лаут, Солнце рассматривают как главнейшее божество и называют его Упулере — «Господин Солнце». Здесь также Бог Солнца остался жизнеспособным лишь потому, что трансформировался в оплодотворителя. В его культе до сих пор сохранились черты исходного величия и чистоты: у Упулере нет изображений, и ему поклоняются в образе светильника, сделанного из листьев дерева какао. Тем не менее все ритуальные моления, обращенные к нему, сосредоточены на ниспослании в мир плодородия. Раз в год, в начале сезона дождей, в честь Упулере устраивается грандиозное празднество; оно длится целый месяц, а целью его является обеспечение дождя, плодородия полей и богатства общества. Жители этих островов верят, что во время празднества Солнце садится на фиговое дерево для оплодотворения своей жены — Матери–Земли. Чтобы облегчить ему спуск, на фиговом дереве устанавливается семиступенчатая лестница (выше мы уже упоминали о небесном символизме семиступенчатой лестницы, см. § 31). Затем перед этим фиговым деревом приносят в жертву свиней и собак, и, наконец, посреди пения и танцев разыгрывается коллективная оргия, обычно сопровождающая земледельческие мистерии (§ 138). Молитвы, сопровождающие ее, показывают, что Солнцу придаются функции оплодотворителя и надзирателя за распределением пищи: «О Господин (или Дед) Солнце, снизойди к нам! На фиговом дереве появились почки; старые почки стали листьями и опали. Свиное мясо готово и разрезано на куски. Лодки в деревне полны до краев подношениями. Господин (Дед) Солнце, тебя приглашают на праздник. Режь и ешь… Пей же!.. Иди же, Господин (Дед) Солнце! Мы ожидаем, что ты щедро оделишь нас слоновой костью и золотом. Пусть козы приносят по два или по три козленка сразу. Пусть число достойных растет, пусть число народа растет и множится. Замени мертвых коз и свиней живыми. Насыпь нового риса и бетеля взамен того, что вышел. Наполни пустую корзинку для риса, наполни пустую кадушку для саго… (и т. д.)»[501].
41. ПОТОМСТВО СОЛНЦА
Упулере также способен рожать детей[502]. Более того, на Тиморе некоторых вождей зовут «детьми Солнца»[503], а сами они утверждают, что происходят непосредственно от Бога Солнца. Нельзя забывать об этом мифе сотворения человека Солнцем, равно как и о прямых связях между богом Солнца и определенными классами людей. Эта привилегия не принадлежит исключительно богу Солнца; как мы покажем ниже, благодаря диалектике иерофаний в любой области природы, будь то вода, земля, растительная жизнь, — можно найти функцию, имеющую отношение к сотворению человека; любая из этих сфер воспринимается человеком как абсолютная реальность и в то же время как изначальный источник, из которого он черпает бытие и жизнь.
Однако в случае с Солнцем эта генеалогия указывает на нечто большее: она отражает перемены, произошедшие в связи с соляризацией Верховного существа или с превращением Солнца в «оплодотворителя» и «частичного Творца», которого монополизируют те или иные круги человеческого общества или даже определенные кланы, например, вождей или царей. Так, у австралийского племени арунта Солнце (женское божество) играет большую роль, чем Луна (мужское божество), поскольку «считается, что оно связано определенными родственными узами с каждым отдельным членом различных [общественных] групп»[504]. Племя лоритая[505] и юго–восточные племена[506] также верят в существование таких родственных уз. То, что австралийцы называют «определенными родственными узами с каждым отдельным членом общества» (ибо человек как таковой есть прямое творение самого Верховного божественного существа, см. § 12 и сл.), в других местах выкристаллизовывается в непосредственную родственную связь с праотцом или родоначальником, например у индейцев блэкфут (черноногих) и арапахо[507]. Индийские корку объявляют себя потомками союза между Солнцем и Луной[508]. Подобные же родословные обнаруживаются и в более развитых обществах, но исключительно у властителей и знати. В Австралии, однако, взаимоотношения человека и Солнца имеют возможность крепнуть на другой основе, ибо человек может идентифицироваться с Солнцем благодаря церемонии инициации. Посвящаемый мажет голову красной краской, рвет на себе волосы и бороду, разыгрывает символическую смерть и оживает на следующий день во время восхода Солнца; эта инициационная драма отождествляет его с солнечным героем Грогорагалли, сыном Творца[509].
42. СОЛНЦЕ КАК ВЕРХОВНЫЙ ЖРЕЦ И ПСИХОПОМП (ПРОВОДНИК ДУШ УМЕРШИХ)
Вышеприведенная австралийская церемония вводит новый существенный элемент, объясняющий роль, которую играет Солнце во множестве других культур и исторических контекстов. У различных австралийских племен Солнце связано родственными узами с каждым отдельным членом общества. У племен вирадьюри и камиларои, находящихся на более низкой стадии развития, чем племена арунта и лоритья, взаимоотношения человека с Солнцем строятся на принципиально иной основе: их цель — слияние инициированного с солярным героем, сыном Верховного небесного существа. Таким образом, инициация в определенном смысле делает человека сыном Верховного существа; точнее, он заново возрождается в этом качестве после ритуальной смерти, из которой восстает, уже будучи отождествленным с Солнцем. Это доказывает, что в религиях таких первобытных племен, как вирадьюри и камиларои, Верховное существо стоит выше Солнца и поручает ему спасать человека посредством инициации; но это доказывает и кое‑что еще, а именно то, что Солнце все еще может играть важную роль в сфере погребальных верований, во всем том, что касается состояния человека после смерти. Кроме того, Грогорагалли по отдельности представляет все души умерших Верховному существу;[510] он вправе так поступать потому, что они уже инициированы, т. е. уже прошли через смерть и воскресение, и каждый из них уже стал «Солнцем». Солнце, таким образом, становится прототипом «мертвеца, каждое утро заново встающего живым». Из этого возведения Солнца в ранг Бога (героя), который не умирает (как Луна), а каждую ночь проходит через царство смерти и возвращается на следующий день вечным и неизменным, проистекает целый ряд верований, связанных с инициацией и верховной властью (о них мы будем говорить ниже).
Закат не считается «смертью» Солнца (в отличие от трех дней скрытой Луны); закат — это спуск Солнца в низшие сферы, в царство мертвых. Опять же в отличие от Луны Солнце обладает исключительным правом проходить через преисподнюю, не будучи в состоянии смерти. Его предопределенное путешествие по низшим сферам придает ему некоторые преимущества в связи со смертью и погребением. Так, даже в том случае, когда Солнце больше не занимает первое место в пантеоне или в религиозном опыте какой‑либо цивилизации, подобно Верховному существу, трансформировавшемуся в бога Солнца или оплодотворителя, оно все же демонстрирует определенную амбивалентность, дающую ему возможность подвергаться дальнейшим модификациям.
Эту амбивалентность можно выразить приблизительно так: хотя Солнце и бессмертно, оно каждую ночь спускается в царство мертвых; следовательно, оно может уводить вместе с собой людей и умерщвлять их на закате; с другой стороны, оно может также сопровождать души по низшим сферам и возвращать их обратно на рассвете следующего дня. В этом и заключается его двойная функция — функция психопомпа, который «убивает», и верховного жреца, который проводит инициацию. Таким образом, можно объяснить верование, широко распространенное в Новой Зеландии и на Новых Гебридах, согласно которому от одного лишь взгляда на заходящее Солнце может последовать смерть[511]. Солнце приближает к себе все сущее, оно «засасывает» души живых людей столь же легко, как сопровождает души умерших, проводя их через западные «ворота Солнца». Аборигены Торресова пролива верят в существование где‑то на Западе мифического острова Кибу («ворота Солнца»). Туда ветер относит души умерших[512]. На островах Герви аборигены полагают, что мертвецы собираются вместе и дважды в год, в день солнцестояния, стараются на закате проникнуть вслед за Солнцем в низшие сферы[513]. На других островах Полинезии западный берег считается «местом, откуда спрыгивают вниз души»[514].
В Океании также повсеместно считают, что мертвецы тонут вместе с Солнцем в океане, уносятся на «лодках Солнца» или что царство мертвых находится там, где садится Солнце[515]. Ясно, что не все души, «ныряющие в закат», имеют одну и ту же участь; не все достигают того, что можно назвать «спасением». Именно здесь возникают искупительная сила инициации и важная роль различных тайных обществ в отделении избранников от аморфной массы обычных людей (отделение, выражаемое через мистику верховной власти и «детей солнца»). Так, на островах Герви Солнце уносит на Небо только погибших в битве; все остальные мертвецы поглощаются богами подземного мира Акарангой и Киру[516].
Дихотомия «герой (инициированный) — умерший естественной смертью» имеет важное значение для истории религии; в следующих главах мы еще к ней вернемся. Что же касается Океании, упомянем только, что уже давно было замечено[517] наличие у одних и тех же племен одновременно следов культа Солнца и культа предков: эти культы выражаются преимущественно в возведении мегалитических памятников. Но Риверс обнаружил также в Полинезии и Меланезии весьма тесную связь между местами установления мегалитических памятников и тайными обществами[518]. А мегалитические памятники неотделимы от поклонения Солнцу. Например, на островах Общества мегалиты (мараэ) обращены на восход, равно как и фиджийские нанга, в то время как на Банковых островах существует обычай обмазывать мегалит красной глиной, чтобы Солнце засветило вновь[519]. Культ предков (почитание умерших), тайные общества с их инициациями, обеспечивающими счастливую участь после смерти, и, наконец, поклонение Солнцу — эти три фактора, на первый взгляд имеющие совершенно различную генеалогию, тем не менее тесно связаны; все они присутствуют одновременно даже в наиболее примитивных солнечных иерофаниях, например в Австралии[520].
Необходимо помнить о факте социального выбора, отбора, связанного с инициацией и погребальными церемониями, осуществляемыми во имя Солнца. Не надо забывать и о том, что в различных частях мира вожди обычно считались потомками Солнца: полинезийские вожди[521], главы племен натчезов и инков[522], хеттские цари (к которым обращались: «мое Солнце»), вавилонские цари (вспомним каменную табличку Набу–апла–иддина) и индийские цари[523] — все они носили титул и имели образ «Солнца», «детей Солнца», «внуков Солнца»; иногда они даже мистическим образом воплощали в себе Солнце, как, например, индийские цари. У африканских пастухов масаи[524], как и в Полинезии[525], после смерти с Солнцем могли отождествляться только вожди. Отбор обязательно производился либо через ритуальную инициацию тайного общества, либо через инициацию, право на которую дает верховная власть. Хороший пример тому — египетская солярная религия, на которой стоит остановиться поподробнее.
43. ЕГИПЕТСКИЕ КУЛЬТЫ СОЛНЦА
В египетской религии поклонение Солнцу доминировало в большей степени, чем в какой‑либо другой. Бог Солнца очень рано поглотил различных божеств, таких как Атум, Гор и бог–скарабей Хепри[526]. Начиная с пятой династии, такой процесс стал обычным: огромное количество божеств слилось с Солнцем, в результате чего возникли «соляризованные» фигуры Хнум, Мин–Pa, Амон–Ра и т. д.[527] Вряд ли здесь уместно обсуждать конкурирующие гипотезы Кеса и Зете об исторических источниках солярной доктрины. Все сходятся на том, что эта доктрина достигла зенита при пятой династии и что ее успех поддерживал как идею верховной власти, так и положение жрецов Иерополя. Но, как показывают многочисленные недавние исследования, верховными в Египте раньше считались многие другие божественные фигуры — более древние и даже более демократичные в том смысле, что они никогда не были связаны с какой‑либо одной привилегированной группой людей»[528].
Уже давно признано, что Шу, Бог атмосферы и, следовательно, изначально небесная фигура, позже отождествлялся с Солнцем. Но Уэйнрайт полагает, что и Амон на самом раннем этапе развития также был Богом Неба, а по мнению X.Юнкера, Ур (wr), чье имя означает «Великий», был древним Верховным небесным существом; действительно, иногда Ур берет в жены богиню Нут, «Великую» (wrt), например, в мифе о космической чете — Небе и Земле (ср. § 84). Полное отсутствие каких‑либо упоминаний об Уре на общественных (следовательно, официальных) памятниках проистекает из его статуса народного Бога. Юнкер пытается даже воссоздать по фрагментам историю Ура. Вкратце это история о том, как он постепенно утрачивает верховную власть, все время дробясь по локальным теологиям: то становится помощником Ра (например, излечивает глаза Солнцу, которое на время ослепло), то предельно сближается с Атумом и, наконец, с самим Ра. Наших знаний недостаточно для того, чтобы принять участие в дискуссии, вызванной исследованиями Юнкера. Однако, по нашему мнению, о них следовало упомянуть, поскольку такие египтологи, как Капар и Кес, очевидно, согласны с ним по главным вопросам.
С точки зрения истории религии судьба Амона и Ура объясняется очень просто: мы уже показывали, как верховные существа небесной природы испытывают тенденцию (если только они не угасают вообще) к превращению либо в богов плодородия и явлений природы, либо в богов Солнца.
Как мы уже сказали, возвышению Ра способствовали два главных фактора: иеропольская теология и мистика верховной власти, отождествлявшая владыку с Солнцем. Ценное доказательство этого — соперничество, некоторое время продолжавшееся между Ра, как солярным Богом и Богом погребения властителей, и Осирисом. Считалось, что Солнце садилось на Поле Подношений или Поле Отдыха, а на следующий день поднималось с противоположной стороны неба — с Поля Тростника. Эти солярные сферы, которыми в додинастический период правил Ра, во время третьей и четвертой династий также получили погребальную значимость. Именно с Поля Тростника душа фараона отправлялась в Небо на встречу с Солнцем, которое должно было сопровождать его до Поля Подношений. Первоначально это восхождение было достаточно сложным. Несмотря на свою божественную природу, фараону приходилось сражаться со стражем Поля — Быком Подношений за право поселиться на Небе. В Текстах Пирамид[529] упоминается об этом героическом испытании инициационного характера, которое приходится пройти фараону.
Со временем, однако, в памятниках перестали упоминаться поединки с Быком Подношений, а об умершем сообщалось, что он поднимался на Небо[530] по лестнице или даже плыл по звездным морям в сопровождении Богини и в образе сияющего быка вплоть до Поля Подношений. Это начало вырождения мифа о героической инициации (возможно, включавшей также определенный ритуал) в политическую и социальную привилегию. Право на верховную власть и достижение солнечного бессмертия уже не принадлежит фараону как «герою»; бессмертие достается ему автоматически как верховному правителю, и ему больше не требуется доказывать свой героизм. Это легальное закрепление привилегированного статуса фараона после смерти как бы уравновешивается победным возведением Осириса в ранг «неаристократического» Бога смерти. Здесь не место обсуждать конфликт между Ра и Осирисом, однако он очевиден уже из Текстов Пирамид. «Ты открываешь свое место на небе среди звезд небесных, ибо ты — это звезда… Ты наблюдаешь за Осирисом, ты управляешь мертвыми, ты держишься вдали от них, ты не один из них», — все это, как можно догадаться, пишет апологет прав властителя и солярной традиции[531].
Новый Бог, хотя он и был популярен (т. е. доступен любым социальным классам), не стал от этого менее могущественным, и фараон решает, что было бы благоразумно просить у Солнца защиты от топора Осириса: «Ра–Атум да не отдаст тебя Осирису, который не будет судить твое сердце и не властен над твоим сердцем… Осирис, ты не завладеешь им, твой сын [Гор] не завладеет им…»[532] Запад, куда отправляются умершие, становится сферой Осириса, в то время как Солнце остается на Востоке. И в Текстах Пирамид почитатели Осириса восхваляют Запад и пренебрежительно говорят о Востоке: «Осирис не ходит по восточным местам; он ходит по местам Запада, по дороге тех, кто следует за Ра»;[533] это полная противоположность тому, что заповедано в солярной погребальной доктрине. Действительно, испытание превращается в профанацию древней формулы, в которой понятия меняются местами: «Не ходи по тропам Запада; те, кто отправляются по ним, не идут вперед; но ходи по тропам Востока, по тропам тех, кто следует за Ра»[534].
Со временем количество этих текстов возросло. Солнце активно сопротивлялось и в конце концов выиграло сражение. Осирис, которому положено было «предъявлять права» на два небесных поля просто потому, что они всегда считались сферой смерти, в конце концов отказался от них. Однако отступление — это не поражение. Ведь Осирис пытался завладеть Небом потому, что солярная теология представляла Небо как арену, необходимую фараону для достижения бессмертия. Эсхатологическая миссия Осириса, хотя она и отличалась коренным образом от героического завоевания бессмертия (впоследствии выродившегося в автоматическое обретение бессмертия царской персоной), заставляла его вести души, которые он хотел спасти от исчезновения, по небесной, солярной тропе. В любом случае Осирис лишь завершал «гуманистическую» революцию, которая уже изменила эсхатологическое мышление в Египте. По сути дела, идея героического характера бессмертия, требующего инициации и предлагаемого лишь той горстке привилегированных персон, которые должны были добиться его в борьбе, превратилась в идею предоставления бессмертия всем привилегированным персонам. Осирис развил этот сдвиг в понятии бессмертия еще дальше в сторону «демократизации»: бессмертия может достичь любой, кто выйдет победителем из испытания. Теология Осириса подхватила и развила понятие испытания как sine qua non жизни после смерти; однако испытание героическое, инициационное (поединок с Быком) было заменено на испытания этико–религиозные (свершение добрых поступков и т. д.). Архаическая теория героического бессмертия уступила место новой концепции, более скромной и более человечной.
44. КУЛЬТЫ СОЛНЦА В КЛАССИЧЕСКИХ ВОСТОЧНЫХ СТРАНАХ И В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ
Мы бы не останавливались так подробно на конфликте между Ра и Осирисом, если бы его анализ не был столь важен для анализа природы упомянутых выше тайных обществ, связанных с Солнцем и со смертью. В Египте Солнце до самого конца так и осталось психопомпом привилегированного класса (семьи владыки); тем не менее поклонение Солнцу все еще играло ведущую роль в египетской религии в целом — во всяком случае, как она зафиксирована в изображениях и письменных памятниках. В Индонезии и Меланезии все было по–другому: там Солнце одно время было психопомпом для всех членов тайных обществ, прошедших инициацию; однако, хотя оно и играет важную роль, не менее важную роль в этих тайных обществах играют также «предки», которых Солнце ведет по западной дороге. Оперируя египетскими терминами, можно сказать, что это — совмещение Ра и Осириса, причем не умаляющее престижа Солнца; не следует забывать, что связь Солнца с потусторонним миром, со сферами тьмы и смерти отчетливо видна уже в наиболее ранних солярных иерофаниях и очень редко теряется из виду.
Хороший пример функционирования подобной системы — Бог Шамаш, который в месопотамском пантеоне стоит ниже Сина, Бога Луны, и считается его сыном; он никогда не играл значительной роли в мифологии[535]. Тем не менее в вавилонских солярных иерофаниях еще можно найти следы его первоначальной связи с потусторонним миром. Шамаша зовут «Солнце этимме» (душ усопших); о нем говорят, что он «оживляет мертвых»[536]. Он Бог правосудия и «Господин суда» (бел–дини). С самого раннего времени его храм называли «домом Судьи над страной»[537]. С другой стороны, Шамаш — Бог оракулов, покровитель пророков и предсказателей;[538] эта черта всегда связана с миром умерших и сферами земли и погребения.
В Греции и Италии Солнце всегда играло не более чем вспомогательную роль. В Рим поклонение Солнцу проникло под влиянием Востока лишь в период Империи и несколько внешним и искусственным образом сопровождало культ императора. Греческие мифология и религия, однако, сохранили следы определенных «подземных» солярных иерофаний. Миф о Гелиосе открывает нам связи Солнца одновременно с Землей и с Подземным миром. Целый набор эпитетов (в котором Песталоцци[539] видит рудименты средиземноморского религиозного наследия) свидетельствует также о его органической связи с растительным миром. Гелиос — пифий и пеан (два атрибута, которые он разделяет с Лето, одной из Великих богинь Средиземноморья); он хтоний и плутон; он также считается титаном, эпифанией генеративной энергии. В данный момент нас не должно специально интересовать, до какой степени связь Солнца с хтоническим миром и сексуальной магией обязана средиземноморскому субстрату (на Крите, например, Гелиос принимает образ быка и становится супругом Великой Матери, совсем как большинство богов атмосферы) и до какой степени она является своего рода позднейшим компромиссом, обусловленным развитием истории, между матриархатом народов Средиземноморья и пришедшим с Севера индоевропейским патриархатом[540]. Для нас в данном случае важно нечто совершенно другое: Солнцу, которое с точки зрения рационального мышления воспринимается прежде всего как «доступная пониманию» иерофания Неба и Света, поклонялись как источнику «темной» энергии.
Ибо Гелиос не только пифий, хтоний, титан и т. д.; помимо этого и прежде всего он связан с частью мира тьмы — колдовством и преисподней. Он — отец волшебницы Кирки и дед Медеи, славящихся искусством приготовлять любовное зелье из ночных растений; именно от него Медея получила свою знаменитую колесницу, запряженную крылатыми змеями[541]. Ему приносят в жертву лошадей на горе Тайгет[542]. На Родосе, во время праздника в его честь, ему приносят в жертву галиэю (от слова галиос, дорийского варианта гелиос) — колесницу, запряженную четверкой лошадей, которую сбрасывают в море[543]. Как известно, лошади и змеи имеют отношение прежде всего к хтоническому и погребальному символизму. И наконец, вход в Аид зовется «воротами Солнца», а слово «Аид» в его архаической форме у Гомера — «А–идес» — также напоминает о понятии «невидимого» и «того, что делает невидимым»[544]. Такое колебание между светом и тьмой, солярным и хтоническим можно, следовательно, рассматривать как две чередующиеся фазы одной и той же реалии. Иерофании Солнца действительно настолько объемны, что Солнце как таковое, рассматриваемое с рациональной или профанной точки зрения, не в состоянии было бы их вместить[545]. Однако в любой первобытной системе мифологии и метафизики эта объемность занимает вполне определенное место.
45. ИНДИЯ: АМБИВАЛЕНТНОСТЬ СОЛНЦА
Одну из таких систем можно найти в Индии. Сурья фигурирует в ряду второстепенных ведийских богов. В «Ригведе», правда, ему посвящены десять гимнов; однако он никогда не достигает уровня главных фигур. Он — сын Дьяуса[546], но его также знают как глаз Небес или глаз Митры и Варуны[547]. Он далеко видит, он «следит» за всем миром. Согласно «Пуруша–сукте»[548], Солнце родилось из глаза космического великана Пуруши, и после смерти, когда душа и тело человека вновь становятся частью этого космического великана, глаза этого человека возвращаются на Солнце. Эти иерофании Сурьи свидетельствуют лишь о его светоносном аспекте. Однако мы также читаем в «Ригведе», что колесницу Солнца влечет лошадь Эташа[549] или семь лошадей[550], а сам он является жеребцом[551] или птицей[552] или даже коршуном или быком[553] — при том, что любой объект, которому приписываются сущность или атрибуты лошади, обязательно имеет определенную хтоническую или погребальную значимость. Эта значимость ясно видна в другом ведийском варианте Бога Солнца Савитри (Савитар), которого часто отождествляют с Сурьей: он — психопомп и сопровождает души в место совершения правосудия. В некоторых текстах он дарует людям и богам бессмертие;[554] именно он сделал бессмертным Тваштара[555]. Кем бы он ни был, психопомпом или верховным жрецом (дарующим бессмертие), его миссия — это, несомненно, отголосок тех исключительных прав, которыми был наделен Бог Солнца в первобытных обществах[556].
Однако в самой «Ригведе», а особенно в спекуляциях брахманов, Солнце рассматривается также в своем темном аспекте. «Ригведа»[557] говорит о двух аспектах Солнца: «сияющем» и «черном» (т. е. невидимом)[558]. Савитри посылает на землю как ночь, так и день;[559] он сам считается Богом Ночи;[560] в одном гимне даже описывается его ночное путешествие. Однако это чередование модальностей также обладает онтологической значимостью. Савитри — прасавита нивешана[561], «тот, кто впускает и выпускает» («впускающий и выпускающий все создания»)[562]. Бергэнь справедливо подчеркивал космическую значимость этой «реинтеграции»;[563] ибо Савитри — это джагато нивешани, «впускающий мир обратно»[564]. Эти эпитеты на самом деле формулируют определенную космологическую систему. Ночь и день (нактошаса — слово женского рода в двойственном числе) — сестры, точно так же, как боги и «демоны» (асура) — братья: двая праджапатья, девас часурашча, «дети Праджапати бывают двух видов, боги и асуры»[565]. Солнце также встроено в это божественное двуединство; в некоторых мифах упоминается о его змеевидности (т. е. «черноте» или смутности), которая с обычной точки зрения должна была бы рассматриваться как полная противоположность непосредственным характеристикам Солнца. Следы «змеиного» солярного мифа можно обнаружить еще в «Ригведе»: Солнце изначально было «безногим» и получило от Варуны «ноги, чтобы ходить» (apade pada prati dhātave)[566]. Солнце — жрец–асура всех богов–дева[567].
Амбивалентность Солнца также видна из его отношения к людям. С одной стороны, оно — истинный прародитель человечества: «Когда отец испускает себя в виде семени в лоно, на самом деле это Солнце испускает себя в виде семени в лоно»;[568] Кумарасвами[569] цитирует по этому поводу Аристотеля[570] («Человек и Солнце порождают человека») и Данте[571] («…Солнце, отец всей смертной жизни»). С другой стороны, Солнце иногда отождествляют со смертью, ибо оно одновременно и порождает, и поглощает своих детей[572]. Кумарасвами посвятил несколько замечательных работ (см. библиографию) представлению о божественном двуединстве в ведийской и постведийской мифологии и метафизике. В нашем исследовании «Mitul Reintegrârii» («Миф о Воссоединении»)[573] мы проанализировали противоречивые понятия, обнаруживаемые в одних и тех же первобытных ритуалах, мифах и метафизике. К этой проблеме мы еще вернемся ниже; здесь следует лишь заметить, что первобытная амбивалентность солярных иерофаний трансформировалась в тщательно разработанную систему символизма, теологии и метафизики.
Было бы, однако, ошибочным рассматривать эти трансформации исключительно как стереотипные, искусственные процессы чисто вербального плана. Вся эта трудоемкая герменевтика представляла собой лишь точную формулировку всех значений, которыми способны обладать солярные иерофании. Невозможность сведения всех этих значений к одной–единственной краткой формуле (т. е. выраженной в рациональных и непротиворечивых терминах) видна из того, что Солнце может представляться иногда даже двумя противоположными способами в рамках одной религии. Возьмем, к примеру, Будду. В роли чакравартина — господина мира — Будда издавна отождествлялся с Солнцем; отождествлялся настолько, что Э. Сенар даже написал шокирующую работу, в которой попытался свести всю жизнь Шакьямуни к ряду солярных аллегорий. Вне всякого сомнения, он перегнул палку; но все же солярные элементы действительно играют главную роль и в легенде о Будде, и в его мистическом апофеозе[574].
Тем не менее в рамках буддизма и вообще в рамках всех индийских мистических религий Солнце не всегда занимает приоритетные позиции. В индийской мистической физиологии, особенно в йоге и тантризме, Солнце символизирует определенную «физиологическую» и космическую сферу, противопоставленную сфере Луны; однако целью всех индийских мистических упражнений является не подчинение себе одной из этих сфер, а их объединение, другими словами, достижение реинтеграции двух противоположных принципов. Это — лишь один из множества вариантов мифа и метафизики реинтеграции; здесь равновесие противоположностей выражено в космологической формуле «Солнце — Луна». Разумеется, все эти мистические упражнения доступны лишь абсолютному меньшинству индийского народа; но это не означает, что они представляют собой «эволюционирование» религии этого народа — ведь даже «первобытным» ведома та же самая реинтеграционная формула «Солнце — Луна»[575]. Следовательно, солярные иерофании, как и любые другие, могут иметь определенную значимость на совершенно различных уровнях развития религии, в их базисной структуре не заложено никаких явных «противоречий».
Конечный результат того, что солярные иерофании в своем одностороннем развитии подчиняют себе все остальное, в частности, можно усматривать в эксцессах тех аскетических индийских сект, члены которых пристально смотрят на Солнце до тех пор, пока полностью не ослепнут. Подобные эксцессы продиктованы стремлением блюсти «выхолощенный», «стерильный» солярный культ, доведенный в его ограниченной логике до предела. Его противоположность — это нечто вроде «гниения от сырости», трансформация людей в «семена», происходящая в сектах, которые равным образом полностью подчиняются ночному, лунарному или «земельному» порядку вещей (см. § 134 и сл.). Те, кто принимают лишь один аспект солярных иерофании, автоматически доводят себя до состояния «слепоты» и «иссыхания», в то время как те, кто сосредоточивается исключительно на «ночной сфере разума», ввергают себя в состояние перманентной оргии и разложения, как бы возвращаясь в личиночное состояние (как, например, теллурическая секта «Невинных»).
46. СОЛЯРНЫЕ ГЕРОИ; УМЕРШИЕ И ИЗБРАННЫЕ
Очень много первобытных солярных иерофаний сохранилось в народной традиции и более или менее приспособилось к чужим религиозным системам. Пылающие колеса, сбрасываемые с вершин гор во время каждого солнцестояния, особенно летнего; средневековые процессии, когда на колесницах или лодках везут колеса, прототип которых можно обнаружить еще в доисторическом периоде; обычай привязывать людей к колесам, ритуальный запрет на использование колеса прялки в тот или иной день года (обычно в период зимнего солнцестояния); другие обычаи, которые до сих пор можно обнаружить среди европейских земледельческих обществ («колесо фортуны», «колесо года» и др.), — все они восходят к соответствующим солярным традициям. Здесь мы не имеем возможности подробно обсуждать проблему их исторического происхождения; тем не менее не следует забывать, что уже начиная с бронзового века в Северной Европе существовал миф о солнечном жеребце (ср. солнечную колесницу Трундхольма), и, как показал Р. Форрер в своем исследовании «Les Chars cultuels prehistoriques», доисторические ритуальные колесницы, как бы воспроизводившие движение небесных тел, можно рассматривать в качестве прототипа более поздних обычных колесниц[576].
Однако такие исследования, как работы Оскара Альмгрена о доисторической пещерной живописи в Северной Европе или О. Хефлера о тайных обществах в древней и средневековой Германии, выявили комплексный характер «поклонения Солнцу» в северном ареале. Эту ситуацию невозможно объяснить как результат гибридизации или синтеза, ибо в первобытном обществе она бросается в глаза ничуть не меньше, чем в любом другом. Скорее, она указывает как раз на то, что поклонение Солнцу восходит к глубокой древности. Альмгрен и Хефлер указали на совместимость солярных элементов с погребальными (например, с «Дикой Охотой») и относящимися к земле и земледелию (например, оплодотворение полей колесом Солнца и др.)[577]. Маннхардт, Гедоз и Фрэзер показали, каким образом сочетаются, основываясь на идее Солнца, годовой цикл и колесо фортуны как в земледельческой магии и древнеевропейской религии, так и в современном фольклоре.
Та же самая религиозная схема «Солнце — плодородие — герой (или представитель мира умерших)» обнаруживается с теми или иными модификациями и в других цивилизациях. Так, японская ритуальная мистерия «посетителя» (содержащая элементы культа земли и земледелия) включает в себя сцену, когда юноши с выпачканными лицами, которых называют «Солнечными дьяволами», ватагой ходят по дворам ради обеспечения плодородия земли на будущий год, как бы олицетворяя своих солярных предков[578]. Европейские церемонии катания горящих колес во время солнцестояния также, по–видимому, имеют магическую функцию восстановления силы Солнца. Действительно, на Севере постепенное укорачивание дня по мере приближения зимнего солнцестояния внушает опасение, что Солнце может исчезнуть совсем. В других частях света это состояние тревоги выражается в апокалипсических видениях: закат Солнца или затмение становятся одной из примет наступающего конца света, т. е. завершением очередной стадии космического цикла (за которой должно последовать новое Творение и новое человечество). Так, в Мексике бессмертие Солнца «обеспечивалось» постоянным принесением ему в жертву пленников, кровь которых обновляла истощавшийся запас солнечной энергии. Однако неизменной частью этой религии все равно оставался страх перед периодическим крушением Вселенной: сколько крови ни предлагай Солнцу, когда‑нибудь ему все же придет конец; апокалипсис есть неизбежная часть природных ритмов.
Еще один важный мифологический элемент — это солярные герои, особенно популярные среди кочевников–пастухов, по сути дела, среди тех народов, от которых, как правило, происходят этносы и которым судьбой уготовано «творить историю». Этих солярных героев можно обнаружить у африканских скотоводов (например, у готтентотов, гереро, масаи и др.);[579] у тюрко–монголов (например, герой Гэсэр–хан), у евреев (прежде всего Самсон) и особенно у всех индоевропейских народов. На тему мифов и легенд о солярных героях были написаны целые библиотеки; отзвук их можно обнаружить даже в традиционных колыбельных песнях. Энтузиазм, вызванный тем, что исследователи обнаруживают элементы солярного культа практически повсюду, имеет под собой некоторые основания. Вне всякого сомнения, некогда «солярный герой» был популярен среди всех вышеупомянутых народов. Но не следует считать эту эманацию всего лишь физическим проявлением культа Солнца; ведь ни качества такого героя, ни место, занимаемое им в мифологии, не сводятся исключительно к солярным элементам (т. е. к заре, лучам, свету, сумеркам и т. д.). Помимо этого в любом солярном герое мы найдем «темную сторону», связь с миром умерших, инициацией, плодородием и прочим. Точно так же мифы о солярных героях полны элементов, связанных с культом Верховного владыки или демиурга. Герой «спасает» мир, обновляет его, открывает новую эру, иногда даже изменяет всю организацию Вселенной; другими словами, он все еще сохраняет черты Верховного существа–демиурга. Эта творческая функция установления мирового порядка до некоторой степени объясняет такие явления, как судьба Митры — первоначально Бога Неба, затем Бога Солнца и, наконец, Спасителя (подобного Sol Invictus (Непобедимому Солнцу); все семена и растения произросли из быка, убитого Митрой).
Есть и другие причины, по которым солярных героев нельзя сводить к солнечным явлениям так, как это делает «натуристская» мифология. Любая религиозная форма изначально агрессивна, ибо она постоянно перехватывает субстанцию, атрибуты и почести, ранее принадлежавшие другим, зачастую совершенно чуждым ей, религиозным формам. Любая форма, выходящая на передний план, старается стать всем и вся, распространить свою власть на весь религиозный опыт в целом. Следовательно, мы можем быть уверены, что любая религиозная форма, первоначально имевшая солярный статус (будь она богом, героем, ритуалом, мифом или чем‑либо другим) и в дальнейшем трансформировавшаяся в форму верховную, включает в себя элементы влияния извне, ассимилированные и интегрированные в ней исходя из ее агрессивной природы.
Мы не предполагаем завершать это краткое изложение природы солярных иерофаний какими‑либо общими выводами. В противном случае нам пришлось бы лишь еще раз подчеркнуть основные темы этой главы: соляризацию верховных существ, связь Солнца с верховным владычеством, инициацию и ее связь с элитой, амбивалентность Солнца, его отношение к миру умерших, плодородию и т. д. Тем не менее имеет смысл остановиться на тесной связи между элитой (любого плана — будь то цари, инициированные, герои или философы) и солярной теологией. В отличие от других природных иерофаний солярные постоянно стремятся замкнуться в тесном кругу, в избранном меньшинстве. В результате ускоряется процесс рационализации. В греко–римском мире Солнце, став «огнем мудрости», в конечном итоге трансформировалось в «космический принцип»; из иерофании оно превратилось в идею в результате процесса, весьма схожего с эволюцией различных богов Неба (Ио, Брахмана и других). Даже Гераклит утверждает, что «Солнце каждый день новое». Для Платона оно было воплощением добра, выраженного в видимых вещах;[580] для орфиков — мировым рассудком. Рациональные объяснения природы и качеств Солнца возникали одновременно с синкретизмом. Макробий[581] связывает с поклонением Солнцу всю теологию вообще; он видит в Солнце Аполлона, Либер–Диониса, Марса, Меркурия, Эскулапа, Геркулеса, Сераписа, Осириса, Гера, Адониса, Немезиду, Пана, Сатурна, Адада и даже Юпитера. Император Юлиан в своем трактате «О царе Солнца» и Прокл в своем «Гимне Солнцу» предлагают собственные синкретическо–рационалистические интерпретации Солнца.
Эти последние почести, оказанные Солнцу в сумерках античности, не лишены определенной значимости. Они напоминают палимпсесты, в которых под свежими письменами еще прослеживаются следы старых, ибо они все еще содержат пережитки истинных, первобытных иерофаний: зависимость Солнца от Бога (ср. древний миф о соляризованном демиурге), его связь с плодородием и растительной жизнью и т, д. В целом, однако, в античных памятниках мы находим лишь бледную тень того, что некогда значили солярные иерофании; дальнейшие же рациональные объяснения делают ее еще менее заметной. Так философы, последние среди «избранных», завершили секуляризацию некогда одной из наиболее могучих космических иерофаний.
БИБЛИОГРАФИЯ
Boll F. Die Sonne im Glauben und in der Weltanschauung der alten Völker. Stuttgart, 1922; Krappe A. G. La Genese des mythes. P., 1938. P. 81 и сл.; Frazer J. The Worship of Nature. Vol. 1. L., 1926. P. 441 и сл.; Dechelette J. Le Culte du soleil aux temps préhistoriques // RAR. 1909. P. 305 и сл.; Manuel d’archéologie préhistorique, celtique et gallo‑romaine. Vol. 2. P., 1908. P. 413 и сл.
Ehrenreich P. Die Sonne im Mythos // Mythologische Bibliothek. Vol. 8, 1. Lpz., 1915–1916.; Ohlmarks A. Heimdalls Horn und Odins Auge. Vol. 1. Lund, 1937. P. 32 и сл., 257 и сл.
Pettazzoni R. Dio. Vol. 1. Rome, 1922. P. 367.
См.: Frankfort H. Gods and Myths on Sargonid Seals. Vol. 1. Irak, 1934. P. 2–29; Engnell I. Studies in Divine Kingship in the Ancient Near East Uppsala, 1943; Götze A. Kleinasien. Leipzig, 1933; материал и библиографию no Шамашу см.: Furlani G. La Religione babilonéséassira. Vol. 1. Bologna, 1928–1929. P. 162–169; Vol. 2. P. 179–183 и др.; Dhorme E. Les Religions de Babylonie et d’Assyrie; см. также: MA. Vol. 2. P., 1945. P. 60–67, 86–89; о Шамаше и даре прорицания: Haldar A. Associations of Cult Prophets among the Ancient Semites. Uppsala, 1945. P. 1 и сл.
Lehtisalo Т. Entwurf einer Mythologie derJurak‑Samoyeden. Helsinki, 1927; Gahs A. Kopf-, Schaedel- und Langknochenopfer bei Rentiervölkern // Festschrift W. Schmidt. Mödling, 1928. S. 231–268.
Dalton E.Т. Descriptive Ethnology of Bengal. Calcutta, 1872; Frazer J. Worship of Nature. P. 614 и сл.; Bodding P. O. Santali Folk Tales. Vol. 1, 2. Oslo, 1925–1927; Rahmann R. Gottheiten der Primitivstaemme im nordöstlichen Vorderindien // APS. 1936. Vol. 31. S. 37–96; Koppers W. Bhagwan, The Supreme Deity of the Bhils // APS. 1940–1941. Vol. 35, 36. P. 265–325.
Rivers W. H. R. Sun‑cult and Megaliths in Oceania // AA. 1915, новые выпуски, 17. P. 431 и сл.; Rivers W. H. R. The History of Melanesian Society. Vol. 1, 2. Cambridge, 1914; Frazer J. The Belief in Immortality and the Worship of the Dead. Vol. 1–3. L., 1913–1924; Williamson R. W. Religious and Cosmic Beliefs in Central Polynesia. Vol. 1, 2. Cambridge, 1933.
Perry W. J. The Children of the Sun. 2nd ed. L., 1927; Hocart A. M. Kingsli P. L., 1927.
Vandier J. La Religion égyptienne // MA. P., 1944. Vol. 1. P. 36 и сл.; Wainwright G. A. The Sky‑Religion in Egypt. Cambridge, 1928; Junker H. Die Götterlehre von Memphis. Berlin, 1940; Junker H. Der sehende und blinde Gott // Site. d. b. Akad. d. Wissensch. Münich, 1942; Garnot J. Sainte‑Fare // RHR. 1944, июль — дек. Vol. 128. P. 116–118; Garnot J. Sainte‑Fare // RHR. 1945, янв. — июнь. Vol. 129. P. 128 и сл.; о конфликте между Ра и Осирисом: Weill R. Le Champ des roseaux et le champ des offrandes dans la religion funéraire et la religion générale. P., 1936.
Von Schröder L. Arische Religion. Vol. 2. Lpz., 1916. S. 3–461; у народов Средиземноморья и греков: Cook А. В. Zeus. A Study in Ancient Religion. Vol. 1. Cambridge, 1914. P. 197 и сл.; Pestalozza U. Pagine di religione mediterranea. Vol. 2. Milan; Messina, 1945. P. 9 и сл.; Kerenyi К. Vater Helios // EJ. Zürich, 1943. Vol. 10; 1944. S. 81–124; Krappe A. H. Apollon // SMSR. 1943–1946. Vol. 19, 20. P. 115–132; о следах поклонения Солнцу в Иране: Widengren G. Hochgottglaube im alten Iran. Uppsala, 1938. P. 183 и сл.; о первобытных культах Солнца в Италии: Koch С. Gestirnverehrung im alten Italien. 1933. S. 50 и сл.; Altheim F., Trautmann E. Neue Felsbilder der Val Camonica. Die Sonne in Kult und Mythos // WS. 1938. Vol. 19. P. 12–45.
Bergaigne A. La Religion védique, d’apres les hymnes du Rig Veda. P., 1878–1883. 3 vols.: Vol. 2. P. 160 и сл., 379 и сл.; Vol. 3. P. 38 и сл.
Rowland В. Buddha and the Sun God // CZ. 1938. Vol. 1. P. 69–84; о метафизическом подтексте солярных мифов: Coomaraswamy A. The Darker Side of the Dawn // Smithsonian Miscellaneous Collection. Washington, 1935. Vol. 104, №1; Coomaraswamy A. The Sun Kiss // JAOS. Vol. 60. P. 46, 47 и сл.
Schmidt P. Sol Invictus. Betrachtungen zu spaetrömischer Religion und Politik // EJ. Zürich, 1944. Vol. 10. P. 169–252.
Gaidoz. Le Dieu gaulois du soleil // RAR. 1884–1885; Lambrechts P. Contributions á 1’etude des divinités céltiques. Bruges, 1942. P. 71 и сл.
Almgren О. Nordische Felszeichnung als religiose Urkunden. Frankfurt a. M., 1934. по всей работе, особенно S. 343 и сл.; Höfler O. Kultische Geheimbunde der Germanen. Frankfurt a. M, 1934. S. 112 и сл.; Forrer R. Les Chars cultuels préhistoriques et leurs survivances aux époques historiques // PHE, 1932. Vol. 1. P. 19–123; Mannhardt W. Wald- und Feldkulte. 2nd ed. Berlin, 1904–1905. Vol. 1. P. 591 и сл.; Frazer J. Baldur the Beautiful. Vol. 1. P. 106–327; Dumezil G. Loki. P., 1948. P. 225 и сл.
Slawik A. Kultische Geheimbünde der Japaner und Germanen // WBKL. Salzburg; Leipzig, 1936. Vol. 4. P. 675–764.
Rahner H. Das christliche Mysterium von Sonne und Mond // EJ. Zürich, 1944. Vol. 10. S. 305–404; Deonna W. Les Crucifix de la Vallée de Saas (Valais); Sol et Luna. Histoire d’un theme iconographique // RHR. 1946. Vol. 132. P. 5–47; 1947–1948. Vol. 133. P. 49–102.
Глава IV
ЛУНА И ЕЕ МИСТИКА
47. ЛУНА И ВРЕМЯ
Солнце всегда одно и то же, всегда равно себе, никогда ни в каком смысле не пребывает в становлении. Луна же прибывает, убывает и исчезает, она — тело, подвластное всеобщему закону становления, рождения и смерти. Подобно человеку, Луна встречает на своем пути трагедии, ибо ее «ослабление» (уменьшение размеров и формы по фазам), как и ослабление человека, кончается смертью. Три ночи звездное небо лишено Луны. Но за этой «смертью» следует возрождение: новолуние. Угасание Луны в «смерти» никогда не окончательно. В одном вавилонском гимне Сину Луна видится как «плод, растущий из себя»[582]. Она возрождается из собственной сущности, следуя собственным, предназначенным ей путем.
Это постоянное возвращение к своему началу и этот всегда возобновляющийся цикл делает луну для древнего человека тем небесным телом, которое более всех остальных связано с ритмами жизни. Таким образом, неудивительно, что она в его глазах управляет всеми областями природы, подпадающими под закон возобновляющихся циклов: водами, дождем, растительной жизнью, плодовитостью. Фазы луны показали человеку время в конкретном смысле — в отличие от астрономического времени, которое, конечно, стало осознаваться лишь позднее. Даже в ледниковый период значение фаз луны и их волшебная сила были явно известны. Мы находим символизм спиралей, змей и молнии[583] — причем все они вырастают из понимания Луны как меры ритмических изменений и плодовитости — в сибирских культурах ледникового периода[584]. Время, безусловно, измерялось повсюду фазами луны. Еще сегодня есть кочевые племена, живущие охотой и тем, что могут вырастить, которые пользуются только лунным календарем. Старейший индоарийский корень, связанный с небесными телами, означает «Луна»;[585] это корень me, который в санскрите становится mami, «я измеряю». Луна становится всеобщим мерилом. Все слова, относящиеся к Луне в индоевропейских языках, происходят из этого корня: mas (санскрит), mah (Авеста), mah (др. — прусский), menu (литовский), mena (готский), mene (греческий), mensis (латинский). Германцы измеряли время ночами[586]. Следы этого древнего способа исчисления времени также сохранились в народных европейских традициях: некоторые праздники отмечаются вечером, например рождественский вечер, Пасха, Троица, Иванов день и т. д.[587]
Время, управляемое и измеряемое фазами луны, можно назвать «живым» временем. Оно связано с реальностью жизни и природы, дождями и приливами, временем сева, менструальным циклом. Целый ряд явлений, принадлежащих к совершенно различным «космическим уровням», происходит в соответствии с ритмами луны или под их влиянием. Первобытный ум, постигший однажды «силу» Луны, устанавливает затем связи «ответа» Луны на такие явления и даже взаимодействия между ними. Так, например, с древнейших времен, по крайней мере со времен неолита, с открытия земледелия, тот же символизм связывает луну, морские воды, дожди, плодовитость женщин и животных, растительную жизнь, судьбу человека после смерти и обряды инициации. Умственные синтезы, обусловленные реализацией ритмов луны, связывают и объединяют весьма различные реальности, структурные симметрии и аналогии в их действиях никогда не были бы замечены, если бы «первобытный» человек не воспринял интуитивно лунный закон периодического изменения, что произошло очень рано.
Луна измеряет, но она также объединяет. Ее «силы», или ритмы, можно назвать «наименьшим общим знаменателем» бесконечного числа явлений и символов. Вся Вселенная видится как структура, подчиняющаяся определенным законам. Мир — уже не бесконечное пространство, заполненное деятельностью множества разъединенных, самостоятельных сущностей; внутри этого пространства можно видеть соответствие и взаимную слаженность. Все это, конечно, результат не логического анализа действительности, а все более ясного интуитивного постижения ее в совокупности. Хотя есть ряд ритуальных или мифических побочных толкований, касающихся Луны, которые отделяются от остальных и обладают своей несколько специализированной функцией (как, например, некоторые мифические лунные существа с одной ногой или одной рукой, чья магическая сила способна вызывать дождь), не может быть символа, обряда или мифа о Луне, который бы не подразумевал всех лунных ценностей, известных в данное время. Не может быть части без целого. Спираль, например, которая считалась символом Луны еще в ледниковый период, символизирует фазы луны, но включает также эротические элементы, происходящие из аналогии с вульвой — раковиной, водные элементы (Луна — раковина) и элементы, касающиеся плодовитости (двойная спираль, рожки и т. д.). Нося жемчужину как амулет, женщина соединяется с силами воды (раковина), Луны (раковина — символ Луны; создана лучами Луны и т. д.), эротизмом, рождением и эмбриологией. Лекарственное растение содержит в себе тройное действие Луны, воды и растительности, даже если в уме потребляющего его явно присутствует только одна из этих сил. Каждая из этих сил, или «воздействий», в свою очередь, работает на нескольких разных уровнях. Растительность, например, связана с понятиями смерти и возрождения, света и тьмы (как зон Вселенной), плодовитости и изобилия и т. д. Не может быть символа, эмблемы или силы с одним только значением. Все связано, все соединено и создает космическое целое.
48. СВЯЗЬ ВСЕХ ЛУННЫХ ЭПИФАНИЙ
Такое целое не могло бы, конечно, никогда быть постигнуто умом, привыкшим к аналитическому подходу. И даже посредством интуиции современный человек не может овладеть всем богатством значения и гармонии, с которым космическая реальность (или, в сущности, сакральная реальность) связана в первобытном уме. Для первобытного человека лунный символ (амулет или иконографический знак) не только содержит в себе все лунные силы, действующие на любом уровне Космоса, — но в силу соответствующего ритуала помещает самого его исполнителя, человека, в центр этих сил, увеличивая его жизненную силу, делая его более реальным и гарантируя ему более счастливую участь после смерти. Нам методологически важно постоянно подчеркивать то обстоятельство, что каждый религиозный акт (т. е. каждый акт, имеющий значение для его исполнителей), совершаемый первобытным человеком, имеет характер всеобщности, ибо всегда есть опасность того, что функции, силы и свойства Луны, обсуждаемые в этой главе, будут рассматриваться аналитическим и кумулятивным образом. Мы склонны аналитически разделять то, что является и должно оставаться целым. Там, где мы употребляли слова «потому что» и «поэтому», первобытный человек сказал бы, вероятно, «таким же образом» (например, я говорю: потому что Луна правит водами, растения подчиняются ей, — но правильнее было бы сказать: растения и воды подчиняются ей таким же образом…).
«Силы» Луны должны открываться не посредством последовательных аналитических упражнений, а интуицией, ибо в этом случае для первобытного человека они обнаруживаются всего полнее. Аналогии, образующиеся в первобытном уме, оркеструются там посредством символов; так, например, Луна появляется и исчезает; улитка показывает и прячет свои рожки, медведь появляется и исчезает с временами года — и улитка становится действующим лицом лунной теофании, как в древней религии Мексики, где лунный бог Теккистекатль показан заключенным в раковину улитки;[588] она также превращается в амулет и т. д. Медведь становится предком человеческого рода, ибо человек, чья жизнь подобна жизни Луны, должен был создаваться из того же вещества, что и медведь, или той же волшебной силой этого светила.
Символы, черпающие свое значение в Луне, являются в то же время самой Луной. Спираль — это и лунная иерофания, выражающая цикл света и тьмы, — и амулет, при помощи которого человек может усваивать силы Луны. Молния — тоже кратофания Луны, ибо ее яркость напоминает яркость Луны и она предвещает дождь, управляемый Луной. Все эти символы, иерофании, мифы, обряды, амулеты и прочее, которые я для удобства называю лунными, образуют в уме первобытного человека целое; они связаны между собой гармонией, аналогиями и общими элементами, подобно одной великой космической «сети», в которой каждая часть — на месте и ничто не отделено от остального. Если мы хотим выразить множественность лунных иерофаний в одной формуле, можем сказать, что они обнаруживают жизнь, повторяющуюся ритмически. Все ценности Луны, космологическая, магическая или религиозная, объясняются модальностью ее бытия, тем фактом, что она «живет» и неистощима в своем обновлении. В первобытном мышлении интуиция по поводу космической судьбы Луны была равноценна первому шагу, основанию антропологии. Человек видел себя отраженным в «жизни» Луны; и не только потому, что его собственная жизнь приходила к концу, подобно жизни всех организмов, но и потому, что его жажда обновления, его надежды на «возрождение» находили подтверждение в том факте, что всегда бывает новолуние[589].
Для нас не очень важно, имеем ли мы дело в бесчисленных лунарных верованиях с преклонением перед самой Луной, перед обитающим на ней божеством или его мифическим олицетворением. Нигде в истории религии мы не находим преклонения перед естественным предметом самим по себе. Священная вещь, каковы бы ни были ее форма и сущность, священна потому, что она обнаруживает себя в мировой целостной гармонии реальной жизни или участвует в ней. Каждый религиозный предмет всегда «воплощение» чего‑то священного (§ 3 и далее). Он воплощает его по своему существу (как, например, Небо, Солнце, Луна или Земля), или по своей форме (т. е. символически: как со спиралью — раковиной), или посредством иерофании (определенное место, определенный камень и т. д. становится священным; определенный предмет «освящается» или «посвящается» обрядом или соприкосновением с другим священным предметом или лицом и т. д.).
Следовательно, Луна не более является предметом поклонения сама по себе, чем любой другой предмет, — а только поскольку она обнаруживает священное, которое видится в сосредоточенной в ней силе в проявляемом ею неистощимом «жизнелюбии» через ежедневное и ежемесячное возрождение. Священная реальность Луны была признана либо непосредственно в самой лунной иерофании, либо в формах, создававшихся этой иерофанией тысячами лет — т. е. в порожденных ею представлениях: олицетворениях, символах или мифах. Различия между этими разными формами в настоящей главе не рассматриваются. В конце концов, здесь мы главным образом стараемся описать иерофанию Луны и всего связанного с нею. При этом описании было бы ошибкой ограничиваться свидетельствами очевидно «священного», например лунных богов, а также образов и мифов, посвященных им. Для первобытного ума, повторю, все, имевшее жизненный смысл, все элементы целостной реальности имели священную ценность. Мы можем с такой же точностью наблюдать религиозный характер Луны в символизме жемчужины или молнии, как изучая лунное божество вроде вавилонского Сина или богини Гекаты.
49. ЛУНА И ВОДЫ
В качестве регулируемых ритмами (дождь и приливы) и ведающих ростом живых существ, воды подвластны Луне. «Луна в водах»[590] и «дождь идет с Луны»[591] — вот два лейтмотива индийского мышления[592]. Apam napat, «сын воды» — таково было в первобытные времена имя духа растительности, но позднее оно применялось также к самой Луне и к лунному нектару, сома[593]. Ардвисура Анахита, иранская Богиня Воды, была лунным существом; Син, вавилонский Бог Луны, также правил водами. Один гимн показывает, как плодотворна его теофания: «Когда ты плывешь, как лодка, по водам… чистая река Евфрат наполняется водой до краев…»[594] В одном тексте из «Лэнгдонской эпической поэмы» говорится о месте, «где воды текут из своего источника, из лунного хранилища»[595].
Все лунные божества сохраняют более или менее очевидные свойства или функции воды. У некоторых американо–индейских племен Луна или Бог Луны — в то же время и Бог Воды. (Это относится к Мексике и к ирокезам — если привести два примера.) Одно племя в Центральной Бразилии называет дочь Бога Луны «Матерью вод»[596].
Иеронимо де Чавес сказал (в 1576 г.) по поводу древних мексиканских верований, касающихся Луны: «Луна побуждает все расти и размножаться…», и «вся влага управляется ею»[597]. Связь между Луной и приливами, которую наблюдали и греки и кельты, была известна также маори Новой Зеландии[598] и эскимосам (у которых лунные божества правят приливами)[599].
С древнейших времен признавалось, что дожди следуют фазам луны. Целый ряд мифических персонажей, принадлежащих к таким разнообразным культурам, как бушменская, мексиканская, австралийская, самодийская и китайская[600], был отмечен способностью вызывать дождь и тем, что они имели только одну ногу или только одну руку. Хенце вполне достоверно установил, что они, в сущности, принадлежат культу Луны. В то время как воды и дожди управляются луной и следуют установленному порядку, т. е. фазам луны, — все несчастья, связанные с ее фазами, обнаруживают другой аспект лунного воздействия, периодическое разрушение устаревших «форм» и, можно сказать, осуществление возрождения в космическом масштабе.
Потоп соответствует трем дням тьмы или «смерти» Луны. Это — катаклизм, но отнюдь не окончательный, ибо он «санкционирован» Луной и водами, которые преимущественно означают рост и возрождение. Потоп разрушает просто потому, что «формы» устарели и изношены, но за ним следует новое человечество и новая история (§ 42). Огромное большинство мифов о потопе рассказывает, как выжил один человек и как от него произошел новый род. Этот выживший — мужчина или женщина — случайно вступает в брак с лунным животным, которое таким образом становится предком этого рода. Так, например, в одной даякской легенде рассказывается, как единственная женщина пережила потоп, произошедший после убийства огромного боа констриктора, «лунного животного», и породила новое человечество, спарившись с собакой (или, в некоторых вариантах, с палкой для разжигания огня, найденной возле собаки)[601].
Из многочисленных вариантов мифа о потопе рассмотрим один — австралийскую версию (племени курнаи). Однажды громадная лягушка Дак проглотила всю воду. Жаждущие животные напрасно старались рассмешить ее. Только когда угорь (или змей) стал кататься и извиваться, Дак разразилась смехом, вода хлынула и произвела потоп[602]. Лягушка — лунное животное, ибо во множестве легенд говорится о лягушке, которая видна на луне[603], и она всегда присутствует в бесчисленных обрядах по вызыванию дождя[604]. Шмидт объясняет австралийский миф как отражение того факта, что новолуние задерживает приток воды (Дак ее проглатывает)[605]. А Винтиус[606], не согласный с интерпретацией Шмидта, различает в этом мифе о лягушке эротический смысл; но это, конечно, не объясняет ни лунной природы потопа, ни его антропологической функции (он «создает» новое, возрожденное человечество).
В Австралии же мы находим другой вариант водного бедствия, причиненного Луной. Луна однажды попросила у человека шкуры опоссума, чтобы накрываться ночью, т. к. было холодно, а человек отказал; в отместку Луна выпустила потоки ливней, и вся местность была затоплена[607]. Мексиканцы тоже верили, что несчастье причиняет Луна в личине молодой и красивой женщины[608]. Однако следует отметить одно общее для всех этих катастроф, исходящих от Луны (большинство их спровоцировано каким‑нибудь оскорблением Луны или незнанием какого‑нибудь ритуального запрета — т. е. «грехом», что перекладывает вину на человека, который деградирует в духовном отношении, отказывается от закона и порядка, тем самым разлаживая природные ритмы), — это общее заключается в мифе перерождения и появления «нового человека». Этот миф превосходно согласуется, как мы увидим, с искупительными функциями Луны и вод.
50. ЛУНА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Существование связи между луной, дождем и растительной жизнью было понято до открытия земледелия. Растительный мир происходит из того же источника всеобщей плодовитости и подчиняется тем же повторяющимся циклам, которые управляются движениями луны. В одном иранском тексте сказано, что растения развиваются благодаря ее теплу[609]. Некоторые племена в Бразилии называют ее «мать трав»[610], а в очень многих местах (Полинезия, Молуккские острова, Меланезия, Китай, Швеция и др.) полагают, что трава растет на Луне[611]. Французские крестьяне даже сегодня сеют во время новолуния и подрезают деревья и собирают овощи, когда Луна на ущербе[612], предположительно для того, чтобы не нарушать ритм природы, нанося ущерб живому организму, когда природные силы на подъеме.
Органическая связь между Луной и растительностью так сильна, что очень многие боги плодородия являются также и лунными божествами; например, египетская Хатор, Иштар, иранская Анаит[613] и др. Почти у всех богов растительности и плодовитости постоянно наблюдаются свойства или силы Луны — даже когда их божественная «форма» стала совершенно автономной. Син — также творец трав; Дионис — и Лунный Бог, и Бог растительности; Осирис обладает всеми этими атрибутами — лунными, водными, растительными и земледельческими. Мы можем особенно ясно различить модель «луна — вода — растительность» в религиозной природе некоторых напитков божественного происхождения, таких как индийская сома и иранская хаома; они даже были возведены в божества — самостоятельные, хотя менее важные, чем главные боги индоиранского пантеона. И в этом божественном напитке, дарующем бессмертие всем, кто его отведает, мы можем узнать святость, которую он воспринял от Луны, воды и растительности. Эти напитки в высшей степени «божественны», ибо превращают жизнь в абсолютную реальность — или бессмертие. Амрита, амброзия, сома, хаома и остальные — все имеют небесный прототип, который пьют только боги и герои, но подобная же сила присуща и земным напиткам — соме, которую пили индийцы в ведические времена, вину дионисийских оргий. Более того, эти земные напитки обязаны силой своим соответствующим небесным прототипам. Священное опьянение позволяет приобщиться — пусть мимолетно и несовершенно — к божественному способу существования; оно фактически достигает парадокса — владеть одновременно полнотой существования и становлением; быть одновременно динамичным и статичным. Метафизическая роль Луны заключается в том, чтобы периодически умирать и все же оставаться бессмертной, претерпевать смерть как отдых и возрождение, а отнюдь не как финализм. Такую судьбу и пытается человек завоевать для себя во всех обрядах, символах и мифах, в которых, как мы видели, священные ценности Луны сосуществуют со священными ценностями воды и растительности — заимствуют ли эти последние свою святость у Луны или составляют самостоятельные иерофании. В любом случае перед нами — целостная реальность, источник силы и жизни, из которого либо из его сущности, либо в результате его благословения происходят все живые формы.
Связи, замеченные между различными космическими уровнями, которыми управляет Луна, — дождем, растительной жизнью, плодовитостью животных и людей, душами мертвых — обнаруживаются даже в такой примитивной религии, как религия пигмеев Африки. Их пир новолуния происходит немного раньше сезона дождей. Луна, которую они называют Пе, считается «первоосновой зарождения и матерью плодовитости»[614]. Пир новолуния отдан исключительно женщинам, совершенно так же, как пир Солнца празднуется исключительно мужчинами[615]. Поскольку Луна — и мать, и убежище духов, женщины почитают ее, намазываясь глиной и растительными соками — и тем самым становясь белыми, подобно духам и лунному свету. Ритуал состоит в изготовлении алкогольной жидкости из перебродивших бананов, которую женщины пьют, утомившись танцами, а также в плясках и молитвах, обращенных к Луне. Мужчины не пляшут и даже не сопровождают ритуал на своих том–томах. Луну, «мать живого», молят увести души мертвых и принести плодородие, дать племени множество детей и рыбы, дичи и плодов[616].
51. ЛУНА И ПЛОДОРОДИЕ
Плодородие животных, а также растений подвластно Луне. Отношение между Луной и плодовитостью несколько усложняется вследствие появления новых религиозных «форм» — вроде Земли–матери и разных земледельческих божеств. Однако есть один аспект иерофании Луны, который является ее специфическим атрибутом, сколько бы религиозных синтезов ни образовывали эти новые «формы». Ее прерогативы — плодородие, повторяющееся создание, неисчерпаемость жизни. Бычьи рога, например, которыми принято характеризовать великие божества плодовитости, являются эмблемой божественной Великой Матери. Где бы их ни находили в неолитических культурах — то ли в иконографии, то ли как часть идолов в форме быков — они означают присутствие Великой Богини плодородия»[617]. А рог — всегда образ новой луны: «Явно бычий рог стал символом Луны, так как он напоминает полумесяц; поэтому оба рога вместе представляют два полумесяца или весь путь луны»[618]. А в иконографии доисторических китайских культур Ганьсу и Яншао[619] вы зачастую найдете символы Луны и символы плодородия вместе — стилизованные рога обрамлены структурой из вспышек молнии (обозначающих дождь и луну) и ромбов (которые являются символом женственности)[620].
Некоторые животные становятся символами или даже «внешностями» Луны, потому что напоминают ее формой или поведением. Так происходит с улиткой, которая влезает в свою раковину и вылезает из нее; с медведем, который исчезает посреди зимы и вновь появляется весной; с лягушкой, потому что она раздувается, погружается в воду, а позже возвращается на поверхность воды; с собакой, так как ее можно увидеть на Луне или потому что в некоторых мифах ее считают родоначальницей человека; со змеей, потому что она появляется и исчезает и потому что у нее столько же витков, сколько у Луны дней (эта легенда сохранилась также в греческой традиции);[621] или потому, что она — «муж всех женщин», или потому, что она меняет кожу (т. е. периодически возрождается, «бессмертна»), и так далее. Несколько путает символизм змеи, но все символы направлены к той же центральной идее бессмертия, потому что змея постоянно возрождается, а значит, это — лунная «сила» и как таковая может одарить плодовитостью, знанием (т. е. пророчеством) и даже бессмертием. Есть бесчисленные мифы, рассказывающие бедственную повесть о том, как Змей украл бессмертие, данное Человеку Богом[622]. Но это — позднейшие варианты первобытного мифа, в котором Змей (или Морское чудовище) сторожил священный источник или источник бессмертия (Древо Жизни, источник юности, золотые яблоки).
Я могу упомянуть здесь лишь немногие из мифов и символов, связанных со змеем, и только те, которые показывают его характер как лунного животного. Прежде всего мифы о связи Луны и змеи с женщинами и плодовитостью; Луна — источник всякого плодородия и также управляет менструальным циклом. Ее олицетворяют как «господина женщин». Очень многие народы думали — а некоторые думают и ныне, — что Луна, в форме мужчины или змея, совокупляется с их женщинами. Вот почему у эскимосов, например, незамужние девушки не смотрят на Луну, боясь забеременеть[623]. Австралийцы верят, что Луна спускается на Землю в виде некоего Дон–Жуана, делает женщин беременными, а затем покидает их[624]. Этот миф еще имеет хождение в Индии[625].
Поскольку змей — эпифания Луны, он выполняет ту же функцию. Даже сегодня в Абруццах говорят, что змей совокупляется со всеми женщинами[626]. Греки и римляне тоже в это верили. Мать Александра Великого Олимпия играла со змеями[627]. Знаменитому Арату из Сициона говорили, что он сын Асклепия, потому что, согласно Павсанию[628], мать зачала его от змея. Светоний[629] и Дион Кассий рассказывают, как мать Августа зачала от объятия змея в храме Аполлона[630]. Такая же легенда ходила о Сципионе Старшем. В Германии, Франции, Португалии и других местах женщины боялись, что во сне змея заползет к ним в рот, и они забеременеют, особенно во время менструации[631]. В Индии, когда женщины хотели иметь детей, они поклонялись кобре. По всему Востоку верили, что первый сексуальный контакт женщины совершается со змеей — при достижении половой зрелости или во время менструации[632]. В индийской провинции Майеф каменные истуканы змей используются для достижения плодородия женщин[633]. Клавдий Элиан[634] заявляет, что, по верованиям древних евреев, змеи спаривались с незамужними девушками; и это верование мы находим также в Японии[635]. Персидское предание говорит, что после того, как первая женщина была соблазнена Змеем, она немедленно начала менструировать[636]. Также и у раввинов бытует мнение, что менструация была последствием сношений Евы со Змеем в райском саду[637]. В Абиссинии полагали, что девушкам грозит изнасилование змеями, пока они не выйдут замуж. В одной алжирской истории рассказывается, как змея сбежала от надзора и изнасиловала всех незамужних девушек в доме. Подобные предания можно найти у готтентотов манди в Восточной Африке, в Сьерра–Леоне и других местах[638].
Конечно, менструальный цикл помогает объяснить распространение верования, что Луна — первый супруг всех женщин[639]. Папуасы считали менструацию доказательством совокупления с Луной, в своей иконографии (скульптуры по дереву) они изображали рептилий, выходящих из детородных органов[640]. Все сказанное подтверждает тождество змеи и Луны. Среди чиригуань после первого менструального периода женщины совершают различные окуривания и очищения, и впоследствии женщины этого дома прогоняют всякую встречающуюся им змею как виновницу свершившегося зла[641]. Очень многие племена считают змею причиной менструального цикла. Ее фаллический характер одним из первых среди этнологов показал Кроули[642]. Он отметил, что это отнюдь не исключает ее связи с Луной, а только подтверждает ее. Обильная оставшаяся иконографическая документация — как неолитических цивилизаций Азии (например, идол культуры Баншань[643] в Таньсу[644] и золотые скульптуры Нган–Яна[645]), так и цивилизаций американских индейцев (например, бронзовые диски Калчаки)[646] — показывает двойственный образ Змеи, украшенный ромбами (символизирующими вульву)[647]. Оба ее качества как символ оплодотворения и как эпифании Луны, несомненно, имеют эротическое значение, но сосуществование змеи (фаллос) и ромбов также выражает идею дуализма и реинтеграции, являющуюся в высшей степени лунной прерогативой, ибо мы находим тот же самый мотив в лунной образности «дождя», «света и тьмы» и остального[648].
52. ЛУНА, ЖЕНЩИНА И ЗМЕИ
Таким образом, Луну олицетворяют в рептилии и придают ей функции деторождения, но такие олицетворения и функциональные привязки (которые часто отходят от первоначального образца и следуют собственным путем в мифах и легендах) все же, в сущности, базируются на понятии Луны как источника живой реальности и основы всего плодородия и периодического возрождения. Змей считают производителями детей, например, в Гватемале[649], у центральноавстралийского племени урабунна (они видят себя потомками двух змей, странствовавших по миру и оставлявших везде, где останавливались, майаурли или «души детей»), среди племен Того в Африке (гигантская змея живет в пруду близ города Клеве и, получив детей из рук Высшего Бога Наму, приносит их в город перед рождением). В Индии с буддийских времен (ср. «Джатаки») змеи считались дающими всякое плодородие (воду, сокровища; ср. § 71[650]). Некоторые из нагпурских росписей[651] описывают спаривание женщин с кобрами. Масса верований в современной Индии показывает благотворную и плодотворную силу змей; они предотвращают бесплодие женщин и обеспечивают их множеством детей[652].
Существует целая парадигма различных отношений женщин и змей, но ни одну нельзя полностью объяснить чисто эротическим символизмом. Змея имеет самые разнообразные значения, и, я думаю, ее «перерождение» мы должны считать одним из важнейших среди них. Змея — «изменяющееся» животное. Грессман[653] пытался увидеть в Еве первобытную финикийскую богиню подземного мира, оплодотворенную змеей[654]. Средиземноморские божества изображаются со змеями в руках (Аркадская Артемида, Геката, Персефона и т. д.) или со змеями в волосах (Горгона, Эриния и др.). Согласно некоторым центральноевропейским суевериям, когда женщина находится под влиянием Луны (то есть менструирует), можно вырвать у нее несколько волосков и закопать их — и эти волосы превратятся в змей[655].
В одной бретонской легенде также говорится, что ведьмины волосы превращаются в змей[656], В таком случае подобное не может случаться с обыкновенными женщинами, разве только под влиянием Луны и участия в ее волшебной силе «перемен». Множество этнологических свидетельств показывает, что колдовство идет от Луны (либо прямо, либо через посредство змей). Для китайцев, например, змеи — основа всякой волшебной силы, а древнееврейские и арабские слова, обозначающие различные виды волшебства, происходят от слов, означающих «змеи»[657]. Поскольку змеи принадлежат сфере Луны, т. е. вечны и живут под землей, воплощая (среди многого другого) души мертвых, они знают все тайны, являются источником всей мудрости и могут предвидеть будущее[658]. Поэтому всякий, кто съедает змею, постигает язык животных и особенно птиц (символ, который может также иметь метафизическое значение: доступ к высшей реальности); это убеждение, разделявшееся огромным количеством народов[659], и было принято даже учеными древности[660].
Тот же генеральный символизм плодородия и перерождения, управляемых Луной и даруемых ею или формами той же природы (Великая Мать, Мать–Земля), объясняет присутствие змеи в образах и обрядах Великих богинь всеобщего плодородия. Как атрибут Великих богинь, змея сохраняет свой лунный характер (периодического перерождения) в дополнение к земному. На одной из стадий развития Луна отождествлялась с Землей и сама считалась источником всех живых форм (§ 86). Некоторые народы верят даже, что Земля и Луна образовались из того же вещества[661]. Великие богини столько же участвуют в священной природе Луны, сколько в священной природе. А раз эти богини являются также похоронными богинями (мертвецы исчезают в Земле или на Луне, чтобы возродиться и снова явиться в новых формах), то змея становится именно животным смерти и похорон, воплощающим души мертвых, родоначальницей племени и т. д. И этот символизм перерождения объясняет также присутствие змеи в обрядах инициации.
53. ЛУННЫЙ СИМВОЛИЗМ
Что довольно явно возводится из всего этого разнообразного символизма змей — это их лунная природа, т. е. их способности к плодородию, к перерождению, к бессмертию через метаморфозы. Мы, конечно, могли бы рассмотреть ряд их атрибутов или функций и заключить, что все эти различные отношения и значения развились одно из другого, каким‑нибудь методом логического анализа. Любую религиозную систему можно свести к нулю, методически разбивая ее на составные части и изучая их. В действительности все значения символа присутствуют как целое, даже если представляется, что эффективны только некоторые из них. Интуитивное понимание Луны как мерила ритмов, как источника энергии, жизни и возрождения соткало своего рода сеть между различными уровнями Вселенной, проведя параллели и установив сходство и единство между совершенно различающимися видами явлений. Не всегда легко найти центр такой сети; иногда выделяются вторичные центры, кажущиеся самыми важными или, быть может, хронологически начальными. Так, эротический символизм змей в свою очередь «соткал» свою систему смыслов и ассоциаций, которые в иных случаях оттесняют связи змей на задний план. В действительности мы имеем дело с рядом нитей, идущих параллельно или взаимопересекающихся, которые все подходят друг к другу, иные связаны непосредственно с «центром», от которого все они зависят, другие же развиваются внутри собственных систем.
Таким образом, вся структура такова: Луна — дождь — плодородие — женщина — змей — смерть — периодическое перерождение, но можно иметь дело с одной из подструктур внутри структуры, таких как «змей — женщина — плодородие», или «змей — дождь — плодородие», или, быть может, «женщина — змей — волшебство» и т. д. Вокруг этих вторичных «центров» выросла большая мифология, и если не понимать этого, то она может затемнить первоначальную структуру, хотя эта последняя в действительности полностью участвует даже в малейших фрагментах. Так, например, в двучлене «змея — вода (или дождь)» тот факт, что оба члена подвластны Луне, не всегда очевиден. Бесчисленные легенды и мифы показывают змей и драконов, правящих облаками, живущих в прудах и поддерживающих запасы воды в мире. Связь между змеями, источниками и реками до сих пор хранится в народных верованиях Европы[662]. В иконографии американских индейцев очень часто встречается связь змея и воды; например, мексиканский Бог дождя Тлалок представлен эмблемой — две переплетающиеся змеи;[663] в том же Кодексе Борджиа[664] змея, раненная стрелой, означает дождь;[665] Дрезденский Кодекс показывает воду в сосуде, имеющем форму рептилии;[666] Кодекс Тро–Кортезианус[667] показывает воду, текущую из вазы в форме змеи[668]. Имеется много и других примеров.
Исследования Хенце[669] окончательно доказали, что этот символизм основан на том факте, что Луна посылает дожди. Иногда структура «луна — змея — дождь» даже сохраняется в ритуале: в Индии, например, ежегодная церемония почитания змеи (сарпабали), как она описана в «Грихьясутрах»[670], продолжается четыре месяца, она начинается в полнолуние в Шравана (первый месяц сезона дождей) и кончается в полнолуние в Маргасирса (первый месяц зимы)[671]. Сарпабали включает все три элемента первоначальной структуры. Однако не вполне правильно считать их тремя отдельными элементами; это тройное повторение, «концентрация» Луны, ибо дождь и змеи — не просто эманации Луны, следующие ее ритмам, но фактически единосущны ей. Подобно всякой священной вещи и всякому символу, эти воды и змеи парадоксальным образом являются одновременно сами собою и чем‑то другим — в данном случае Луной.
54. ЛУНА И СМЕРТЬ
Как писал уже давно исследователь–американист Е. Селер, Луна — первая из мертвых. Три ночи небо темное; но как только на четвертую ночь Луна рождается вновь, так мертвые обретают новый вид существования. Смерть, как мы увидим позже, — не угасание, а перемена — и обычно временная — уровня существования. Смерть принадлежит к другому виду «жизни». А поскольку то, что происходит с Луной и с Землей (ибо, открыв земледельческий цикл, люди стали рассматривать Землю как родственницу Луны), доказывает, что есть «жизнь в смерти», и внушает мысль, что мертвые либо отправляются на Луну, либо возвращаются в преисподнюю, чтобы переродиться и приобрести силы нужные для начала нового существования. Вот почему столько лунных божеств являются, кроме того, хтоническими и похоронными божествами (Мин, Персефона, вероятно, Гермес и т. д.)[672]. И вот почему в стольких верованиях Луна видится как страна мертвых. Иногда привилегия отдыха на Луне после смерти предоставляется политическим или религиозным лидерам; в это верят гвайкуру, полинезийцы из Токелау и другие[673]. Это — одна из тех аристократических или героических систем, которые предоставляют бессмертие только привилегированным правителям или посвященным («колдунам»); подобные системы мы находим и в других местах.
Это путешествие на Луну после смерти сохранилось также в высокоразвитых культурах (Индия, Греция, Иран), но с некоторыми добавлениями. У индийцев его совершают по «тропе душ усопших» (питрияна). Души отдыхают на Луне в ожидании перевоплощения, в то время как солнечным путем или «тропой богов» (деваяна) следуют посвященные, или освободившиеся от иллюзии невежества[674]. В иранской традиции души мертвых, пройдя мост Чинват, шли к звездам и, если были праведными, шли к Луне, а затем к Солнцу, самые же добродетельные из всех вступали в garotman, бесконечный свет Ахура–Мазды[675]. То же верование сохранялось в манихействе и существовало также на Востоке[676]. Пифагорейство дало астральной теологии дополнительный импульс, популяризовав идею эмпирей. Елисейские поля, куда отправлялись герои и цезари после смерти, были на Луне[677]. «Острова блаженных» и все мифические географические объекты смерти размещались по небу, используя Луну, Солнце, Млечный Путь. Здесь, конечно, мы явно имеем дело с формулами и культами, проникнутыми астрономическими размышлениями и эсхатологическим гнозисом. Но даже на таких поздних стадиях нетрудно узнать традиционные ключевые идеи: Луна как страна мертвых, Луна, принимающая и перерождающая души.
Лунная сфера была лишь одной ступенью Пути, включавшего несколько других (Солнце, Млечный Путь, «высшую сферу»). Душа отдыхала на Луне, но, как в традиции «Упанишад», только в ожидании перевоплощения и возвращения к жизненному кругу. Вот почему Луне принадлежит главное место в создании организмов, но также в их разрушении[678]. Только то, что не имеет отношения к Луне, не может становиться[679]. Для Плутарха[680], верившего, что человек состоит из трех частей: тела (soma), души (psyche) и ума (nous) — это значило, что души справедливых очищаются на Луне, их тела отдаются обратно Земле, а их умы — Солнцу.
Дуализму души и ума соответствуют два посмертных маршрута к Луне и Солнцу, подобно традиции «Упанишад» о «тропе душ» и «тропе богов». Тропа душ лунная, потому что «душа» не имеет света разума, или, другими словами, потому что человек не познал окончательную метафизическую реальность: Брахман. Плутарх писал, что у человека две смерти; первая происходила на Земле, во владениях Деметры, когда тело отделяется от души и nous и возвращается в прах (почему афиняне и называли мертвых demetreioi[681]); вторая происходит на Луне, во владениях Персефоны, когда душа отделяется от nous и возвращается в вещество Луны. Душа остается на Луне и некоторое время хранит сны и воспоминания о жизни[682]. Праведные вскоре поглощаются Землей; души честолюбивые, своевольные или слишком любящие собственные тела постоянно влекутся к Земле, но могут очиститься лишь через долгое время. Nous влечется к Солнцу, которое принимает его, ибо он соответствует солнечному веществу. Процесс рождения прямо противоположен[683]. Луна получает nous от Солнца, и, созревая там, он порождает новую душу. Земля дает тело. Обратите внимание на символизм оплодотворения Луны Солнцем и ее отношение к перерождению nous и души, к первой интеграции человеческой личности.
Кюмон[684] полагает, что разделение ума на nous и душу пришло с Востока, является по природе семитским и напоминает нам, что евреи верили в «растительную душу» (nephesh), продолжающую некоторое время оставаться на Земле, и «духовную душу» (ruah)[685], которая покидает тело сразу после смерти. Он ищет подтверждения своей теории в восточной теологии, популяризовавшейся при Римской империи, когда описывались влияния слоев атмосферы, Солнца и Луны на душу, спускающуюся из эмпирей на Землю[686]. Этот дуализм души и ее посмертной судьбы можно найти, по крайней мере в виде эмбриона, в древнейших эллинских традициях. Платон признавал и дуализм души (Phaedo), и ее позднейшее разделение на три части[687]. Что касается остальной эсхатологии, то последовательных путешествий nous и души и ее элементов в «Тимее» не найти; это, вероятно, привнесено каким‑нибудь семитским влиянием[688]. Но в настоящий момент нас особо интересует концепция Луны как обиталища душ мертвецов, которая выражена иконографически в рельефах ассирийцев и вавилонян, финикийцев, хеттов и анатолийцев и которая позже применялась в погребальных памятниках по всей Римской империи[689]. По всей Европе полумесяц служил похоронным символом[690]. Это не значит, что он появился вместе с римской и восточными религиями, модными при Империи; ибо, например, в Галлии[691] Луна была местным символом, употреблявшимся задолго до всякого контакта с римлянами. «Мода» только осовременила первобытные понятия, сформулировав на новом языке традицию более древнюю, чем история этого символа.
55. ЛУНА И ИНИЦИАЦИЯ
Однако смерть не окончательна, потому что не окончательна смерть Луны. «Как Луна умирает и опять оживает, так и мы — умираем, но опять встанем», — заявляют индейцы одного калифорнийского племени при совершении обрядов новолуния[692]. Масса мифов описывает «послание», переданное людям Луной через посредство животных (зайца, собаки, ящерицы и др.), в котором Луна «обещает»: «Как я умираю и снова оживаю, так вы тоже умрете и снова оживете». По невежеству или злой воле «посредник» передает прямо противоположное и заявляет, что человек, в отличие от Луны, никогда не оживет, если он умер. Этот миф очень распространен в Африке[693], но его находят также среди айну, на Фиджи, в Австралии и в других местах[694]. Он дает выход из того конкретного факта, что человек смертен, а также оправдывает существование иннциационных обрядов. Даже в рамках христианской апологетики фазы Луны дают хороший образец для нашей веры в воскрешение. «Lune per omnes menses nascitur, crescit, perfìcitur, minuitur, consumitur, innovator, — писал святой Августин. — Quod in luna per menses, hoc in resurrectìone semel in toto tempore»[695]. Поэтому вполне легко понять роль Луны в инициациях, состоящих именно в том, чтобы подвергнуться ритуальной смерти, а затем «возрождению», при помощи которого посвящаемый приобретает свою истинную личность как «новый человек».
В австралийских инициациях «мертвец» (т. е. неофит) поднимается из могилы, как Луна поднимается из тьмы[696]. Среди коряков Северо–Восточной Сибири, гиляков, тлинкитов, тонга и хайда медведь — «лунное животное», так как он появляется и исчезает с временами года — присутствует в обрядах инициации и играет совершенно такую же роль, какую играл в обрядах палеолитических времен[697].
Индейцы помо в Северной Калифорнии инициируют своих кандидатов с участием медведя–гризли, который «убивает» их и «проделывает дыру» в их спинах своими когтями. Их раздевают, потом одевают в новую одежду, а затем они проводят четыре дня в лесу, и им открываются ритуальные тайны[698]. Даже когда в этих обрядах не появляются лунные животные и не делается прямых ссылок на исчезновение и появление Луны, мы склонны связывать различные обряды инициации с лунным мифом на всем пространстве Южной Азии и Тихого океана, как показал Гас в своей монографии, краткое изложение которой дано в книге Копперса[699].
В некоторых шаманских обрядах инициации кандидат «разламывается на куски»[700] совершенно так, как Луна разделяется на части (бесчисленные мифы рассказывают повесть о Луне, разбитой или распыленной Богом, Солнцем и т. д.)[701]. Ту же архетипическую модель мы наблюдаем в осирийских инициациях. Согласно традиции, сообщенной Плутархом[702], Осирис правил двадцать восемь лет и был убит в семнадцатый день месяца, когда луна была на ущербе. Гроб, в котором скрыла его Изида, был обнаружен Сетом, когда он охотился при лунном свете; Сет разделил тело Осириса на четырнадцать частей и разбросал эти куски по всему Египту[703]. Ритуальная эмблема мертвого Бога имеет форму молодой Луны. Между смертью и инициацией явно имеется аналогия. «Вот почему, — говорит нам Плутарх, — существует такое близкое сходство между греческими словами, означающими умирание и инициацию»[704]. Если мистическая инициация достигается через ритуальную смерть, то смерть можно рассматривать как инициацию. Плутарх называет души, достигающие верхней части Луны, «победоносными», и они носят на головах те же короны, что инициированный и триумфаторы[705].
56. СИМВОЛИЗМ ЛУННОГО «СТАНОВЛЕНИЯ»
«Становление» — это типично лунная атрибутика. Воспринимать ли его как драму (рождение, достижение высшей фазы и исчезновение луны), или придавать ему смысл «разделения» или «перечисления» земных событий, или интуитивно видеть в нем «пеньковую веревку», из которой сплетены нити судьбы, — зависит, конечно, от мифотворчества и способностей к теоретизированию отдельных племен и от их культурного уровня. Но формулы, применяемые для выражения этого «становления», разнохарактерны только на поверхности. Луна «делит», «прядет» и «измеряет»; или питает, делает плодородными и благословляет; или принимает души мертвых, инициирует и очищает, — потому что она живет, а стало быть, находится все время в состоянии ритмического становления. Этот ритм всегда входит в лунные ритуалы. Иногда церемониал воспроизводит фазы Луны в целом, как, например, индийская пуджа, введенная тантризмом[706]. Богиня Трипурасундари должна, говорит один тантрийский текст[707], рассматриваться как действительно находящаяся в Луне. Один тантрический писатель, Бхаскаро Раджа, определенно заявляет, что пуджа богини должна начинаться в первый день новолуния и продолжаться все пятнадцать дней лунного света; это требует шестнадцати брахманов, причем каждый представляет одну сторону Богини (т. е. одну фазу Луны, одну титхи). Туччи[708] совершенно справедливо замечает, что присутствие брахманов может быть лишь недавним нововведением и что в примитивной пуджа «становление» лунной Богини представляли другие фигуры. И действительно, в «Рудраяурала», несомненно авторитетном трактате, мы находим описание традиционной церемонии кумари–пуджа, или «поклонения деве». И эта пуджа всегда начиналась в новолуние и продолжалась пятнадцать ночей. Но вместо шестнадцати брахманов там бывали шестнадцать кумари, чтобы представлять шестнадцать лунных титхи. Поклонение это — врадхибихедана, т. е. совершается в порядке возрастов, и эту роль исполняли шестнадцать дев от одного года до шестнадцати лет. Каждый вечер пуджа представляет соответствующую титхи Луны[709]. Тантрический церемониал вообще уделяет огромное значение женщине и женским божествам;[710] в этом случае параллель между лунной формой и женственностью совершенна.
Что именно Луна «измеряет» и «делит», показано примитивными классификациями, а также этимологиями. В Индии опять же «Брихадараньяка–упанишада»[711] повествует: «Это год Праджапати. Он имеет шестнадцать частей; пятнадцать из них — ночи, шестнадцатая установлена. Именно ночью она (Луна) растет и убывает» и т. д. «Чхандогья–упанишада»[712] сообщает нам, что человек состоит из шестнадцати частей и растет в то же время, что и пища[713]. Следы восьмеричной системы встречаются в Индии в изобилии: восемь мата, восемь мурти и т. д.; шестнадцать кала, шестнадцать шакти, шестнадцать матрика и т. д.; тридцать два сорта дикша и др., шестьдесят четыре йогини, шестьдесят четыре упачара и т. д. В ведической и брахманской литературе преобладает четверка. Вач (Логос) состоит из четырех частей[714], пуруша (человек, великан) — тоже[715]. Фазы Луны возбуждают сложные ассоциации в позднейшем созерцательном мышлении. Штухен посвятил целую книгу изучению отношений между буквами алфавита и фазами Луны в понимании арабов[716]. Хоммель[717] показал, что десять или одиннадцать древнееврейских букв обозначают фазы луны (например, aleph, что означает «бык», — символ Луны в ее первую неделю, а также название знака Зодиака, где изначально обитает луна, и т. д.). У вавилонян тоже существует отношение между графическими знаками и фазами Луны[718]. То же самое наблюдается у греков[719] и скандинавов (двадцать четыре руны делятся на три сорта, или aettir, каждый содержит восемь рун)[720]. Одно из яснейших и полнейших уподоблений алфавита (как собрания звуков, т. е. не на письме) фазам Луны можно найти в примечаниях Дионисия Тракса, где гласные соответствуют полнолунию, твердые согласные — полумесяцу (четвертям), а мягкие согласные — новолунию[721].
57. КОСМОБИОЛОГИЯ И МИСТИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ
Эти уподобления не просто служат функции классификации. Их получают при попытке полностью объединить человека и Вселенную в едином божественном ритме. Их значение прежде всего магическое и искупительное. Прививая себе силы, открытые в «буквах» и «звуках», человек помещает себя в разные центральные пункты космической энергии и так добивается полной гармонии между собой и всем существующим. «Буквы» и «звуки» действуют как образы, делая возможным путем созерцания или волшебства переходить с одного космического уровня на другой. Только один пример: в Индии, когда человек собирается «вызвать» в себе божественный образ, он должен сперва размышлять, и размышление его должно включать наряду с другими следующее упражнение (в котором Луна, мистическая физиология и важность звука образуют вместе структуру совершенной утонченности): «Вообразив в своем сердце лунный шар, развившийся из первоначального звука (пратхама–свара–паринатам, т. е. возникший из буквы А), пусть увидит внутри него прекрасный голубой лотос, в его волокнах — незапятнанный шар луны, а на нем желтое семя–слог Там…»[722]
Конечно, интеграция человека в Космос может совершиться, только если он приведет себя в гармонию с обоими астральными ритмами, «соединив» Солнце и Луну в своем живом теле. Это «объединение» обоих центров священной и естественной энергии имеет целью — в этих приемах мистической физиологии — воссоединить их в том первоначальном недифференцированном целом, каким оно было, когда еще не было разорвано актом, создавшим Вселенную; и это «соединение» символизирует превосходство Космоса. В одном тантрическом тексте[723] упражнение в мистической физиологии предлагает превратить «гласные и согласные в браслеты, а Солнце и Луну в кольца»[724]. Школы тантрическая и хатха–йога в высочайшей степени развили эти сложные аналогии между Солнцем, Луной и разными «мистическими» центрами артерии, крови и semen virile, и т. д.[725] Цель этих аналогий — прежде всего соединить человека с ритмами и энергиями Космоса, а затем объединить эти ритмы, слить центры и в конце концов совершить тот прыжок в трансцендентное, который становится возможным, когда все «формы» исчезают и восстановлено первоначальное единство. Подобные приемы — конечно, отшлифованный продукт долгой мистической традиции, но рудиментарную основу их мы находим у первобытных народов[726] столь же часто, как в синкретические периоды средиземноморских религий (Луна влияет на левый глаз, а Солнце — на правый;[727] Луна и Солнце на погребальных памятниках как символ вечности[728] и т. д.).
Способом своего существования Луна связывает целую массу реальностей и судеб. Ритмы Луны соединяют самые разные гармонии симметрии, аналогии и участия, составляющие бесконечную «ткань», «сеть» из невидимых нитей, которые связывают одновременно человечество, дождь, растительность, здоровье, животных, смерть, перевоплощение, загробную жизнь и многое другое. Вот почему в столь многих традициях Луна олицетворяется как божество или действует через лунное животное, «ткущее» космическое покрывало и судьбы людей. Именно лунные богини либо изобрели профессию ткачества (как египетское божество Нейт), либо прославились умением ткать (Афина наказала Арахну, осмелившуюся соперничать с ней, и обратила ее в паука)[729], либо ткали одеяние космических размеров (подобно Прозерпине и Гармонии)[730] и т. д. В средневековой Европе верили, что покровительницей ткачей была Холда, и за этой фигурой мы видим хтоническую и лунную природу божеств плодородия и смерти[731].
Мы, очевидно, имеем здесь дело с крайне сложными формами, в которых кристаллизуются мифы, церемониалы и символы из различных религиозных структур, и не всегда они появились непосредственно из интуитивного постижения Луны как меры космических ритмов и повелительницы жизни и смерти. С другой стороны, мы находим в них синтезы Луны и Матери–Земли со всеми элементами их «епархии» (двойственность хорошего и дурного, смерть, плодородие, судьбу). Таким же образом нельзя ограничивать космическую «сеть» связями исключительно с Луной. В индийском мышлении, например, Вселенная была «соткана» Воздухом[732] так же, как Дыхание (прана) «соткало» человеческую жизнь. В соответствии с пятью ветрами, которые делят по своим территориям космическое пространство и все же сохраняют его единство, существуют пять дыханий (prana), «ткущих» человеческую жизнь как целое (тождество дыхания и ветра можно найти еще в ведических писаниях)[733]. В этих традициях заключена первобытная концепция целостности всего живого — космического или микрокосмического, — в котором разные части удерживает вместе дышащая сила (ветер или дыхание).
58. ЛУНА И СУДЬБА
Однако Луна, просто потому что она госпожа всего живого и вечный проводник мертвых, «соткала» все судьбы. Недаром в мифах она представляется огромным пауком — образ, использованный множеством народов[734]. Ибо ткать — это не только предназначать для какой‑то цели (антропологически) и соединять разные действительности (космологически), но также создавать, делать что‑то из собственной сущности, как паук, прядущий свою сеть. Луна — неисчерпаемый создатель всех живых форм. Но, как все сотканное, созданные таким образом жизни закреплены в заранее предопределенном узоре: они имеют судьбу. Мойры, прядущие судьбы, — лунные божества; Гомер[735] называет их «прядильщицами», а одну из них даже зовут Клото, что значит «прядильщица». Они, вероятно, начали с того, что были богинями рождения, но позднейшее развитие мышления возвысило их в положение олицетворения Судьбы. Однако их лунная природа никогда не уходила от них совершенно. Порфирий говорил, что мойры зависят от сил Луны, а орфический текст рассматривает их как составляющих часть (ta mere) Луны[736]. В древних германских языках одно из слов, означающих судьбу (древневерхненемецкое wurt, древненорвежское urdhr, англосаксонское wyrd), происходит из индоевропейского глагола uert, «вращать». Откуда получаем древневерхненемецкие слова wirt, wirtel — «веретено», «ручная прялка» и голландское worwelen — «вращать»[737].
Излишне говорить, что в тех культурах, где Великие богини поглотили силы Луны, Земли и растительности, веретено и ручная прялка, которыми они прядут людские судьбы, становятся еще двумя из их многочисленных атрибутов. Таков случай богини с веретеном, найденной в Трое и датируемой периодом между 2000 и 1500 лет до н. э.[738] Эта иконографическая фигура на Востоке обычна; мы находим ручную прялку в руке Иштар, хеттской Великой Богини, сирийской богини Атаргатис, первобытного киприотского божества, богини Эфеса[739]. Судьба, нить жизни — это долгий или короткий период времени. Следовательно, Великие богини становятся госпожами времени, судеб, создаваемых ими по своей воле. В санскрите время — кала, и это слово очень близко к имени Великой Богини, Кали. Действительно, предполагается связь между этими двумя словами[740]. Кала значит также «черный, затемненный, запятнанный». Время черно, потому что оно бессмысленно, сурово, беспощадно. Те, кто живет под господством Времени, претерпевают всякие страдания, а освобождение заключается прежде всего в уничтожении Времени, в избавлении от закона изменения[741]. Согласно индийской традиции, человечество находится ныне в калиюге, т. е. в «темной эре», в периоде всеобщего смятения а полного духовного упадка, на последней стадии завершения космического цикла.
59. ЛУННАЯ МЕТАФИЗИКА
Мы должны попытаться создать общую картину всех этих лунных иерофаний. Что они обнаруживают? Насколько они подходят друг к другу и друг друга дополняют, насколько они составляют «теорию» — т. е. выражают последовательность «истин», которые, взятые вместе, могут образовать систему? Отмеченные нами иерофаний Луны можно сгруппировать вокруг следующих тем: а) плодородие (воды, растительность, женщины; мифологический «предок»); b) периодическое перерождение (символизм Змея и всех лунных животных; «новый человек», переживший водную катастрофу, причиненную Луной; смерть и воскрешение инициации и т. д.); c) Время и Судьба (Луна «измеряет» или «ткет» судьбы, «связывает» вместе различные космические уровни и разнородные реальности; d) перемены, отмеченные противопоставлением Света и Тьмы (полнолуние — новолуние; «верхний мир» и «преисподняя»; братья — враги, добрые и злые) или равновесием между бытием и небытием, возможным и подлинным (символизм скрытого, темная ночь, тьма, смерть, семена и личинки).
Во всех этих темах господствующая идея — это идея ритма, воплощающаяся в последовательность противоположностей, это «становление» через последовательность противоположных модальностей (бытие и небытие, формы и скрытые сущности; жизнь и смерть и т. д.). Это становление, о чем даже не стоило бы и говорить, которое не может происходить без драмы или пафоса; Подлунный Мир — не только мир перемен, но также мир страдания и «истории». Ничто случающееся в этом мире под Луной не может быть «вечным», ибо ее закон — это закон становления, и ни одно изменение не конечно; каждое изменение — только часть циклического рисунка.
Фазы Луны дают нам если не представление об историческом происхождении, то, по крайней мере, мифологическую и символическую иллюстрацию всех дуализмов. «Преисподняя, мир тьмы, олицетворяется ущербной Луной (рога подобны лунному серпу, знак двойного витка — двум полумесяцам, смотрящим в разные стороны, а связанные вместе — они подобны лунной перемене, дряхлому и костлявому старику. Верхний мир, мир жизни и нарастающего света, олицетворяется тигром (чудовище тьмы и новолуния), который позволяет человечеству, представленному ребенком, избежать его челюстей (ребенок — предок племени, подобный новолунию, «Возвращающийся свет»)»[742]. Эти образы происходят из культурной области первобытного Китая, но символы света и тьмы были там взаимодополняющими; сова — символ тьмы, оказывается рядом с фазаном — символом света[743]. Цикада тоже одновременно сродни демону тьмы и демону света[744]. На каждом космическом уровне за «темным» периодом следует светлый, чистый период возрождения. Символизм появления из «тьмы» можно найти в обрядах инициации, а также в мифологии смерти, в жизни растений (похороненное зерно, «тьма», из которой поднимается «новое растение» (неофит) и во всей концепции «исторических» циклов. За «темным веком», калиюгой, должно наступить полное разрушение Космоса (махапралая), а за ним — новая, возрожденная эра. Та же идея обнаруживается во всех традициях, повествующих о космических «исторических» циклах, и хотя она, по–видимому, не появилась впервые в человеческом разуме с открытием фаз Луны, она, несомненно, превосходно иллюстрируется их ритмом.
Именно в этом смысле мы можем говорить о положительной ценности периодов тени, времен большого упадка и разложения; они приобретают сверхисторическое значение, хотя фактически как раз в такие времена история совершается наиболее полным образом, ибо тогда равновесие неустойчиво, условия жизни людей бесконечно разнообразны, распад законов и всей старой структуры ведет к новым событиям. Подобные темные периоды — своего рода тьма Всеобщей Ночи. И в качестве таковых они сами по себе представляют положительную ценность, как положительную ценность представляет собою смерть; это тот же символизм, что символизм личинок в темноте, зимней спячки, семян, лопающихся в земле, чтобы могла появиться новая форма.
Можно было бы сказать, что Луна показывает человеку его истинное человеческое состояние, что в каком‑то смысле человек смотрит на себя и вновь находит себя в жизни Луны. Вот почему символизм и мифология Луны содержат элемент пафоса и в то же время утешения, ибо Луна правит и смертью и плодородием; и драмой и инициацией. Хотя модальность Луны — это в высшей степени модальность изменения, ритма, она равным образом — модальность периодического возврата; и этот способ существования тревожен и утешителен в одно и то же время — ибо, хотя проявления жизни так хрупки, что могут вдруг совершенно исчезнуть, они восстанавливаются в «вечном возвращении», регулируемом Луной.
Таков закон всего подлунного мира. Но этот закон, одновременно суровый и милосердный, может быть отменен, а в некоторых случаях можно «превзойти» это периодическое становление и достичь абсолютного способа существования. Мы видели (§ 57), как в некоторых случаях делается попытка «объединить» Луну и Солнце, преодолеть противопоставление вещей, вновь сочетать их в первобытном единстве. Этот миф о воссоединении можно найти почти везде в истории религии в бесконечных вариациях — и, в сущности, это выражение жажды покончить с дуализмами, бесконечными возвратами и фрагментарными существованиями. Она существовала на самых примитивных стадиях, а это показывает, что человек с того времени, когда он впервые осознал свое положение во Вселенной, страстно желал и пытался достигнуть конкретно (т. е. при помощи и религии и магии) выхода за пределы своего человеческого статуса (так точно «отраженного» статусом Луны). Мы будем иметь дело с феноменами такого рода и в других местах, но я указываю на них здесь, потому что они отмечают первую попытку человека преодолеть свой «лунный способ существования»[745].
БИБЛИОГРАФИЯ
Schimdt W. Semaine d’ethnologie religieuse. Vol. II 1914. P. 294 и сл., р. 341 и сл.; Krappe А. Н. La Genese des mythes. P., 1938. P. 100 и сл.; Krappe Α.Η. Etudes de mythologie et de folklore germaniques. P., 1928. P. 74 и сл.; Dahnhardt О. Natursagen. Vol. I. Leipzig, 1907; Preuss K. T. Das Problem der Mondmymologie im Lichte der lokalen Spezialforschung // AFRW. Vol. ΧΧΠΙ. 1925. S. 1–14; Rascher W. Über Selene und Verwandles. Leipzig, 1890; Much R. Mondmythologie und Wissenschaft // AFRW. Vol. XXXVIL 1942. P. 231–261 (against the theories of H. Lessmann, G. Hussing and W. Schultz); Tallquist К. Manen i myt och dikt, foktro och Kult // SO. Vol. XIL. Helsinki, 1947.
См. также:
Nielsen D. Die altarabische Mondreligion. 1904; G. Dumeril. Tityos // RHR. Vol. III. 1935. S. 66–89; Jackson J. W. The Aztec Moon‑Cult and its Relation to the Chank‑Cult of India // Manchester Memoirs. Vol. LX. Manchester, 1916. №5; Hentze С. Mythes et symboles lunaires. Antwerpen, 1932; Hentze С. Objets rituels, croyances et dieux de la Chine antique et de l’Amérique. Antwerpen, 1936; Hentze С. Frühchinesische Bronzen. Antwerpen, 1938; но см.: Karlgren В. Legends and Cults in Ancient China // BMAS. Stockholm, 1946. №18. P. 346 и сл.
Briffault R. The Mothers. Vol. I‑III. L., 1927; Frazer J. The Belief in Immortality and the Worship of the Dead. Vol. I. L., 1913. P. 60 и сл.; Frazer J. Folklore in the Old Testament Vol. I. P. 52 и сл.; Hentze С. Mythes and symboles, passim.; Capelle P. De Luna, Stellis, Lacteo Orbe Animarum Sedibus. Halle, 1917; Cumont F. Recherches sur le symbolisme funeraire das Remains. P., 1942. P. 182 и сл.
Koppers W. Der Hund in der Mythologie der zirkumpazifischen Völker // WBKL. Vol. I. 1930. S. 359 и сл.; ср. также: Schebesta P. Les Pygmees. P. 79.
Saintyvcs P. L’Astrologie populaire, etudiée specialement dans les doctrines et les traditions relatives à l’influence de la lune. P., 1937. P. 230 и сл.; Eliade M. Notes sur le symbolisme aquatique // CZ. Vol. II 1939. P. 139–152: reprinted in: Images et symboles. P., 1952. P. 164–198; Bidez J., Cumont F. Les Mages hellénistes. Vol. II. Brüssels, 1938. P. 189, 227, 302 и сл.; Liungman W. Traditionswanderungen:Euphrat‑Rhein. Vol. II. Helsinki, 1937–1938. S. 656 и сл.
Schultz W. Zeitrechnung und Weltordnung in ihren übereinstimmenden Grundzugen bei den Indern, Iraniern, Keltern, Germanen, Litauern, Slawen // MB. №35. Leipzig, 1924. S. 12 и сл. (критику позиции Шульца см.: Much R. Mondmymologie…); Dornsieff F. Das Alphabet in Mystik und Magie. 2nd ed. Leipzig, 1925. S. 82. и сл.; Hirschberg W. Der «Mondkalender» in der Mutterrechtskultur // APS. Vol. XXVI. 1931. S. 461. и сл.
Ras‑Shamra, ср.: Gaster Th. A Canaanite Ritual Drama //JAOS. Vol. LXVI. P. 49 76, особенно р. 60.
Dhorme E. La Religion des Hebreux nomades. 1937. P. 87 и сл.; Dhorme E. Les Religions de Babylonie et d’Assyrie // MA. Vol. II. 1945. P. 59 и сл., 85 и сл.
Mackay E. J. H. Chanhu‑Daro Excavations 1935–36 // APS. Vol. XX. 1943. №16.
Oldenberg H. Die Religion des Veda. S. 178 и сл.; Lommel H. Les Anciens Aryans. P. 83 и сл.; Walk L. // APS. 1933. P. 235; Eliade M. Le ’Dieu Lieur et le symbolisme des noeuas // RHR, 1948; репринтное воспроизведение в: Images et symboles. P. 120–156.
Tucci G. Tracce di culto lunare in India // RSO. Vol. XII. 1929–1930. P. 419 427; Eliade M. Cosmical Homology and Yoga // JISOA. 1937. Июнь–дек. P. 199 203; ср. также: Dasgupta S. Obscure Religious Cults as Background of Bengali Literature. Calcutta, 1946. P. 269 и сл.
Widengren G. Hochgottglaube im Alten Iran. Uppsala; Leipzig, 1938. S. 164. и сл.
Eliade M. The Myth of the Eternal Return. L., 1955. P. 95. и сл.
Rahner H. Das christliche Mysterium von Sonne und Mond // EJ. Vol. X. Zürich, 1944. S. 305–404; Deonna W. Les Crucifix de la vallée de Saas (Valais): Sol et luna // RHR. Vol. CXXXII. 1946. P. 5–37; Vol. CXXXIII. 1947–1948. P. 49–102.
Глава V
ВОДЫ И АКВАТИЧЕСКИЙ СИМВОЛИЗМ
60. ВОДЫ И СЕМЕНА СУЩЕГО
Пользуясь краткой формулой, можно сказать, что вода символизирует полную совокупность возможного; она есть fons et origo (источник и начало), средоточие всех потенций бытия. «Вода, ты есть источник всякой вещи и всякого бытия!» — говорит один из индийских текстов[746], подводя итог долгой ведической традиции. Вода лежит в основе мироздания;[747] она есть основа жизни растения[748], эликсир бессмертия[749], подобный амрите;[750] она обеспечивает долгую жизнь, творческую силу, составляет принцип всякого исцеления и т. д.[751] «Да принесут нам воды благополучие!» — так молился ведический жрец[752]. «Воды суть воистину целители; воды изгоняют и излечивают все болезни!»[753]
Будучи началом бесформенности и потенциальности, основой всего многообразия космических проявлений, вместилищем всех зачатков, вода символизирует первичную субстанцию, из которой рождаются все формы и в которую они возвращаются либо путем увядания, либо через катаклизм. В начале были воды, и они же покроют все вновь в конце полного исторического или космического цикла; вода пребудет всегда — но никогда ей не быть только водой, ибо она всегда рождает, заключая в своем нерасчлененном единстве возможности всех форм. В космогонии, в мифе, в ритуале, в иконографии воды исполняют одну и ту же функцию — независимо от структуры того культурного целого, в составе которого мы их находим: они предшествуют всякой форме и поддерживают всякое творение. Погружение в воду символизирует возврат в состояние неоформленности, полную регенерацию, новое рождение, поскольку погружение равнозначно растворению форм, реинтеграции в добытийную бесформенность; а выход из вод повторяет космогонический акт формообразования. Контакт с водой всегда подразумевает возрождение, с одной стороны, поскольку за растворением следует «новое рождение» — с другой, потому что погружение повышает плодородие, жизненный и творческий потенциал. В ритуале инициации вода дает «новое рождение», в магическом ритуале она исцеляет, в похоронных ритуалах — обеспечивает посмертное возрождение. Воплощая в себе все возможности, Вода становится символом Жизни («живая вода»). Обильная семенем, она плодотворит Землю, животных, женщину. Она — вместилище всех потенций, предельное выражение текучести, основа всеобщего становления. Воду сопоставляют или прямо породняют с Луной. Ритмы лунные и ритмы акватические подчинены одному и тому же закону; они управляют периодическим появлением и исчезновением всех форм, придают циклическую структуру всеобщему становлению.
Далее, с доисторических времен единство Воды, Луны и Женщины воспринималось как антропокосмический круг плодородия. На неолитических вазах, относящихся к так называемой вальтернинбург–бернбургской культуре, вода изображалась знаком \/\/\/, который является древнейшим египетским иероглифом для текущей воды[754]. Уже в эпоху палеолита спираль символизировала водные и лунные факторы плодородия; изображение ее на женских статуэтках выражало единство всех этих источников жизни и плодоношения[755]. В мифологиях американских индейцев иероглиф воды, изображающий наполненную ею вазу, в которую падает капля из облака, всегда встречается в сочетании с лунной символикой[756]. Спираль, улитка (символ Луны), женщина, вода, рыба конституционально принадлежат к единому символизму плодородия, действительному для всех планов космического бытия.
Опасность всякого анализа состоит в расчленении и раздроблении на отдельные элементы того, что первоначально явлено сознанию как нерасчлененное единство, Космос. Один и тот же символ может служить знаком и именем для целого ряда реальностей, которые лишь в профанном опыте воспринимаются как раздельные и автономные. Множественность значений, придаваемых одному и тому же образу или слову в архаических языках, постоянно указывает нам на то, что породившему их сознанию мир представал как органическое целое. В шумерском языке «а» означало «вода», но равным образом оно означало «сперма», «зачатие», «порождение». В месопотамской клинописи, к примеру, вода и рыба символизируют плодородие. Даже в наши дни у «примитивных» народов вода отождествляется — не всегда в повседневном опыте, но регулярным образом в мифологии — с мужским семенем. На острове Вакута существует миф, в котором девушка утратила девство, позволив дождю коснуться своего тела; а важнейший миф островов Тробриан повествует о том, как Болутуква, мать героя Тудава, стала женщиной вследствие падения нескольких капель воды со сталактита[757]. Похожий миф есть и у индейцев пима из штата Нью–Мексико: прекраснейшую женщину (Землю–Мать) оплодотворяет капля воды из облака[758].
61. ВОДНЫЕ КОСМОГОНИИ
Хотя и разделенные в пространстве и времени, эти факты тем не менее образуют некоторую целостную космологию. Во всех планах бытия вода есть порождающее начало, источник жизни. В индийской мифологии во множестве вариантов присутствует тема первобытных вод, по которым плавает Нараяна с растущим из его пупа Космическим древом. В пуранической традиции дерево заменяется лотосом, из сердцевины которого рождается Брахма (абьяя, «рожденный из лотоса»[759]). Аналогичным образом появляются другие боги — Варуна, Праджапати, Пуруша или Брахман (Сваямбху), Нараяна или Вишну — различные варианты одного и того же космогонического мифа, вода остается непременной частью этого мифа. Позднее эта водная космогония становится привычным мотивом в иконографии и декоративном искусстве: цветок или дерево растет изо рта или из пупа якши (воплощения плодоносящей жизни), из глотки морского чудища (макара), из улитки или из «полной вазы», но никогда — прямо из чего‑либо, что бы символически изображало Землю[760]. Ибо, как мы видели, воды предшествуют и служат опорой всякому Творению, всякому «прочному установлению», всякому космическому проявлению.
Воды, по которым в блаженной беспечности плавал Нараяна, символизируют состояние покоя и тьмы, космическую ночь. Нараяна и сам пребывает во сне. И из его пупа, т. е. из Центра (ср. § 145), произрастает первая космическая форма: лотос или дерево — символ нарушенности мирового покоя; животворящей, но дремотной силы; жизни, из которой еще не выделилось сознание. Все творение исходит из единого лона и на нем утверждено. В других вариантах Вишну в своем третьем воплощении (в образе гигантского кабана) спускается в глубины первобытных вод и извлекает из бездны Землю[761]. Этот миф, океанический по происхождению и структуре, сохранился и в европейском фольклоре (см. библиографию).
Вавилонская космогония также повествует нам о водном хаосе, о первобытном Океане, об Апсу и Тиамат, Первый олицетворяет пресноводный Океан, по которому позднее поплывет Земля, Тиамат же — это горько–соленое море, населенное чудовищами. «Энума Элиш», поэма творения, начинается так:
Традиционное представление о первобытных водах, породивших миры, в большом числе вариантов встречается в древних и «примитивных» космогониях. Мы отсылаем читателя к «Natursagen» О. Даннхардта[763] и, для получения дальнейших библиографических указаний, к «Указателю мотивов в фольклорной литературе» С. Томпсона[764].
62. ВОДА КАК ИСТОЧНИК ЖИЗНИ
Поскольку вода есть первоисточник всего сущего, в котором заключены все возможности и прорастают все зачатки, легко понять существование мифов, возводящих к ней происхождение рода человеческого или какой‑нибудь отдельной расы. На южном берегу Явы находится сегара анаккан, «Море детей». Индейцы караджа в Бразилии еще помнят мифические времена, когда они «еще жили в воде». Хуан де Торквемада, описавший крестильные омовения новорожденных в Мексике, сохранил для нас несколько формул, посредством которых младенец посвящался Богине Вод Чальчиутликуэ Чальчиутлатонак, считавшейся его подлинной матерью.
Перед погружением младенца в воду говорили: «Прими эту воду, ибо богиня Чальчиутликуэ Чальчиутлатонак есть твоя мать. Да очистит тебя это омовение от грехов твоих родителей…» Потом, касаясь водой губ, груди и головы младенца, добавляли: «Прими, дитя, мать свою Чальчиутликуэ, Богиню Вод»[765]. Древние карелы, мордва, эстонцы, черемисы и другие финно–угорские народы знали «Мать–Воду», к которой обращались за помощью женщины, желавшие иметь детей[766]. Бесплодные татарки на коленях молились у пруда[767]. Ил, лимус, представляет собой особенно животворную среду. Незаконнорожденных детей уподобляли водорослям и бросали в ил, неистощимый источник жизни; тем самым совершалось их ритуальное возвращение в ту нечистую жизнь, из которой они вышли, подобно тростнику и болотным травам. Тацит писал о германцах: «Ignavos et imbelles et corpore infames caeno ac palude, iniecta insuper crate, mergunt» («Ленивых, невоинственных и слабых телом они топят в грязи и болоте, набрасывая сверху плетенку»)[768]. Вода рождает, Дождь плодотворит, подобно мужскому семени. Согласно эротико–космогоническому символизму, Небо заключает в объятия и оплодотворяет Землю Дождем. Этот символизм поистине универсален. Германия изобилует «детскими источниками», «детскими прудами», «детскими колодцами»[769]. В Оксфордшире в Англии есть «Детский колодец», известный тем, что исцеляет женщин от бесплодия[770]. Многие такого рода верования контаминированы представлением о Матери–Земле и эротическим символизмом фонтана. Но в основании этих верований, как и в основании всех мифов о происхождении от Земли, растительности или камней, лежит одна и та же фундаментальная идея: жизнь, т. е. реальность, сконцентрирована в некоторой космической субстанции, из которой — путем ли прямого порождения или символического участия — происходят все формы жизни. Водяные животные, особенно рыбы (которые в то же время выступают в качестве эротических символов) и морские чудовища, становятся образами сакрального, поскольку они замещают абсолютную реальность, сконцентрированную в воде.
63. «ВОДА ЖИЗНИ»
Космогонический символ, вместилище всех зачатков — вода выступает по преимуществу и в качестве волшебной и целебной субстанции: она лечит, омолаживает, наделяет бессмертием. Прототипом всякой воды является «живая вода», которую позднейшее умозрение поместило куда‑то в небесные области — туда же, где существуют небесные напитки, такие как сома, белая хаома и т. д. Живая вода, источники молодости, вода жизни и т. п. — все это мифологические формулы одной и той же метафизической и религиозной реальности: вода несет в себе жизнь, крепость и вечность. Разумеется, воды этой не добыть невесть кому и невесть каким образом. Ее охраняют чудовища. Она находится в труднодостижимых местах, во владении демонов или богов. Добраться до ее источника и добыть «живой воды» можно лишь пройдя через ряд посвящений и испытаний, в точности, как и в поисках Дерева Жизни (см. § 108, 145). «Река бессмертия» (виджара–нади) протекает близ чудесного дерева, о котором повествует «Каушитаки–упанишада»[771]. Эти же два символа соседствуют и в Апокалипсисе[772]: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца·., и по ту и по другую сторону реки, древо жизни…»[773]
«Живая вода» омолаживает и дарит вечную жизнь, и всякая вода через посредство процесса соединения — разложения, смысл которого прояснится в дальнейшем, являет свою действенность, плодотворность и целебность. Уже в наши дни в Корнуэлле больных младенцев троекратно погружали в колодец Святого Мандрона[774]. Значительное число целебных источников[775] и рек[776] имеется во Франции. Существуют также источники, благотворно влияющие на любовь[777]. Другие водные источники ценятся в народной медицине[778]. В Индии болезни выбрасывают в воду[779]. У финно–угорских народов некоторые болезни объясняются осквернением или нечистотой водных потоков[780]. И в завершение этого краткого обзора чудесных свойств воды напомним о «новой воде», широко используемой для приготовления колдовских снадобий и народных лекарств. «Новая вода», т. е. вода из нового сосуда, не оскверненная использованием для повседневных нужд, несет в себе все те плодотворящие и творческие потенции, которыми обладали первобытные Воды. Она исцеляет, поскольку в некотором смысле воспроизводит Творение. Позднее мы увидим, как магические акты «повторяют» космогонию, поскольку они проецируются в мифологическое время сотворения миров и суть лишь воспроизведение действий, совершенных тогда, ab origine (в начале). В «новой воде» ищут средство магического исцеления от болезни через контакт с первобытной субстанцией; вода принимает в себя хворь в силу своей способности поглощения и растворения всех форм.
64. СИМВОЛИЗМ ПОГРУЖЕНИЯ
Очищение водой имеет те же свойства: в воде все «растворяется», всякая «форма» разрушается, всякое прошлое упраздняется; ничто из того, что прежде существовало, не сохраняется после погружения в воду — никакое очертание, никакой «знак», никакое «событие». В человеческом плане погружение эквивалентно смерти, а в космическом — катастрофе, потопу, периодически растворяющему мир в водах первобытного Океана. Разрушающая всякую форму и упраздняющая всякое прошлое вода обладает способностью очищения, восстановления и возрождения, поскольку погружаемый в нее «умирает» и восставая из воды, подобен безгрешному, не имеющему прошлого младенцу, способному воспринять новое Откровение и начать новую, «подлинную» жизнь. Как писал Иезекииль:[781] «И окроплю вас чистою водою, — и вы очиститесь от всех скверн ваших». А пророку Захарии[782] было явлено в духе, что «в тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытая греха и нечистоты».
Вода потому очищает и возрождает, что она упраздняет прошлое, восстанавливает — пусть на мгновение — первозданную неповрежденность. Иранская Богиня Вод Ардвисура Анахита именуется «святой, умножающей стада… имение… богатства… земли… очищающей семя всякого мужа… и лоно всякой жены… дающей им молоко, в котором они нуждаются», и т. д.[783] Омовения очищают от преступления[784], от пагубного соседства с умершими[785], от безумия (фонтан Клитора в Аркадии)[786], упраздняя и грехи, и процессы физического и психического распада. Они предшествуют главнейшим религиозным актам, подготавливая человека к погружению в экстаз сакрального. Омовение совершали и перед вхождением в храм[787], и перед жертвоприношением[788].
Та же ритуальная логика возрождения водой объясняет практику погружения в воду статуй божеств в античном мире. Ритуал священного омовения был обычной принадлежностью культа Великих богинь плодородия и земледелия. Убывающие силы богини таким образом восстанавливались, что обеспечивало хороший урожай (магия погружения вызывала дождь) и приумножение богатств. Омовение фригийской Матери, Кибелы, происходило 27 марта (Hilaria). Статую погружали в реку (в Пессинунте Кибелу «купали» в Галлосе) или в пруд (как в Анкире, Магнесии и др.)[789]. «Купание» Афродиты совершалось в Пафосе[790], и Павсаний описал для нас лутрофоры богини в Сиционе[791]. В III веке после Р.X. Каллимах[792] воспевает купание богини Афины. Этот ритуал был весьма распространенным в практике почитания критских и финикийских богинь[793], равно как и у некоторых германских племен[794]. У католиков с XIII века практиковалось погружение в воду распятия или статуй Девы Марии и святых для защиты от засухи и вызова дождя, и этот обычай, несмотря на противодействие церкви, сохранялся до XIX и даже до XX века[795].
65. КРЕЩЕНИЕ
Существовавший с незапамятных времен и повсеместно символизм погружения в воду ради очищения и возрождения был воспринят христианством и обогащен новым религиозным смыслом. Св. Иоанн Предтеча крестил не для исцеления от телесных недугов, но для искупления души, для прощения грехов. Иоанн проповедовал «крещение покаяния во оставление грехов»[796] и добавлял: «Я крещу вас водой, но идет Сильнейший меня… Он будет крестить вас Духом Святым и огнем»[797]. В христианстве крещение становится главным инструментом духовного возрождения, поскольку погружение в крестильную воду равнозначно погребению с Христом. «Неужели не знаете, — писал св. апостол Павел, — что все мы, крестившиеся в Христа Иисуса, в смерть Его крестились?»[798] Символически человек при погружении умирает и затем рождается вновь, очищенный и обновленный — подобно восставшему из гроба Христу. «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием Воскресения»[799].
Из огромного количества патриотических текстов, толкующих символику крещения, мы остановимся только на двух, один из которых относится к сотериологическому значению воды, другой — к крещенскому символизму смерти — возрождения. У Тертуллиана мы находим обширную апологию исключительным свойствам воды, космогонической стихии, изначально освященной божественным присутствием. Ибо вода была первым «седалищем Духа Божьего, — стало быть, более приятным Ему, чем все существовавшие тогда стихии… Воды первыми получили повеление произвести живых существ. Влага первой произвела живое, дабы при крещении не казалось удивительным, что воды могут оживлять. А разве дело создания самого человека не было окончено при содействии вод? Как материал для этого годится земля, но только влажная и смоченная… Вода, управляя земной жизнью, приносит пользу и в небесной… Любая вода благодаря преимуществам своего происхождения получает таинство освящения, как только призывается Бог. Ибо тотчас же сходит с небес Дух и присутствует в водах, освящая их Собою, и они, освященные таким образом, впитывают силу освящения… То, что прежде исцеляло болезни тела, ныне врачует дух. Что приводило к преходящему спасению, ныне преображает для вечного…»[800].
Дряхлый человек умирает с погружением в воду, давая жизнь новому, возрожденному существу. Этот символизм замечательно выражен Иоанном Златоустом, который, говоря о символической многозначности крещения, пишет: «Оно являет нам смерть и погребение, жизнь и воскресение… Когда мы погружаем нашу главу в воду, как в могилу, ветхий человек погружается, полностью погребается; когда мы выходим из воды, сей же миг является новый человек»[801]. Во всю свою «предысторию» крещение имело один и тот же смысл — смерти и воскресения, хотя и на иных религиозных уровнях, чем тот, что был задан ему христианством. Здесь не может быть речи о «влияниях» или «заимствовании», поскольку такие символы архетипичны и универсальны; они говорят о месте человека в мире, определяя в то же время его положение относительно божества (абсолютной реальности) и в истории. Символизм воды есть продукт лицезрения Космоса как единства и человека как особой формы существования, реализующейся в «истории».
66. ЖАЖДА МЕРТВЫХ
Погребальное употребление воды объясняется теми же ее свойствами, что и космогонические, магические и терапевтические; воды «удовлетворяют жажду умершего», они его растворяют, связывают с семенами вещей; вода «убивает мертвого», окончательно лишая его человеческого состояния[802], чтобы в аду он пребывал в состоянии свернутом, как бы личиночном, с защитной способностью переносить страдания. Ни в одной из различных концепций смерти человек не умирает полностью; он лишь переходит в некую элементарную форму существования; это регрессия, а не окончательное исчезновение. В ожидании возврата в космический круговорот или полного освобождения душа умершего страдает, и это страдание обычно выражается в жажде.
Богач, мучимый адским пламенем, молит Авраама: «Умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем»[803]. Орфическая надпись (в Элевтерне) гласит: «Горю и жаждою снедаем…» Во время церемонии гидрофорий лили воду в трещины (chasmata) для мертвых, а во время анфестерий, в канун весенних дождей, мертвые, по греческому поверью, испытывали жажду[804]. Мысль о том, что души умерших страдают от жажды, особенно страшила население тех мест, где существовала постоянная угроза зноя и засухи (Месопотамии, Анатолии, Сирии, Палестины, Египта), и именно в этих местах были особенно распространены жертвенные возлияния в пользу умерших и посмертное блаженство представлялось как пребывание в прохладном месте[805]. Посмертные мучения изображались в конкретных образах, так же как и всякий иной человеческий опыт и как это было свойственно архаическому умозрению; в представлениях северных народов вместо «жажды мертвых» и «пламени» азиатской преисподней появлялись образы пониженной температуры (холод, мерзлота, ледяные топи и т. п.)[806].
Но жажда, равно как и холод, выражает страдание, драму, беспокойство. Умерший не может навсегда оставаться в одном и том же состоянии, которое есть лишь результат деградации его человеческого состояния. Жертвенные возлияния предназначены для его «удовлетворения», т. е. для избавления от страданий, для возрождения умершего через его полное «растворение» в воде. В Египте умерший иногда уподоблялся Осирису и в качестве такового мог рассчитывать на «агрикультурную участь», т. е. на то, что его тело даст всходы, подобно семенам. На погребальной стеле из Британского музея умерший обращается к Ра с молитвой о том, «чтобы его тело могло дать всходы»[807]. Однако возлияния не всегда имели «агрикультурный» смысл, их целью не всегда было «прорастание тела умершего», его превращение в «семя» и neophytos (неофит, «новое растение»), но в первую очередь его «удовлетворение», т. е. устранение сохранившихся остатков его человеческого состояния, его полное погружение в «воды», чтобы родиться заново. «Агрикультурная участь», подразумеваемая иногда жертвенными возлияниями, есть лишь следствие этой окончательной дезинтеграции человеческого состояния; это еще одна форма манифестации, возможная в силу как растворяющих, так и растительных сил воды.
67. ЧУДЕСНЫЕ И ВЕЩИЕ ИСТОЧНИКИ
Этой религиозной многозначности воды соответствует множество существовавших в истории культов и ритуалов, в которых основную роль играют источники, ручьи и реки. Все эти культы основаны в первую очередь на сакральной силе, которую заключает в себе вода в качестве космогонической стихии, но также и на местном проявлении сакрального, на манифестации сакрального присутствия в водах определенного потока или источника. Такие местные проявления независимы от наложенной на них общей религиозной структуры. Вода течет, она «жива», она подвижна; она вдохновляет, она целит, она пророчит. По самой своей природе источник и река являют мощь, жизнь, неиссякаемость; они суть и они живы. Этим они обретают соответствующий статус, и их почитание сохраняется независимо от других проявлений сакрального и всяческих религиозных революций. Каждый из них непрерывно являет сакральную силу, именно ему свойственную, и в то же время соучаствует в манифестации нептунической стихии в целом.
Культ вод — и в особенности источников, которые считаются целебными, горячих и соленых источников и т. п. — оказывается поразительно устойчивым. Уничтожить его не смогла ни одна религиозная революция; питаемый народным благоговением, культ вод оказался в конечном счете терпим даже христианством — после бесплодных гонений в средние века. (Реакция началась в IV в. с выступления св. Кирилла Иерусалимского.[808]) Церковные запрещения повторялись вновь и вновь со Второго Арльского собора (443 или 452) до Тревского собора в 1227 году. Помимо этого, борьбу Церкви против культа вод демонстрируют нам множество апологий, пастырских посланий и других текстов[809]. В некоторых случаях культовая преемственность сохраняется со времен неолита до наших дней. Так, в горячем источнике Гризи (коммуна Сен–Сенфорьен‑де–Мармань) были найдены неолитические и древнеримские вотивные предметы[810]. Аналогичные следы неолитического культа (куски кремня, форма которых свидетельствует об их вотивном назначении) были найдены в источнике, носящем ныне название Сен–Совёр (Компьенский лес)[811]. Уходящий корнями в доисторический период, этот культ был унаследован галлами, потом романо–галлами, от которых он был воспринят и ассимилирован христианством. В Сен–Моритце до самого последнего времени сохранялись развалины культовых сооружений бронзового века[812]. В коммуне Бертиноро (пров. Форли) культовые предметы бронзового века попадаются вблизи ныне действующего хлористо–солевого источника[813]. В Англии, вблизи курганов доисторического происхождения и мегалитических памятников, мы встречаем источники, которые местное население считает чудотворными или целебными[814]. Наконец, можно упомянуть еще ритуал, практиковавшийся на озере Сент–Андеоль в Обракских горах — его описывает св. Григорий Турский (544–595 Р.X.). Празднество на берегах озера длилось по три дня, причем съехавшиеся в повозках люди приносили озеру в дар белье, предметы одежды, шерстяную нить, сыр, печенье и т. п. На четвертый день разражалась сильная буря с дождем (речь, очевидно, идет о примитивном ритуале вызывания дождя). Священник Парфений после бесплодных попыток убедить крестьян отказаться от языческого ритуала построил церковь, в которую люди и стали в конечном счете приносить дары, предназначенные озеру. При этом обычай бросать в озеро старые вещи и печенье сохранялся вплоть до XIX века; паломники продолжали бросать в озеро рубашки и штаны, хотя уже и не понимали, зачем они это делают[815]. Прекрасный пример преемственности вопреки изменениям того религиозного комплекса, в который культ воды оказывался последовательно включенным, мы находим в уже цитированной монографии Петтаццони о примитивных формах религии на Сардинии. Протосарды поклонялись источникам, принося им жертвы и воздвигая около них святилища, посвященные Sarder Pater (местному покровителю)[816]. Около храмов и воды происходили ордалии — феномен, характерный для всего атлантико–средиземноморского региона[817]. Следы таких испытаний водой доныне прослеживаются в сардинских поверьях и местном фольклоре. С культом воды мы встречаемся и в доисторической Сицилии[818]. В Лилибео (Марсала) греческий культ Сивиллы наложился на примитивный местный культ, который был сосредоточен вокруг пещеры, затопленной водой; протосицилийцы собирались здесь для ордалий или для прорицаний; во время греческой колонизации здесь царила и пророчествовала Сивилла, а в христианские времена установилось поклонение св. Иоанну Крестителю, которому посвящена построенная в XVI веке в старой пещере церковь, и сейчас еще остающаяся местом паломничества из‑за своей чудотворной воды[819].
Вблизи от воды часто располагались оракулы. Около храма Амфиарая в Оропе исцеленные оракулом бросали монетки в воду[820]. Пифии, когда готовились пророчествовать, пили воду из Кассотского ключа. В Коллофоне пророк пил воду из священного источника, находившегося в гроте[821]. В Кларосе священник спускался в пещеру, пил из таинственного ключа (hausta fomtis arcani aqua) и отвечал в стихах на любой заданный вопрос (super rebus quis mente concepit)[822]. Архаическая интуиция, что от воды исходит пророческая сила, очень широко распространена в мире. Вавилоняне, к примеру, именовали Океан «домом мудрости». Оаннес, персонаж вавилонской мифологии, получеловек–полурыба, явился из вод Персидского залива и открыл людям культуру, письмо и астрологию[823].
68. АКВАТИЧЕСКИЕ ЭПИФАНИИ И ВОДНЫЕ БОЖЕСТВА
Культ воды — рек, источников и озер — существовал в Греции еще до индоевропейских вторжений. Следы этого архаического культа сохранялись вплоть до заката эллинизма. Павсаний[824] еще имел возможность наблюдать и описать ритуал, который исполнялся у источника Агнос, на склоне горы Ликеон в Аркадии; жрец Бога горы приходил туда во время сильной засухи; он приносил в жертву дубовую ветвь, бросая ее в источник. Ритуал этот относится к древности и составлял часть более широкого целого — «дождевой магии». В самом деле, как сообщает Павсаний, после исполнения ритуала от воды поднялось легкое испарение, подобное облаку, и вскоре полил дождь. Мы не видим здесь никакой религиозной персонификации; сила заключена в самом источнике, и эта сила, приведенная в действие соответствующим ритуалом, управляет дождем.
Гомер рассказывает о культе рек. Троянцы приносили животных в жертву Скамандру и бросали в его воды живых лошадей; Пелей пожертвовал пятьдесят овец источникам, из которых берет начало Сперхей. Лошади и быки приносились в жертву Посейдону и другим божествам моря[825]. Другие индоевропейские народы также приносили жертвы рекам — например, кимвры (жертвовавшие Роне), франки, германцы, славяне и др.[826] Гесиод[827] упоминает о жертвоприношениях при переправах через реку. (Этот ритуал имеет много этнографических параллелей: масаи в Западной Африке при каждой переправе бросают в реку пучок травы, баганда в Центральной Африке, когда переправляются через реку, приносят в дар немного кофейных зерен и т. д.[828]) Греческие речные боги имели иногда человеческий облик; Скамандр, например, дрался с Ахиллом[829]. Но большей частью они представлялись в виде быка[830]. Самым известным речным Богом был Ахелой. Гомер даже считал его Великим Богом всех рек, морей и источников. Рассказывали о схватках Ахелоя с Гераклом; его культ отправлялся в Афинах, Оропе, Мегаре и многих других городах. Его имени давались различные толкования, но наиболее правдоподобной этимологией представляется просто «вода»[831].
Для наших целей нет нужды рассматривать всю акватическую мифологию греков. Она обширна, и границы ее не вполне ясны. Бесконечной чередой проходят перед нами мифологические персонажи в основном в границах одного сюжета — водное божество рождается из воды. Некоторые из этих персонажей обретают значение в рамках мифа или легенды, как, например, Фетида, морская нимфа, или Протей, Главк, Нерей, Тритон — это все морские божества, во внешности которых еще проявляется их связь с водой — в виде ли туловища морского чудовища, рыбьего хвоста или чего‑нибудь вроде этого. Они живут и царствуют в глубинах моря. Подобно стихии, от которой они не вполне отошли и никогда окончательно не отделяются, эти божества причудливы и капризны; они равно беспечно творят добро и зло, причем, подобно морю, обычно они причиняют зло. Более, чем другие боги, они живут вне времени и истории. Тесно связанные с происхождением мира, они лишь иногда участвуют в том, что в этом мире происходит. Их жизнь носит, пожалуй, менее божественный характер, чем жизнь других богов, но она более равномерна и более тесно связана с представляемой ими стихией.
69. НИМФЫ
Какой грек мог похвастать, что знает имена всех нимф? Это были божества всех потоков, всех источников и ключей. Греческому воображению едва ли требовалось создавать их; они были там, в водах, с начала мира; все, что оставалось сделать грекам, — это дать им человеческий образ и имена. Они были сотворены живым током воды, ее магией, источаемой ею силой, ее журчанием. Греки насколько можно отделяли их от стихии, которой они принадлежали. Обособленные, персонифицированные и наделенные всеми силами воды нимфы обретали свои легенды, становились героинями эпоса, к ним обращались с прошениями о чудесах. Обычно они были матерями местных героев[832]. Как божества меньшего ранга и связанные с определенными местами, они были хорошо известны людям, были объектами поклонения и им приносили жертвы. Наиболее знаменитыми были сестры Фетиды, нереиды, или, как их еще называет Гесиод[833], океаниды, морские нимфы в наиболее полном выражении. Большинство других нимф суть божества источников. Но иногда они живут в пещерах, где есть вода. «Грот нимф» стал общим местом эллинистической литературы и притом наиболее «литературной», т. е. профанной, формулой, наиболее удаленной от изначального религиозного смысла, от комплекса воды, космической пещеры, блаженства, плодородия, мудрости. Персонифицированные нимфы стали принимать участие в жизни людей. Они были божествами рождения (вода = плодородие) и kourotrophoi (кормилицами); они воспитывали детей и учили их становиться героями[834]. Почти все греческие герои были воспитаны нимфами или кентаврами — т. е. сверхчеловеческими существами, причастными силам природы и управлявшими этими силами. Инициация героев никогда не носила семейно–домашнего характера, не бывала она, вообще говоря, и «гражданской» — ибо совершалась не в городе, а в лесах и рощах.
Вот почему наряду с почитанием нимф (как и других духов природы) мы встречаем и страх перед ними. Нимфы часто крадут детей или же в других случаях убивают их из ревности. На гробнице пятилетней девочки мы находим надпись: «Красой своею милое дитя, не смертью я, но наядами унесена из жизни»[835]. Нимфы были опасны еще в одном отношении: всякий, кто видел их в полуденную жару, сходил с ума. Середина дня была временем, когда нимфы являли себя. Всякий увидевший их бывал охвачен нимфолептической манией, подобно Тиресию, увидевшему Палладу и Харикло, или Актеону, повстречавшему Артемиду с ее нимфами. Поэтому в полдень не рекомендовалось проходить мимо источников или в тени некоторых деревьев. Согласно позднейшим суевериям, пророческое безумие охватывало всякого, увидевшего проступающий из воды образ: speciem quamdam e fonte, id est effigiem Nymphœ (заглянувший в источник, спасайся от нимфы) (Фест[836]). Пророческие свойства воды во всех этих верованиях сохраняются, хотя и с неизбежными мифологическими искажениями и привнесениями. Что оказывается наиболее устойчивым, так это амбивалентные чувства страха и влечения к воде, одновременно и разрушающей (ибо завороженность нимфой несет с собой безумие, разрушение личности) и рождающей, убивающей и дающей жизнь.
70. ПОСЕЙДОН, ЭГИР И Т. Д.
Но над Ахелоем, Фетидой и всеми другими низшими божествами вод возвышается Посейдон. Море, когда оно гневается, утрачивает женственный образ соблазнительной ветрености и сонного блаженства — и его мифологическая персонификация обретает отчетливые мужские черты. При дележе мира между сыновьями Кроноса Посейдон получил власть над океаном. Гомер знает его как Бога морей; его дворец находится на дне океана, и его символ — трезубец (первоначально зубы морских чудовищ). Если Перссон прав в своем прочтении микенской надписи в Асиме: «Посейдофонос», то имя этого Бога прослеживается вплоть до микенского периода[837]. Посейдон был также Богом землетрясений, которые, по воззрениям греков, вызывались эрозионным действием вод. Волны, яростно бьющие о берег, напоминали сейсмические явления. Как и сам океан, Посейдон дик, неуемен, коварен. Его мифический образ лишен моральных качеств; он слишком близок океаническим истокам, чтобы знать какой‑либо закон, помимо своего образа существования. Посейдон являет нам определенный космический принцип: воды предшествовали Творению и ритмически вновь его поглощают. И такова водная стихия — абсолютно автономная, безразличная к богам, людям и истории, баюкающая себя в своей собственной зыби, не ведающая ни о семенах, ею в себе несомых, ни о «формах», потенциально в ней заключенных и ею периодически растворяемых.
В скандинавской мифологии беспредельный Океан персонифицирован в образе Эгира (eagor — «море»). Его супруга — коварная Ран (raena — «грабить»), накидывающая свою сеть на все море и утягивающая все встреченное в свое подводное жилище. Утопленники отправляются к Ран, люди, выброшенные в море, принесены ей в жертву. У Эгира и Ран девять дочерей, каждая из которых представляет один из аспектов Океана, один из моментов эпифании моря: Кольга (бурное море), Бильгья (зыбь), Дуфа (ныряльщица), Храфн (грабительница), Драфн (волны, захватывающие и уносящие все с собой) и т. д. На дне океана стоит великолепный дворец Эгира, где иногда собираются все боги. Там, к примеру, происходил знаменитый пир вокруг огромного котла, украденного Тором у великана Имира (другого духа Океана) — чудесного котла, в котором сам собой приготовлялся и размешивался напиток. Там Локи разрушал согласие между богами, клевеща на них и на их богинь–супруг, пока наконец не был наказан, привязан к скале на дне морском.
Чудесному котлу Имира находятся параллели в других индоевропейских мифологиях[838]. Он использовался для приготовления амбросии, напитка богов. Что нас особенно в этой связи интересует, так это та выразительная подробность, что большинство магических и мифологических котлов были найдены на дне моря или озер[839]. Чудесный котел ирландской традиции, муриас, получил свое имя от моря, муйр. Вода обладает магической силой; котлы, котелки, чаши — суть вместилища этой магической силы, символом которой часто является какая‑нибудь божественная жидкость, вроде амбросии или «живой воды». Они наделяют бессмертием или вечной молодостью или же преображают владельца в героя или бога и т. д.
71. ВОДНЫЕ ЖИВОТНЫЕ И СИМВОЛЫ
Символами воды служат драконы, змеи, раковины, дельфины, рыбы и т. п. Скрытые в глубинах океана, они наделены сакральной силой бездны. Тихо лежащие на дне озер или плавающие в реках, они приносят дожди, увлажняют воздух и вызывают разливы рек, управляя тем самым плодородием мира. Драконы живут в облаках и озерах; в их ведении громы и молнии; они проливают воды с небес, делая поля и женщин плодоносными. Мы еще вернемся к обсуждению полисимволизма драконов, змей, раковин и т. п.; в этом параграфе мы лишь коснемся этой темы, ограничившись культурами Китая и Юго–Восточной Азии. Согласно Чжуан–цзы, драконы и змеи[840] символизируют ритмическую жизнь[841], поскольку дракон — это дух воды, гармонические колебания которой питают жизнь и делают возможной цивилизацию. Дракон Инь собирает все воды и повелевает быть дождю, поскольку сам является принципом влаги[842]. «Когда сушь усиливается, они делают изображение дракона Инь, и начинается дождь»[843].
В древних китайских текстах дракон часто связан с грозой и плодородием[844]. «Громовый зверь имеет туловище дракона и человеческую голову»[845]. Девушка может забеременеть от слюны дракона[846]. Фу–си, один из основателей китайской цивилизации, был рожден в водоеме, который ассоциировался с драконами[847]. Другой пример: «Отца Као–чу звали Тай–кун; мать его звали досточтимая Лю. Однажды досточтимая Лю отдыхала на берегу большого водоема, и ей приснилось, что она встретилась с богом; тотчас раздался гром, блеснула молния и наступила глубокая тьма. Тай–кун подошел посмотреть, что происходит, и увидел чешуйчатого дракона, покрывшего его жену; после чего она забеременела и родила Као–чу»[848].
В Китае дракон — символ неба и воды — всегда ассоциировался с императором, воплощавшим в себе ритмы Космоса и ниспосылавшим плодородие земле. Когда ритмы нарушались, когда повреждалась жизнь природы или общества, император знал, что ему делать, чтобы восстановить свою творческую силу и порядок в стране. Правитель из династии Ся ел драконов, чтобы обеспечить развитие своего царства[849]. Кроме того, драконы как хранители ритмов жизни появлялись всякий раз, когда слабела или только начинала восстанавливаться власть династии Ся[850]. После смерти, а иногда и при жизни император возвращался на небо; так, например, Хуан–ди, «желтый государь», был вознесен на небо бородатым драконом вместе со своими женами и советниками — всего семьдесят человек[851].
В китайской мифологии — мифологии народа, живущего вдали от моря — дракон, символ воды, всегда более чем где‑нибудь наделялся небесной властью. Плодотворящая сила воды сосредоточивалась в облаках, в вышнем мире. Но в еще большей мере приверженность комплексу плодородие — вода — царская власть (или святость) свойственна мифологиям Юго–Восточной Азии, в которых Океан изображается как основание всей реальности и источник всякой власти. Я. Пжилуски проанализировал множество австралийских и индонезийских легенд и сказок, у которых обнаружилась одна общая особенность: своим исключительным статусом («царя» или «святого») герой обязан факту своего рождения от водного животного. Во Вьетнаме первый мифический правитель носит титул лонг кван — «царь–дракон». В Индонезии, согласно Чао Ю–куа, правители Сан–фо–цзи носили титул лонг цзин — «дух, семя наги»[852]. Наги — это водяной дух женского пола, который исполнял в Индонезии ту же роль, что дракон в Китае. В своем морском образе или в качестве «принцессы, пахнущей рыбой», наги стала супругой брамина и основательницей династии (индонезийская версия, встречающаяся также в Чампа, Пегу, Таиланде и других местах). Согласно одной палаунгской легенде, наги Фусанди полюбила принца Фурия, сына Солнца[853]. Три сына были рождены от этого союза; один стал китайским императором, другой — правителем Палаунга, третий — правителем Патана. «Седжарат Малайу» повествует о том, как правитель Суран спустился на дно морское в стеклянном ящике и как жители дна устроили ему хороший прием, как он женился на дочери тамошнего царя. От этого брака родились три сына, старший из которых стал царем Палембанга.
В Южной Индии распространено поверье, что один из предков династии Паллава женился на наги и от нее получил знаки царского достоинства. Мотив наги проникает и в буддийские легенды и может встречаться даже в Северной Индии, в Уддьяне и Кашмире. Цари Чота–Нагпура также вели свое происхождение от нага (духа змеи), которого звали Пундарика; про последнего говорили, что у него дурной запах изо рта — деталь, напоминающая о «принцессе, пахнущей рыбой». Согласно традиции, сохранившейся в Южной Индии, мудрец Агастья был рожден вместе с Васиштхой в кувшине с водой от совокупления богов Митры и Варуны с апсарой Урваши. Вот почему его называли Кумбхасамбхава (рожденный от Кумбхаматы, «кувшинной» богини) и Питабдхи (поглотитель Океана). Агастья женился на дочери Океана[854]. «Деви–упанишада» повествует о том, как боги спрашивали Великую Богиню (Деви), кто она и откуда пришла, а она отвечала, среди прочего, следующее: «…Место моего рождения — воды океанских глубин, знающий их обретает жилище Деви». Изначально эта богиня была истоком и основанием всего сущего: «Это я в начале начал сотворила Отца Мира»[855].
Все эти традиции очень ясно показывают сакральное значение освятительной функции воды. Как власть, так и святость суть дары духов моря. Религиозно–магическая сила заключена на дне морском, и герои получают ее от существ женского пола (наги, «принцесса, пахнущая рыбой» и др.)[856]. Духи–змеи обитают не только в морях и океанах, но и в озерах, прудах, колодцах и источниках. Культ змей и духов–змей в Индии и других местах сохраняет, в каком бы контексте он ни встречался, религиозно–магическую связь с водой[857]. Змеи и духи–змеи всегда встречаются вблизи от воды либо же являются ее хозяевами. Они суть духи–хранители источников жизни, бессмертия, святости и всех символов, связанных с жизнью, плодородием, героизмом, бессмертием и «сокровищами».
72. СИМВОЛИЗМ ПОТОПА
Почти все традиционные повествования о потопе связаны с идеей возвращения человечества в те воды, из которых оно произошло, установления новой эры и возникновения нового человечества. В них выражается представление о Космосе и его истории как о чем‑то «циклическом»: одна эра завершается катастрофой и начинается другая, управляемая «новыми людьми». Это представление о циклах подкрепляется также совмещением лунных мифов с темами наводнений и потопов, ибо Луна есть безусловно важнейший символ ритмического изменения, смерти и воскресения. Подобно тому, как фазы луны регулируют ритуалы инициации, — в которых посвящаемый «умирает», чтобы проснуться к новой жизни, — они оказываются интимно связанными и с потопами, уничтожающими старое человечество и готовящими место для появления человечества нового. В мифологиях Тихоокеанского региона распространено представление о происхождении местных племен от некоего мифического лунного животного, спасшегося от водной катастрофы[858]. Родоначальник племени — это либо человек, спасшийся от кораблекрушения, либо лунное животное, вызвавшее катастрофу.
В этой главе нет необходимости лишний раз подчеркивать ритмический характер этого поглощения всего сущего водой и его периодического возобновления — ритм, лежащий в основании всех географических мифов и апокалипсисов (Атлантида и т. п.). Мы лишь хотели указать на то, насколько широко распространены и согласованы между собой эти океанические мотивы в мифологии. Вода присутствует прежде всякого Творения, и периодически она же поглощает все вновь, чтобы растворить в себе, очистить, обогатить новыми возможностями и возродить. Люди периодически погибают от потопа из‑за своих грехов (в большинстве мифов Тихоокеанского региона катастрофа вызывается каким‑либо нарушением в исполнении ритуала). Они никогда не исчезают окончательно, но возрождаются в новом образе, возвращаются на тот же предустановленный путь и ждут повторения той же катастрофы, которая вновь «растворит их в воде».
Я не уверен, что это представление о жизни можно назвать пессимистическим. Скорее, это отстраненный взгляд, сформированный наблюдением совокупного действия Воды и Луны. Миф о потопе, со всем, что подразумевается этим мифом, показывает, чего стоит человеческая жизнь с точки зрения «сознания», иного, чем человеческое. «С точки зрения» воды человеческая жизнь есть нечто хрупкое, чему суждено быть периодически поглощаемым, поскольку такова судьба всех форм — раствориться, чтобы возродиться вновь. Если «формы» не восстанавливаются через периодическое растворение в воде, они истощаются, исчерпывают свои творческие ресурсы и в конечном счете отмирают. «Зло» и «грех» в конце концов полностью испортили бы человечество; лишенное семян жизни и творческих сил, оно бы угасло, ослабленное и бесплодное. Вместо того чтобы допустить эту медленную деградацию к низшим состояниям, потоп осуществляет мгновенное растворение в воде, в котором происходит очищение от грехов и появление нового, возрожденного человечества.
73. ВЫВОДЫ
Таким образом, все метафизические и религиозные потенции воды прекрасно согласуются между собой, образуя единое целое. Сотворению Космоса из воды соответствует — на антропологическом уровне — представление о происхождении людей из воды. Потопу или исчезновению в воде континентов (прекрасный пример — Атлантида) — космическому феномену, который по необходимости должен периодически повторяться, — на человеческом уровне соответствует «вторая смерть» души (погребальные возлияния, «влага» и leimon в аду и т. д.) и ритуальная смерть в крещении (как в инициации). Но будь то на космическом или антропологическом уровне, погружение в воду не означает конечного уничтожения, но представляет собой временное поглощение бесформенным, за которым следуют новое Творение, новая жизнь или новый человек — в зависимости от того, идет ли речь о космическом, биологическом или искупительном восстановлении. По форме «потоп» сопоставим с «крещением»; погребальное возлияние или нимфолептическое исступление — с ритуальным омовением новорожденного или с ритуальным весенним купанием, обеспечивающим здоровье и плодовитость. В любом религиозном контексте вода выступает в одной и той же функции: она разрушает, растворяет формы, «омывает от греха», одновременно очищая и давая новую жизнь. Ее «труд» состоит в том, чтобы предшествовать Творению и вновь поглощать его результаты; она никогда не может выйти за пределы своего способа существования — никогда не может выразить себя в формах. Вода никогда не выходит из состояния потенциальности, семенности и латентности. Все имеющее форму являет себя над водами, отделено от них. С другой стороны, сразу же после отделения от воды всякая «форма» теряет свою потенциальность, подпадает под действие законов Времени и Жизни; она ограничивается, вступает в историю, соучаствует в универсальном законе изменения, увядает и совсем перестала бы быть собой, если бы не возрождалась через периодическое погружение в воды, если бы вновь и вновь не переживала «потоп» с последующим «сотворением мира». Ритуальные очищения водой совершаются с целью мгновенной актуализации «того времени», того illud tempus, когда происходило Творение; они суть символические воплощения рождения мира или «нового человека». Всякое использование воды в религиозных целях есть возобновление двух фундаментальных моментов космического ритма: реинтеграции в воде — и Творения.
БИБЛИОГРАФИЯ
Wensinck A. J. The Ocean in the Literature of the Western Semites. Amsterdam, 1919. Особенно P. 1–15, 40–56; Dähnhardt О. Natursagen. Leipzig, 1909. Vol. I. S. 1–89; Thompson S. Motif‑Index of Folk literature. Helsinki, 1932. Vol. I. P. 121 и сл.; Coomaraswamy A. K. Yaksas. Washington, 1928–1931. Vol. Ι, II; Hentze C. Mythes et Symboles Lunaires. Antwerpen, 1932; Krappe Α.Η. La Genèse des Mythes. P., 1938. P. 197 и сл.
Ninсk М. Die Bedeutung des Wassers im Kult und Leben der Alten // PS. 1921. Suppl. Vol. XTV; Scheftelowitz J. Die Sündentilgung durch Wasser // AFRW. 1914. S. 353–412.
Pettazzoni R. La Confessione dei peccati. Bologna, 1929. Vol. I. P. 2, 3 (the Ewe and Bashilange); P. 18 (Sulka); Hartze K. Zum semitischen Wasser‑Kultus. Halle, 1912; Smith R. Lectures on the Religion of the Semites. 3rd ed. L, 1927. P. 166 и сл., 557 и сл. (священные воды); Lagrange P. Etudes sur les religions sémitiques. P., 1905. P. 158, 169; Hopkins E. W. The Fountain of Youth // JAOS. 1905. Vol. XXVI. P. 1–67; Barnett E. D. Yama, Gandharva and Glaucus // BSOAS. 1926–1928. Vol. IV. P. 703–716; Rönnow K. Trita Aptya, eine vedisene Gottheit. Uppsala, 1927. S. 6 и сл. (водные демоны), S. 14 и сл. (Варуна, Бог Воды), S. 36 и сл. (болезни, изгоняемые из людей в воду с помощью магии), S. 64 и сл. («вода жизни») и т. д.; Bouche‑Leclerco A. Histoire de la divination dans l’antiquité. P., 1879–1882. Vol. II P. 261–266 (оракулы, управляемые водными божествами), P. 363–369 (оракул Посейдона); Glotz G. L’Ordalie dans la Grece primitive. P., 1904. P. 11–69 (испытания морем), P. 69–79 (источниками, реками и колодцами); Frazer J. Folklore in the Old Testament L, 1918. Vol. III. P. 304–306 (испытания у израильтян); Saintyves P. Les Vierges‑mères et les naissances miraculeuses. P., 1908. P. 39–53 (водные теогонии и водные культы), P. 87–109 (чудесные рождения с помощью священных вод); Nyberg В. Kind und Erde. Helsinki, 1931. S. 55 и сл. (рождение детей или мифических предков из воды); Pestalozzi U. Pagine di religione mediterranea. Milan; Messina, 1945. Vol. 2. P. 253 и сл. (ритуальный союз у реки); Laoust E. Mots et choses berberes. Notes de linguistique et d’ethnographie. P., 1920. P. 202–253 (ритуалы, связанные с дождем); Benoit F. Le Rite de l’eau dans la fête du solstice d’été en Provence et en Afrique // RAN. Vol. LXV, n. 1–3; Brunot L. La Mer dans les traditions et les industries indigènes a Rabat et Sale. P., 1920. P. 3–25 (морская демонология; море в медицине и магии); Joleaud L. Gravures rupestres et rites de l’eau en Afrique du nord //JSA. 1933. Vol. III. P. 197–222; Goldzieher J. Wasser als Dämonen‑abwerhrendes Mittel // AFRW. 1910. Vol. ХIII, n. 1; Wesendonck O. von. Das Weltbild der Iranien. 1933. S. 102 и сл. (об иранском водном культе); Eliade M. Notes sur le symbolisme aquatique // CZ. 1939. Vol. II P. 131–152; Bachelard G. L’Eau et les rèves. P., 1942.
Lundberg P. La Typologie baptismale dans l’ancienne Eglise. Uppsala; Leipzig, 1942; Danielou J. Bible et Liturgie. P., 1951. P. 29–173; Beirnaert L. S. J. La Dimension mystique du sacrémentalisme chrétien // EJ. 1950. Vol. XVIII. P. 255–286; Eliade M. Images et symboles. P., 1952. P. 199 и сл.
Siret L Origine et signification du décor spirale. Report of the 15th International Congress of Anthropology. Portugal, 1930. Published in Paris, 1931. P. 465–482.
Pettazzoni R. La Religione primitiva in Sardegna. Piacenza, 1912 — по всей работе; Dechelette J. Manuel d’archéologie préhistorique, celtique et gallo‑romaine. P., 1908–1914. Vol. II, a. P. 166 и сл. (вотивные топоры, находимые у источников), P. 444–453 (культ горячих источников); Jullian С. Histoire de la Gaule. 5th ed. P., 1924–1926. Vol. II. P. 129–137 (местные божества). Vol. VIII. P. 313–331 (преемственность водных культов); Toutain J. Les Cultes païens dans l’empire romain. P., 1907–1920. Vol. I. P. 372–384 (водные божества, официальные культы); Vol. III. P. 193–467 (коренные культы в романской Галлии); Vaillat С. Le Culte des sources dans la Gaule antique. P., 1934; богатая библиография о галльских и галло–романских культах приводится в кн.: Saintyves P. Corpus du folklore des eaux en France et dans les colonies françaises. P., 1934. P. 24–35; Vasconcellos L de. Religioes da Lusitania. Vol. II. Lisbon, 1905. P. 198 и сл. (речные боги в ранней кельто–лузитанской истории); Vol. III. Lisbon, 1913. P. 249 и сл. (в римские времена); Jeremias Α. Handbuch der altorientalischen Geisteskultur. 2nd ed. В., 1929. S. 39, 40; Reinach S. Cultes, mythes et religions. P., 1923. Vol. V. P. 250–254 (лошади, нимфы, источники); Toutain J. Le Culte des eaux (sources, fleuves, lacs) dans la Grèce antique (in the volume Nouvelles études de mythologie et d’histore des religions antiques). P., 1935. P. 268–294; Grimm J. Teutonic Mythology. English ed. L, 1888. P. 583–601; Holmberg‑Harva U. Die Wassergottheiten der finnish‑ugrischen Völker. Helsinki, 1913; Nippgen J. Les Divinités des eaux chez les peuples finno‑ougriens. Ostiaques et Vogoules // RETP. 1925. P. 207–216.
Parrot A. Le «Refrigerium» dans l’au‑dela. P., 1937; Eliade M. Locum Refrigerii… Zürich, 1938. Vol. I. P. 303–306.
Saintyves P. Corpus du folklore des eaux… P. 20, 21; тексты, P. 139–196; ср.: Saintyves P. De l’immersion des idoles antiques au baignades des statues saintes dans le christianisme // RHR. CVIII. 1933. P. 135–183; reprinted in Corpus. P. 197 и сл.
Норе С. The Legendary Lore Of the Holy Wells of England, including Rivers, Lakes, Fountains and Springs. L, 1893; Gregor W. Guardian Spirits of Wells and Lochs // FRE. 1892. Vol. III. P. 67–73; Berenger‑Feraud L. J. B. Superstitions et survivances étudiées au point de vue de leur origine et de leurs transformations. P., 1895. 5 vols. Vol. I. P. 207–304 (мифические драконы и змеи вблизи источников, озер и т. п.); Vol. II. P. 1–58 («силы» и духи вод); Vol. Ш. P. 167–214 (движения в ритуалах вызова дождя); Vol. IV. P. 291–360 (чудесные силы, заключенные в источниках); Sebillot P. Le Folklore de France. P., 1905. Vol. II. P. 175–303; Lawson J.С. Modern Greek Folklore and Ancient Greek Religion. Cambridge, 1910. P. 130–173 (сохранение нимф в современном греческом фольклоре); Rhys J. Celtic Folk‑Lore. Oxford, 1901. P. 354–400 (фольклор об источниках); Weinhold К. Die Verehrung der Quellen in Deuschland. В., 1898; Manninen I. Die dämonistischen Krankheiten im finnishen Volksaberglauben. Helsinki, 1922. S. 81–106; McKenzie D. Infancy of Medicine. L., 1927. P. 238 и сл.; Massani R. P. Le Folklore des puits dans l’Inde et spécialement à Bombay // RHR. 1931. Vol. CIV. P. 221 — 271; см. также библиографию, следующую за главой о растительности («ключ молодости» и Дерево Жизни).
Granet M. Danses et légendes de la Chine ancienne. P., 1926. 2 vols.; Granet M. Chinese Civilisation. L, 1930; Granet M. La Pensée Chinoise. P., 1934; Karlgren B. Some Fecundity Symbols in Ancient China // BMAS. Stockholm, 1930. №2. P. 1–54; Chavannes (ed.). Les mémoires historiques de Sse‑Ma‑Tsien. Vol. I. P., 1897; Vol. II. P., 1897; Vol. III. P., 1899. P. 2; Gieseller G. Le Mythe du dragon en Chine // RAR. 1917. 5th series. Vol. VI. P. 104–170; Hopkins L.С. The Dragon Terrestrial and the Dragon Celestial. A Study of the Lung and Ch’en // JRAS. 1931. P. 791–806; 1932. P. 91–97; Przyluski J. La Princesse a l’odeur de poisson et la Nagi dans les traditions de l’Asie orientale // EA. P., 1925. Vol. II. P. 265–284; Przyluski J. Le Prologue‑cadre des mille et une nuits et le theme de svayamvara // JA. 1924. P. 101–137; Oppert G. On the original Inhabitants of Bharatavarsa or India. Wenstminster, 1893; Matsumoto N. Essai sur la mythologie japonaise. P., 1928. P. 46, 53 и сл.; Matsumoto N. Le Japonais et les langues Austre‑Asiatiques. P., 1928. P. 35 и сл.; Eliade M. Le Yoga: Immortalité et liberté. P., 1957. P. 346 и сл.; принцы, рожденные от принцесс нага в Сиаме, Индии и Африке, — ср.: Dangel // SMSR. 1938. Vol. XIV. P. 180; Knoche W. Kindfisch‑Märchen in Ozeanien // MAGW. 1939. Vol. LXIX. S. 24–33; Rönnow К. Kiräta // МО. 1936. Vol. III (published 1944). P. 90–169, 137, n. 1, указывает, что частое повторение мотива происхождения царских родов Северной Индии от змеев опровергает гипотезу об австрало–азиатском влиянии; см. также: Autran С. L’Epopée hindoue. P., 1945. P. 66–169; материалы и библиографию о почитании змей в Индии можно найти в работе: Vogel J. P. Serpent‑worship in Ancient and Modern India // AOA. 1924. Vol. II. P. 279–312; Vogel J. P. Indian Serpent Lore, or the Nagas in Hindu Legend and Art. L., 1926. P. 35 и сл.
Van Buren E. D. The Flowing Vase and the God with Streams. В., 1933; Combaz G. L’Inde et l’orient classique. P., 1937. P. 174 и сл.; Combaz G. L’Evolution du stupa en Asie // Melanges chinois et Bouddhiques. Brussels, 1936. Vol. IV. P. 93 и сл.
Глава VI
СВЯЩЕННЫЕ КАМНИ: ЭПИФАНИИ, ЗНАКИ И ФОРМЫ
74. КАМНИ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СИЛЫ
Твердость, грубость и постоянство вещества были сами по себе иерофаниями в религиозном сознании первобытного человека. И не было ничего более однозначного и самостоятельного в полноте своей силы, ничего более благородного или внушающего больший ужас, чем величественная скала или резко выступающая глыба гранита. Сверх всего камень есть. Он всегда остается собою и существует сам но себе; и, что еще важнее, он ударяет. Даже еще не взяв его, человек видит в нем препятствие — если не для своего тела, то, по крайней мере, для своего взгляда — и оценивает его твердость, его грубость, его мощь. Камень показывает ему нечто, превосходящее надежность родовых возможностей человека: абсолютный способ существования. Его сила, его неподвижность, его размер и его странные очертания — ничто из этого не является человечным; они показывают присутствие чего‑то, что чарует, ужасает, притягивает и угрожает, — все сразу. В его величии, его твердости, его форме и его цвете человек встречает реальность и силу, принадлежащие какому‑то иному миру, нежели тот профанный мир, частью которого является он сам.
Едва ли мы можем сказать, что люди всегда обожали камни просто как камни. Поклонение первобытного человека во всех случаях устремлялось на нечто за пределами себя самого, что содержал и выражал камень. Утес или булыжник возбуждал благоговейное поклонение, потому что представлял что‑то или был подобен чему‑то, потому что он явился откуда‑то. Его священная ценность всегда зависит от этого «что‑то» или от этого «где‑то» и никогда — от его действительного существования. Люди всегда поклонялись камням, просто поскольку те представляли нечто другое, чем они сами. Они поклонялись камням как орудиям духовного действия, как средоточию энергии, предназначенной защищать их или их мертвецов, и употребляли их в этих качествах. Мы можем смело утверждать, что большинство камней, наделенных в той или иной мере сакральностью, применялось как орудия; они помогали достать что‑то, обеспечить владение им. Их роль обычно бывала более магической, чем религиозной. Обладая некоторыми сакральными силами по своему происхождению или по своей форме, они вместе с тем не были предметом поклонения, а использовались.
Имбеллони в своих исследованиях всей океано–американской области, где употребляется слово toki (район, простирающийся от восточной Меланезии до внутренней части обеих Америк), обнаружил все нижеследующие возможные значения этого слова: а) каменное орудие боя; топор; и, в расширительном смысле, любое каменное оружие; b) эмблема достоинства, символ власти; с) лицо, имеющее или осуществляющее власть, унаследовав ее или будучи облеченным ею; d) титульный предмет[859]. Энеолитические «погребальные стражи» помещались около усыпальниц, чтобы обеспечить их неприкосновенность[860]. Менгиры, видимо, играли похожую роль: менгир из Ma д’Азе был установлен вертикально над погребальным склепом[861]. Камень служил защитой от животных и грабителей и прежде всего от «смерти», ибо как не портится камень, так душа покойника должна продолжать собственное существование (фаллический символизм, который позже приобрели эти доисторические погребальные камни, еще более уяснил этот смысл, ибо фаллос символизировал существование, силу, продолжение).
75. ПОГРЕБАЛЬНЫЕ МЕГАЛИТЫ
У гондов, одного из дравидийских племен, обосновавшихся в самом сердце Центральной Индии, есть обычай, по которому сын или наследник покойника должен через четыре дня после погребения поставить у могилы огромный камень до девяти или десяти футов высотой. Доставка этого камня (нередко издалека) требует немалых усилий и издержек; вот почему в большинстве случаев строительство памятника откладывается надолго, а иногда вообще не происходит[862]. Английский антрополог Хаттон полагает, что эти мегалитические погребальные памятники — обычные у нецивилизованных племен Индии — воздвигались с целью «закрепить» душу покойника и обеспечить ей временное жилище близ живых так, чтобы, давая ей возможность обеспечить плодородие их полей силами своей духовной природы, в то же время помешать душе блуждать или стать опасной. Это толкование было подтверждено недавними исследованиями Копперса среди наиболее примитивных племен Центральной Индии, бхилов, корку, мунда и гондов. Главные итоги находок Копперса по истории каменных надгробных памятников Центральной Индии следующие:[863]
а) все такие памятники связаны с культом мертвых и имеют целью успокоить душу мертвеца; b) по форме они сравнимы с доисторическими европейскими мегалитами и менгирами; с) они не ставятся на могилах или даже возле них, а на некотором расстоянии; d) однако, когда смерть насильственная, например от молнии, змеи или тигра, памятник устанавливается на том самом месте, где случилась беда[864].
Этот последний пункт обнаруживает первоначальное значение каменных погребальных памятников, ибо насильственная смерть выпускает на волю душу тревожную, враждебную и полную обиды. Когда жизнь прерывается внезапно, следует ожидать, что душа мертвеца будет склонна продолжать остатки его нормальной жизни близ поселения, от которого она оторвана. Гонды, например, наваливают кучу камней на каждом месте, где кто‑то убит молнией, или змеей, или тигром[865]. Каждый прохожий добавляет камень к груде — за упокой души мертвеца (этот обычай остался дольше в некоторых частях Европы, например во Франции, ср. § 76). Далее, в некоторых местах (среди дравидийских гондов) освящение погребальных памятников сопровождается эротическими обрядами, подобными тем, которые обычно связаны с поминовением мертвых у земледельческих народов. Бхилы ставят эти памятники лишь тем, кто умер от насилия, или вождям, колдунам и воинам, чтобы покой снизошел в души «сильных» — иными словами, в души всех тех, кто при жизни стоял за силу или приобрел ее за счет своей насильственной смерти.
Таким образом, погребальный камень стал средством защитить жизнь от смерти. Душа «жила» в камне, как в других культурах она жила в могиле — тоже рассматривавшейся как «дом мертвеца». Погребальный мегалит защищал живых от возможного вредного действия мертвых, ибо смерть, как состояние неопределенности, делала возможными некоторые влияния — и добрые и дурные — на живущих. «Заключенная» в камень душа была бы вынуждена действовать только во благо, т. е. содействовать плодородию. Вот почему в столь многих культурах камни, которые считают населенными «предками», — орудия оплодотворения полей и женщин. Неолитические племена Судана имели «дождевые камни, которые они считали предками, могущими производить дождь»[866]. На тихоокеанских островах (Новая Каледония, Малекула, Ачин и др.) некоторые скалы представляют или далее воплощают богов, предков или культурных героев[867], Дж. Лейярд сообщает нам, что центральный предмет на каждом алтаре в тех районах Тихого океана — это монолит с меньшим кромлехом, представляющий предков[868].
Морис Леенхардт пишет[869], что «камни — это окаменевшие души предков». Это — превосходная лапидарная дефиниция, но ее, конечно, нельзя воспринимать буквально. Камень — не «окаменелый дух», а конкретное представление, временное или символическое «обиталище» этого духа. Леенхардт сам допускает[870], что «дух ли, бог, тотем или клан — все эти различные понятия — имеют единственного конкретного представителя — камень». Ассамские хази верят, что Великая Мать клана представлена кромлехами (maw‑kynthoi — «женские камни») и что Великий Отец присутствует в менгирах (maw‑shynrang — «мужские камни»)[871]. В других культурах менгиры могут даже воплощать Верховное (небесное) божество. И как мы видели раньше (ср. § 16), в очень многих африканских племенах почитание Верховного небесного существа связано с менгирами (им приносятся жертвы) и другими священными камнями.
76. ОПЛОДОТВОРЯЮЩИЕ КАМНИ
Этот культ, таким образом, направлен не на камень как материальную вещь, а скорее на обитающий в нем дух или символ, делающий его священным. Камни, скалы, монолиты, кромлехи, менгиры и др. становятся священными, потому что несут знак какой‑то духовной силы. Пока мы еще рассматривали культуры, где предки, покойники «привязаны» к камню и их можно использовать как орудие защиты и обогащения. Возьмем еще несколько примеров. В Индии молодые пары молятся мегалитам о даровании детей[872]. Бесплодные женщины Салема (в Южной Индии) верят, что предки, могущие сделать их плодовитыми, живут в кромлехах, и поэтому они трутся об эти камни, принеся им предварительно дары (цветы, сандаловое дерево, вареный рис)[873]. Племена Центральной Австралии имеют такие же понятия. Спенсер и Гиллен приводят в пример огромную скалу, известную под названием Эратипа, имеющую на одной стороне отверстие, из которого заключенные в скале души детей выглядывают, ожидая проходящую мимо женщину, чтобы вновь родиться в ней. Когда женщины, не желающие детей, проходят близ скалы, они притворяются старухами, идут, как бы опираясь на палку, и кричат: «Не ходи ко мне, я старая женщина!»[874] Бездетные женщины племени майду в Северной Калифорнии прикасаются к скале, имеющей форму беременной женщины[875]. На острове Каи (к юго–западу от Новой Гвинеи) женщина, желающая иметь ребенка, смазывает камень жиром. Такой же обычай обнаружен на Мадагаскаре[876]. Интересно отметить, что те же «оплодотворяющие камни» также смазывают жиром купцы, желающие процветания в делах. В Индии существует верование, что определенные камни были рождены путем самовоспроизводства (svayainbhu — «самозарождение»); по этой причине их выискивают и почитают бесплодные женщины, которые приносят им дары[877]. В некоторых частях Европы и в других местах молодые пары идут по камню, чтобы союз их стал плодотворным[878]. Самодийцы молились перед камнем странной формы, известным как pyl‑paja («женский камень»), и делали ему приношения из золота[879].
Идея, подразумеваемая во всех этих обрядах, заключается в том, что некоторые камни имеют силу делать бесплодных женщин плодовитыми либо из‑за духов предков, живущих в них, либо из‑за своей формы (беременная женщина — «женский камень»), либо по своему происхождению (сваямбху — «самозарождение»). Но «теория», впервые вызвавшая эти религиозные представления или при помощи которой они могут быть объяснены, могла не всегда сохраниться в умах тех, кто еще соблюдает архаичные обряды. В некоторых случаях, быть может, первоначальная теория заменена или изменена другой; в других оригинал мог быть совершенно забыт после успешной религиозной революции. Мы можем привести несколько таких примеров. Даже сегодня можно найти среди народных верований Европы слабые следы почитания мегалитов, скал или кромлехов, остатки приемов «оплодотворения» посредством соприкосновения с камнем. Это почитание, как я сказал, довольно смутное; в округе Мутье в Савойе деревенские жители чувствуют «религиозный страх и благочестивое уважение» к «Pierra Chevetta» (камень–сова), о котором они не знают ничего, кроме того, что он защищает деревню и что пока он остается, ни пожар, ни наводнение не могут повредить им[880]. В округе Сюмен (департамент Ле Гар) крестьяне боятся кромлехов и держатся от них подальше[881]. Женщины округа Южного Аннеси читают «Отче наш» и молитву в честь Богородицы каждый раз, когда проходят мимо определенной кучи камней, известной как «мертвый человек». Но этот страх мог возникнуть из убеждения, что там кто‑то похоронен[882]. В том же округе женщины преклоняют колени и крестятся, подходя к груде камней, которые, как полагают, покрывают тело паломника, то ли убитого, то ли погибшего под обвалом, и всегда бросают камешек на эту груду[883]. Подобный обычай можно найти в Африке. Готтентоты бросают камни на могилу демиурга Хейтси Эйбиба, а южные племена банту совершают тот же обряд по отношению к своему демиургу Ункулункул)[884]. По этим нескольким примерам можно увидеть, что религиозный страх перед мегалитами во Франции лишь спорадичен и обычно определяется иными причинами, нежели вера в магические силы камня (например, насильственная смерть). Первобытная концепция о плодородии освященных камней, кромлехов и менгиров была совершенно иная. Но почти везде какая‑то частица происходящих от нее приемов сохраняется даже сегодня.
77. «СКОЛЬЖЕНИЕ»
Обычай, известный как «скольжение», был очень распространен в древности. Молодые женщины, хотевшие иметь детей, скользили по освященному камню[885]. Другой, еще более распространенный ритуальный обычай — «трение». Трение практикуется также для здоровья, но главным образом применяется бесплодными женщинами. В Десине (Рона) еще совсем недавно они сиживали на монолите в поле близ моста, известного как Пьерфрит. В Сен–Ренаке (Финистер) каждая женщина, желавшая иметь ребенка, три ночи подряд спала на огромной скале «Каменная кобыла»[886]. А молодые новобрачные тоже приходили сюда в первые несколько ночей после венчания и терлись животами об этот камень[887]. Этот обычай отмечен во многих местах[888]. В некоторых из них, например в деревне Медан, в округе Понт–Аван, женщины, тершиеся животами о камень, были уверены, что родят мальчиков[889]. Даже в 1923 году деревенские женщины, приезжавшие в Лондон, обнимали колонны собора Св. Павла, чтобы иметь детей[890].
Себийо описывает обычай, вероятно, принадлежащий той же ритуальной системе. «Около 1880 г. неподалеку от Карнака люди, женатые несколько лет и не имевшие детей, приходили в полнолуние к местному менгиру; они снимали одежду, и женщина начинала бегать вокруг камня, стремясь убежать от преследующего ее мужа; родственники сторожили вокруг, чтобы не профанировать обряд посторонними вмешательствами»[891], Такие обряды соблюдались более обычно в прошлом. Короли и духовенство в средние века постоянно запрещали культ камней и особенно обычай извержения семени перед камнями[892]. Но эти последние два обычая, пожалуй, сложнее и не могут быть объяснены — как обычаи «скольжения» и «трения» — просто верой в то, что кромлехи и менгиры обладают силой прямого «оплодотворения». С одной стороны, упоминается время для половых сношений («при полнолунии»), что указывает на след почитания Луны; а кроме того, обычаи брачных сношений и извержения семени перед камнем происходят из несколько видоизмененного понятия о сексуализации минерального царства, о рождении из камня и так далее, что соответствует некоторым обрядам оплодотворения камня[893].
Большинство этих обычаев — как я сказал прежде — еще хранят веру, что прикосновения к священной скале или камню достаточно, чтобы сделать бесплодную женщину плодовитой. Так, в Карнаке женщины приходили и садились на кромлех в Крюез–Мокем, задрав платье; именно чтобы покончить с этим обычаем, на камне поставили крест[894]. Множество других камней известно как «любовные камни» или «брачные камни», им приписывают эротическую силу[895]. В Афинах беременные женщины всходили на холм Нимф и скользили вниз по камню, взывая к Аполлону, чтобы роды прошли у них успешно[896]. Здесь перед нами превосходный пример перемены смысла обряда — камень плодовитости становится камнем родов. Подобные верования можно найти в Португалии — только прикоснувшись к камню, женщина может быть уверена, что родит благополучно[897].
Очень многие мегалиты помогают детям ходить или обеспечивают им доброе здоровье[898]. В округе Аманс есть камень с отверстием; женщины становятся перед ним на колени, молятся о здоровье своих детей и бросают в отверстие деньги[899]. Родители приносят своих детей, как только те родятся, к «камню с отверстием» в Фуван–ле–О и пропускают их через отверстие. Это своего рода крещение камнем с целью «предохранить ребенка от всех чар и принести ему счастье»[900]. Даже ныне бесплодные женщины Пафоса проходят через отверстие в камне[901]. Тот же обычай мы находим в некоторых частях Англии[902]. В других местах женщины просто просовывают правую руку в отверстие, потому что, как говорят они, эта рука поддерживает вес ребенка[903]. На Рождество и в Иванов день (т. е. на оба солнцестояния) у определенных камней с отверстиями ставились свечи и разбрызгивалось масло, которое потом тщательно собиралось и использовалось как лекарство.
Церковь очень долго боролась со всеми этими обычаями[904]. То, что они выдержали не только церковный нажим, но даже столетие антирелигиозного и антисуеверного рационализма, показывает, какими прочными они были. Почти все другие церемонии, касавшиеся священных камней (поклонения, страха, гадания и т. д.), исчезли. Осталось только одно, наиболее существенное: вера в их оплодотворяющую силу. В наши дни эта вера не имеет за собой логичной теории, но она поддерживается новыми легендами или объясняется в соответствии с христианской традицией (на этом камне отдыхал святой; на том менгире стоит крест и т. д.). Однако можно еще проследить определенную теоретическую формулу, где‑то между язычеством и христианством: камни, скалы, менгиры — это места, куда приходят феи, и именно им приносятся дары (масло, цветы и т. п.). Эти существа по–настоящему не почитаются, но их всегда есть о чем попросить.
Религиозная революция обращения Европы в христианство в конце концов разрушила всю первобытную систему, хранившую церемониал по отношению к камням, дарующим плодовитость, и почести, оказывавшиеся деревенскими жителями уже в средние века всему, связанному с доисторическими временами (с тем, что называют «каменным веком»): своим погребальным памятникам, магическим или религиозным, каменному оружию («громовые камни»), — были не только следствием прямого пережитка религиозных идей, исповедовавшихся предками, но также страха почтения или суеверного восхищения, которое средневековые идолопоклонники испытывали к своим предкам; их судили по остаткам их каменной цивилизации. Не только сами эти предки, но и их потомки в средние века думали, что древние примитивные орудия были «громовыми камнями, упавшими с неба»; а менгиры, метеориты и кромлехи принимались за следы великанов, фей и героев.
78. КАМНИ С ОТВЕРСТИЯМИ; «ГРОМОВЫЕ КАМНИ»
Я только что сказал, что по поводу «оплодотворяющих» камней и их почитания традиционная «теория», обосновывавшая эту практику, была замещена новой теорией (или, по крайней мере, подверглась ее воздействию).
Мы находим потрясающий пример этому в бытующем в Европе даже сегодня обычае пропускать новорожденных младенцев через отверстие в камне[905], эгот обряд совершенно явно относится к «второму рождению», понимаемому либо как рождение из божественного чрева через символизирующий его камень, либо как второе рождение через солнечный символ. Самые ранние народы в индийской истории думали, что камни с отверстиями внутри — эмблемы йони[906], а ритуальное действие прохождения через отверстие означает перерождение посредством женского космического начала[907]. Религиозные «жернова» (ulv‑kvarnar) доисторической Скандинавии могли выполнять такую же функцию. Альмгрен приписывает им символическое значение, очень близкое к значению йони[908]. Но йони, эти кольцевые камни в Индии, обладают к тому же некоторым солнечным символизмом. Они соединены с «вратами мира», локадвара, через которые и душа может «пройти» (спастись — атимучьяте). Отверстие в камне называется «врата спасения» (муктидвара) и никак не может быть связано со вторым рождением через йони (или чрево вещей), а только с освобождением от Космоса и от кармического цикла; это избавление, основанное на символизации Солнца[909]. Здесь мы имеем дело с символизмом, демонстрирующим другое значение прохождения через камень–кольцо. В Индии же мы находим еще один пример новой теории, заменяющей старую; камень салаграма и теперь священен, потому что он воспринимается как символ Вишну и «женат» на растении туласи, символе богини Лакшми. Однако в действительности религиозное спаривание камня и растения являлось примитивным символом «святого места», примитивного алтаря и было таким по всему индо–средиземноморскому району (ср. § 97).
В очень многих местах на метеориты смотрят как на эмблемы или знаки плодородия. Буряты убеждены, что некоторые камни, «упавшие с неба», способствуют дождю, и во время засухи приносят им жертвы. Подобные камни находятся во многих деревнях, и им приносят дары весной, чтоб урожай был хорошим[910]. В таком случае ясно, что если камень имеет религиозное значение, то по своему происхождению он явился из весьма святого и плодородного места. Он упал с неба вместе с громом, несущим дождь. Все верования, относящиеся к плодородию «дождевых камней», основаны на их метеоритном происхождении или на ощущаемых аналогиях между ними и какой‑то силой, формой или существом, которое управляет дождем. В Кота–Гаданг (Суматра), например, есть камень, по форме смутно напоминающий кошку. А поскольку черная кошка участвует в некоторых обрядах вызывания дождя, кажется вероятным, что этот камень наделен такими же силами[911]. Внимательный анализ бесчисленных «дождевых камней» всегда выявлял существование «теории», объясняющей их власть над тучами; это связано либо с их формой, которая имеет какое‑то сродство с тучами или с молнией, либо с их небесным происхождением (они, наверное, упали с неба), либо с их принадлежностью «предкам», а быть может, они были найдены в воде или по форме напоминают змей, лягушек, рыб или какую‑нибудь другую водную эмблему. Сила этих камней никогда не происходит из них самих; они причастны к какому‑то принципу или воплощают символ, они выражают космическое «родство» или выдают небесное происхождение. Эти камни — знаки духовной реальности, находящейся за их пределами, или орудия священной власти, вместилищами которой они являются.
79. МЕТЕОРИТЫ И БЕТЭЛЫ
Метеориты дают нам многозначительный пример различных видов символической ценности, придаваемой камням. Кааба в Мекке[912] и черный камень из Пессина, условный образ Кибелы, Великой Матери фригийцев, привезенный в Рим во время последней из Пунических войн, — вот наиболее известные из всех метеоритов[913]. Своим священным характером они обязаны прежде всего небесному происхождению. Но в то же время они были образами Великой Матери, богини Земли как таковой. Их небесное происхождение едва ли могло быть забыто, ибо народная вера связывала с ним все доисторические каменные орудия, называвшиеся «громовыми камнями». Метеориты, вероятно, стали образами Великой Богини, потому что было видно, как их сопровождала молния, символ небесного бога. Но, с другой стороны, Кааба рассматривалась как Центр мира. Другими словами, она была не только центральным пунктом Земли; прямо над нею, в центре небес были «врата Неба». Очевидно, Кааба, падая с Неба, проделала в нем отверстие, и через это отверстие могло осуществляться сообщение между Землей и Небом. Через него проходит Axis Mundi — Ось мира.
Итак, метеориты священны или потому, что упали с Неба, или потому, что выдают присутствие Великой Богини, или потому, что представляют Центр мира. Чем бы они ни считались, они символы или эмблемы. То, что они священны, подразумевает как космологическую теорию, так и ясно просматривающуюся диалектику иерофании. «Арабы почитают камни», — писал Климент Александрийский[914]. Подобно своим монотеистическим предшественникам из Ветхого Завета, христианский апологист был склонен в силу чистоты и интенсивности своего собственного религиозного опыта (основанного на Откровении Христа) отрицать за старыми религиозными формами всякую духовную ценность. При семитской тенденции духовного характера смешивать бога с материальным предметом, представляющим его или выражающим его силу[915], весьма вероятно, что во времена Климента большинство арабов «почитало» камни. Недавние исследования показывают, что доисламские арабы чтили некоторые камни, которые греки и римляне называли baytill, — слово, взятое из семитических языков и означавшее «дом Божий»[916]. И такие священные камни чтились не только в семитском мире, но всеми народами Северной Африки даже до их контактов с карфагенянами[917]. Но бетэлы никогда не почитались просто как камни; они почитались постольку, поскольку проявляли божественное присутствие. Они представляли «дом Бога», они были его знаком, его эмблемой, хранилищем его силы или неизменным свидетелем религиозного акта, совершенного во имя его. Несколько примеров из семитского мира помогут прояснить значение и функцию бетэлов. На пути в Месопотамию Иаков пошел в Харан «…и пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте. И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божий восходят и нисходят по ней. И вот, Господь стоит на ней и говорит: Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака… Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему… Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сем, а я не знал! И убоялся, и сказал: как страшно сие место! это не что иное, как дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром, и взял камень, который положил себе изголовьем, и поставил его памятником; и возлил елей на верх его. И нарек имя месту тому: Вефиль (Дом Божий)…»[918]
80. КАМЕННЫЕ ЭПИФАНИИ И СИМВОЛИЗМЫ
Зиммерн показал, что Бет–эл (Вефиль, «Дом Божий») — это и имя Бога, и одно из слов, означающих «священный камень», или бетэл[919]. Иаков заснул на камне на месте, где Небо и Земля открывались друг другу; это был «Центр», подобно «вратам Неба». Но Бог, явившийся Иакову во сне, — был ли он действительно Богом Авраама, как подчеркивает библейский текст, или он был местным божеством, богом Бетэла, как полагал Дюссо в 1921 году?[920] Тексты Рас–Шамра, являющиеся бесценным свидетельством религиозной жизни семитов до Моисея, показывают, что Эл и Бетэл — взаимозаменяемые имена божества[921]. Другими словами, Иаков видел в своем сне Бога своих предков, а не местное божество. Но бетэл, который он поставил, чтобы освятить это место, позже почитался местным населением как особое божество Бетэл. Монотеистическая элита, верная проповеди Моисея, долго боролась против этого «бога», именно эту борьбу имеет в виду Иеремия: «Мы можем быть уверены, что в знаменитом рассказе о видении Иакова Бог Бетэла еще не стал Богом Бетэлом. Но эти совмещение и путаница могли произойти очень скоро среди простого народа»[922]. Там, где по традиции Иаков видел ангельскую лестницу и дом Бога, палестинские крестьяне видели Бога Бетэла[923].
Но мы должны помнить, что какого бы бога местное население ни видело в Бетэле, ни один камень никогда не представлял собою ничего более чем знак, вместилище, теофанию. Божество проявлялось посредством камня или — в других ритуалах — свидетельствовало о соглашении, заключенном и освященном близ него. Это свидетельство в умах простонародья состояло в том, что божество воплощалось в камне, а для элиты — в том, что божественное присутствие преображает камень. Завершив соглашение между Яхве и его народом, Иисус Навин «взял большой камень и положил его там под дубом, который подле святилища Господня. И сказал Иисус всему народу: вот, камень сей будет нам свидетелем… он да будет свидетелем против вас, чтобы вы не солгали пред Господом…»[924]. Бог присутствовал также как «свидетель» в камнях, поставленных Лаваном, когда он заключил дружественный союз с Иаковом[925]. Подобные камни–свидетели, вероятно, почитались ханаанянами как проявления божества.
Элита, придерживавшаяся Моисеева монотеизма, боролась против частого смешения знака божьего присутствия и воплощения божества в данном предмете. «Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться перед ними…»[926] А в Книге Чисел[927] Бог приказывает Моисею уничтожить камни, которым поклоняются и которые он найдет в Ханаане: «…истребите все изображения их, и всех литых идолов их истребите, и все высоты их разорите». Это битва не между верой и идолопоклонством, а между двумя теофаниями, двумя моментами религиозного опыта: с одной стороны, примитивная концепция, отождествляющая божество с веществом и почитающая его в любой форме и месте, где оно появляется; а с другой — концепция, выросшая из опыта элиты, признававшей присутствие Бога только в освященных местах (Ковчег, Храм и т. д.) и в некоторых Моисеевых обрядах, направленных на укрепление этого присутствия в уме самого верующего. Как обычно, религиозная реформа переняла старые формы и объекты почитания, изменив их смысл и их религиозное значение. Ковчег Завета, в котором традиционно хранились Скрижали с Заповедями, могли отлично содержать вначале некоторые религиозные камни, освященные присутствием Бога. Реформаторы принимали верования этого рода и включали их в иную религиозную систему, давали им совершенно другое значение[928]. В самом деле, каждая реформа направлена против искажения первоначального опыта; совмещение знака и божества стало очень популярным, и во избежание именно таких смещений Моисеева элита либо отменила знаки (фигурные камни, резные изображения и остальное), либо совершенно изменила их значение (как с Ковчегом Завета). Совмещение не замедлило проявиться в другой форме и диктовало дальнейшие реформы или, иными словами, дальнейшие утверждения первоначального значения.
81. СВЯЩЕННЫЙ КАМЕНЬ, ОМФАЛ, ЦЕНТР МИРА
Камень, на котором Иаков спал, не только был «Домом Бога»; но обозначал также место, где посредством ангельской лестницы происходило сообщение между Небом и Землей. Вефиль был, таким образом, Центром мира, подобно Каабе в Мекке, горе Синай, подобно всем храмам, дворцам и «центрам», освященным ритуалом (§ 143 и сл.). Представление о том, что это — «лестница», соединяющая Небо с Землей, возникло из теофании, произошедшей в этом месте; Бог, явившийся Иакову на Вефиле, указывал также место, где он мог сойти на Землю, пункт, в котором трансцендентное может войти в имманентное. Как мы увидим дальше, лестницы этого рода не обязательно помещаются в определенной, конкретной географической точке, Центры мира могут быть освящены ритуалом в бесчисленных пунктах Земли, и подлинность одного не обесценивает остальных.
В данный момент я просто отмечу несколько верований об омфале («пупе»), о которых Павсаний говорит:[929] «То, что жители Дельф называют omphalos, — из белого камня и считается центром земли; и Пиндар в одной из своих од подтверждает это понятие»[930]. На эту тему написано много (см. библиографию). Рода и Дж. — Х. Гаррисон думают, что омфал первоначально представлял надгробный камень; Варрон[931] упоминает предание, что омфал был могилой священного дельфийского Змея Пифона (quem Pythonis aiunt tumulum — …который называют могилой Пифона. — лат). Рошер, посвятивший этому вопросу три монографии, заявляет, что омфал с самого начала считался Центром Земли. Нильссон[932] не удовлетворен ни одним толкованием и считает, что концепции надгробного камня и Центра мира возникли позже и заменили более «примитивное» верование.
Но в действительности оба толкования «примитивны» и друг друга не исключают. Могила, рассматриваемая как точка соприкосновения между миром мертвых, живых и богов, может также быть Центром, «омфалом Земли». Для римлян, например, mundus (мир) представлял собою пункт сообщения трех сфер: «Когда mundus открыт, то открыты и ворота несчастных богов преисподней», — пишет Варрон[933]. Mundus, конечно, не могила, но его символизм дает нам более ясное понимание сходной функции, выполняемой omphalos: то, что он впервые возник из погребения, не противоречит тому факту, что он — «Центр». Место, где могут сообщаться мир мертвых и мир богов преисподней, было освящено как связующее звено между разными уровнями Вселенной, и такое место могло быть расположено только в Центре (многообразное символическое значение омфала будет изучено в надлежащем месте, когда мы подойдем к анализу теории и ритуальной функции освящения Центров (§ 145).
Когда Аполлон отменил древнюю дельфийскую религию земли, он перенял омфал и его атрибутику. Преследуемый фуриями Орест был очищен Аполлоном у омфала — святейшего пункта, в Центре, где связаны три космические зоны, в «пупе», гарантирующем своим символизмом новое рождение и воссоединенное сознание.
Разнообразное значение «центрального камня» еще лучше сохранилось в кельтских традициях. Лиа Файл, «камень Файла» (название сомнительно; Файл могло означать Ирландию) начинает петь, когда на нем сидит человек, достойный быть королем; при ордалиях, если обвиняемый, взошедший на Лиа Файл, невиновен, камень белеет; когда женщина, обреченная на бесплодие, приближается к нему, камень кровоточит; если же женщина станет матерью, он источает молоко[934]. Лиа Файл — теофания божества почвы, единственного божества, признающего земного господина (Высокого Короля Ирландии), единственного правящего структурой плодородия и гарантирующего ордалии. Имеются, конечно, позднейшие фаллические варианты этих кельтских омфалов (см. библиографию): прежде всего плодородие — атрибут Центра и его эмблема — зачастую сексуализировано. О том, что кельты придавали религиозную (и, соответственно, политическую) значимость Центру, свидетельствуют такие слова, как medinemetum, mediolanum[935], «media regio» (срединная область), существующие и поныне во французских названиях местностей[936]. Принимая во внимание то, что мы узнали о Лиа Файл и некоторых традициях, сохранившихся во Франции, мы имеем достаточные основания отождествлять эти Центры с омфалическими камнями. В деревне Аманси (округ Ла Гош), например, можно найти — положительное доказательство Центра — «камень в середине мира»[937]. Pierra Chevetta в округе Мутье, по местным представлениям, никогда не покрывается наводнениями[938], что, по–видимому, несет слабый отзвук Центра, который никогда не поглощается потопом (§ 143).
82. ЗНАКИ И ФОРМЫ
Омфал в любой традиции, — камень, освященный сверхчеловеческим присутствием или символизмом какого‑нибудь рода. Подобно бетэлам и массебе или доисторическим мегалитам, омфал свидетельствует о чем‑то, и именно в этом кроется его ценность или его положение в культе. Защищают ли они мертвых (как, например, неолитические мегалиты), или становятся временными обиталищами душ мертвецов (как среди многих первобытных), или свидетельствуют о соглашении, заключенном между человеком и Богом, или обязаны священным характером своему размеру или своему небесному происхождению (как с метеоритами и т. д.), представляют ли они теофании или пункты, где соприкасаются различные зоны Вселенной, или это образы Центра — такие камни всегда заимствуют свою религиозную значимость из присутствия Бога, преображающего их, из сверхчеловеческих сил (души мертвых), воплощенных в них, или из символизма (эротического, космологического, религиозного или политического), который придается им окружением. Религиозные камни — всегда знаки, всегда представляют нечто находящееся вне их. От простой элементарной иерофании, представленной глыбами и скалами — поражающими умы людей своей прочностью, крепостью и величием — до символизма омфала и метеоритов, религиозные камни неизменно означают нечто большее, чем человек.
Очевидно, эти «значения» изменяются, заменяются другими, иногда обесцениваются или иногда усиливаются. Мы не можем надеяться проанализировать все это здесь, на нескольких страницах. Достаточно сказать, что есть некоторые формы почитания камней, которые проявляют следы регрессии к историческому инфантилизму, и другие, которые — то ли вследствие нового религиозного опыта, то ли потому, что они включены в разные системы космологии, — меняются до такой степени, что становятся почти неузнаваемыми. История меняет, преображает, обесценивает или, когда на сцену выходит подлинно сильная религиозная личность, преображает все теофании. Позднее мы будем наблюдать значение перемен, осуществленных Историей в области религиозной морфологии. В настоящий момент мы отметим только один пример «преобразования» камня: пример некоторых греческих богов.
«Если углубиться достаточно далеко во времени, — писал Павсаний[939], — то увидишь, что греки почитали не статуи, а необработанные камни [argoi lithoi]». Фигура Гермеса имела значительную и сложную предысторию; камни, ставившиеся по обочинам дорог, чтобы защищать и охранять их, назывались hermai; только много позже итифаллическая колонка с мужской головой, hermes, стала восприниматься как образ Бога. Так Гермес, прежде чем стать «личностью», знакомой нам по постгомеровской религии и литературе, был сперва просто теофанией камня[940]. Эти hermai свидетельствовали о божественном присутствии, воплощали его силу, одновременно защищали и обеспечивали плодородие. То, что Гермес приобрел форму человека, объяснялось действием греческого воображения и очень ранней народной тенденции все более персонифицировать свои божества и священные силы. Мы наблюдаем здесь эволюцию, но эволюцию без всякого «очищения» или «обогащения» божества, эволюцию, только меняющую формулу, в которой человек выражал свой религиозный опыт и свое понимание божества[941]. Со временем греки представляли свои ощущения и воззрения по–иному. Их умы, смелые, гибкие и плодовитые, приобрели более широкие горизонты, и старые теофании, потеряв в этой новой обстановке свою действительность, потеряли также свое значение. Hermai проявляли божественное присутствие только умам, которые могли принять Откровение сакрального непосредственно, из вечного творческого акта, из всякой «формы» и всякого «знака». И таким образом Гермес перестал совпадать с камнем; его внешность стала человеческой, его теофания стала мифом.
Теофания Афины обнаруживает то же развитие знака в личность; каково бы ни было его происхождение, palladium, конечно, выражал с доисторических времен прямую власть Богини[942]. Аполлон Agyieus был сначала не более чем каменный столб[943]. В гимназиуме Мегары был небольшой камень пирамидальной формы, называвшийся Аполлон Каринос; в Малеа Аполлон Литезиос стоял рядом с камнем, а прилагательное lithesios недавно считалось произошедшим от lithos (камень)[944] — этимология, которую Нильссон[945] считает не лучше и не хуже, чем ей предшествующие. Безусловно, ни один греческий бог, даже Гермес, не был окружен столькими «камнями», как Аполлон. Но Аполлон не возник из камня, как и Гермес не «был» камнем; hermai просто напоминали об уединенности дорог, о ночных страхах и стояли для защиты путников, домов и полей[946]. И лишь потому, что Аполлон завладел старыми местами богопочитания, он присвоил также их характерные знаки, камни, омфалы и алтари, большая часть которых первоначально посвящалась Великой Богине. Это не значит, что каменная теофания Аполлона не имела влияния до того, как этот Бог приобрел свою классическую форму: необработанный камень показывал первобытному религиозному сознанию божественное присутствие гораздо эффективнее, чем любая статуя Праксителя современникам скульптора.
БИБЛИОГРАФИЯ
Yon Heine‑Geldern. Die Megalithen Sudostasiens und ihre Bedeutung für die Klärung d. Megalithenfrage in Europa und Polynesien // APS. 1928. Vol. XXIII. S. 276–315; автор стремится объяснить происхождение и функции мегалитов через верования, все еще существующие у народов Юго–Восточной Азии, в которых души умерших зафиксированы в камне; Perry W. J. Megalithic Culture of Indonesia. Manchester, 1918; Riesenfeld A. The Megalithic Culture of Melanesia. Leiden, 1950; Clemen С. Urgeschichtliche Religion. Bonn, 1932. Vol. I. S. 95 и сл. (рассматривает состояние вопроса, дает библиографию и критический обзор); Pettazzoni R. La Religione primitiva in Sardegna. Piacenza, 1912. P. 185 и сл. (мегалиты и кромлехи в Экваториальной и Атлантической Африке); Koppers W. Monuments to the Dead of the Bhils and Other Primitive Tribes in Central India. A Contribution to the Study of the Megalith Problem // Annali Lateranensi, 1942. Vol. VI. P. 117–206; Metzger E. Les Sépultures chez les Prégérmains et les Germains des âges de la pierre et de bronze. P., 1933 (даются хорошая библиография и краткая индикация распределения мегалитов). Wilke G. Kosinna, and Bosch Gimpera consider that the origins of megalithic architecture must be placed in the Iberian peninsula; from there it must have spread all over Europe; и сл. Obermaier H.; Bellido A. G. Y. El Hombre prehistorico y los orígenes de la humanidad, 2nd ed. Madrid, 1941. P. 171; хорошие подборки фотографий можно найти у Montez P. Historia da arquitectura primitiva em Portugal. Monumentos dolmenicos. Lisbon, 1942; list, description and bibliography in Octobon. Statues‑menhirs, steles gravees, dalles sculptees // RAN. 1931. P. 291–579. P. Laviosa Zambotti поддерживает версию египетского происхождения мегалитической архитектуры; см.: Origini e diffusione della civilta. Milan, 1947. P. 238 и сл.
Dominik J. W. Die Religionen des vorindogermanischen Europas // Christus und die Religionen der Erde. Vienna, 1951. Vol. I. S. 170–297.
Ср.: Imbelloni J+. La Premiere Chaīne isoglossémantique océanoaméricaine. Les noms des haches lithiques // W. Schmidt. Vienna, 1928. P. 324–335.
Saintyoes P. Corpus du folklore préhistorique en France et dans les colonies françaises. P., 1934. Vols. I — П. 1936. Vol. Ш (большой фрагмент исследования включает почти все документы, использованные при публикации, и дает полные региональные библиографии); Reinach S. Les Monuments de pierre brute dans le langage et les croyances populaires//Cultes, Mythes, Religions. 1908. Vol. Ш. P. 366 и сл.
работы: Frazer, Levy‑Bruhl, Nyberg, Hartland, Koppers — примечания к текстам, а также Dahmen F. The Paliyans, a Hill‑Tribe of the Palmi Hills (South India) // APS. 1908. Vol. III. P. 19–31, особенно P. 28: «Mayandi, the god of the Paliyans and Puliyans, is usually represented by a stone, preferably one to which Nature has given some curious shape…»; Leenhardt M. Notes d’ethnologie néocaledonienne. P., 1930. P. 243–245.
Karsten R. The Civilization of South American Indians. L., 1926. P. 362; Nyberg B. Kind und Erde. Helsinki, 1931. S. 65, 141.
ср.: Lehmann‑Hrrsche R. Ein Mythenthema aus Feuerland und Nord‑Amerika, Der Steinrise // APS. 1938. Vol. XXXIII. P. 267–273.
(обнаружены также в Малой Азии и на Дальнем Востоке), ср.: А. von Lowis. Nord‑kaukasische Steingedurtssagen // AFRW. 1910. Vol. XIII. P. 509–524; Semper M. Rassen und Religionen im alten Vorderasien. Heidelberg, 1930. P. 179–186; Dumezil G. Legendes sur les Nartes. P., 1930. P. 75–77; Schmidt W. Grundlinien einer Vergleichung der Religionen und Mythologien der austronesischen Völker. Vienna, 1910. S. 408; Perry W. J. The Children of the Sun. 2nd ed. L., 1926. P. 255; Williamson R. W. The Social and Political Systems of Central Polynesia. Camdridge, 1924. Vol. I. P. 48, 57, 382; Vol. II. P. 304; Jackson Knight W. F. Cum an Gales. Oxford, 1936. P. 9; Layarad J. Stone Men of Malekula. L., 1942, по всей работе. Об отношении камней к фертильности (дождь) у некоторых племен Южной Америки — Hentze С. Mythes et symboles lunaires, Antwerpen, 1932. P. 32–33, 35 и т. д.
Seligmann S. Der böse Blick. В., 1910. Vol. II S. 27; Dechelette J. Manuel d’archéologie préhistorique, celtique et gallo‑romaine. P., 1906. Vol. I. P. 520 и сл.; а также статья в: SMSR. Vol XIV. S. 55.
в итальянских народных верованиях, ср.: Bellucci G. Il Feticismo primitivo. Perugia, 1907. P. 36, 92 и сл.; Bellucci G. Gli Amuletti. Perugia, 1908. P. 19.
Frazer J. The Magic Art and the Evolution of Kings. L., 1936. Vol. I. P. 304–307; Frazer J. Folklore in the Old Testament. L., 1918. Vol. II P. 58 и сл.; Eisler R. Kuba‑Kybele // PS. 1909. Vol. LXVIII. P. 42. №222; Wagenvoort // SMSR Vol. XIV. P. 53, n.; Wainwright G. A. The Sky‑Religion in Egypt. Camdridge, 1938. P. 76; Kunz G. F. The Magic of Jewels and Charms. Philadelphia. L., 1915. P. 5 и сл., 34; Perry W. J. Children of the Sun. P. 392.
ср.: Saintyves P. Essais de folklore biblique. P., 1932. P. 139 и сл.
Leenhardt M. Notes d’ethnologie néocalédonienne. P. 30–31; among the ancient Antimerina Van Gennep A. Tabou et totémisme à Madagascar. P., 1904. P. 186.
Pettazzoni R. La drave mora // SMSR. 1925. Vol. I. P. 1 и сл.
ср.: Elliade M. Metallurgy, Magic and Alchemy // CZ. P., 1938. Vol. I. P. 3.
Bertholet Α. Über kultische Motìvverschiebungen // Sitz. Preuss. Akademie Wiss., Phil. Hist. Klasse. 1938. Vol. XVIII. P. 164–168, particularly 164–169.
Oppert G. Der Salagrama Stein // ZFF. 1902. Vol. XXXIV. P. 131–137; Kireel W. Vom Steinkult in Indien // Studien zur Geschichte u. Kultur des nahen u. fernen Osten, Paul Kahle zum 60 Geburtstag. Leiden, 1935. S. 163–172; in Japan: Deguchi Y. On the Traces of Stone Worship in Japan // Journal of the Anthtopological Society of Tokyo. Oct, 1908. Vol. XXIV. №271; in Peru: Minnaert P. Le Culte des pierres au Perou // Bulletin de la société des américanistes de Belgique. August, 1930.
Beer G. Steinverehrung bei den Israeliten. 1921; Robertson Smith W. The Religion of the Semites. 3rd ed. L., 1927. P. 200 и сл., 568 и сл.; Lagrange P. Etudes sur les religions sémitiques. 2nd ed. P., 1905. P. 194 и сл.: Lammens P. Le Culte des bétyles et les processions religieuses dans l’Arabie préislamique // Bulletin de l’institut d’archéologie orientale. Cairo. Vol. XVII; Dhorme E. La Religion des hébreux nomades. Brussels, 1937. P. 159–168; Dussaud R. Les Origines cananéennes du sacrifice Israélite. 2nd ed. P., 1941. P. 222 и сл.
ср. Eissfeldt О. Der Gott Bethel // AFRW. 1930. Vol. XXVIII. S. 1 и сл.; Vincent Α. La Religion des Judeo‑Arameens d’Elephantine. P., 1937. P. 562 и сл.
Hasbluck F. W. Stone Cults and Venerated Stones in the Graeco‑Turkish Area // Annual of the British School at Amens. Vol. XXI; De Visser. Die nichtmenschengestaltigen Götter der Griechen. Leiden, 1903. S. 55 и сл.; Maas E. Heilige Steine // Rhein. Museum. 1929. Vol. IXXVIII. P. 1 и сл.; Raingeard P. Hermes psychagogue. P, 1935. P. 344 и сл.; Vilsson M. P. Geschichte der griechischen Religion. Münich, 1941. Vol. I. S. 187 (с богатыми библиографическими описаниями); on the Phrygian cults: Picard С. Ephèse et Cloras. P., 1922. P. 474.
D’arbois De Jubainville. Le Culte des menhirs dans le monde celtique // RC. Vol. XXVII. P. 313 и сл.; De Vries J. Altgermanische Religionsgeschichte. В., 1937. Vol. II S. 100. Об омфалах: Rohde E. Psyche. L., 1925. P. 97 и сл.; Harrison J. Themis. 2nd ed. Cambridge, 1927. P. 396 и сл.; Röscher. Omphalos // Abh. Kon. Sachs, Gesell. Wiss. Phil. — Hist Klasse. 1913. Vol. XXIX. P. 9; Röscher. Neue Omphalosstudien // Id. 1915. Vol. XXXI. S. 1; Röscher. Der Omphalosgedanke bei verschiedenen Volkern // Sitz. Berichte Konig. Sacha. Gesell. Wiss. Lpz., 1918. Vol. IXXX. S. 2; Meringer R. Omphalos, Nabel, Nebel // WS. 1913. Vol. V. P. 43–91; Meringer R. Zum Roschers Omphalos // WS. 1914. Vol. VI; Deonna W. REG. 1915. P. 444, 445; 1917. P. 358. №10 и т. д.; Picard С. Ephèse et Claros. P. 110. №5, 551, №7; Robert R. Thymele. P., 1931. P. 278–283. О Perdrizet’s гипотезах (о том, что Дельфийский омфал может иметь отношение к Криту) и гипотезах о Homolle (о том, что здесь возможны египетские влияния), см.: Picard С. Ephèse et Claros. P. 464. №4; ср. также: Steindorff G. The So‑Called Omphalos of Ñapate // JEA. 1938. Vol. XXIV. P. 147–156. Suggestions and bibliography on the omphalos among the Celts: Dumezil G. Jupiter, Mars, Quirinus. P., 1941. P. 229. №2, 3.
См. также библиографию к гл. X.
Глава VII
ЗЕМЛЯ, ЖЕНЩИНА И ПЛОДОВИТОСТЬ
83. МАТЬ–ЗЕМЛЯ
«…Земля [Гея] сама сначала родила существо, равное себе, могущее могло раскинуться над нею всей, — звездное небо [Уран], неколебимый трон благословенных богов на все времена»[947]. Эта первая пара породила многочисленное семейство богов, циклопов и других мифических существ (коттов, бриареев, гигов, сторуких и пятидесятиголовых «самолюбивых детей»). Брак Земли и Неба был первой иерогамией; вскоре женились и боги, а люди, в свою очередь, стали подражать им — с тем же священным трепетом, с каким они имитировали все, что впервые делалось на заре времен.
Культ Геи, или Ге, был довольно широко распространен в Греции, но со временем ее место заняли другие божества земли. Судя по этимологии, в имени Геи значение земли присутствует в наиболее явном виде (ср. санскр. go — «земля», «место»; зенд. gava, готск. gawi, gauja — «провинция»). Гомер едва упоминает ее: хтоническому божеству, принадлежащему к тому же еще к доэллинскому субстрату, вряд ли нашлось бы место на его Олимпе. Однако один из гимнов Гомера обращен именно к ней: «Я воспеваю Землю, чье царство нерушимо, родительницу всего, священную праматерь, питающую от своей плоти все сущее… В твоей власти подарить жизнь смертным, ты же можешь и отнять ее… Счастлив человек, осененный твоим благоволением! Нива жизни приносит ему богатый урожай; стада плодятся на его угодьях, и дом его — полная чаша»[948].
Землю прославляет и Эсхил, потому что именно она «рождает всю тварь, питает ее и принимает от нее животворное семя»[949]. Чуть ниже мы увидим, насколько стара эта формула Эсхила и как верно она передает древнее верование. Есть и еще один очень старый гимн, который, как говорит Павсаний, пели Плеяды Додоны: «Зевс был, есть и будет, о Великий Зевс, только с твоей помощью плодоносит Земля. Не зря мы называем ее своей матерью»[950].
До нас дошло немало верований, мифов и ритуалов, связанных с Землей, с божествами Земли и с образом Великой Матери. В некотором смысле Земля представляет собой фундамент Вселенной и поэтому наделяется многообразной религиозной значимостью. Ей поклонялись за постоянство и неизменность, за то, что все выходит из нее и в нее возвращается. Если изучать историю отдельной религии, то можно вполне четко определить функции и эволюцию верований, касающихся хтонических эпифаний. Но это становится невозможным, если берешься исследовать религиозные формы как таковые; и здесь мы так же, как во всех других главах, будем рассматривать действия, верования и теории, относящиеся к разным по возрасту и характеру цивилизационным циклам. Попытаемся все же разглядеть в рисунке ткани главные нити, которые в справочниках по интересующей нас проблематике помещаются под заголовками «Земля», «Мать–Земля», «Божества Земли», «Духи Земли» и т. д.
84. ПЕРВАЯ ИЕРОГАМИЯ: НЕБО И ЗЕМЛЯ
Божественная пара — Небо и Земля, — о которой говорит Гесиод, — это один из лейтмотивов мифологии вообще. Во многих мифологиях, где Небо играет роль Высшего божества, Земля выступает его спутницей, а Небо, как мы видели выше (§ 12 и далее), присутствует почти повсеместно в религиозной жизни первобытного общества. Вспомним несколько примеров. Маори называют Небо Ранги, а Землю Папа–Земля; в начале всего Небо и Земля, подобно Урану и Гее, соединились в тесном объятии. Родившиеся от этого союза дети — Туматаненга, Танемахуата и другие — искали свет, ощупью передвигаясь во тьме, и решили отделиться от родителей. Поэтому однажды они перерезали связывавшие Небо и Землю веревки и оттолкнули Отца от Земли; они толкали и толкали его, пока Ранги не поднялся в воздух, на Земле при этом появился свет[951].
Мотив сотворения сочетающихся первым браком Неба и Земли встречается во всех культурах Океании, от Индонезии до Микронезии[952]. Мы находим его на Борнео у минехассов, на севере Целебеса (где главное божество — Богиня Земли Луминуут);[953] у тораждей центрального Целебеса (И–лай и И–дора), практически на всех многочисленных индонезийских островах и т. д. В других местах встречается мотив насильственного отрыва Неба от Земли; так, на Таити считают, что Небо Земли отодвинуло тянущееся вверх растение[954]. Этот сюжет довольно широко распространен и в других историко–культурных областях[955]. Первые супруги — Небо и Земля — есть в Африке, например Нзамби и Нзамби–Мпунгу у племени бавили в Габоне[956], Олорун и Одуна («черные») у йоруба[957], божественные пары у эве, у аквапим[958] и т. д. У кумана, одного из земледельческих племен Южной Африки, брак Неба и Земли имеет тот же смысл космической плодовитости, что и в гимне Плеяд Додоны: «Земля — наша мать, отец — Небо. Небо оплодотворяет Землю дождем, Земля дает зерно и травы»[959]. И как мы увидим дальше, под эту формулу подходит немалая часть верований, связанных с земледелием. Божественная пара фигурирует также в мифологиях обеих Америк. На юге Калифорнии Небо зовется Тукмит, а Земля — Тамайовит;[960] у навахо мы находим Ядилкила Хасткина («человека–небо») и его жену Нихосдзан Эсдзу («женщину–землю»);[961] в Северной Америке[962], у пауни, сиу, гуронов (одного из главных ирокезских племен)[963], холи, зуньи, на островах Вест–Индии мы встречаем тот же космический дуэт. В мифологиях Востока ему принадлежит не менее важная роль в сотворении мира. «Царица земель» (Богиня Аринна) и ее муж У или Им, Бог грозы, есть у хеттов;[964] у китайцев тоже есть богиня Земли и бог Неба; у японцев это Изанаги и Изанами[965] и т. д. У германских племен Фригг, жена Тюра, а затем Одина, — также, по существу, Богиня Земли[966]. У египтян только из‑за особенностей их языка Небо представлено Богиней Нут (слово «небо» у них женского рода), а Земля — Богом по имени Геб.
85. СТРУКТУРА ХТОНИЧЕСКИХ ИЕРОФАНИЙ
Примеры умножить нетрудно, но нам это ничего не даст: простое перечисление космологических пар не раскроет ни сущностной структуры, ни религиозной значимости хтонических божеств. В мифе о сотворении Земля, хотя она и была первоматериалом, играет пассивную роль. Еще до того, как появились мифы о Земле, само существование земли как почвы считалось значимым в религиозной сфере. Землю первобытное религиозное сознание воспринимало непосредственно и относилось к ней как к данности; ее необъятность, ее плотность, разнообразие ландшафта и растительности ощущались как живое и активное космическое единство. Когда впервые религиозная значимость Земли была осознана, она не была «отдельной», т. е. священность осеняла не землю как таковую, а всю природу: землю, камни, деревья, воды, тени — все вокруг. Первоначальное интуитивное восприятие земли как религиозной «формы» может быть выражено следующим образом — «Космос, хранилище изобильных священных сил». Мы видели, что воде придаются различные значения, которые восходят к понятию семени, скрытой энергии и возрождения — в магии, религии и мифологии, — но первоначальное восприятие фундамента всех форм бытия — это Земля. Все, что есть на земле, соединено со всем остальным, образуя одно громадное целое.
Стихию земли как таковой из‑за космического характера интуитивного восприятия стихий почти невозможно выделить из совокупности последних. Человек живет в целостной среде, и ему очень трудно разобрать, что относится к собственно земле, а что только проявляет себя через землю: горы, леса, воды, растительность. Только одно можно с определенностью сказать об этих первоначальных интуитивных восприятиях (чью религиозную природу я уже показал достаточно ясно): они имеют вид форм, в которых проявляется реальность; они поневоле должны быть яркими и поражать ум. С самого начала Земля со всем, что стоит на ней и в ней содержится, воспринималась как неисчерпаемый источник бытия, данный человеку в непосредственных ощущениях.
Единственное, что доказывает, что иерофания Земли сначала была космической по форме и лишь позже стала действительно хтонической (а это произошло только с возникновением земледелия), — это история верований, связанных с появлением детей. Пока не были ясны физиологические причины зачатия, люди думали, что ребенка просто помещали в женское лоно. Мы не станем сейчас задаваться вопросом, чем именно представлялось то, что помещали: зародышем, который до того жил в пещерах, расщелинах, колодцах, деревьях и тому подобных местах, или же семечком, или даже «душой предка». Нас интересует лишь представление о том, что зачатие не связывалось с отцом, но что ребенок на какой‑то стадии своего развития оказывался в животе женщины в результате ее контакта с каким‑либо природным предметом или животным[967].
Хотя это сюжет скорее этнологический, чем религиоведческий, он поможет нам рассмотреть интересующую нас проблему. Человек не участвует в Творении. Отец ребенка является отцом только в юридическом, но не в биологическом смысле. Родством, да и то довольно непрочным, считалась только связь по женской линии. Но со своей природной средой люди были связаны куда более тесно, чем современный профанный разум может понять. Они чувствовали себя буквально «людьми Земли»[968] — это выражение не было аллегорией: их либо приносили водные животные (рыбы, лягушки, крокодилы, лебеди и т. п.), либо они росли среди камней, в глубоких ущельях или пещерах перед тем, как чудесным образом попасть в женское лоно. Или же до того, как родиться, они начинали свою жизнь в воде, в кристаллах, в камнях, на деревьях; или они жили в скрытых, до–человеческих формах — в виде «душ» или «детей–предков» где‑нибудь в близлежащих космических зонах. Есть множество примеров подобных верований; так, армяне считали Землю «материнской утробой, откуда вышли люди»[969]. Жители Перу верили в свое происхождение от гор и камней[970]. По верованиям других народов, дети появлялись из пещер, расщелин, источников и т. п. Даже сегодня в Европе есть люди, убежденные, что дети «выходят» из прудов, ключей, рек, деревьев и т. д.[971] Существенно, что «Земля» принимает в этих верованиях космическую форму и может отождествляться со всем окружающим пространством, с микрокосмом, а не просто с землей как таковой. «Земля» в данном случае — это все, что окружает человека, вся местность со своими горами, лесами и водами.
Отец лишь легитимизирует детей посредством ритуала, имеющего все признаки усыновления. Дети прежде всего принадлежат «месту», окружающему пространству, микрокосму. Мать только впустила их сюда; она «встретила и поприветствовала» их и самое большее — улучшила их человеческую форму. Из этого нетрудно понять, что у человека на данной стадии его развития или, вернее, у человека, воспринимавшего человеческую жизнь таким образом, чувство единства с окружающей природой, с «местом» было преобладающим. Можно сказать, что в некотором смысле человек еще не родился, еще не осознал, что он целиком принадлежит своему биологическому виду. Может быть, лучше считать, что на этой стадии его жизнь находилась в пренатальной фазе, потому что человек непосредственно ощущал себя частью жизни, которая была общей со всем остальным, — «космоматеринской» жизни. Его опыт существования можно назвать «филогенетическим», и человек не мог полностью осознать его; он чувствовал, что вышел из двух или трех «утроб» одновременно.
Легко увидеть, что подобная ментальность порождала ряд определенных установок в восприятии человеком Космоса и своих собратьев. Неопределенность отцовства уравновешивалась слитностью человека с разнообразными защитными силами или субстанциями в природе. Конечно, такая слитность с «местом» едва ли могла возбудить в человеке чувство создателя биологических форм. Отец, «легитиматор» своих детей, явившихся к нему откуда‑то из недр природы или бывших некогда «душами предков», не имел детей в полном смысле слова, а растил просто новых членов семьи, новых работников или защитников. Связь между ним и ребенком не ощущалась как связь между родителем и его порождением. Биологическая жизнь отца заканчивалась с его смертью и не находила продолжения в других человеческих существах, хотя индоевропейские народы позднее предложили свою интерпретацию испытываемого людьми чувства семейной преемственности: тело, согласно этой идее, передается впрямую от человека к человеку (родители сотворяют тело, или «субстанцию», ребенка), в то время как душа снисходит к человеку от его предков (души предков воплощаются в новорожденных)[972].
Земля, таким образом, в ранних религиозных опытах или мифологических представлениях была «целокупностью», в которой человек находил свое место. Этимология многих слов, означающих Землю, содержит значение пространства: «место», «широкость», «провинция» (ср. pŗthivī — широкий) — или какого‑либо ощущения, возникающего при восприятии земли: «твердый», «то, что не движется», «черный» и т. д. Какой бы то ни было религиозный смысл земля сама по себе могла получить только позднее — в пастушеском и особенно в земледельческом ритуальном цикле, если перейти в область этнологии. До тех пор то, что называлось «божествами Земли», было на самом деле «божествами места», т. е. всего космического окружения.
86. ХТОНИЧЕСКОЕ МАТЕРИНСТВО
Одной из первых теофаний самой Земли и особенно земли как почвы было ее «материнство», ее неисчерпаемая способность плодоносить. Прежде чем стать Богиней–Матерью, или божеством плодородия, Земля предстала человеку как Мать — Tellus Mater (Мать–Земля). Последующее развитие сельскохозяйственных культов, формировавших все более отчетливое понятие Великой Богини растительности и урожая, в конце концов стерло все следы Матери–Земли. В Греции место Геи заняла Деметра. В некоторых этнологических свидетельствах все же обнаруживаются реликты древнего поклонения Матери–Земле. Смоалла, пророк индейского племени уматилла, запрещал своим последователям копать землю, ибо, говорил он, грешно наносить раны нашей всеобщей матери, резать, надрывать или царапать ее работой. И подкреплял свои антиземледельческие призывы следующими речами: «Вы предлагаете мне пахать землю? А могу ли я взять нож и вонзить его в грудь своей матери? Чтобы, когда я умру, она не смогла прижать меня к груди и дать мне упокоение? Вы говорите: выкопай камень. А можно ли из‑под кожи выкопать кости? Чтобы, когда я умру, она не смогла принять меня в свое тело и родить вновь? Вы просите меня косить траву, сушить сено и продавать его, чтобы стать богатым, как белые. Но разве могу я отрезать волосы у своей матери?»[973]
Подобная мистическая преданность Матери–Земле не уникальна[974]. Кочевые земледельцы байга, одно из первобытных дравидских племен Центральной Индии, сеяли только в золе, остающейся на участках, где выгорали джунгли. Их не останавливали трудности такого земледелия, потому что резать плугом грудь своей матери они почитали грехом[975]. И некоторые алтайские и финно–угорские народы считали ужасным грехом вырывать траву, потому что земле это так же больно, как человеку, у которого вырывают волосы или бороду. Вотяки (удмурты), которые, по обычаю, использовали для жертвоприношений ямы, следили, чтобы подношения не делались осенью, так как в это время земля спит. Черемисы (марийцы) думали, что земля часто болеет, и в такие периоды избегали садиться на нее. Есть немало других подтверждений сохранения отдельных верований, связанных с культом Матери–Земли, как у земледельческих, так и у неземледельческих племен[976]. Культ земли, даже если он и не является, как полагают некоторые ученые, старейшей религией человека, изживает себя с трудом. Возникнув в рамках первобытного земледельческого комплекса, он может не изменяться тысячи лет. В некоторых же случаях вообще не происходит перерыва в жизни культа от доисторических времен до современности. Например, «пирог мертвеца» (coliva, кутья по–румынски) и в Древней Греции был известен под тем же названием, пришедшим еще из доисторических, доэллинских времен. О других примерах сохранения интересующих нас верований в рамках функционирующих земледельческих религий мы поговорим ниже.
В 1905 году А. Дитерих опубликовал книгу «Mutter Erde, ein Versuch über Volksreligion»[977], вскоре ставшую классической. Эмиль Гольдман[978], а после него и другие ученые, среди которых ближайший к нам — М. Р.Нильссон[979], выдвинули всяческие возражения против теории Дитериха, но не смогли ее полностью опровергнуть. Дитерих открывает свое исследование описанием трех обычаев, практиковавшихся в древности: класть новорожденных на землю, хоронить детей в земле (в отличие от кремации взрослых) и помещать больных и умирающих как можно ближе к земле. Отсюда он реконструирует образ первобытной Богини Земли, «Земли–Матери–всего» (pammetor Ge), о которой говорят Эсхил в «Прометее»[980] и Гесиод в гимне Гее. Было собрано внушительное количество материала, имеющего отношение к этим трем древним обычаям, и вокруг них шли споры, в подробности которых мы не станем здесь вдаваться. Но они нас кое–чему учат и показывают, в какой религиозной области подобные верования следует изучать.
87. «ЗЕМЛЯНОЕ» ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Святой Августин[981] вслед за Варроном упоминает имя римской богини Леваны, которая подняла с земли детей, которых она перед этим оттуда вынула: levat de terra. В связи с этим фактом Дитерих отмечает существование в Абруцци обычая класть родившихся младенцев на землю сразу же после их обмывания и пеленания[982]. Такой же обычай был у скандинавов, германцев, парсов, японцев и других народов. С земли младенца поднимал его отец (de terra tollere), что было выражением признания ребенка[983]. Дитерих интерпретировал это действие как посвящение ребенка земле, Tellus Mater, которая является его истинной матерью. Гольдман считает, что положение малыша (или больного и умирающего) на землю необязательно означает происхождение из земли или даже посвящение Матери–Земле, а просто призвано дать ему соприкоснуться с магическими силами Земли. По мнению других исследователей[984], посредством этого ритуала ребенок получает душу, которая входит в него из Tellus Mater.
Перед нами две интерпретации, видимая противоположность которых не затрагивает их глубины; они обе исходят из одной и той же древней идеи: земля — это источник силы, «души» и плодовитости — плодовитости Матери–Земли. Обычай лежания на земле (humi positio) встречается часто и у многих народов. У гурионов на Кавказе и в некоторых местностях Китая женщины, как только у них начинаются родовые схватки, ложатся на землю, чтобы соприкасаться с ней в момент рождения ребенка;[985] женщины маори в Новой Зеландии рожают вблизи ручьев в зарослях кустарника; у многих африканских племен рожать принято в сидячем положении, в лесу;[986] такой же ритуал встречается в Австралии, на севере Индии, у североамериканских индейцев, в Парагвае и Бразилии[987]. Замтер отмечает (с. 6), что этот обычай исчез у греков и римлян к началу исторического времени, но он, бесспорно, существовал у них какой‑то период: некоторые статуи изображают богинь родов (Эйлифийю, Дамию, Ауксейю) на коленях, точно в таком же положении, в каком женщины рожают детей прямо на землю[988]. У германских племен в средневековой Европе, у японцев, в некоторых еврейских общинах, на Кавказе[989], в Румынии, Исландии, в скандинавских странах практиковался тот же обычай. Египетское выражение «сидеть на земле» в демотическом письме означало «рожать»[990].
Основой этого широко распространенного ритуала, несомненно, была вера в способность Земли к материнству. Как мы видим, в одних местах верили, что дети появляются из колодцев, камней, деревьев, воды и т. п., в других, разумеется, считали, что дети «берутся из земли»[991]. Незаконнорожденного ребенка прозывали terrae filius (сын земли). Мордва, когда желают усыновить ребенка, кладут его в огороде в яму, где, как они думают, обитает Богиня–покровительница, Мать–Земля[992]. Т. е., чтобы оказаться принятым в семью, ребенок должен быть рожден заново, и это делается не путем имитации приемной матери, стоящей на коленях, родов на землю (как, например, у римлян), а положением ребенка на грудь его настоящей матери — Земли.
Естественно, что вера в происхождение человека из земли позднее уступила место более приятной идее, что Земля — это покровительница детей, источник сил и что именно ей (т. е. обитающему в ней духу материнства) следует посвящать новорожденных. Вот почему мы так часто находим «земляные колыбели»: крошечных детей клали спать или полежать в ямках — для прямого контакта с землей или с золой, соломой или листьями, из которых матери делали им «кроватки». Земляная колыбель встречается как в первобытных обществах (австралийцы и некоторые тюрко–алтайские народы), так и в высоких цивилизациях (например, в империи инков)[993]. Нежеланных детей никогда не убивали, но греки и другие народы, например, оставляли их лежать на земле. О них должна была позаботиться Мать–Земля, она должна была решить, жить им или нет[994].
Оставленный ребенок, отданный на волю стихий: воды, ветра, земли, — это всегда своего рода вызов, брошенный судьбе. Доверенное земле или воде дитя отныне будет считаться сиротой, и ему грозит опасность смерти, но в то же время перед ним открывается возможность выйти за рамки ординарной человеческой судьбы. Покровительствуемый природой, оставленный ребенок обычно становится героем, царем или святым. Пересказывающие его жизнь легенды просто повторяют мифы о богах, оставленных родителями при рождении. Вспомним, что Зевс, Посейдон, Дионис, Аттис и бесчисленные другие боги разделяли участь Персея, Ионы, Аталанты, Амфиона и Зефоса, Эдипа, Ромула и Рема и других. И Моисей был отдан на волю волн, подобно маорийскому герою Масси, которого бросили в море, или герою «Калевалы» Вяйнямёйнену, который «плавал на темных волнах». Трагедию покинутого ребенка искупает мифологическое величие «сироты», подобного первому ребенку с его абсолютным и непреодолимым одиночеством во Вселенной, с его «единичностью». Появление такого ребенка совпадает с тем моментом на заре времен, когда были сотворены Космос, новый мир, новая эпоха в истории (Jam redit et virgo… — Вот дева возвращается уже… (лат.) Имеется в виду Астрея, звездная дева, дочь Зевса и Фемиды (или Дике). Астрея покровительствовала людям золотого века. Когда наступил железный век и нравы людей испортились, она возвратилась на небо и превратилась в созвездие Девы. — Примеч. перев.), «новая жизнь» — не важно, на каком уровне реальности[995]. Ребенок, покинутый на милость Матери–Земли, спасенный и взращенный ею, не причастен обычной человеческой судьбе, потому что в нем воплощается космологическое дитя «начала» и растет он не в окружении семьи, а среди стихий. Вот почему герои и святые выходят из числа брошенных детей: сохраняя дитя, оберегая его от смерти, Мать–Земля (или Мать–Вода) уже тем самым посвящает его великой судьбе, не предназначенной простому смертному[996].
88. ВОЗРОЖДЕНИЕ
Еще один ритуал, ассоциирующийся с культом Матери–Земли, — это похороны умерших детей. Взрослых сжигают, но детей закалывают в землю, чтобы они могли вернуться в лоно Матери–Земли и родиться вновь: Terra clauditur infans (Дитя окутывается землей… — лат.)[997]. Законы Ману требуют, чтобы детей моложе двух лет хоронили, и запрещают их кремацию. Гуроны хоронят детей под дорогой, чтобы они могли проникнуть в утробу проходящих по ней женщин и родиться снова[998]. Жители Андаманских островов хоронят детей под очагом, прямо в своих домах[999]. Обратим также внимание в этой связи на то что у многих народов практикуется захоронение «в позе эмбриона», о чем я скажу ниже, в разделе о мифологии смерти[1000]. Тело располагается в позе зародыша, и Мать–Земля может вернуть его в мир. Есть места, где детей хоронят живыми — в дар Богине Земли; так, в Гренландии ребенка хоронят, если его отец серьезно болен; в Швеции двух детей похоронили во время эпидемии чумы; майя также приносили в жертву детей во время сильной засухи[1001].
Аналогично тому, как младенцев рожают на землю, чтобы их истинная мать могла признать их и предоставить им свое божественное покровительство, взрослые в болезни тоже укладываются на землю или закапываются в нее. Это то же, что новое рождение. Символическое захоронение — частичное или полное — имеет то же магико–религиозное значение, что и погружение в воду, крещение (§ 64). Больной рождается заново от земли. Это означает не просто приобщиться к земной силе — это полное возрождение. Такое действие помогает и избавиться от серьезного греха, и излечиться от душевной болезни (считающейся такой же опасной для общества, как нарушение закона или физическая хворь). Согрешившего помещают во врытую в землю бочку или в канаву, и когда он выходит оттуда, он является «рожденным утробой своей матери во второй раз»[1002]. Вот почему скандинавы верят, что колдунья может быть избавлена от вечного проклятия, если ее похоронить заживо, а в землю над ней тут же посеять семена и в срок собрать урожай[1003]. Похожее верование существует относительно детей, больных опасными болезнями: если провести над ними символический ритуал погребения, засеять землю «над ними» и дать вырасти урожаю, дети могут поправиться. Это верование легко объяснимо: человеку (колдунье, ребенку) дается возможность родиться заново, выйдя из земли вместе с растениями.
Еще один сходный обряд заключается в помещении больного ребенка на краткое время в расщелину в земле, или в отверстие скалы, или в дупло дерева[1004]. Это составляет часть более сложного верования: с одной стороны, обряд преследует цель перевода болезни ребенка во что‑то иное (дерево, скалу, землю), а с другой — он есть воспроизведение реального процесса рождения (выхода из отверстия). Возможно даже, что в этом обряде скрываются элементы культа Солнца, по крайней мере, кое–где (например, в Индии — ср. § 78). Но основная идея здесь — это исцеление посредством нового рождения; причем, как мы видели, земледельческие народы связывают новое рождение прежде всего с контактом с Матерью–Землей. Только так можно объяснить целую серию верований и обычаев, относящихся к очищению землей и ее использованию как целительного средства. Земля действительно наделена силой, как говорит Гольдман, но эту силу дает ее способность родить и плодоносить.
Мы видим, что даже народы, у которых принято кремировать своих покойников, хоронят детей в земле — в надежде, что земная утроба даст им новую жизнь. Слово языка маори whenna означает одновременно «земля» и «плацента»[1005]. Но даже и похороны взрослых (или праха — там, где практикуется кремация) преследуют ту же цель. «Ползи к земле, твоей матери», — говорится в «Ригведе»[1006]. «Ты, кто есть земля, я кладу тебя в землю», — гласит «Атхарваведа»[1007]. «Земля — это мать; я сын Земли, мой отец — Парджанья… Рожденные от тебя, смертные в тебя возвращаются…»[1008] Когда после кремации захораниваются прах и кости, к ним примешиваются семена, и эту смесь разбрасывают на свежевспаханном поле со словами: «Пусть Савитри осыплет твоей плотью грудь нашей Матери–Земли»[1009]. Впрочем, эти индуистские верования не всегда так просты, как кажется по приведенным текстам. Представление о возвращении в лоно Матери–Земли в дальнейшем усложнилось, развившись в идею воссоединения со всем Космосом, restitutio ab integro (восстановление в целостности) души и тела в первоначальной форме антропокосмоса («Твое дыхание уходит к ветрам, твой слух — к четырем сторонам света, твои кости возвращаются в Землю»[1010]).
Вера в то, что мертвые обитают под землей до момента своего возвращения на свет, к новому существованию, показывает, почему царство мертвых идентифицируется с местом, откуда появляются дети; мексиканцы, например, считают, что они пришли из области под названием Чикомосток — «место семи пещер»[1011]. Потому ли, что мертвых считали осведомленными о будущем, или потому, что земля, периодически поглощавшая всю тварь, имела, как думали, способность провидения, — но некоторые греческие оракулы располагались вблизи расщелин или земляных пещер. Нам известны такие земляные оракулы в Олимпии и в Дельфах, а Павсаний[1012] упоминает оракул в Эгее, в области Ахайя, где жрица Геи предсказывала будущее, находясь на краю расщелины в земле. И едва ли стоит напоминать вам об огромном числе случаев «инкубации», происходивших с теми, кто засыпал на земле[1013].
89. HOMO‑HUMUS (ЧЕЛОВЕК–ЗЕМЛЯ)
В рассмотренных нами верованиях земля предстает в образе матери, т. е. существа, порождающего все живущее, сотворяющего все из своей собственной субстанции. Земля «жива» прежде всего потому, что плодоносна. Все, что выходит из земли, наделено жизнью, и все, что в нее возвращается, получает новую жизнь. Связь межу homo и humus не следует понимать упрощенно: человек — это земля, потому что он смертен; смысл еще и в том, что человек живет, потому что рожден от Terra Mater и вернется в нее. Солмсен[1014] вывел значение слова mater из materies, и хотя эта этимология не верна (первоначально слово «материя» означало что‑то вроде «сердцевина дерева»), все же у нее есть свое место в мифо–религиозной теории: «материя» выполняет функцию матери, потому что беспрерывно что‑то порождает. То, что мы называем жизнью и смертью, — просто два момента в целостном существовании Матери–Земли: жизнь — это выход из утробы Земли, отделение от нее, а смерть — возвращение «домой». Часто выражаемое людьми желание быть похороненными на родине есть всего лишь профанная форма этой мистической любви к своей собственной Земле, потребности вернуться в свой собственный дом. Надгробные надписи, найденные при раскопках захоронений на территории Римской империи, говорят о радости быть похороненным в своем отечестве: Hic natus hic situs est (Здесь рожден, здесь и погребен — лат.);[1015] Hic situs est patriae (Здесь погребен, на родине — лат.);[1016] Hic quo natus fuerat optans erat illo reverti (В то место, где когда‑то родился, туда желал вернуться — лат.)[1017] и т. д. Есть и надписи, в которых выражена скорбь из‑за невозможности получить это утешение: Altera contexit tellus dedit altera nasci (Одна земля даровала рождение, другая покрыла — лат.)[1018] и др.[1019] И потом, ведь предателей не хоронили, потому что, как поясняет Филострат, они не достойны «быть очищенными землей»[1020].
Вода считалась носителем семени; земля тоже носит семя, но в земле оно быстро дает плод. Споры и семена могут пробыть в воде на протяжении нескольких циклов своей жизни, прежде чем дадут о себе знать; но о земле можно сказать, что она никогда не находится в покое, ее дело — беспрерывно рождать, наделять формой и давать жизнь всему, что в нее возвращается неживым и бесплодным. Вода есть в начале и в конце каждого космического цикла, а земля — в начале и в конце каждой отдельной жизни. В жизнь все приходит из воды, а в результате исторической (например, наводнения) или космической катастрофы (махапралая) возвращается в свое изначальное состояние бесформенности. Каждое проявление жизни — это следствие плодовитости земли; всякая форма землею порождается, живет и уходит назад в землю в тот момент, когда завершается отпущенная ей доля жизни, — возвращается, чтобы родиться вновь; но прежде нового рождения побыть в покое, очиститься и собраться с силами. Вода предшествует всякому творению, всякой форме; земля производит живые формы. Если мифологическое предназначение воды есть открывать и закрывать космические циклы, то предназначение земли — стоять в начале и в конце каждой биологической формы и каждой формы, имеющей свою точку в истории места («люди места»). Время, так сказать, спящее в воде, активно и подвижно в работе земли — порождении. Живые формы появляются и исчезают по меркам истории со скоростью света. Но сам процесс их прохода по жизни бесконечен; смерть живой формы — это способ скрытого и временного существования. Как таковая же, как вид, живая форма не исчезнет, пока воды позволяют земле производить ее.
90. КОСМОЛОГИЧЕСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
В тот момент, когда форма появляется из воды, всякая прямая органическая связь между ней и водой обрывается; водную форму от ее доформенного состояния отделяет пропасть. Но между землей и порожденными ею формами такого разрыва не происходит: формы остаются связанными со своим источником, от которого во многих случаях они отделяются только на время и к которому возвратятся, чтобы отдохнуть, окрепнуть и однажды явиться вновь. Вот почему между землей и ее органическими порождениями есть магическая симпатическая связь: вместе они образуют целое. Невидимые нити, привязывающие растения, животных и человека к земле какого‑либо места, к земле, родившей и питающей их, сплетены воедино той жизнью, которая бьется и в Матери, и в ее детях. Солидарность земли, с одной стороны, и растений, животных и человека — с другой, определяется Жизнью, которая едина во всех них. Это биологическое единство. И если преступление против жизни вредит или наносит ущерб любой из форм, остальные формы тоже повреждаются, потому что все они взаимосвязаны на органическом уровне.
Каждое преступление — святотатство, могущее вызвать серьезные нарушения на всех уровнях жизни, потому что пролитая кровь «отравляет» землю. Катастрофа проявляется в том, что и поля, и животных, и людей поражает бесплодие. В прологе к «Царю Эдипу»[1021] жрец оплакивает Фивы, на которые обрушились беды: «Город умирает — в плодах земли, в травах полей, в родовых муках женщин: все это не увенчивается родами». Наоборот, у мудрого царя, чье правление основано на справедливости, плодовиты и поля, и скот, и женщины. Одиссей говорит Пенелопе[1022], что у него земля дает урожай, деревья сгибаются под тяжестью плодов, овцы плодятся, как им положено, море кишит рыбой именно потому, что он славен своим добрым правлением. Гесиод так выражает это понятие антропокосмической гармонии и плодовитости, свойственное крестьянскому мышлению: «У того, кто не отступает от справедливости и честно ведет дела со своим ли, с чужаком, города процветают, а люди за их стенами благоденствуют. Мир, в котором пребывают юноши, обнимает их землю, и всевидящий Зевс не допустит у них разорительных войн. Справедливый закон не встречается с голодом или разрухой… Земля дает им обильную жизнь; на склонах гор вершины дубов усыпаны желудями, а в средине крон живут пчелы; курчавым стадам их овец тяжело под шерстью; их женщины рождают сыновей, похожих на своих отцов; бесконечное благоденствие пребывает с ними; и им не надо ездить за море, потому что благодатная почва дает им свои плоды»[1023]. Иранский вариант того же самого звучит так: «При славном Йиме не было ни стужи, ни жары, ни старости, ни смерти, ни зависти — порождения демонов. Отцы и их сыновья чувствовали себя пятнадцатилетними юношами, пока правил Йима, хозяин прекрасных стад, сын Вивахванта»[1024].
91. ПОЧВА И ЖЕНЩИНА
Одной из наиболее заметных черт культуры всех земледельческих обществ является параллелизм представлений о плодовитости почвы и детородной способности женщин. Греки и римляне очень долго отождествляли почву с женской утробой, а земледельческий труд — с актом воспроизводства человека. И во множестве других цивилизаций мы находим такое же отождествление, породившее немало верований и обрядов. Так, Эсхил говорит, что Эдип «посмел посеять семя в священную борозду, где сам был зачат, и посадил кровавую ветвь»[1025]. У Софокла много раз упоминаются «родительские борозды»[1026], «другие земли, которые можно вспахивать»[1027], «пахарь, хозяин далекого поля, которое он посещает однажды, в период сева» (Деянира имеет в виду Геракла)[1028]. Дитерих, добавляя к этим классическим текстам[1029] еще множество аналогичных ссылок, отмечает также случаи появления мотива arat‑amat (пашет — любит) в латинской поэзии[1030]. Однако, как и следовало ожидать, сравнение женщины со вспаханной бороздой и акта воспроизведения человека — с трудом земледельца есть очень распространенное и примитивное представление. И мы должны выделить те несколько элементов, которые составляют это мифо–религиозное целое: идентификацию женщины с пахотной землей, идентификацию фаллоса с плугом, идентификацию пахоты с половым актом.
Позвольте мне сразу же сказать, что Мать–Земля и ее человеческая ипостась, женщина, играя доминирующую роль в этом ритуальном комплексе, все же играют ее не в одиночку. Есть еще мужчина и Бог. Плодоношению предшествует иерогамия. Древний англосаксонский заговор против бесплодия почвы прекрасно показывает, какое значение земледельцы придавали этой иерогамии: «Эй, Земля, Мать человека, зачни в объятиях Бога, наполнись плодами на благо человека»[1031]. В Элевсе жрец произносил древнее заклинание земледельцев: «Дай дождя! — Да принесешь ты плоды!» — глядя сначала на небо, потом на землю. Не исключено, что этот священный брак Неба и Земли был для первобытного мышления моделью плодовитости и земли, и человеческого брака. В одном из текстов «Атхарваведы»[1032], например, жених и невеста сравниваются с небом и землей.
92. ЖЕНЩИНА И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
Никто не сомневается в том, что земледелие изобрели женщины. Мужчина почти всегда охотился или пас скот. Женщина же с ее острой, хотя и ограниченной способностью к наблюдению могла заинтересоваться тем, как падают в землю и прорастают зерна, и попытаться воспроизвести этот процесс искусственно[1033]. Кроме того, будучи связанной с двумя другими центрами космической фертильности — Землей и Луной, женщина получила исключительное право распоряжаться фертильностью и влиять на нее. Это основная причина, по которой женщины играли доминирующую роль в земледелии на его ранней стадии, особенно когда оно было только женским занятием, — а в некоторых цивилизациях играют до сих пор[1034]. Так, в Уганде полагают, что бесплодная женщина представляет опасность для семейного огорода, и муж имеет право развестись с ней по экономическим причинам[1035]. Аналогичное верование — в опасность влияния бездетной женщины на урожай — мы находим у племени бханту в Индии[1036]. В Никобаре верят, что урожай будет богаче, если семена сеет беременная[1037]. На юге Италии распространено поверье, что все дела, которые делает беременная, будут успешны и что все посеянное ею будет расти, подобно зародышу[1038]. На Борнео «…женщины играют ведущую роль в обрядах, сопровождающих выращивание padi, и в самом выращивании; мужчин призывают только расчистить землю и помочь на каких‑то последующих стадиях. Женщины отбирают и хранят семенное зерно; они же — хранительницы связанного с ним фольклора. Похоже, жители острова чувствуют природное родство женщин и плодородного зерна, о котором они говорят, что оно забеременело. Женщины иногда спят на полях в период созревания padi — возможно, для усиления своей собственной плодовитости или для увеличения урожая. Но они очень неохотно говорят на эту тему»[1039].
Индейцы бассейна Ориноко также предоставляли своим женщинам сеять маис и сажать корнеплоды; ибо, «так как женщины умеют зачинать и вынашивать детей, семена и корнеплоды, посаженные ими, приносят гораздо больший урожай, чем посаженные мужскими руками»[1040]. В пальме, посаженной женщиной, как верят в Ниасе, больше сока, чем в пальме, посаженной мужчиной[1041]. Аналогичные верования бытуют у эве в Африке. Хиваро, индейцы Южной Америки, верят в то, что «женщины оказывают особое, таинственное влияние на рост культивируемых растений»[1042]. Вера в родство женщины и плодородной почвы сохранилась и после того, как земледелие стало занятием мужчин, а примитивный заступ был заменен плугом. Это родство составляет смысл многих обрядов и верований, которых мы коснемся, когда подойдем к рассмотрению сельскохозяйственных ритуалов (§ 126).
93. ЖЕНЩИНА И ПАХОТНАЯ ЗЕМЛЯ
Идентификация женщины со вспаханной бороздой встречается во многих цивилизациях, сохранилась она и в европейском фольклоре. «Я — земля», — восклицает возлюбленная в египетской любовной песне. В «Видевдат»[1043] незасеянная земля сравнивается с бездетной женщиной; в сказках бесплодная королева оплакивает себя: «Я, как поле, на котором ничего не растет»[1044]. С другой стороны, в гимне XII века Дева Мария прославляется именно как terra non arabilis quae fructum parturiit («непаханая земля, которая дает плод»). Баала называли «супругом полей»[1045]. У всех семитских народов сравнение женщины с почвой было самым обычным[1046]. В памятниках исламской литературы женщина называется «полем», «лозой с виноградными гроздьями» и т. п. В Коране[1047] говорится: «Твои жены тебе что твои поля». Индусы отождествляли борозду с вульвой (йони), а семена с semen virile (мужским семенем)[1048]. «Эта женщина явилась, как живая почва, сейте в нее, мужчины!»[1049] Законы Ману также указывают, что «на женщину можно смотреть как на поле, а на мужчину — как на семена»[1050]. Нарада комментирует это так: «Женщина — это поле, а мужчина — сеятель»[1051]. Финская поговорка гласит: «У дев поле в их теле»[1052].
Ясно, что идентификация женщины с бороздой предполагает идентификацию фаллоса со вспахивающим орудием, а пахоты — с актом репродукции человека. Подобные антропо–теллурические сравнения могли возникнуть только в цивилизациях, где уже знали земледелие и понимали причины зачатия. В некоторых австралийских языках слово lak означает одновременно фаллос и лопату. Пжилуски высказал предположение, что этот же австралийский термин лежит в корне санскритских слов langula (хвост, лопата) и lingam (мужской репродуктивный орган)[1053]. Это тождество — фаллос–плуг — постоянно появляется в графических образах[1054]. Истоки же этих образов уходят в более далекое прошлое: на рисунке касситского периода к плугу присоединено символическое изображение полового акта[1055]. Первобытные ассоциации такого рода долго не уходят не только из разговорной речи, но и из языка серьезных писателей. Рабле пишет: «Член мы называем землепашцем природы»[1056].
Наконец, возьмем миф о рождении Ситы, героини «Рамаяны», где также найдем пример отождествления земледелия с актом репродукции. Отец Ситы, Янака (чье имя означает «прародитель»), нашел ее в поле во время пахоты и назвал ее Сига, т. е. «борозда»[1057]. В одном из ассирийских текстов есть молитва, обращенная к богу, «чей плуг оплодотворил землю»[1058].
Даже и сегодня многие первобытные народы пользуются магическими амулетами в форме репродуктивных органов для вызывания плодоношения земли[1059]. Австралийские аборигены практикуют весьма любопытный оплодотворительный ритуал: вокруг вырытой в форме женского репродуктивного органа ямы они танцуют, держа стрелы наподобие эректированного фаллоса, и в завершение ритуала всаживают в землю палки[1060]. Следует помнить, какая тесная связь существует между женщиной и сексуальностью, с одной стороны, и пахотой и плодовитостью почвы — с другой. Есть обычай, по которому нагие девственницы должны пройти с плугом и отметить первую борозду[1061]. Этот обычай напоминает архетипический союз богини Деметры и Ясона в начале весны на свежезасеянном поле[1062]. Смысл всех этих обрядов и легенд станет ясен, когда мы перейдем к изучению структуры сельскохозяйственных культов.
94. ВЫВОДЫ
Во всех рассмотренных нами мифологических и обрядовых моделях земля почитается прежде всего за свою непреходящую способность плодоносить. Вот почему со временем Мать–Земля незаметно превратилась в Мать–Зерно. Но теофания почвы никогда полностью не уходила из образа «Матерей», или божеств Земли. Пример тому: первоначальные атрибуты Матери–Земли мы видим во всех женских персонажах греческой религии — Немезиде, Фурии, Фемиде. И Эсхил[1063] вначале молится Земле, потом Фемиде. Верно, что Ге, или Гея, в конце концов уступила место Деметре, но эллины никогда не теряли ощущение связи между Богиней злаков и Матерью–Землей. Еврипид[1064] говорит, имея в виду Деметру: «Она есть Земля… Называйте ее как хотите!»
Земледельческие божества заняли место первобытных божеств почвы, но это не повлекло за собой исчезновения первобытных обрядов. За «формой» сельскохозяйственной Великой Богини мы все еще различаем «хозяйку места», Мать–Землю. Но новые божества имеют более ясные черты, более динамичную религиозную структуру. В их историю начинают входить эмоции: новые божества переживают драму рождения, плодоношения и смерти. Преображение Матери–Земли в Великую Богиню земледелия — это превращение простого существования в живую драму.
От космической иерогамии Земли и Небес до самых незначительных элементов обрядности, носящих следы почитания земли, — во всем этом лейтмотивом проходит одна и та же идея: земля производит живые формы, это лоно, не устающее давать жизнь. В каждом явлении, порожденном эпифанией Земли, в «священном присутствии», в божестве, еще не оформившемся, или в четко определенной фигуре божества, даже просто в «обычае», к которому примешаны воспоминания о подземных силах, — всюду мы распознаем идею материнства, способности к неустанной рекреации. Могут рождаться и чудовища, как в гесиодовском мифе о Гее. Но и чудовищные порождения Теогонии всего лишь иллюстрируют неисчерпаемость креативных ресурсов Земли. Иногда даже не надо определять пол этого божества Земли, этой вселенской рекреатрисы. Не случайно многие божества Земли и некоторые божества плодородия двуполы[1065]. В таком случае божество заключает в себе все животворные силы, и эта формула полярности, сосуществования противоположностей впоследствии проявилась в самой возвышенной философии. Божества становятся всем для верующих, вытесняя остальные религиозные персонажи, и начинают властвовать во всех космических сферах. И мало какие божества имели такое же право или такую же способность стать всем, как Земля. Но восхождение Матери–Земли к положению высшего, если не единственного, божества было остановлено как ее иерогамией с Небом, так и появлением сельскохозяйственных божеств. Следы этой потрясающей истории сохраняет факт бисексуальности некоторых божеств Земли. Но Мать–Земля никогда не теряла полностью свою изначальную роль «хозяйки места», источника всех живых форм, покровительницы детей, а также лона, где покоились мертвые, где они рождались вновь, чтобы благодаря святости Матери–Земли вернуться к жизни.
БИБЛИОГРАФИЯ
Pettazzoni R. Dio. Vol. I. P. 130, 210, 241, и т. д.; Krappe Α.Η. La Genèse des mythes. P. 68 и сл.; Fischer H. T. Het Heilig Huwelik van Hemel en Aarde. Utrecht, 1929; дополнительные библиографические указания см. в: Thompson S. Motif‑Index of Folk‑Literature. Vol. I. Helsinki, 1932. P. 98; ср. также библиографию к гл. II. Этнологического материала много в: Staudacher W. Die Trennung von Himmel und Erde. Tübingen, 1942, а также в: Numazawa F.К Die Weltanfange in der japanischen Mythologie. Lucerne, 1946; ср.: Eliade M. La Terre‑Mere et les hierogamies cosmiques // EJ, Zurich, 1954. Vol. XXII.
Lang A. Myth, Ritual and Religion. L., 1887. P. 299 и сл.; Dieterich Α. Mutter Erde. 3rd ed. В., 1925. По всей работе; Lindenau M. Ein vedischer Lobgesang auf die Mutter Erde als die große Allgottheit (Ath. Ved., ХII, 1); Festgabe Hermann Jacobi. Bonn, 1926. S. 248–258; Marconi M. Riflessi mediterranei nella piu antica religione laziale. Milan, 1939. По всей работе; Pestalozza U. Pagine di religione mediterranea. Vol. I. Milan, 1942. По всей работе; Weinstock S. Tellus // GLA, 1933–1934. Vol. XXII. P. 140–162; Noldecke. Mutter‑Erde bei den Semiten // AERKV. 1905. Vol. VIII. S. 161 и сл.; Dhorme E. P. La Terre‑Mere chez les Assyriens // AFRW. 1905. Vol. VIII. P. 550 и сл.; Briem E. Mutter Erde bei den Semiten // AFRW. 1926. Vol. XXIV. P. 179–195; Nielsen D. Die altsemitische Mutter‑Göttin // Zeitschr. der deutschen morgenländischen Gesel. 1938. S. 504–531; Holmberg‑Harva U. Finno‑Ugric Mythology. Boston, 1927. P. 239–459; Werner A. African Mythology. Boston, 1925. P. 125; Struck В. Nochmals «Mutter Erde» in Afrika // AFRW. 1908. Vol. XI. S. 402 и сл.; Alexander Η.Β. North American Mythology. Boston, 1916. P. 91 и сл.; Fuchs S. The Cult of the Earth‑Mother among the Nimar‑Balahis // IAFE. Vol. XI. P. 1–8; молитвы бхилов Матери–Земле см. в: Koppers W. Bhagwan, The Supreme Deity of the Bhils // APS. 1940–1941. Vol. XXXV — XXXVI. P. 265–325, особенно с. 272 и 273.
Thompson S. Motif‑Index. Vol. 1. P. 83; Nyberg В. Kind und Erde. Helsinki, 1931. S. 230, 231. №69; Frazer J. The Worship of Nature. L., 1526. P. 316–440; Walter E. Die Erdgöttin der Tschuwaschen und Litauer // AFRW. 1899. Vol. III. S. 358 и сл.; Wilke G. Die Religion der Indogermanen in archäologische Betrachtung. Leipzig, 1923. S. 97–107; Von Wesendonck. Aremati als arische Erd‑Gottheit // AFRW. 1929. Vol. ХХХII. S. 61–76; Nestle E. Die «jungfrauliche» Erde // AFRW. 1908. Vol. XI. S. 415 и сл.
см.: Vollmer Н. Die Erde als jungfrauliche Mutter Adams // ZNW. 1911. Vol. X. S. 324 и сл.; Stank W. Eva‑Maria // ZNW. 1934. Vol. ΧΧΧIIΙ. P. 97–109; о сотворении человека из земли см. богатую библиографию в: Briffault R. The Mothers. Vol. IIΙ. L., 1927. P. 57.
см.: Dieterich Α. Mutter Erde. S. 7 и сл.; Samter E. Geburt, Hochzeit und Tod. Berlin, 1911. S. 2 и сл.; Goldmann E. Cartam levare // MIOG. 1914. Vol. XXXV. P. 1 и сл.; Struck B. Niederlegen und Aufheben des Kindes von der Erde // AFRW. 1907. Vol. X. S. 158; дополнительные сведения и библиографию см. в: Nyberg В. Kind und Erde. S. 158 и сл.; Rose H. J. Primitive Culture in Italy. L., 1926. P. 133; некоторый этнографический материал см. в: Plos, Bartels. Woman: An Historical, Gynecological and Anrhropological Compendium. Vol. II. L., 1935. P. 35 и сл.; Delcourt M. Stérilités mystérieuses et naissances maléfiques dans l’antiquité classique. P., 1938. P. 31 и сл.; Briffault R. The Mothers. Vol. III. P. 58; Cranet M. Le Dépôt de l’enfant sur le sol. Rites anciens et ordalies mythiques // RAR. 1922; перепечатано в: Etudes Sociologiques sur la Chine. P., 1953. P. 159–202.
помимо ссылок в тексте, см.: Dieterich Α. Mutter Erde. S. 46 и сл.; Fehrle E. Die kultische Keuschheit im Albertum. Geissen, 1910. S. 170 и ca.; Farneil. The Cults of the Greek Stales. Vol. III. Oxford, 1896–1909. P. 106 и сл.; Levy‑Bruhl L. Primitive Mentality. L., 1923. P. 315 и сл.; Robertson S. The Religion of the Semites. 3rd ed. L., 1927. P. 613 и сл. (в связи с комментариями С. Робертсона о Баале, «хозяине земли»), ср.: Lagrange. Etudes sur les religions sémitiques. 2nd éd. P. 97; Dussaud R. Origines cananéenes du sacrifice israélite. P., 1941. P. 206; Dussaud R. Les Découvertes de Ras Shamra. 2nd éd. P., 1941. P. 102; Meyer J. J. Trilogie altindischer Mächte und Feste der Vegetation. Vol. I. Zürich; Lpz., 1937. S. 202; Pestalozzi U. L’Aratro e la donna nel mondo religioso mediterraneo // Rendiconti, Reale Instituto Lombardo di Scienze e Lettere. Cl. di Lettere. 1942–1943. Vol. LXXVI. №2. P. 321–330; Pisani V. La Donna e la terra // APS, 1942–1945. Vol. XXXVII‑XL. P. 241–253 (много материала по Индии и греко–латинскому миру).
Dieterich Α. Mutter Erde. S. 28 и сл.; Nyberg В. Kind und Erde. S. 150; Fraser J. Folklore in the Old Testament Vol. II. L., 1918. P. 33; Brelich A. Aspetti della morte nelle inscrizioni sepolcrali dell’Impero Romano. Budapest, 1937. P. 9 и сл.
Echardt К. А. Indische Unsterblichkeit Weimar, 1937; Ashley‑Montagu M. F. Ignorance of Physiological Paternity in Secular Knowledge and Orthodox Belief among the Australian Aborigines // QA. 1940–1942. Vol. XII. P. 75–78.
ср.: Van Der Leeuw G. Das sogenannte Hockerbegräbnis und der ägyptische Tjknw // SMSR. 1938. Vol. XIV. P. 150–167.
см.: Bachelard G. La Terre et les rêveries de la volonté; Bachelard G. La Terre et les rêveries du repos. P., 1948. 2 vols.
Глава VIII
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ: ОБРЯДЫ И СИМВОЛЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ
95. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
Пророчица Вёльва, пробужденная из глубокого сна Одином, чтобы открыть богам начало и конец мира, провозглашает:[1066]
Космос изображается здесь как огромное дерево. Эта идеограмма скандинавской мифологии имеет двойников в бесчисленных других традициях. Прежде чем отметить каждую в отдельности, попытаемся обозреть всю область, которую нам предстоит изучать: священные деревья, символы, мифы и обряды растительной жизни. Здесь имеется значительное количество материала — и это, при таком разнообразии форм, что затрудняет любую попытку систематической классификации. В самом деле, мы встречаем священные деревья, обряды и символы, связанные с растительностью, в истории каждой религии, в народных традициях по всему миру, в первобытной метафизике и мистицизме, не говоря уж об иконографии и народном искусстве. Весь этот материал — следствие великого разнообразия веков и культур. Очевидно, контекст Иггдрасиля, например, или Древа Жизни в Библии совершенно отличается от контекста «брака деревьев», еще практикуемого ныне в Индии, или Майского дерева, которое, по обряду носят весной в европейских деревнях[1068]. На уровне народного благочестия это ритуальное дерево выполняет роль, подразумеваемую также символизмом, который мы можем восстановить по ближневосточной документации, но роль эта далеко не исчерпывает всю глубину и богатство этого символизма. Мы можем довольно ясно установить исходные пункты некоторых основных понятий (как, например, понятие Космического дерева или обрядов растительного возрождения), и это в какой‑то степени помогает нам классифицировать наш материал. Но этот вопрос об «истории» разных фольклорных линий имеет для нашего нынешнего исследования лишь вторичный интерес.
Прежде чем пытаться определить — если это вообще возможно, — в каком тысячелетии, в какой цивилизации и какими средствами данный растительный символизм получил распространение, прежде даже, чем описывать воплощающие его различные ритуальные структуры, мы считаем необходимым зафиксировать религиозную функцию деревьев, растений и растительных символов как таковую и ее место в религиозной жизни и в структуре сакрального, а затем показать, что обнаруживает эта функция и что она означает; оценить, в какой степени оправданы наши поиски связной системы при очевидной полиморфности древесного символизма. Выяснить мы должны следующее: имеется ли тесная связь между сакральными смыслами — по видимости, такими различными, — которые принимает «растительность», смыслами, которые придают ей ее ценность в различных контекстах, где она присутствует — космологии, мифе, теологии, ритуале, иконографии, фольклоре? Очевидно, связь, которую мы стремимся найти, должна быть такова, какую внушает нашему уму сама природа данного явления; связь, проявляющаяся — полностью или частично — с любого уровня рассмотрения, будь то уровень народного обряда (как майское шествие в начале весны) или, быть может, идеограммы Космического дерева в месопотамском искусстве или в ведических писаниях.
Мы не получим ответа на этот вопрос, пока не рассмотрим определенное количество свидетельств. Но чтобы не заблудиться совершенно в лабиринте, я предлагаю временную классификацию огромного материала, который подлежит нашему осмыслению. Оставив в стороне все религиозные ценности и церемонии земледелия, — которые мы изучим в отдельной главе, — мы можем различить в том, что, за отсутствием более точной и более удобной формулы, назовем «растительными культами», следующие группы:
a) систему «камень — дерево — алтарь», составляющую подлинный микрокосм на самых древних стадиях религиозной жизни (Австралия, Китай, Индокитай и Индия; Финикия и Эгейская область);
b) дерево как образ Космоса (Индия, Месопотамия и др.);
c) дерево как космическая теофания (Месопотамия, Индия, Эгейская область);
d) дерево как символ Жизни, неистощимого плодородия, абсолютной реальности, родственный Великой богине или символизму воды (например, Якша), отождествляемый с источником бессмертия (Древо Жизни) и т. д.;
e) дерево как Центр мира и опора Вселенной (среди алтайцев, скандинавов и др.);
f) мистические узы между деревьями и людьми (деревья рождают людей; дерево как хранилище душ предков человека; брак деревьев; присутствие деревьев при церемониях инициации и т. д.);
g) дерево как символ воскрешения растительности, весны и «возрождения» года (Майское дерево и т. д.).
Эта краткая и явно неполная классификация имеет, по крайней мере, то достоинство, что сначала привлекает наше внимание к характеристикам, охватывающим все свидетельства. Ни в коей мере не предвосхищая выводов, к которым приведет анализ этих свидетельств, мы можем сразу отметить, что дерево представляет — то ли ритуально и конкретно, то ли в мифологии и космологии или просто символически — бесконечно обновляющийся живой Космос. Поскольку неисчерпаемая жизнь — эквивалент бессмертия, дерево–Космос можно рассматривать на ином уровне как дерево «жизни неумирающей». И раз эта неисчерпаемая жизнь выражала в первобытной онтологии абсолютную реальность, дерево становится для нее символом этой реальности (Центр мира). Позже, когда к традиционной онтологии добавился новый способ рассмотрения метафизических проблем (в Индии, например), усилия ума, отходящего от ритма Космоса и сосредоточивающегося на собственной автономии, стали обозначаться как попытка «подрубить Космическое дерево под корень» — иными словами, отказаться от всякой «очевидности», от всех однолинейных представлений и от их источника — вечно текущего источника всеобщей жизни.
96. СВЯЩЕННОЕ ДЕРЕВО
Интересно, какого рода духовный синтез и какие особые характеристики деревьев как таковых дали первобытному человечеству возможность создать такой обширный и такой внутренне связный символизм. Мы хотим не столько разобраться, как впервые была сделана религиозная оценка, сколько обнаружить древнейший и потому чистейший алгоритм ее интуитивного постижения. Не подлежит сомнению, что для первобытного религиозного сознания дерево (или, скорее, некоторые особые деревья) представляло силу. И следует добавить, что эта сила в равной мере исходила от дерева как такового и из любых свойственных ему скрытых космологических смыслов. Для первобытного сознания природа и символ были нераздельны. Дерево производило впечатление на религиозное сознание своей сущностью и своей формой. Но эта сущность и эта форма стали значительными именно потому, что воздействовали на религиозное сознание, что они были «выделены», а стало быть, «обнаружили» себя. Ни феноменология, ни история религий не могут обойти факта этой нераздельной связи между природой и символизмом, которая неизбежна при наличии чутья священного. Поэтому неверно говорить о «культе деревьев». Ни одно дерево никогда не почиталось только ради себя, но всегда ради того, что через него открывалось, что оно подразумевало и означало. Волшебные и лечебные растения тоже, как мы увидим позже (§ 111 и сл.), обязаны своим действием мифологическому прототипу. Исследуя образы Священного дерева в Месопотамии и в Эламе, Нелл Парро пишет: «Культа самого дерева нет; за образом всегда скрывается какое‑то духовное существо»[1069]. А другой автор, исследующий ту же область, заключает, что Священное дерево Месопотамии — более символ, чем предмет культа: «Это не копия подлинного дерева, разукрашенная любым орнаментом, а полностью искусственная стилизация и, мне кажется, не столько подлинный предмет почитания, сколько символ, обладающий огромной благотворной силой»[1070]. Эти выводы — лишь с небольшими изменениями — относятся и к другим местам.
Таким образом — и здесь мы возвращаемся к самому раннему интуитивному постижению священной ценности растений, — именно в силу своей власти и того, что она несет (а это — нечто, не совпадающее с ним), дерево становится религиозным объектом. Но эта власть фактически утверждается онтологией: если дерево заряжено священными силами, то потому, что оно вертикально, оно растет, оно теряет листья и вновь обретает их и таким образом возрождается (оно «умирает» и снова «восстает» без конца), потому что выделяет сок, и т. д. Просто своим существованием («сила») и естественными законами своего развития («возрождение») дерево воспроизводит то, что для первобытного понимания и есть весь Космос. Дерево может, конечно, стать символом Вселенной, и в этой форме мы находим его в более развитых цивилизациях; но для первобытного религиозного сознания дерево и есть Вселенная, и оно таково, потому что воспроизводит и подытоживает цикл Вселенной, одновременно «символизируя» ее. Это первое понятие о символах, по которому они обязаны своей ценностью тому факту, что символизируемая ими реальность в них и воплощена, будет определенно яснее, когда мы подойдем к проблеме функции и действий символов (§ 166 и сл.).
Я хочу указать здесь лишь на тот факт, что Целое существует внутри каждого значащего фрагмента не потому, что действителен «закон участия» (в понимании Леви–Брюля), а потому, что каждый значащий фрагмент воспроизводит Целое. Дерево становится священным, продолжая быть деревом, из‑за выражаемой им силы; а если оно становится Космическим деревом, то потому, что выражаемое им — это воспроизведение того, что выражает Космос. Священному дереву нет нужды терять свои конкретные растительные свойства, чтобы стать символическим (такова финиковая пальма для жителей Месопотамии, дуб для скандинавов, ашваттха и ньягродха для индийцев и т. д.). Надо пройти целый ряд умственных стадий, прежде чем символ отделится от конкретных форм и станет абстрактной сущностью.
97. ДЕРЕВО КАК МИКРОКОСМ
Наиболее примитивное из известных нам «святых мест», составлявшее микрокосм, как верно заметил Пжилуски[1071], выглядело как ландшафт из камней, воды и деревьев. Австралийский тотемный центр очень часто располагался в священной группе деревьев и камней. Триптих — дерево, алтарь и водный источник, — какой можно найти в первобытных «святых местах» Восточной Азии и Индии, был обнаружен П. Мюсом[1072], хотя он рассматривал его развивающимся шаг за шагом во времени (святое место начиналось с леса, а затем становилось просто структурой из дерева, алтаря и воды), вместо того чтобы отметить, как правильно делал Пжилуски, что все эти элементы сосуществуют одновременно. Действительно, сочетание дерева и камня можно найти и в других частях первобытного мира. В доиндийской цивилизации Мохенджо–Даро святое место состояло из огороженного участка вокруг дерева. Подобные святые места можно было найти по всей Индии в то время, когда проповедовал Будда. Писания Пали часто упоминают камень или алтарь (veyaddi, maneo), поставленные у священного дерева, образующие структуру для народного почитания божеств плодородия (Якши). Этот древний навык соединять деревья с камнями был принят и усвоен буддизмом. Буддийская чайтья иногда бывала просто деревом, без всякого алтаря; но в другие времена это была рудиментарная конструкция, воздвигнутая у дерева[1073]. Ни буддизм, ни индуизм не могли ослабить религиозную значимость древних святых мест. Великие религиозные синтезы постбуддийской Индии были вынуждены взять эти святые места в расчет и в конце концов действительно включили их в себя и тем легитимизировали их. Ту же последовательность можно наблюдать в Греции и в семитском мире. С минойских времен вплоть до сумерек эллинизма мы всегда находим почитаемое дерево рядом с камнем[1074]. Примитивные семитские святилища часто состояли из дерева и бетэла[1075]. Asera (очищенный от коры ствол, употреблявшийся вместо зеленого дерева) появилась позже, заняв место рядом с алтарем.
Ханаане и евреи имели жертвенные места «на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом»[1076]. Тот же пророк вспоминает грехи детей Иуды, алтари и изображения Астарты, которые они ставили «у зеленых дерев, на высоких холмах»[1077]. Столб, вертикальный и крепкий, дополнял священную силу, присутствовавшую в дереве. Надпись — только частично разбираемая — на архаическом шумерском памятнике, известном как «фигура с перьями», гласит: «Эннамаз положил кирпичи прочно; построив царское жилище, он посадил тут же большое дерево; у дерева он поставил столб»[1078].
«Святое место» — это микрокосм, потому что воспроизводит естественный ландшафт; потому что оно — отражение Целого. Алтарь и храм (или погребальный памятник, или дворец), которые являются дальнейшим развитием примитивного «святого места», — тоже микрокосмы, потому что они — Центры мира, потому что стоят у самого сердца Вселенной и представляют imago mundi (образ мира) (§ 143). Идея Центра, абсолютной реальности — абсолютной, ибо она вместилище священного — подразумевается даже в самых примитивных концепциях «святого места», и, как мы уже видели, такие концепции всегда включают Священное дерево. Камень в высшей степени представлял реальность, ее неразрушимость и прочность; дерево с его периодическим возрождением проявляло силу священного в жизненном порядке. А когда этот ландшафт дополняла вода, он означал скрытую потенцию возрождения и очищения (§ 60). «Микрокосмический ландшафт» постепенно сократился со временем до одной лишь из своих составляющих, до самой важной — дерева или священного столба. Дерево стало выражать в себе Космос полностью, воплощая, по–видимому, в статической форме его силу, его жизнь и его свойство периодического возрождения.
98. БОЖЕСТВО, ЖИВУЩЕЕ В ДЕРЕВЬЯХ
Переход «святого места» как образа микрокосма в Космическое дерево, воспринимаемое также как жилище божества, превосходно сохранилось в вавилонском заклинании, переведенном многими ориенталистами:
Дерево kiskanu обнаруживает все черты Космического дерева: оно — в Эриду, которое — Центр мира;[1080] в святом месте, которое находятся в Центре реальности (§ 140 и сл.); своим сиянием оно походит на ляпис–лазурь; такое сияние есть традиционный космический символ;[1081] оно простирается к Океану, который окружает и поддерживает мир (должны ли мы понимать, что это дерево простирается к Океану своими ветвями или, иными словами, что это «перевернутое дерево», как некоторые космические деревья?); оно — жилище Эа, Бога плодородия и цивилизующих наук (искусства, земледелия, письма и т. д.); и это то место, где отдыхает мать Эа — Бау, Богиня изобилия, стад и земледелия.
Kiskanu можно рассматривать как один из прототипов вавилонского Священного дерева, чье частое появление в иконографии Древнего Востока очень знаменательно. Его положение в иконографии окончательно доказывает, что Священное дерево, которое типично для этого региона, означает нечто большее, чем только культ дерева как такового; что оно имеет очень явное космологическое значение. При этом дереве почти всегда есть символы, геральдические фигуры или эмблемы, делающие его космическое значение ясным и полным. Так, самый ранний образец этого — фрагмент вазы, открытый экспедицией Готье в Муссиан, на котором изображено стилизованное дерево, окруженное ромбами[1082]. В месопотамской иконографии дерево обычно окружено козами, звездами, птицами или змеями. Каждая из этих эмблем имеет определенное космологическое значение. Звезды рядом с деревом — верное свидетельство того, что дерево имеет такое значение[1083]. Архаический рисунок из Сузы[1084] показывает змея, поднимающегося вертикально, чтобы отведать плод дерева (Тоскане связывает эту сцену с мотивом дерева–змея и толкует ее как вавилонский прототип библейской истории, которую мы так хорошо знаем).
Иконография предлагает другие сцены подобного рода: птица на дереве, окруженном козами;[1085] дерево — солнечный диск, и люди, все ритуально преображенные в рыб[1086], или дерево, крылатые духи и солнечный диск[1087]. Я лишь упомянул несколько из самых значительных и самых обычных групп и, конечно, не претендую на исчерпание богатых свидетельств из Месопотамии. Но космологическое значение, какое дерево постоянно имеет в этих структурах, очевидно[1088]. Ни одна из эмблем, связанных с деревьями, не может быть истолкована в естественно–природном смысле по той простой причине, что сама природа в месопотамском мышлении разительно отличалась от того, чем она является в современном мышлении и опыте. Нужно только вспомнить, что для месопотамцев, как и вообще для древних людей, любое существо, любое действие имело хоть какую‑нибудь эффективность только постольку, поскольку существо имело небесный прототип, а действие воспроизводило первозданный космологический акт.
99. КОСМИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО
Индийская традиция, судя по ее древнейшим писаниям[1089], представляет Космос в форме гигантского дерева. Эта мысль довольно типологично определена в «Упанишадах»: Вселенная — перевернутое дерево, закопавшее свои корни в небе и распростершее ветви по всей земле. Быть может, этот образ был навеян излиянием солнечных лучей:[1090] «Ветви растут к тому, что низко, корни наверху, чтобы его лучи спускались на нас!») «Катха–упанишада»[1091] описывает это следующим образом: «Вечный Ашваттха, чьи корни поднимаются высоко и чьи ветви растут низко, он — чистый [шукрам], он Брахман, он то, что мы называем He–Смерть. Все миры покоятся в нем». Дерево Ашваттха представляет здесь наивозможно яснейшее проявление Брахмана в Космосе, другими словами, представляет созидание как опускающееся движение. Другие тексты из «Упанишад» еще яснее утверждают это понятие Космоса как дерева. «Его ветви — эфир, воздух, огонь, вода, земля» и т. д.[1092]. Природные элементы — воплощение этого «Брахмана, чье имя — Ашваттха»[1093].
В «Бхагавадгите» Космическое дерево уже выражает не только Вселенную, но также положение человека в мире: «…Существует бессмертное дерево баньян, корни которого растут вверх, а ветви — вниз, листья его — ведические гимны. Знающий это дерево познал Веды. Большие ветви этого дерева простираются вниз и вверх, питаемые тремя гунами материальной природы. Маленькие ветки его — это объекты чувств. У такого дерева есть и корни, идущие вниз; они связаны с кармической деятельностью человеческого общества. Истинную форму этого дерева нельзя постичь в этом мире. Никто не может понять, где оно оканчивается, где начинается и где его основание. Но необходимо со всей решимостью срубить это дерево, чьи корни глубоко ушли в землю, оружием отрешенности. После этого надо найти то место, достигнув которого никто и никогда назад не возвращается, и там вручить себя Верховному божественному существу, с которого все началось и от которого все распространилось с незапамятных времен»[1094]. Вся Вселенная, а также опыт живущего в ней и не отделившегося от нее человека символизируются здесь Космическим деревом. Вся описанная мистерия соответствует Космосу или является его частью, человек погружается в то же единственное и безмерное проявление Брахмана. «Срубить это дерево» — значит извлечь человека из Космоса, отрезать его от чувств и плодов его действий. Мы находим тот же мотив отрешения от жизни Космоса, ухода в себя и воспоминания как единственного для человека способа превзойти себя и освободиться в тексте из «Махабхараты»: «Возникнув из непроявившегося[1095], встав из него как единственной опоры, его ствол — бодхи, его внутренние пустоты — пути чувства, величие стихии — его ветви, предметы чувств — его листья, его прекрасные цветы, хорошие и дурные [дхармадхармау], удовольствие и боль — плоды. Это вечное дерево–Брахман [брахмавркша] — источник жизни [адживья] для всех существ… Разрезав и сломав дерево орудием гнозиса [джнанена], а затем наслаждаясь духом, — никто не вернется сюда опять»[1096].
100. ПЕРЕВЕРНУТОЕ ДЕРЕВО
Здесь не место для философского толкования приведенных выше текстов. Нам нужно лишь понять из них отождествление Космоса с перевернутым деревом. Эта мифологическая и метафизическая идеограмма — не единственная в своем роде. Масуди упоминает[1097] сабеанскую традицию, согласно которой Платон объявил человека перевернутым растением, чьи корни простираются к Небу, а ветви — к Земле[1098]. Та же традиция встречается в древнееврейском эзотерическом учении: «Теперь древо жизни простирается сверху вниз, а солнце освещает все»[1099]. То же встречается в исламском предании о «Древе счастья», чьи корни погружены в самое дальнее Небо, а ветви простираются по Земле[1100]. Данте представляет небесные сферы все вместе как гирлянду, составлявшую символическое дерево, чьи корни направлены вверх:
«Пятое жилище» — это сфера планеты Юпитер. «Дерево, чья жизнь идет с вершины», — перевернутое дерево. Другой флорентийский поэт, подвергшийся очень сильному влиянию Данте, Федериго Фрецци, описывает «самое прекрасное растение Рая, счастливое растение, сохраняющее свою жизнь и обновляющее ее» и «чьи корни наверху, в Небе, чьи ветви растут к Земле»[1102].
Холмберг–Харва находит ту же традицию в финском и исландском фольклоре[1103]. Лапландцы каждый год приносили быка в жертву богу растительности, и по этому случаю близ алтаря помещали дерево с корнями в воздухе и ветвями на земле[1104]. В австралийских племенах вирадъюри и камиларои знахари имели волшебное дерево, которое сажали верхом вниз. Смазав корни человеческой кровью, они его сжигали[1105]. И в связи с этим обычаем Шмидт отмечает церемонии инициации, практикующиеся в другом австралийском племени, юин[1106]. Молодого человека, изображающего мертвеца, хоронят, а над ним помешают куст. Когда неофиты, кандидаты в инициацию, подходят к нему, молодой человек трясет куст, а затем встает и выходит из могилы. Куст, сообщает нам Шмидт, представляет небесное Звездное дерево[1107].
101. ИГГДРАСИЛЬ
Космическое дерево в сочетании с птицами[1108], лошадьми или тиграми[1109] можно найти также в первобытном Китае; там, как и в других местах, его иногда путают с Деревом Жизни. Что означает это смешение, станет яснее на последующих страницах. Мы находим сочетание Космического дерева и мифического лунного животного в иконографии майя, где показан ягуар при Дереве Жизни[1110]. Среди северных народов и народов Тихого океана Космическое дерево — с ветвями, простирающимися до третьего или даже до седьмого неба, — играет центральную роль как в мифологии, так и в ритуале. Это часто связывается с мифологическим предком — люди думают, что происходят от предка, рожденного деревом…[1111] Далее я подробно остановлюсь на этих мифах о происхождении человека от космолого–растительного символа.
Иггдрасиль — это Космическое дерево, корни его доходяг до самого сердца Земли, где находятся ад и царство великанов[1112]. Поблизости — чудесный источник Мимир («размышление», «память»), где Один оставил один глаз в залог и куда он постоянно возвращается, чтобы освежить себя и обогатить свою мудрость[1113]. Близ Иггдрасиля имеется также источник Урд; там боги ежедневно держат совет и отправляют правосудие. Норны снабжают гигантское дерево водой из этого источника, чтобы поддержать его юность и силу. В ветвях Иггдрасиля живут Хейдрун, коза, орел, олень и белка; змей Нидхёгг обвивает его корни и все время старается погубить его. Каждый день орел воюет со змеем (космологический мотив, часто находимый и в других цивилизациях)[1114]. Когда Вселенная задрожит до основания в катаклизме, предсказанном в «Старшей Эдде», который покончит с миром, чтобы начать новую, райскую эру, Иггдрасиль будет сильно сотрясен но не повержен[1115]. Этот апокалипсический пожар, предсказанный пророчицей, не приведет к полному распаду Космоса.
Каарле Крон пытался объяснить миф об Иггдрасиле через Древо Жизни в Ветхом Завете, а Софус Бугге — через историю Христова креста. Но ни то, ни другое не является удовлетворительной гипотезой. Один привязывает свою лошадь к Иггдрасилю, и не верится, что этот центральный мотив скандинавской мифологии может быть таким древним. Холмберг–Харва[1116] совершенно правильно замечает, что присутствие орла на Иггдрасиле — деталь, которой в библейской традиции нет, — скорее приближает этот космологический символ к символам Северной Азии. Битва между орлом и змеем, подобно борьбе между Гарудой и рептилией, — обычный мотив в индийской мифологии и иконографии — это космологический символ борьбы между светом и тьмой, противостояния двух начал — начала Солнца и начала преисподней[1117]. Трудно сказать, проникли ли в представление об Иггдрасиле какие‑нибудь иудео–христианские элементы или нет, ибо на основании того, что открыл Холмберг–Харва относительно родства между Космическим деревом скандинавского мифа и Северной Азии, нельзя безусловно показать такое проникновение. Во всяком случае, Альфред Дитеринг в хорошо документированной работе[1118] показал, что воплощение индоевропейцами Космического дерева и Дерева Жизни в дубе может быть прослежено вплоть до доисторических времен и что, во всяком случае, именно протогерманские народы развили этот миф на севере Европы. Слияние Космического дерева с Деревом Жизни обнаруживается также в тевтонской мифологии. Мы уже отмечали отождествление священного или мифического дерева с одной определенной ботанической породой (ашваттха у индийцев, финиковая пальма у месопотамцев и так далее). В случае Иггдрасиля присутствие дуба на доисторических памятниках, непрерывная последовательность мотивов, представляющих священное дерево в виде дуба, и дубовые листья, используемые в декоративном и религиозном искусстве, доказывают, что эта концепция — автохтонная.
102. РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭПИФАНИИ
Божество, проявляющееся в дереве, это — мотив, проходящий через все ближневосточное пластическое искусство; его можно также найти во всей Индо–Месопотамской — Египто–Эгейской области[1119]. Чаще всего это выражается в эпифании какого‑нибудь божества плодородия. Космос открывается нам как проявление творческих сил бога. Так в Мохенджо–Даро (в третьем тысячелетии до н. э.) мы находим божественную эпифанию в ficus religiosa;[1120] дерево стилизовано в манере напоминающей месопотамское священное дерево. Даже в ведических текстах мы находим следы растительной теофании. Помимо ашваттхи, символа Космоса, и Брахмана, проявляющегося в дереве (§ 99), можно также различить в тех ведических документах, которые выражают «народный религиозный опыт», т. е. сохраняют конкретные, примитивные формулы веры, другие выражения проявления бога в растительности. «О травы! О вы, которые — матери! Я приветствую вас как богинь!»[1121] Длинный гимн из «Ригведы»[1122] посвящен растениям и имеет особые указания на их лечебные и возрожденческие силы (идея травы жизни и бессмертия). «Атхарваведа»[1123] хвалит растение, называя его «Божество, рожденное Богиней Земли». Та же теофания на растительном уровне объясняет сущность «господина растений», Ванаспати, чей культ упоминается в «Ригведе»[1124]. Благодаря космическому прототипу, из которого происходят их силы, травы облегчают роды, увеличивают производительные силы человека и обеспечивают плодородие и богатство. Вот почему иногда можно наблюдать принесение животных в жертву растениям[1125]. «Шатапатха–брахмана»[1126] формулирует архитектонику производительной энергии в Космосе — она формируется из грома, дождя и растений. Здесь священное проявляется в акте возобновления растительной жизни.
Превосходный пример теофании в дереве — это знаменитый барельеф Ассура[1127], который представляет этого бога, верхней частью тела выходящего из дерева. Рядом с ним «льется вода» из неисчерпаемой вазы, символизирующей плодородие. Коза, атрибут божества, кормится листьями дерева. В египетской иконографии мы находим мотив Дерева Жизни, из которого выходят божественные руки, нагруженные дарами и льющие воду жизни из вазы[1128]. Ясная теофания, иллюстрируемая этими примерами, и мотив «Дерева Жизни» до некоторой степени эволюционировали, и нетрудно увидеть, как это происходит: божество, обнаружившееся в Космосе в форме дерева, — в то же самое время источник возрождения и «жизни без смерти», источник, к которому обращается человек, потому что, кажется ему, здесь он получает основание для надежд, касающихся его собственного бессмертия. Среди отношений внутри структуры, образованной деревом, Космосом и божеством, наличествуют симметрия, ассоциация и слияние. Боги, которых мы называем богами растительности, часто представлены в форме деревьев. Аттис и ель, Осирис и кедр и т. д. Греческая Артемида иногда ассоциируется с деревом. Так, в Лаконии поклонялись мирту под названием Artemis Soteira. Рядом с Орхоменом в Аркадии было деревянное изображение Artemis Kedreatis в кедровом дереве[1129]. Изображения Артемиды иногда украшались ветками. Нам знакома растительная эпифания Диониса, иногда называемая Dionysos Dendritis[1130]. Вспомним также пророческий священный дуб Зевса в Додоне, лавр Аполлона в Дельфах, дикую оливку Геркулеса в Олимпии — это лишь немногие примеры. Однако только в двух местах Греции есть свидетельства культа деревьев: дерево в Кифероне[1131], на которое как будто бы забирался Пенфей, чтобы следить за менадами и которое оракул повелел почитать как бога[1132], и платан Елены в Спарте.
Один очень ясный пример теофании растений можно увидеть в культе доарийской индийской богини Дурги. Приводимые нами тексты — поздние, их народная природа означает, что они, безусловно, древнего происхождения. В «Деви–Махатм»[1133] богиня провозглашает: «Тогда, о Боги, я прокормлю всю Вселенную этими растениями, которые поддерживают жизнь и растут из самого моего тела в сезон дождей. Тогда я стану славной на Земле, подобно Сакамхари [«который приносит травы», «который кормит травы»], и в тот же сезон я уничтожу великого асуру, называемого Дургама [олицетворение засухи]». В обряде «Навапатрика» (девять листьев) Дургу называют «той, которая живет в девяти листьях»[1134]. В качестве иллюстрации растительных эпифаний можно было бы привести еще много примеров из Индии[1135]. Мы вернемся к этому, когда дойдем до обсуждения других аспектов религиозного значения деревьев.
103. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЛИКИЕ БОГИНИ
Одна из самых обычных и постоянных структур — это Великие богини — растительность — геральдика — животные — жрецы. Размеры этой работы позволяют мне привести лишь несколько из значительного числа имеющихся в моем распоряжении примеров. Присутствие богини возле символа растения подтверждает прежде всего одно значение, которое имеет дерево в архаической иконографии и мифологии: что оно — неисчерпаемый источник космического плодородия. В доарийской цивилизации долины Инда, о которой мы столько узнали из раскопок в Хараппе и Мохенджо–Даро, отождествление Великих богинь с растительностью представлено либо ассоциативно — обнаженные богини типа Якшини рядом с ficus religiosa[1136], либо появлением растения из детородных органов богини[1137]. Изображения ficus religiosa довольно многочисленны[1138], как и изображения, представляющие Великую богиню обнаженной[1139], — иконографический мотив, общий для халколитической цивилизации[1140] по всей Афро–Азии, включая Египет. Священное дерево находится в огороженном месте, а иногда обнаженная богиня поднимается между двумя ветвями ficus religiosa, растущего в центре круга. В иконографии явно демонстрируется, что это означает святое место и Центр (§ 142 и сл.).
По всей Африке[1141] и в Индии[1142] деревья, полные соков, символизируют божественное материнство и, следовательно, почитаются женщинами, а также разыскиваются духами мертвых, желающих вернуться к жизни. Мотив богини–дерева — дополняется он присутствием геральдических зверей или нет — сохранился в индийской иконографии, откуда, приобретя некоторую примесь идей воды–космогонии, перешел в народное искусство, где мы находим его еще и сегодня. Во всяком случае, легко увидеть связи, соединяющие символы воды и растений. Вода несет семена — в широком смысле. Растения — корневище, куст, цветок лотоса — выражают проявление Космоса, появление форм. Стоит отметить, что в Индии космические образы представляются возникающими из цветка лотоса. Корневище с цветами означает, что созидание действительно происходит, демонстрирует факт «прочного установления над водами». Что цветочные и водные мотивы присутствуют вместе с мотивами растения и женщины, объясняется центральным понятием неистощимого созидания, символизируемого Космическим деревом, которое отождествляется с Великой богиней.
Эта концепция прочно укоренилась и в ведических, и в пуранских верованиях о творении (божество и Вселенная возникают из лотоса, плывущего по воде) и в индоиранской концепции о чудесном растении сома. Что касается последнего, мы помним, что сома часто изображается в «Ригведе» как источник или поток[1143], но так же как райское растение, которое тексты, особенно поздние ведические и постведические, помещают в вазу (символ воды, см. § 61). Основания для такого разнообразия форм можно понять, если помнить все, что означает сома: она обеспечивает жизнь, плодородие, возрождение, — иными словами, как раз то, что означает водный символизм, а символизм растений утверждает в действительности. Кража сомы в «Махабхарате» свидетельствует о ее двойной природе — и жидкой и растительной; хотя она и представлена как чудесный напиток, однако нам сообщают, что Гаруда «вырвал ее» (samutpatya), как если бы это было растение[1144]. Символизм «Упанишад» представляет ту же ассоциацию «вода–дерево», «вечная река» (виджара–нади: то, что возрождается) находится рядом с деревом, которое поддерживает же[1145]. Оба мистических источника находятся на Небе, так же как на Небе мы находим если не подлинник, то, по крайней мере, прототип всех напитков, возрождающих и дарующих бессмертие, — белый хом, сома, божественный мед финнов и остальное.
Ту же самую ассоциацию воды и дерева можно найти в еврейской и христианской традициях. Иезекииль[1146] описывает чудесные воды, текущие из‑под храма, с плодовыми деревьями по берегам (символическая и метафизическая значимость воды, чей источник под храмом, так же как и символизм деревьев у источника, не вызывает у нас сомнений ни на минуту: ибо Храм — это Центр мира, ср. § 142), а «Апокалипсис»[1147] подчеркивает и еще более проясняет космологическое и искупительное значение воды и дерева, взятых вместе. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева — для исцеления народов». Библейский прототип этой картины, конечно, в раю: «…Дерево Жизни посреди рая, и Дерево познания Добра и Зла. Из Едема выходила река для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки»[1148]. Храм, наисвятейшее место, выступает в христианстве эквивалентом своего небесного прототипа — райского сада.
104. ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ СИМВОЛИЗМ
Связь символов воды и растений очень четко объясняется в веровании о Творении, лежащем в основе индийского декоративного искусства. Кумарасвами[1149] дает нам следующую формулу этой связи: корневище лотоса с множеством листьев и цветов (латакама, малакама), часто поддерживающее или питающее цветы и животных (ср. шакуна–яттхи), возникших изо рта или пупа Якши или какого‑нибудь другого символа воды, такого, как полная ваза (пурнагхата), или открытая пасть макары[1150] или слон с рыбьим хвостом. «Полная ваза» — этот символ, который мы находим в других сферах, всегда связан с «растением жизни» или какой‑нибудь эмблемой плодородия. Так, после эры короля Гудеа[1151] «Священное дерево» исчезло с аккадо–шумерской сцены и было заменено «растением Жизни», поднимающимся из вазы[1152]. «Полную вазу» всегда держит бог или полубог, человек же — никогда. Иногда ваза отсутствует, и вода течет прямо из тела божества[1153]. Едва ли может быть более ясный способ выразить веру, что жизнь и возрождение исходят прямо из божественного источника или, точнее, из совершенно очевидного Откровения этой сущности, из теофании.
В мифологии декоративному мотиву корневища, возникающего из теофании воды, соответствует пураническая концепция рождения Брахмы. Этот Бог называется абджаджа, «рожденный из лотоса», который поднимается из пупа Вишну[1154]. Кумарасвами[1155] показал ведическое происхождение этого сюжета. Символ «лотоса (или корневища), возникающего из воды или эмблемы воды», выражает космический процесс. Вода представляет неявное — семена, скрытые силы; цветочный символ представляет очевидное, создание Вселенной. Варуна как Бог воды[1156], дождя и плодородия был первоначально корнем Дерева Жизни, источником всего Творения[1157].
105. ВЕЛИКАЯ БОГИНЯ — ДЕРЕВО ЖИЗНИ
Ассоциация между Великой богиней и Деревом Жизни имела место также в Египте. Один рельеф изображает Хатор в Небесном Дереве (несомненно, Дереве бессмертия), дающей пищу и питье душе мертвеца, — иными словами, обеспечивающей ему продолжение жизни, выживание[1158]. Мы видим изображение рук богини, полных дарами, и ее голову и плечи, возникающие из дерева и дающие душе мертвеца питье. Есть параллельная серия — Богиня судьбы сидит на нижних ветвях огромного дерева, символизирующего Небо, а на каждой ветви написаны имя фараона и его судьба[1159]. Тот же мотив имеется в народных алтайских верованиях, якутских и т. д.:[1160] у подножия Дерева Жизни с семью ветвями располагается «Богиня веков».
Та же ассоциация обнаруживается в мифах и культе Месопотамии. Гильгамеш видит в саду чудесное дерево, а возле него божество Сидури (т. е. «деву»), описываемую как sabitu, т. е. «женщина с вином»[1161]. Огран объясняет такую трактовку тем, что Гильгамеш встречает Богиню около виноградной лозы; на Ближнем Востоке виноградная лоза отождествлялась с «растением жизни», а шумерийский знак «жизнь» первоначально представлял собой виноградный лист[1162]. Это удивительное растение было священным для Великих богинь. Мать–богиня сперва называлась «мать лоза» или «богиня вина»[1163]. Олбрайт показал[1164], что в примитивных версиях легенды о Гильгамеше Сидури занимала более важное место. Гильгамеш просит бессмертие прямо у нее. А. Е.Енсен отождествляет ее с нимфой Калипсо в Одиссее[1165]. Подобно Калипсо, Сидури имела внешность молодой девушки, носила покрывало, держала в руках кисти винограда и жила в том месте, откуда проистекают четыре источника[1166].
Калипсо была одной из бесчисленных теофаний Великой богини, обнаруживающейся в Центре мира, рядом с омфалом, Древом Жизни и четырьмя источниками. А виноградная лоза была растительным выражением бессмертия — точно так же, как вино оставалось символом юности и вечной жизни в первобытных традициях (ср. eau de vie, галльское uschabheagh, означающее буквально «вода жизни», персидское maie‑shebab — «напиток юности», шумерийское gestin — «Дерево Жизни»)[1167]. «Мишна»[1168] заявляет, что Дерево познания Добра и Зла из Библии было виноградной лозой[1169]. Книга Еноха[1170] помещает эту лозу или Дерево познания Добра и Зла, между семью горами, как и эпос о Гильгамеше[1171]. Змея — Богиня Ханнат могла пробовать плоды этого дерева так же, как это позволялось Сидури и Калипсо. Виноград и вино продолжали символизировать мудрость до недавних пор[1172]. Первобытная концепция лозы — Космического дерева — Дерева познания и искупления необычайно последовательно сохранилась в мандеизме. В этом гностическом учении[1173] вино (gufna) — воплощение света, мудрости и чистоты. Архетип вина (gadmaia) находится в высшем, небесном мире. Архетипичная лоза — это скрытый смысл воды, листья ее сделаны из «духов света», а ее узлы — фрагменты света. Из нее текут потоки святой воды, предназначенной удовлетворять жажду людей; Бог света и мудрости, Искупитель (Mandâ d’haiiê), тоже отождествляется с вином жизни (gufaâ d’haiê), а лоза считается Космическим деревом, потому что распространяется по небесам, а ее ягоды — звезды[1174].
Мотив вина и обнаженной женщины перешел также в апокрифические христианские легенды. Например, в «Вопросах и ответах»[1175], поздней компиляции, переведенной на румынский язык со славянского до XVII века, сообщается, что Пилат нашел свою жену обнаженной в винограднике, близ лозы, выросшей из окровавленной одежды Христа и чудесным образом плодоносившей (эта легенда связана с мотивом сотворения растений после жертвоприношения божества или насильственной смерти героя)[1176].
В районах Греции и Эгейского моря тоже часто встречается структура «богиня — дерево — гора — геральдика — звери». Вспомним великое микенское кольцо[1177], изображающее религиозную сцену, где богиня, держа руку на обнаженной груди, сидит под Деревом Жизни близ ряда космологических эмблем: двойной каменный топор, Солнце, Луна, вода (четыре источника). Эта сцена очень похожа на семитский рельеф, воспроизведенный Холмбергом–Харва[1178], изображающий богиню, сидящую на троне близ Священного дерева и держащую в руках божественное дитя. Монета из Мир (Ликия) показывает теофанию богини посреди дерева[1179]. В связи с этим же Эгейским районом можно упомянуть золотое кольцо из Мохлоса, изображающее богиню в лодке с алтарем и деревом[1180] и знаменитую сцену пляски перед Священным деревом[1181].
Все эти ассоциации, находимые в мифах и иконографии, не являются результатом простой случайности и не лишены религиозного и метафизического значения. Что они означают, эти ассоциации богини и дерева или богини и виноградной лозы с окружающими их космологическими эмблемами и геральдическими зверями? Они означают, что здесь Центр мира, что здесь источник жизни, юности и бессмертия. Деревья символизируют Вселенную в бесконечном возрождении; но в сердце Вселенной всегда есть дерево — Дерево Вечной Жизни или познания. Великая Богиня олицетворяет неисчерпаемый источник творчества, первичную основу всей действительности. Она — просто выражение в мифе того первобытного ощущения, что святость, жизнь и бессмертие расположены в Центре.
106. ДЕРЕВО ПОЗНАНИЯ
«Посреди» Рая стояли Дерево Жизни и Дерево познания Добра и Зла[1182], и Бог запретил Адаму есть плоды Дерева познания: «…ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь»[1183]. Однако Бог не упоминает Дерево Жизни. Является ли это последнее просто тем же, что Дерево познания, или — как полагают некоторые ученые[1184] — Дерево Жизни было «скрыто», только чтобы быть распознанным, а потому стать доступным в тот момент, когда Адам познает добро и зло или, иными словами, мудрость? Я склоняюсь к той, второй гипотезе. Дерево Жизни может дать бессмертие, но его нелегко достигнуть. Оно «скрыто» — как трава бессмертия, за которой Гильгамеш отправился на дно морское, или его охраняют чудовища, как золотые яблоки в саду Гесперид. Что эти два дерева — Жизни и Мудрости — выступают взаимозависимыми, не такой парадокс, как может показаться с первого взгляда. Мы находим это сочетание и в других первобытных преданиях; у восточного входа на Небо вавилоняне поместили два дерева: Дерево правды и Дерево Жизни, а один текст из «Рас–Шамра» сообщает нам, что Алейон дал Лтпн и мудрость и вечность[1185].
Змей побудил Адама и Еву отведать плодов Дерева познания, пообещав им, что эти плоды принесут им не смерть, а божественность: «Нет, не умрете; но знает Бог, что в день, в которой вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло»[1186]. Говорил ли Змей, что человек станет как Бог просто потому, что узнает добро и зло, или потому, что, став всезнающим, он сможет «увидеть», где находится Дерево Жизни, и тем самым достигнет бессмертия? Буквально библейский текст говорит следующее: «И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить, и не жил вечно. И выслал его Господь Бог…»[1187]
У тех, кто видит в рассказе Книги Бытия просто один из многих мифов, построенных на едином для них общем принципе, возникают определенные вопросы. Человек мог достичь божественности, только отведав плод второго дерева: Дерева бессмертия. Почему же тогда Змей искушал Адама отведать плод Дерева познания, которое даст ему только мудрость? Если Змей был прообразом духа Зла и поэтому противился достижению человеком бессмертия, он должен бы «помешать» человеку пойти к Дереву Жизни. Змей в самом деле был препятствием в поиске человеком источника бессмертия, Дерева Жизни. Это положение будет подтверждено другими традициями, которые мы встретим позже. Но искушение Змея предполагает и другое объяснение: он хотел достичь бессмертия для себя (что, в некоторых мифах, ему и удалось)[1188], и ему нужно было обнаружить Дерево Жизни, скрытое среди всех других деревьев рая, чтобы быть первым, отведавшим его плоды; вот почему он уговаривал Адама «познать добро и зло». Адам, обладая этим знанием, открыл бы ему, где находится Дерево Жизни.
107. СТРАЖИ ДЕРЕВА ЖИЗНИ
Структура: первобытный человек (или герой) в поисках бессмертия — Дерево Жизни — змей или чудовище, стерегущие Дерево (или мешающие своими уловками человеку отведать его плоды), — проявляется и в других традициях. Что означают эти феномены (человек, дерево и змей) вместе, достаточно ясно; бессмертие труднодостижимо; оно содержится в Дереве Жизни (или источнике Жизни), помещено в каком‑нибудь недоступном месте (на конце Земли, на дне моря, в стране тьмы, на вершине очень высокой горы или в Центре); чудовище (или змей) сторожит Дерево, и человек, которому удается после величайших усилий приблизиться к нему, должен сразиться с чудовищем и победить его, иначе он не овладеет плодами бессмертия.
Бой с чудовищем, по всей видимости, имел свойства инициации; человек должен «показать себя», стать «героем», чтобы иметь право на владение бессмертием. Кто не может победить дракона или змея, не может иметь и доступ к Дереву Жизни, никогда не может достичь бессмертия. Борьба героя с чудовищем не всегда телесная. Адам был побежден змеем без великой борьбы в героическом смысле (как случилось, например, с Гераклом); он был побежден хитростью змея, уговорившего его попытаться стать подобным Богу, нарушить божественный приказ и тем осудить себя на гибель. В библейском тексте, конечно, змей не изображается «защитником» Дерева Жизни, но по результатам его искушения мы вполне можем считать его таковым.
Вавилонскому герою Гильгамешу повезло не больше. Он тоже старался достичь бессмертия. Вот он, пораженный печалью из‑за смерти своего друга Энкиду, горюет: «Придется ли и мне однажды лечь, как и ему, и никогда больше не проснуться?»[1189] Он знает, что есть только один человек на свете, который может помочь ему, — мудрец Ут–Напишти, который избежал потопа и которому боги даровали бессмертную жизнь, — и к его жилищу, стоящему где‑то «в устье рек», Гильгамеш и обращает свои шаги. Путь долог, труден, насыщен препятствиями, как всякий путь к Центру, к раю или к источнику бессмертия. Ут–Напишти живет на острове, окруженном водами Смерти, которые герою, несмотря ни на что, удается перейти. Понятно, Гильгамеш не в состоянии выдержать все испытания, которым подвергает его Ут–Напишти; ему, например, не удается бодрствовать шесть дней и ночей подряд. Судьба его решена заранее; он не достигает Вечной Жизни, он не может стать подобным богам, ибо не имеет их качеств.
Однако по настоянию жены Ут–Напишти открывает Гильгамешу существование «колючего» (то есть труднодоступного) растения на дне морском, растения, которое хотя и не даст бессмертия, но бесконечно продлит юность и жизнь всякого, кто его отведает. Гильгамеш привязывает камни к ногам и опускается обыскивать дно морское. Найдя растение, он отрывает от него веточку, потом отвязывает камни и поднимается опять на поверхность. По дороге в Урук он останавливается напиться у источника. Привлеченная запахом растения приближается змея и пожирает его, обретая таким образом бессмертие. Гильгамеш, подобно Адаму, потерял бессмертие по собственной глупости и из‑за хитрости змеи. Как он не мог выйти победителем из тех испытаний, которым подверг его Ут–Напишти, так не сумел сохранить добытое с помощью великой доброты (ибо в путешествии ему помогли Сабиту, Урнашаби — лодочник Ут–Напишти да и сам Ут–Напишти и его жена). Чудовище, змей были, таким образом, главными антагонистами человеческого бессмертия. Когда, гораздо раньше, чем Гильгамеш, легендарный король Ниша Этана просил Солнце и Бога Ану дать ему «траву Жизни», чтобы жена могла снабдить его наследником он был взят на небо орлом, который по хитрости змея был обронен в канаву. Конфликт между змеем и орлом является, как мы видели (§ 101), лейтмотивом евразийской мифологии.
108. ЧУДОВИЩА И ГРИФОНЫ
Иранская традиция также имеет Дерево Жизни и Возрождения, которое растет на земле и имеет прототип на небе. На земле haoma, или «желтый» hom[1190], который, подобно соме ведических писаний, считают иногда растением, а иногда источником — растет среди гор[1191]. Ахура–Мазда посадил его сперва на горе Хараити[1192]. Прототип его — на небе; а именно небесная haoma или gaokerena (белый hom) дает бессмертие всем, кто отведает его, и находится среди тысяч других лечебных трав у водного источника Ардвисура, на острове озера Воракаша[1193]. Этот белый hom был предназначен уничтожать дряхлость. Именно это предшествует возрождению Вселенной и бессмертию, которое за ним последует. Он — царь растений[1194]. Кто отведает его, станет бессмертным[1195]. Ахриман противодействует Творению Ахура–Мазды, создав рептилию в водах Воракаша, чтобы нападать на чудесное дерево Гаокерена[1196]. Йима, первый человек в иранской мифологической традиции, был бессмертен[1197], но, подобно Адаму, лишился бессмертия, согрешив: «Он лгал и стал выдумывать лживые слова, противоречащие правде»[1198]. Именно вследствие греха Йимы люди смертны и несчастливы[1199].
Змей присутствует у Дерева Жизни и в других традициях, вероятно, в результате иранских влияний. Калмыки рассказывают о драконе в океане, у дерева Замби. Он ждет, чтобы какие‑нибудь листья упали, и он мог бы их пожрать. Буряты верят в змея Абиргу у дерева в «молочном озере». В некоторых среднеазиатских версиях Абирга обвился вокруг первозданного ствола дерева[1200].
Грифоны или чудовища стерегут все пути к спасению, охраняя Дерево Жизни или какой‑нибудь другой подобный символ. Когда Геракл отправился похищать золотые яблоки из сада Гесперид, ему нужно было либо убить, либо усыпить охранявшего их дракона. Совершил ли герой это сам, или это сделал за него Атлас, — пока Геракл поддерживал вместо него небесный свод, — имеет второстепенное значение. Существенно, что Геракл преуспел в этих героических «испытаниях» и добыл золотые яблоки. Колхидское золотое руно тоже охранялось драконом, которого Ясон должен был убить, чтобы получить руно. Змеи «охраняют» все тропы к бессмертию, т. е. каждый Центр, каждое вместилище, где сосредоточено священное, каждую Подлинную Сущность. Они всегда изображаются вокруг кубка Диониса[1201], они охраняют золото Аполлона в далекой Скифии[1202], они сторожат сокровища, спрятанные в глубинах земли — они стерегут каждый символ, воплощающий священное или могущий даровать власть, жизнь или всеведение. В пармском баптистерии драконы стерегут Дерево Жизни. Тот же мотив можно увидеть на барельефе в музее Феррарского собора[1203].
109. ДЕРЕВО И КРЕСТ
Дерево Жизни — прототип всех чудесных растений, воскрешающих мертвых, исцеляющих больных, возвращающих молодость и так далее. Так, на горе Ошади есть четыре удивительных растения: «Одно из них, бесценное растение, воскрешает мертвых, другое извлекает стрелы из ран, третье закрывает язвы…»[1204] Растение мритасамдживани, воскрешающее мертвых, несомненно, самое драгоценное. Но есть также «великое растение» самдхани, которое способно воссоединять члены мертвого тела[1205]. Китайские легенды рассказывают о чудесном острове, с которого вороны приносят траву, могущую вернуть к жизни воинов, умерших три дня назад. То же верование существует в Иране. Трава, возвращающая мертвых к жизни, была известна также римскому миру[1206] и фигурировала фактически во всех европейских легендах[1207]. Когда, согласно легенде, царь Соломон попросил царицу Савскую дать ему бессмертие, она рассказала ему о растении, которое можно найти среди скал. Соломон встретил «седого человека», старика, у которого это растение было в руке, и тот охотно дал его Соломону, ибо, пока старик им владел, он не мог умереть: растение это давало только бессмертие, но не молодость[1208]. Дерево Истинного Креста, как предполагалось, оживляет мертвых, и Елена, мать императора Константина, отправилась на поиски его[1209]. Дерево имело эту силу, потому что крест был сделан из Дерева Жизни, стоявшего в райском саду[1210]. В христианской иконографии крест часто изображается как Дерево Жизни (см. библиографию). Огромное количество легенд о Дереве Креста и путешествии Сифа в рай имели хождение в течение всех средних веков во всех христианских странах. Они первоначально возникли из Моисеева Апокалипсиса, Никодимова Евангелия и Жития Адама и Евы. Кратко остановимся на наиболее распространенной версии[1211]. Прожив 932 года в долине Хеврона, Адам безнадежно заболел и послал своего сына Сифа попросить у ангела, охранявшего ворота рая, благодатного мирра. Сиф пошел по следам Адама и Евы, где никогда не росла трава, и, подойдя к раю, передал архангелу желание Адама. Архангел советует ему заглянуть в рай три раза. В первый раз Сиф видит воду, из которой текут четыре реки, и над ней высохшее дерево. Во второй раз вокруг ствола этого дерева сворачивается змей. В третий раз он видит, что дерево поднимается до неба; на его верхушке — новорожденное дитя, а корни дерева простираются до областей преисподней (Дерево Жизни стояло в центре Вселенной и служило осью через все три космические сферы). Ангел рассказывает Сифу о значении того, что он видел, и объявляет ему, что должен прийти Искупитель. В то же время он дает ему три семечка из того плода рокового дерева, который отведали его родители, и велит ему положить их на язык Адама; он говорит, что Адам умрет через три дня. Услышав рассказ Сифа, Адам смеется впервые после изгнания из рая, поняв, что человечество будет спасено. Когда он умирает, из трех семян, которые Сиф положил на его язык, поднимаются в долине Хеврона три дерева, растущие до времен Моисея. А тот, зная их божественное происхождение, пересаживает их на гору Фавор или Хорив (Центр мира)[1212]. Деревья остаются там тысячу лет, пока Давид не получает от Бога приказ взять их в Иерусалим (тоже Центр). После множества дальнейших эпизодов (царица Савская отказывается поставить ногу на дерево и т. д.) три дерева становятся одним, и крест Искупителя делается из него. Кровь Христа, распятого в Центре Земли, на том месте, где Адам был сотворен и похоронен, падает на «череп Адама» и, тем избавив его от его греха, крестит отца человечества[1213].
В немецком средневековом тексте[1214] говорится о дереве, чьи корни в аду, а вершина — у трона Божьего, ветви же его обнимают весь мир; и это дерево — крест. Для христиан крест — действительно опора мира[1215].
В восточных легендах крест — это тот мост (или лестница), по которому души людские поднимаются к Богу;[1216] он стоит в Центре мира, это — проход между Небом, Землей и адом. В некоторых версиях Дерево Креста имеет семь зарубок, как Космические деревья, представляющие семь небес[1217].
110. ОМОЛОЖЕНИЕ И БЕССМЕРТИЕ
Как в легендах об «Источнике Жизни», в мифах о Деревьях Жизни мы находим различные представления о чудесных растениях и плодах; некоторые возвращают молодость, другие дают долголетие, иные даже даруют бессмертие. Каждое из этих представлений развивалось и менялось согласно способам мышления, соответствующим ментальности данной расы, смешению культур и различных понятий общественных классов. Растение бессмертия и молодости, например, рассматривалось совершенно по–разному в Индии и в семитском мире. Семиты жаждали бессмертия, бессмертной жизни; индийцы искали растение, которое возродит и омолодит их. Вот почему медицинская и алхимическая диеты в Индии должны были только продлевать жизнь на сотни лет и делать тех, кто их соблюдал, сексуально сильными (балаван стришу). Миф о Шьяване отлично показывает языческий идеал индийца; не бессмертие, а омоложение. Шьявана заключил с ашвинами соглашение, по которому они его омолодят, а он взамен даст им сому, божественную амброзию. Ашвины взяли его к «источнику юности» в Сарасвати, а когда Шьявана вернулся, он был богоподобен в своей юности и величественности[1218].
Индиец, принимающий и любящий жизнь, хотел не владеть ею без конца, а только иметь очень долгую юность. Бессмертие не искушало мудрецов или мистиков — они жаждали освобождения, а не вечного продолжения существования; они искали окончательного отделения от Космоса и приобретения полной духовной самостоятельности, а не простого продолжения во времени, даже бесконечного. То же мы находим у греков; они жаждали не бессмертия, но молодости и долгой жизни. В большинстве легенд, относящихся к Александру Великому, он не понимает, для чего нужно искать бессмертия[1219]. Миф о возрождении и омоложении в понимании индийцев был известен европейцам не только косвенно, в передаче из семитского мира, из ислама, но и прямо из писаний тех, кто побывал на Востоке. В «Письме Пресвитера Иоанна»[1220] (1160–1165) говорится, что Инд окружает рай и что в трех днях пути от него есть источник, который, если выпить из него три пригоршни воды, делает человека молодым, тридцатилетним до конца его дней[1221], Дель Рио и Петер Маффеус заявляют, что индийцы Бенгалии и долины Ганга живут до трехсот или даже трехсот тридцати лет[1222]. Гервасий рассказывает, как Александр Великий в поисках «живой воды» в Индии нашел яблоки, которые тамошние священники едят, чтобы продлить себе жизнь до четырехсот лет[1223]. В скандинавской мифологии яблоко — тот плод, который возрождает и омолаживает. Боги едят яблоки и остаются молодыми до ragna rok, до конца нынешнего цикла Вселенной.
Эти примеры показывают, какова разница между индийским и семитским идеалом, но каждая из этих мифологических тем, в свою очередь, видоизменяется даже внутри той же этнической группы, которая ее сформулировала. Духовные уровни мифа, с одной стороны, и легенды, суеверия и обычаи — с другой, совершенно различны. Крестьянское сообщество и культурные люди будут использовать совершенно разные способы понимания и толкования мифа, например, о траве возрождения и бессмертия. И все же, во всех вариантах единой центральной темы, — какие бы различия ни возникли из этнического гения, или социальной судьбы, или просто от искажений, которые неизбежны при передаче такой темы, — мы можем легко установить существенное единство. Оно в том, что в основе любой версии чудесного растения лежит первоначальный прототип — Дерево Жизни; действительность, священная сила и жизнь сосредоточены в этом чудесном дереве, которое стоит в Центре, в недоступном мире, и отведать плоды которого могут только избранные.
111. АРХЕТИП ПРОСТОНАРОДЬЯ
Волшебная и лечебная сила некоторых растений тоже генетически восходит к небесному прототипу данного растения или тому факту, что оно было сперва сорвано богом: ни одно растение не имеет собственной ценности; его ценность заключается в его отношении к архетипу или в повторении набора действий или слов, делающих растение священным, отделяющих его от профанного окружения. Слова двух английских заклинаний XVI века, сопровождавших сбор лечебных трав, проясняют происхождение их благотворного воздействия: они росли впервые (т. е. ab origine) на святом холме Голгофы (в Центре Земли).
Действенность этих трав приписывается тому факту, что их прототип был обнаружен в решающий космический момент (in illo tempore) на горе Голгофе. Святость их происходит оттого, что они излечили раны Искупителя. Действенность травы при сборе объясняется исключительно тем фактом, что сборщик повторяет это первобытное действие исцеления. Вот почему одна древняя формула заклинания говорит: «Мы будем собирать травы, чтобы положить их на раны Спасителя»[1225]. Сила травы может быть также приписана тому факту, что ее посадило божественное существо. «Кто посадил тебя?» — спрашивает сборщица приворотную траву. «Это была Владычица… для моего излечения»[1226].
Эти формулы христианской народной магии были продолжением древней традиции. В Индии, например, трава капиттхака (Feronia elephantum) лечит сексуальную импотенцию, ибо ab origine гандхарвы использовали ее, чтобы вернуть Варуне его мужскую силу. Следовательно, ритуальный сбор этой травы — эффективное повторение этого действия гандхарвов. «Тебя, что гандхарвы выкопали для Варуны, чья мужская сила была мертва, тебя мы здесь выкапываем, трава для подъятия фаллоса»[1227]. Артемизию (дамана) собирают с такой молитвой: «Будь благословенна ты, Камадева, что ослепляешь всех нас. Я собираю тебя с доброй воли Вишну» и т. д.[1228]
Длинное воззвание в Парижском папирусе[1229] показывает необычайный статус собираемых растений: «Ты посеян Кроносом, собран Герой, сохранен Аммоном, порожден Исидой, вскормлен дающим дождь Зевсом; Ты вырос благодаря солнцу и росе. Ты — роса всех богов. Сердце Гермеса, семя первых богов, глаз солнца, свет луны, достоинство Осириса, красота и великолепие неба, и т. д… Как ты поднял Осириса, поднимись! Встань, как солнце! Твое величие высоко, как его зенит; корни твои глубоки, как пропасть, и т. д… Ветви твои — кости Минервы; цветы твои — глаз Гора; твои семена — семя Пана, и т. д… Я следую за Гермесом. Я срываю тебя на счастье, Добрый Дух, в счастливый час, в день, пригодный и подходящий для всего». Растение, к которому так обращаются, имеет значение Космического дерева. Добыть его — значит добыть все силы, живущие в нем как во вместилище мощи, жизни и священной силы. Это заклинание — явно продукт эклектической греко–египетской магии — автор его был, несомненно, ученым человеком, но оно от этого не менее подлинно; в самом деле, большинство народных заклинаний, как мы знаем, — работа книжников, испорченная долгим процессом инфантилизации[1230]. Отождествление лечебного растения с деревом, в котором проявляется бог, — вполне законно в природе первобытной духовности; как мы уже видели, для первобытных людей любой предмет в окружающем мире может приобрести сакральное качество, если его можно было связать с прототипом в небесном мире.
Для христиан лечебные травы обязаны своей действенностью тому, что они впервые были найдены на Голгофе. Для древних травы обязаны своими лечебными свойствами тому, что первыми их открыли боги. В одном трактате о травах рекомендуется следующее вступление к заклинанию: «Буквица, которая впервые была открыта Эскулапом или кентавром Хироном…»[1231] Действенность травы могла быть связана с тем, что ее посадило божество: «Базилик, прошу тебя именем высшего божества, которым ты порожден…»; «Клещевина, во имя всемогущего Бога, благодаря которому ты родилась…»; «Вы, могущественные растения, вы, кого Мать–Земля создала и дала всем народам…»[1232]
В народной христианской традиции трава тоже обязана своими лечебными свойствами тому, что Бог дал ей совершенно исключительные силы. Во Франции произносилась следующая формула: «Святая трава, которую не сеяли, не сажали, покажи силу, данную тебе Богом!»[1233] Иногда растение божественно; «Cyranides», травоведческий текст, например, называет брионию божественной, царицей богов, матерью растений, госпожой Земли, Неба и воды[1234]. Вот почему сбор трав — это ритуал, проводимый в состоянии церемониальной чистоты, сопровождаемый молитвами и жертвоприношениями, чтобы отразить некоторые опасности, и так далее. Дело не только в том, чтобы просто сорвать растение определенного ботанического вида; это разыгрывание первобытного действа (когда божество сорвало его впервые). Тем самым достигается владение веществом, которое проникнуто святостью, малой версией Дерева Жизни — источника всякого лечения.
112. ДЕРЕВО КАК AXIS MUNDI
Мифы и легенды, относящиеся к Древу Жизни, часто ставят его в Центр Вселенной, где оно связывает Землю, Небо и Ад. Эта деталь мифической топографии имеет особое значение в верованиях северных и среднеазиатских, и особенно алтайских, а также германских народов, но происхождение ее, вероятно, восточнее (месопотамское). Алтайские народы верили, например, что «у пупа Земли растет самое высокое из всех деревьев, гигантская ель, чьи ветви поднимаются к дому Бай Ульгеня», т. е. к Небу[1235].
Часто это дерево находится на вершине горы, в Центре Земли. Абаканские татары говорят о железной горе, где растет береза с семью ветвями, которые, видимо, символизируют семь небес (идеограмма, вероятно, вавилонская по происхождению). В гимнах васюганских остяцких шаманов Космическое дерево, подобно Небу, имеет семь уровней; оно проходит через все небесные сферы и погружает корни в глубины Земли[1236].
Шаман, поднимаясь на Небо, в ходе своего мистического путешествия карабкается по дереву с девятью или семью зарубками (§ 33). Реально же он проделывает свой подъем по ритуальному столбу, который тоже имеет семь зарубок и который, естественно, тоже мыслится расположенным в Центре Земли[1237]. Священный столб или дерево — это символ Космического столба, который находится в середине Вселенной и поддерживает мир. Алтайские народы верят, что боги привязывают коней к этому космическому столбу и созвездия движутся вокруг него. Скандинавы имеют похожее воззрение. Один привязывает своего коня к Иггдрасилю (буквально: «конь Одина»)[1238]. Саксы называли этот космический столб Irminsul — universalis columna quasi sustinens omnia (вселенский столб, поддерживающий все — лат.) (Рудольф Фульдский). Индийцы тоже имеют понятие о космической оси, представленной столбом или Деревом Жизни, в Центре Вселенной[1239]. В китайской мифологии чудесное дерево растет в Центре Вселенной, где находится совершенная столица; оно объединяет Девять Источников с Девятью Небесами. Китайцы называют это «стоячий лес» (Цянь My) и говорят, что в полдень ничто стоящее возле него не может отбрасывать тень[1240]. Это Космическое дерево подобно Столбу, поддержке мира, «оси Вселенной» (Axis Mundi) алтайских и северных европейских космологии. В этих мифах дерево выражает абсолютную реальность и в этом измерении — норму неподвижного пункта, поддерживающего Космос. Это высшая опора всех вещей. И следовательно, сообщение с Небом может производиться лишь близ него или посредством него.
113. МИФ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА ИЗ РАСТЕНИЯ
Эти же понятия о жизни людей, символизируемые жизнью растений, объясняют то, что мы за отсутствием более точного термина назовем «мистическое отношение между деревьями и людьми». Наиболее явным из этих мистических отношений, по–видимому, является происхождение данной группы от какой‑нибудь породы растений. Дерево или куст считается мифическим предком племени. Вообще это перводерево тесно связано с культом Луны; мифический предок, отождествляемый с Луной, представлен в форме определенного растения. Так, некоторые племена мяо почитают бамбук как своего предка. Те же верования можно найти среди аборигенов Формозы, тагалов Филиппин, я–ланг (Юннань) и в Японии. Для айнов, гиляков и корейцев деревья входят в лунный культ предков[1241]. Австралийские племена вокруг Мельбурна верили, что первый человек родился от мимозы[1242]. Один миф, очень распространенный в Индокитае, рассказывает, как человечество было совершенно уничтожено потопом, кроме брата и сестры, чудесным образом спасшихся в тыкве. Отнюдь не желая этого, они поженились, и девушка родила тыкву; а из ее семян, посеянных на горах и равнинах, возникли народы[1243].
Мы находим тот же миф с неизбежными искажениями (искажение понятия «предок») даже в Индии. Сумати, жена царя Сагары из Айодхьи, которому были обещаны шестьдесят тысяч сыновей, родила тыкву, из которой появилось шестьдесят тысяч детей[1244]. Один эпизод в «Махабхарате»[1245] рассказывает, как у Гаутамы, сына Сарадвата, из тростинки родились близнецы (Krpi; Krpa)[1246]. Есть и еще свидетельства этого представления о мифическом происхождении разных туземных индийских племен от того или другого растения. Удумбара, санскритское название Ficus glomerata, означает и провинцию Пенджаб, и ее жителей[1247]. Одно племя на Мадагаскаре называется антаивандрика, что буквально значит — люди (дерева) vandrika, a их соседи, анаимфасу — потомки бананового дерева: «Из того бананового дерева однажды вышел красивый маленький мальчик, который вскоре стал очень высоким и сильным… у него было много детей и внуков, и они были предками этого племени; их еще иногда называют детьми бананового дерева»[1248].
Мы могли бы без труда привести много примеров. Можно отметить иранское предание о происхождении первой человеческой пары; когда первый человек, Гайомарт, поддался ударам злого духа, его семя вошло в Землю и через сорок лет породило растение rivas, которое, в свою очередь, превратилось в Машьяг и Машьянаг[1249]. Но иранское предание вводит добавочный элемент: насильственную смерть Гайомарта. В двух наших прежних работах[1250] мы изучали этот мифологический мотив о происхождении растений как последствии жертвоприношения (или насильственной смерти) первобытного гиганта, а также легендарную тему о появлении растений из крови или тела подло убитого бога или героя. Мы вернемся в другом контексте к выводам, к которым пришли в этих двух работах. Однако в данный момент нам хотелось бы обратить внимание на солидарность между человеком и каким‑нибудь видом растений, солидарность, рассматриваемую как постоянную циркуляцию жизни между человеком и этим растением. Внезапно прерванная человеческая жизнь продолжается в растении; последнее, в свою очередь, если оно срезано или сожжено, порождает животное или другое растение, которое в конце концов опять обретает человеческую форму. Можно было бы сформулировать теорию, подразумеваемую в этих легендах, так: человеческая жизнь должна быть прожита полностью, чтобы истощить все свои возможности творчества и выражения; если она прерывается внезапно, насильственной смертью, то она будет стремиться продолжаться в какой‑нибудь иной форме: растения, плода, цветка. Приведу лишь несколько примеров этого: на полях сражений, где убито немало героев, вырастут розы или шиповник;[1251] фиалки выросли из крови Аттиса, а розы и анемоны — из крови Адониса, когда умирали эти два молодых бога; из тела Осириса выросла пшеница и растение маат, и всякие травы и т. д. Смерть всех этих богов — некоторым образом повторение того космогонического акта, когда создавались миры, что, как мы знаем, было следствием жертвоприношения гиганта (типичен Имир) или принесения себя богам в жертву.
Но в этой главе нас больше всего интересует перетекание жизни между двумя уровнями — растительным и человеческим. Тот факт, что роса может произойти от растения, предполагает, что источник жизни сосредоточен в этом растении, а следовательно, человеческая модальность существует в нем в состоянии возможности, в форме семени. В североавстралийском племени варрамунга верят, что «души детей» размером с песчинку существуют в некоторых деревьях, откуда они иногда выходят и проникают в чрево своих матерей через пупок[1252]. Мы видим здесь процесс рационализации первобытного понятия о происхождении людей из дерева: из него родится не только мифический предок, но каждый новорожденный ребенок есть непосредственная и конкретная эманация существа этого дерева. Источник реальной жизни, увиденный в дереве, не только напряг свою творческую силу, чтобы породить мифического предка, — он непрерывно продолжает свое творчество по отношению к каждому отдельному человеку. Это — конкретное и рационалистическое толкование того мифа, что род человеческий произошел из самого источника жизни, выраженного в породах растений. Но теория, лежащая в основании этих рационалистических вариантов, остается та же: конечная реальность со своими творческими силами сосредоточена (или выражена) в дереве.
Верования, что души предков каким‑то образом связаны с определенными деревьями, из которых они эмбрионами попадают в женское чрево, образуют компактную группу с множеством вариаций[1253]. В Китае думали, что определенное дерево соответствует каждой женщине; у нее будет столько же детей, сколько у него цветов. Бесплодные женщины брали на воспитание ребенка, чтобы цветы росли на сопутствующем ему дереве, а они могли стать плодовитыми[1254]. Что важно во всех этих обычаях, так это понятие о постоянном течении жизни между уровнем растения — как источника неиссякающей жизни — и человека; все люди — просто воплощения энергии того же растительного чрева. Они — мимолетные формы, постоянно производимые изобилием растений. Человек же — мимолетная видимость новой модальности растения. Умирая или, вернее, покидая свое человеческое состояние, он возвращается — как «семя» или как «дух» — к дереву. В действительности эти конкретные формулы — только формы все той же максимы: люди снова соединяются с чревом всех вещей, снова приобретают статус семени, снова становятся зародышами. Смерть — возобновление контакта с источником Жизни. Мы находим то же основное воззрение во всех верованиях, связанных с Матерью–Землей и мистикой земледелия. Смерть — просто перемена модальности, переход на другой уровень, воссоединение с чревом всех вещей. Если действительность — Жизнь исходит из растительности и заканчивается в ней, то воссоединение — только перемена формы: мертвец меняет форму человека на форму дерева.
114. ПРЕВРАЩЕНИЕ В РАСТЕНИЯ
Обращение жизни между этими двумя формами сохранилось во многих легендах и народных рассказах, которые можно разделить на две стадии: а) превращение убитого человеческого существа в цветок или дерево; b) чудесное возрождение через плод или семя. В прежних работах мы разбирали эти два мотива подробно; здесь приведем лишь несколько примеров. В сказке санталов, опубликованной Боддингом[1255], семь братьев убивают сестру, чтобы съесть ее. Только самый младший, он же самый жалостливый, не смог есть тело сестры и закопал свою долю в землю. Спустя некоторое время на этом месте вырос прекрасный бамбук. Прохожий увидел его и хотел отрубить кусок, чтобы сделать скрипку. Но, ударив по дереву топором, он услышал голос: «Стой! Стой! Не руби так высоко! Руби ниже!» Он ударил по дереву близ корней и услышал голос снова: «Стой! Не руби так низко! Руби выше!» Наконец, после еще двух попыток, он срубил бамбук. Он сделал из него скрипку, и она играла прекрасно, «потому что внутри была та дева». Однажды девушка вышла из скрипки и стала женой музыканта, а ее братья были поглощены Землей.
Этот мотив очень распространен в фольклоре. Его можно подытожить следующей формулой: прекрасная девушка (фея) выходит из плода (граната, лимона, апельсина) — либо волшебного, либо добытого героем с большими трудностями; рабыня или носительница злого начала убивает ее и занимает ее место, став женой героя; из тела девы вырастает цветок или дерево (или она превращается в птицу или рыбу, которую убивает ее антагонистка, и тем порождает дерево); и, наконец, героиня появляется из плода (или коры, или щепки) дерева. Так, в индийской сказке из Пенджаба убитая жена обращена в лилию; лжепринцесса рвет ее на куски, но из них вырастает куча монет, а потом прекрасное ползучее растение. В Декане рассказ ведется про ревнивую царицу, которая топит девушку в пруду. Из пруда поднимается подсолнечник, а из его пепла, когда подсолнечник сжигают, вырастает манго[1256].
История эта популярна и в Европе, но здесь она смешивается со второстепенной темой о «подмененной невесте» и о «волшебной булавке». Как и в азиатском варианте, героиня подвергается нескольким превращениям. В одной тосканской легенде героиня обращается в «громадного угря», которого, в свою очередь, убивают и бросают в клумбу с шиповником. Потом на этом месте вырастает «необычайно большой» шиповник, который предлагают принцу как редкость. Из цветка слышится голос: «Осторожно! Не ударь меня!» Принц открывает цветок — и появляется прекрасная дева в целости и сохранности. В греческой версии девушка превращается в маленькую золотую рыбку, потом в лимонное дерево. Как только какой‑то старик хватает топор, чтобы срубить его, он слышит голос: «Ударь выше! Ударь ниже! Не ударь по середине, поранишь деву!»[1257] Это, конечно, очень похоже на историю санталов. В румынской сказке «Три золотых граната» героиня превращена цыганкой в птицу и ее велено убить; из крови птицы вырастает высокая красивая ель[1258].
115. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И РАСТЕНИЯМИ
Во всех этих историях переходы одной жизни от человека к растению и наоборот драматичны; героиня, можно сказать, скрывается, принимая форму дерева, когда жизнь ее обрывается. Это — своего рода временное возвращение к растительному уровню. Она продолжает свою жизнь в новой форме. Однако народный фольклор знает и другой примитивный мотив этого круговорота «человек — растение», когда человек проглатывает семя или нюхает цветок, чтобы обрести плодородие. В румынских версиях истории о трех апельсинах одному из родителей святой дает яблоко, и, съев его, тот порождает ребенка (старик, съевший яблоко, данное ему святым, рождает младенца–девочку из бедра)[1259]. Один из классических примеров фольклора мы находим в Pentamerone[1260], где юная дева беременеет, съев листок розы. Овидий[1261] упоминает предание, что Марс родился от Юноны без всякого участия Юпитера, потому что богиня Флор тронула Юнону цветком. Пензер собрал ряд таких историй о зачатии от небесного плода (ср. библиографию).
Круговорот «человек — растение», сохранившийся в фольклоре в драматической форме, выражается также во множестве верований. В Мекленбурге плацента каждого новорожденного закапывается у подножия молодого плодового дерева; в Индонезии сажают дерево на том месте, где закопана плацента[1262]. Оба эти обычая выражают мистическую связь между ростом дерева и ростом человека. Иногда такая связь существует между деревом и целым племенем. Так, папуасы например, верят, что, если кто‑нибудь срубит определенное дерево, они тоже умрут[1263]. Долганские шаманы сажают дерево, впервые почувствовав призвание к магии; а после их смерти дерево вырывается с корнем. Шаманы юраков из тундры, севернее Тобольска, ставят двух sjadai (идолов) перед деревом, чтобы охранять его, ибо если дерево будет уничтожено, погибнут и они[1264]. В Европе, когда рождается наследник престола, по–прежнему сажают липу. На архипелаге Бисмарка, когда рождается ребенок, сажают кокосовую пальму,· а когда дерево дает первые плоды, ребенок считается взрослым; мана туземного вождя будет пропорционально увеличиваться, если его дерево крепко[1265]. Мистическое соучастие в жизни между людьми и деревьями составляет тему, хорошо известную фольклору повсюду: если цветы какого‑либо рода деревьев вянут или падают, это признак того, что соответствующему герою грозит опасность или смерть. Другие народные верования Европы также включают миф, что люди произошли от дерева; так, в районе Нирштейна в Гессене есть огромная липа, «которая одарила детьми весь район[1266]. В Абруццах говорят, что новорожденные дети происходят от виноградной лозы[1267].
116. ВОЗРОЖДАЮЩЕЕ ДЕРЕВО
Деревья также защитники новорожденных детей; они облегчают роды, а потом следят за жизнью младенцев, как и Земля. Приводимые мною примеры покажут очень ясно параллели между Землей и растительностью в их религиозном значении. В любом случае, деревья — просто еще одно выражение неисчерпаемой жизни и реальности, которые представляет также Земля. В основе всех верований, относящихся к Земле или предкам–растениям и защите новорожденных Землей и деревьями, мы находим практические действия и обобщающую их «теорию» предельной реальности, источника жизни, чрева всех форм. Земля или жизнь растений проявляют себя как живое, бесконечное плодородное, постоянно возрождающееся. Только прикоснуться или даже приблизиться к дереву благотворно, это укрепляет, обогащает — и то же самое с Землей. Латона рожала Аполлона и Артемиду, стоя на коленях на лугу и одной рукой касаясь священного пальмового дерева. Царица Maha‑Maya родила Будду у подножия дерева śāla, держась за одну из его ветвей. Энгельман[1268] и Нюберг[1269] собрали богатые этнологические свидетельства того, как распространен был среди женщин обычай рожать своих детей возле дерева или у его подножия. И это было естественно, ибо считалось, что рождение близ источника жизни и исцеления обеспечивает ребенку наилучшую возможную судьбу. Он будет свободен от болезней, неподвластен злым духам или несчастным случаям. Такой способ его рождения — так же, как рождение на земле — в определенном смысле скорее рождение внутри его матери, чем из нее; подлинная мать — это растительность, и она о нем позаботится. И в этой связи можно отметить обычай, существующий со времен античности и сохранившийся даже сегодня среди простого народа — запеленать младенца, как только он родится, натерев его травами, зелеными ветками или соломой[1270]. Прямое соприкосновение с воплощениями силы и жизни может быть только благоприятно для новорожденного ребенка. Примитивные колыбели делались из зеленых веток или пшеничных колосьев. Дионис, как все дети в Древней Греции, был сразу после рождения положен в корзину (liknon), в которой носили первые плоды урожая[1271]. Тот же обычай есть в нынешней Индии[1272] и в других местах[1273]. Это древний обряд; в шумерийских гимнах рассказывается, как Таммуз, родившись, был положен в корзину, в которой приносили зерно с полей[1274].
Помещение больного ребенка в дупло дерева подразумевает новое рождение, возрождение[1275]. В Африке и Синде больного ребенка лечат, пронося его между двумя плодовыми деревьями с переплетенными ветвями; болезнь остается в деревьях[1276]. В Скандинавии не только дети, но и больные взрослые могут излечиться, побывав в дупле дерева. Способствующие плодородию растения, подобно лечебным травам, обязаны своим действием тому же принципу: жизнь и сила воплощены в растительности. Древние евреи называли незаконных детей «дети травы», румыны — «дети цветов». Мы находим те же выражения в других местах — среди туземцев Новой Каледонии, например. Некоторые травы имеют оплодотворяющую силу; Лия родила сына, Иссахара, от Иакова благодаря мандрагорам, найденным Рувимом в поле[1277]. Все эти чудесные и лечебные травы представляют разбавленные и рационализированные версии своих мифических прототипов: травы воскрешающей мертвых, травы вечной юности, травы, излечивающей все болезни.
117. СВАДЬБА ДЕРЕВЬЕВ
Другая церемония, демонстрирующая связь между людьми и растениями, известна как «свадьба деревьев». Это обычай, распространенный в Индии[1278] и встречающийся спорадически среди некоторых групп цыган (трансильванских, например). «Свадьба деревьев» обычно совершается, когда женщины, прожившие несколько лет замужем, не имеют детей. В благоприятный день и час муж и жена отправляются к пруду, и каждый сажает там молодое деревце; женщина — молодое фиговое дерево, муж — дерево манго. Посадка производится с соблюдением соответствующего обряда, ей предшествуют омовения и так далее. Женщина прикрепляет ствол вепу, или женского дерева, к стволу драсу, или мужского дерева; а затем поливает их из пруда; потом оба совершают прадакшива (ритуальное шествие по часовой стрелке) двадцать семь или сто восемь раз. Если одно из деревьев засыхает, это дурной знак. Вот почему делается все возможное, чтобы они росли нормально; их огораживают и прочее.
«Свадьба деревьев» считается очень важной для плодородия женщины. Через некоторое время эти деревья становятся предметом культа, особенно когда близ их соединенных стволов кладут nāgakkal, вырезанное на камне изображение двух сплетенных кобр[1279].
Этот обычай, широко применяемый в Индии, предполагает, что венчание деревьев двух различных пород может влиять на плодородие женщины. В других частях Индии свадьба растений совершается одновременно со свадьбой человеческой пары. В Пенджабе, когда мужчина женится в третий раз, празднуют свадьбу бамбука (Acacia axabica) или Asclepia gigantesca. В Непале каждая девушка из невари с юности венчается с бел (маленькое деревце)[1280]. Венчание деревьев совершается и в других целях: для удачи и богатства селения, например. Существует параллельный этой свадьбе деревьев обычай: кладут палочку (данда) из дерева удумбара между молодой парой на первые несколько ночей после венчания; палочка представляет гандхарвов, которые, как мы знаем, имели jus primae noctis (право первой ночи)[1281]. Священная эротическая и оплодотворяющая сила гандхарвов, воплощенная в дереве, как считалось, совершала совокупление с невестой раньше, чем это делалось ее мужем.
118. МАЙСКОЕ ДЕРЕВО
Как мы видели, деревья и вообще растения всегда воплощают неисчерпаемость жизни — что в первобытной онтологии соответствует абсолютной реальности, «священному». Космос символизируется деревом; божество проявляется в форме дерева; плодородие, богатство, удача, здоровье — или, на более высоком уровне, бессмертие или вечная юность — сосредоточены в травах и деревьях; все человечество или конкретное племя произошло от определенного вида растений; человеческая жизнь спасается в растительных формах, если она по злому умыслу обрывается раньше предназначенного ей конца. Короче: все, что есть, все, что живет и творит, что находится в состоянии постоянного возрождения, выражается в растительных символах. Космос изображается как дерево, потому что, подобно ему, он периодически возрождается. Весна — это возрождение всей жизни, а следовательно, и человеческой жизни. В этом космическом акте все силы созидания возвращаются к своему первоначальному могуществу. Жизнь совершенно перестраивается; все начинается заново; первичный акт создания Космоса повторяется, ибо каждое возрождение — это новое рождение, возврат к тому мифическому моменту, когда впервые появилась форма, которой предстояло постоянно возрождаться. Очень многие растительные ритуалы подразумевают, что и все человечество возрождается, активно участвуя в воскрешении растительного мира. Европейские народные традиции сохранили следы или обрывки старинных обрядов, где приход Весны ускорялся украшением дерева, которое торжественно несли в шествии. И действительно, в Европе еще существует обычай приносить дерево из леса весной, в начале лета или в Иванов день и устанавливать его в середине деревни; или, в некоторых местах, все идут в лес и срезают зеленые ветки, чтобы повесить их в доме и обеспечить преуспевание его хозяина. Этот обычай известен как внесение мая[1282]. В Англии молодые люди или группы маленьких девочек ходили первого мая от дома к дому в венках из листьев и цветов, пели и просили подарков. В Вогезах церемония происходит в первое воскресенье мая. В Швеции приносят в дом Майский шест (maj stăng) обычно в день летнего солнцестояния; это ель с отрезанными ветвями, украшенная искусственными цветами, игрушками и так далее. Где бы ни обнаруживался этот обычай (от Шотландии и Швеции до Пиренеев и славянских стран), Майский шест — повод к общему веселью, кончающемуся пляской вокруг него. Главную роль в этой церемонии обычно играют молодежь или дети. Это — праздник весны, но, как все подобные проявления, он может превратиться и в нечто вроде оргии (§ J 37).
Филип Стаббес, английский пуританский писатель, в своей «Anatomie of Abuses» (London, 1583) безоговорочно осуждает эти пережитки язычества. Ибо, говорит он, молодые люди обоего пола проводят ночь в лесах; их Бог — Сатана; а принесши Майский шест («скорее, этот зловонный идол») в деревню, они пляшут вокруг него языческую пляску. Только треть девушек возвращается домой «неоскверненными»[1283]. Несмотря на все сопротивление Церкви, Майский день продолжал праздноваться. Не был он отменен ни историческими, ни социальными, ни религиозными переменами; кое–где удалось только изменить его имя. В Перигоре и во многих других местах Майское дерево стало символом Французской революции; оно называлось «Дерево свободы», но крестьяне так же плясали вокруг него, как их предки[1284]. Теперь Первое мая отмечается как праздник труда и свободы; в современном уме этот день еще вызывает некоторые смутные воспоминания о мифе возрождения и совершенствования мира, который типичен для всех традиционалистских обществ.
Во многих местах, когда торжественно вносится Майский шест, прошлогоднее дерево сжигают[1285]. Пожирание дерева огнем, вероятно, — еще один обряд возрождения растительного мира и начала нового года, ибо в Индии[1286] и в классической древности[1287] дерево торжественно сжигалось в Новый год[1288]. Это торжество с сожжением дерева бывало часто в Индии поводом к оргии; бирхоры Соединенных Провинций (Агра и Оуд), например, поджигали дерево sālmali, а затем предавались коллективной оргии[1289]. Зола сожженного дерева обладала целебными и оплодотворяющими свойствами. Она отводит болезнь, дурной глаз и злых духов[1290]. В Европе золу или головешки, оставшиеся от сожженного Майского шеста, разбрасывают по полям на Рождество или во время карнавала, чтобы улучшить и умножить урожай.
Все это имеет смысл, если мы увидим его как единое ритуальное целое: возрождение растительной жизни и возрождение «года» (ибо вспомним, что Новый год начинался в марте у очень многих народов Древнего Востока). Волшебные и оплодотворяющие силы жертвенного дерева приписываются также золе и углю;[1291] они имеют «силу», потому что напоминают alma mater (зола дерева, торжественно сожженного в начале года, в Иванов день и т. д.). Торжественно сожженные деревья или дерево могут вновь обрести действенность, возвратившись к изначальному состоянию «семени» благодаря сжиганию; «сила», которую они представляют или воплощают, больше не может проявляться непосредственно и сосредоточивается в потенциальном состоянии в золе или углях.
Приход мая часто празднуется не только с помощью дерева или Майского шеста, но также с помощью человеческих изображений, украшенных листьями или цветами, или даже при участии настоящего человека, воплощающего силу растительности или какое‑нибудь мифическое выражение ее. Так, в Северной Баварии шествие несет к центру деревни дерево, называемое вальбер, а при нем находится молодой человек, покрытый соломой и тоже называемый Вальбер. Дерево ставят перед трактиром, и вся деревня пляшет вокруг него; молодой человек, называемый Вальбером, изображает человеческого двойника растительных сил. Нечто подобное происходит среди славян Каринтии, которые в День св. Георгия украшают дерево и покрывают молодого человека, которого именуют «Зеленым Георгием», зелеными ветками. После песен и плясок, важных во всяком весеннем празднике, изображение «Зеленого Георгия» или даже самого молодого человека бросают в воду. В России дерево исчезло, а «Зеленого Георгия» изображает молодой человек, одетый в зеленое[1292]. В Англии в День мая «Джек в зеленом», трубочист, покрытый листьями и плющом[1293], плясал во главе целой группы трубочистов. А после пляски трубочисты собирали деньги у зрителей.
Все майские церемонии завершаются сбором приношений[1294]. Группы, проходящие через деревни с листьями и цветами, в шествиях или с цветочными изображениями или сами представляющие растения, получают подарки в каждом доме (и даже подарки имеют традиционный характер: яйца, сушеные фрукты, некоторые сорта пирогов и т. д.). Если люди отказываются давать, их предупреждают — в стихах или прозе, по обычаям данного места, — что у них не будет хорошего урожая, что их сад не даст много плодов, что вина у них не настоятся и т. д. Группа приобретает право наказывать скупцов, потому что ощущает свою значимость в качестве послов растительности. Она поступает так и потому, что скупость опасна для всей деревни, и в драматических обстоятельствах, подобных приходу весны, пища, эта сущность жизни, должна ощущаться как общее достояние, чтобы продолжал действовать космический круговорот жизни; и потому, что группа, принося добрые вести о весне, ощущает, что совершает торжественное действие, важное всей деревне, и что такие действия должны вознаграждаться: группа видит весну раньше всех, приносит ее в деревню, показывает ее другим и ускоряет ее приход песней, пляской и обрядом.
119. «КОРОЛЬ» И «КОРОЛЕВА»
В некоторых местах приход мая — повод для различных соревнований, для выбора «первой» пары («короля» и «королевы»), обрядовой борьбы и т. д. Все такие испытания, каково бы ни было их первоначальное назначение, в итоге свелись к стимулированию природной энергии. День обычно начинается с бега к Майскому шесту или с соревнования среди юношей и мальчиков — кто быстрее на него взберется. Приведу только несколько примеров: в Саксонии церемония происходила Первого мая или в Троицын день и включала, во–первых, принесение молодых деревьев из леса (majum quœrere) для украшения домов, затем торжественную установку одного дерева, Майского, в центре деревни. Его ветки срезались, кроме, может быть, самых верхних, на которые накладывали подарки (колбасы, яйца, пирожки). Затем молодые люди состязались: в одних местах — кто быстрее вскарабкается наверх, в других — кто быстрее добежит до Майского шеста. Иногда состязались верхом[1295]. Выигравшего поднимали на плечи и воздавали ему почести. Иногда самые красивые девушки дарили ему красное сукно.
В Силезии победителя конных скачек называли «Король Пятидесятницы», а его невесту — «Королева Пятидесятницы». Проигравшего заставляли играть роль шута. Он был обязан съесть тридцать хлебцев и выпить четыре литра крепкого напитка до приезда «короля»; «король» со связкой веток и в короне, сопровождаемый всей деревней, наконец появлялся в трактире. Там, если «шуту» удалось съесть и выпить все положенное и он был в состоянии приветствовать «короля» речью и стаканом пива, по его счету платил «король»; иначе шуту самому приходилось расплачиваться. После мессы шествие с «королем» в короне Пятидесятницы отправлялось дальше, теперь уже возглавляемое «шутом», и останавливалось у каждой фермы просить даров деньгами или натурой, чтобы «купить мыла и смыть бороду дурака». Обычай позволял всем «рыцарям» в «королевском» кортеже забирать все съестное, что находили в доме, кроме того, что было заперто. Затем кортеж отправлялся к дому, где жила «королевская невеста». Она, как мы уже отмечали, называлась «Королева Пятидесятницы», и ей давали подарки. Король имел право поставить Майский шест перед домом того фермера, у которого он работал, и шест оставался там до следующего года. Наконец, все располагались у водного источника, а «король» с «королевой» танцевали[1296].
120. СЕКСУАЛЬНОСТЬ И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
В некоторых местах (во Франции, Англии и Богемии, например) в обычае было выбирать Майскую Королеву. Вообще, большинство народных традиций Европы сохраняют первобытную пару под тем или другим названием; король и королева, хозяин и хозяйка, обрученные, любовники (как на Сицилии и Сардинии). Это, несомненно, разбавленная версия старинного образа молодой пары, возбуждающей созидательные силы природы ритуальным спариванием на вспаханной земле (ср. § 135 и сл.), повторяя космическую иерогамию Неба и Земли. Эта пара всегда возглавляла шествие, несшее Майский шест от фермы к ферме и собиравшее подарки. Часто после праздника их считали поженившимися. В других культурных системах и традициях церемониальная пара после торжеств теряла свое первоначальное значение (сочетавшихся священным браком) и участвовала в общей ритуальной оргии. Порой трудно разобрать, насколько данный обряд выражает эротический символизм, а насколько просто символизм Земли и земледелия. Жизнь едина; разные уровни космической жизни совмещаются (Луна — Женщина — Земля; Небо — Дождь — Мужчина и т. д.) и даже пересекаются друг с другом в определенных центральных пунктах (все космологические атрибуты Луны, Ночи, Воды, Земли, семян, возрождения, воскрешения и так далее присутствуют, например, в женщине и могут быть актуализированы и усилены женскими ритуалами или иерогамиями). Мы поэтому должны постоянно не упускать из виду эти совокупности, которые, с одной стороны, возбуждают все эти ритуалы, а с другой — происходят из них. Растительные культы прежде всего должны толковаться в свете первоначальной биокосмологической концепции, которая их породила. То, что они представляются такими разными, только иллюзия современного восприятия; в сущности, они проистекают из единой примитивной онтологической интуиции (что реально не только то, что есть всегда то же, но также и то, что становится в органических, но циклических формах) и объединены одной целью — обеспечить возрождение сил природы тем или другим средством.
Так, на некоторых островах группы Амбоина, например, когда гвоздичные плантации не дают урожая, мужчины идут туда ночью обнаженными и пытаются оплодотворить их. Среди баганда Центральной Африки женщина, родившая близнецов, доказывает этим свое плодородие, что она Центр жизни и может оплодотворить банановые деревья; если банановый лист положен между ее ногами и отброшен ее мужем во время соития, он приобретает такие необычайные силы, что крестьяне из окрестных деревень стараются завладеть им и готовы дорого заплатить за него[1297]. В обоих случаях мы имеем дело с применением человеческой сексуальности к растительной жизни; применением, которое в наших глазах гротескно, чересчур конкретно и замкнуто на индивидуальных предметах (некоторых растениях, некоторых женщинах), а потому не распространено магией на всю структуру отношений, на жизнь в целом.
Эти отдельные ритуалы подтверждают принцип, подразумеваемый в священной свадьбе, в весеннем соединении молодых пар на вспаханной земле, в гонках и состязаниях, применяемых для стимулирования сил растительной жизни в определенные праздники весны и лета, в Майских Короле и Королеве и так далее. Во всех них мы ощущаем желание возбудить круговорот биокосмической энергии, и особенно энергии растительной, в космическом масштабе. Как мы видели, это не всегда вопрос о стимулировании человеком растительности церемониалом и иерогамией; часто растительная жизнь стимулируется человеческим плодородием (как, например, в «свадьбе деревьев» в Индии; плодородие, приходящее через плоды и семена, через тень дерева и так далее). Это то же циклическое круговращение сущности жизни, имеющее место на каждом космическом уровне, но сосредоточенное и действующее в определенных центрах (женщина, растительность, животные) в соответствии с нуждами человека. Эта циркуляция сущности жизни и священных сил между разными биокосмическими уровнями, циркуляция, направляемая человеком для его собственных непосредственных целей, впоследствии использовалась как лучший путь достичь бессмертия или «спасения» души (ср. греко–восточные мистерии).
121. ФИГУРЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Что существенно для всех праздников растительности, как они остаются в традициях Европы, — это ритуальный показ дерева и благословение начинающемуся году. Это видно из предлагаемых нами примеров. Наслоения многих лет могут иногда скрыть этот элемент возрождения, «начала заново», который можно проследить в стольких весенних обычаях. Новое появление растений открывает новый цикл времени; растительная жизнь рождается вновь, «снова начинается» каждую весну. Общее происхождение обеих групп церемоний — торжеств вокруг Майского шеста и начала «нового времени» — можно ясно увидеть в целом ряде традиций. В некоторых местах, например, в обычае «убивать» Майского Короля, представляющего растительность и стимулирующего ее рост. В Саксонии и Тюрингии группы юношей идут на поиски «дикого человека», одетого в листья и скрывающегося в лесу; они ловят его и стреляют в него холостыми зарядами из ружей[1298].
В Чехии во вторник на масленой неделе группа молодых людей переодевается и отправляется преследовать «Короля» по всему селению хватают его, судят и приговаривают к смерти. В округе Пльзени (Чехия) «Король» появляется одетым в траву и цветы и после суда может попытаться бежать верхом. Если его не поймают, он может остаться «Королем» еще на год; иначе ему «отрубят голову»[1299].
Среди европейских народных традиций мы находим две другие церемонии, тесно связанные с этими весенними праздниками и выполняющие подобные функции в той же церемониальной системе возрождения года и растительности. Первая — это «смерть и похороны Карнавала», а вторая — «битва между Зимой и Летом», за которой следует изгнание Зимы (или Смерти) и введение Весны. Дата церемонии меняется; но вообще Зиму изгоняют (а Смерть убивают) в четвертое воскресенье поста или (как у чехов) на неделю позже; в некоторых немецких деревнях Моравии это происходит в воскресенье после Пасхи. Эта разница, как и различия, наблюдаемые нами в разных майских ритуалах (Первое мая, Троица, начало июня, Иванов день и т. д.), сама по себе показывает, как церемония меняла дату, переходя из одного места в другое и пробивая себе путь в различные ритуальные системы. Здесь не место заниматься происхождением и значением карнавала; нас здесь интересует заключительный акт праздников: чучело Карнавала в очень многих местах «осуждается на смерть» и казнится (способ казни меняется: иногда чучело сжигают, иногда топят, иногда обезглавливают). «Казнь Карнавала» часто сопровождается общей перебранкой; на само это нелепое чучело бросают орехи или все бросают друг на друга цветы или овощи. В других местах (вокруг Тюбингена, например) фигура Карнавала осуждается, обезглавливается и хоронится в гробу на кладбище после пародийной церемонии. Это называют «похороны Карнавала»[1300].
Другой ритуал того же рода — изгнание или убийство Смерти в разных формах. Наиболее распространенный в Европе обычай таков: дети делают чучело из соломы и веток и выносят его из деревни, говоря: «Мы несем Смерть к воде» или что‑нибудь в этом роде; потом они бросают его в озеро или колодец или же сжигают. В Австрии все зрители дерутся вокруг погребального костра Смерти, чтобы захватить кусок чучела[1301]. Там мы видим оплодотворяющую силу Смерти — силу, связанную со всеми символами растительности и с золой дерева, сожженного во время всех разных праздников воскрешения Природы и начала Нового года. Как только Смерть изгнана или убита, приносится «Весна». Среди саксонцев Трансильвании, пока юноши выносят чучело Смерти из деревни, девушки готовятся к приходу Весны, олицетворяемой одной из них[1302].
В других местах молодые люди вносят «Лето», и эта церемония — другой вариант церемонии с Майским шестом; юноши идут в лес и срубают молодое деревце, обрезают его ветви, украшают его, затем возвращаются в деревню, идут от дома к дому, поют, что они несут Лето, и просят подарки[1303]. Люнгман показал[1304], что этот народный обычай возник из первоначального ряда карнавальных торжеств, связанных с началом Нового года (§ 153). В Швейцарии, Швабии и Остмарке используется, даже в нынешнем столетии, чучело Зимы, или «бабушки», которое «изгоняют» во время карнавала[1305]. Религиозный писатель VIII века замечает, что германские племена «in menso februario hibernum credi expeliere» («в месяце феврале считается, что прогоняют зиму»). В некоторых местах во время карнавала сжигали ведьм (как олицетворение Зимы; подобные традиции есть в Индии)[1306], или же чучело Зимы привязывали к колесу, или делали что‑нибудь в этом роде.
Что касается второй части — введения Лета, — Люнгман заявляет, что эта церемония возникла из примитивного карнавала. Эта вторая часть состоит в демонстрации существа, обычно какой‑нибудь птицы (сначала на древнем Востоке[1307], а потом и в классической античности[1308]), или же ветки с листьями, или букета цветов — короче, чего‑нибудь, возвещающего Лето, как возвещает Весну Майский шест (ср. eiresione в Греции)[1309]. Стихи, певшиеся пока изгоняли Зиму и приводили Весну, — те же, что распевались на карнавале: такие же угрозы в адрес тех, кто отказывает в подарках[1310]. Ибо, подобно карнавалу и возникшим из него церемониям, этот праздник кончается сбором подарков[1311].
122. РИТУАЛЬНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ
Есть еще один обычай, который здесь следует отметить: состязание между Летом и Зимой, когда реально состязаются представители обоих сезонов, или состязание представляет собою долгий стихотворный диалог, где каждое действующее лицо по очереди декламирует строфу. Как показал Люнгман[1312], этот обычай гораздо менее распространен, чем церемония изгнания Зимы и введения Весны, что свидетельствует о ее более позднем происхождении. Приведу только несколько примеров. В Швеции на Майском празднике происходит состязание между двумя группами рыцарей. Те, что представляют Зиму, одеты в мех и кидают снег и ледяные мячики; другие несут ветки и цветы. Летняя группа в конце концов выигрывает, и церемония кончается общим пиршеством. В прирейнских местностях Зима появляется одетой в солому, а Лето — в плющ. Естественно, борьба кончается победой Лета, а молодого человека, игравшего роль Зимы, бросают на землю и снимают с него всю солому. Позже актеры в великолепных цветочных коронах идут в дома и требуют подарков[1313].
Наиболее обычная форма состязания — это хождение от дома к дому, причем каждый «сезон» по очереди поет строфу. Люнгман собрал немалое количество вариантов этой песни, хвалящей по очереди Зиму и Лето. Он считает[1314], что сама литературная форма ее не старше XV века, но мифологический прототип состязания, несомненно, очень древний. Упомянув бесчисленные средневековые и древние литературные традиции (Des Poppe Hofton, рукопись XV века, поэму Ганса Сакса «Gesprech zwischen dem Sommer und Winter», 1538, латинскую поэму «Conflictus Veris et Hiemis» VIII или IX века, третью эклогу Вергилия, пятую идиллию Феокрита и т. д.)[1315], Люнгман излагает и отвергает[1316] разные гипотезы, выдвинутые учеными (например, по поводу борьбы между Ксанфом и Меланфом[1317], «Светом» и «Тьмой», которую Узенер считает прототипом разбираемого нами мотива), и сам высказывает свое убеждение, что мифологический прототип — это сражение между Тиамат и Мардуком, борьба, инсценировавшаяся в вавилонском ритуале в начале каждого года[1318].
Мы согласны с выводами шведского ученого о мифологическом прототипе (он далее говорит о борьбе между растительностью и ее противницей, Засухой, Осирисом и Сетом в Египте, Алейон и Мот для финикийцев и т. д.), ибо, как я уже не раз показывал в этой работе, каждый ритуал — повторение первоначального действия, произошедшего in illo tempore. Но что касается исторического распространения этого мотива, я не знаю, насколько результаты исследований Люнгмана могут считаться окончательными. Сам он указывает[1319], что борьбу между Летом и Зимой можно найти у эскимосов и якутов, хотя он не может сказать, пришел ли этот обычай из месопотамо–европейской традиции или из какого‑нибудь другого источника. Сама борьба — это ритуал для стимулирования сил рождения и растительной жизни. Состязания и драки, происходящие в столь многих местах весной или во время сбора урожая, несомненно, возникли из первобытного воззрения, что удары, состязания, грубые игры между полами и так далее возбуждают и увеличивают энергию всей Вселенной. Нас прежде всего интересует та модель, тот архетип, на котором покоятся эти обычаи: все эти вещи делаются, потому что они делались in illo tempore божественными существами, и согласуются с устанавливавшимся тогда ритуальным порядком.
Мы находим эти обрядовые сражения в очень многих первобытных религиях, например в древнейших чертах культа Осириса и в протоисторических религиях Скандинавии[1320]. Те же состязания происходили до последнего времени в Европе как часть такого же набора весенних торжеств; так, 29 июня, в День св. Петра и Павла в России праздновались «похороны Костромы». Кострома — мифическая фигура, символизирующая ритмическую жизнь и смерть растительности. Обряд сопровождался состязаниями, а затем оплакиванием[1321]. Смерть и воскрешение Кострубонько (другое имя того же известного весеннего Бога славянского происхождения, как сообщает нам А. Брукнер)[1322] всегда праздновались в России хором девушек, певших:
Хотя Брукнер убежден, что обряд и имя Бога — истинно протославянские по происхождению, плач девушек, за которым следует их радость по поводу воскрешения Кострубонько, напоминают традиционный образец драмы восточных божеств растительности[1324].
123. КОСМИЧЕСКИЙ СИМВОЛИЗМ
Мы можем выделить одну характеристику, общую для всех этих народных обрядов: они празднуют космическое событие (например, смену времен года), употребляя какой‑нибудь символ растительности. В центре церемонии — дерево, цветок или животное; дерево украшается, его несет шествие. Если не дерево, то используется кусок дерева, человек, обряженный листьями, или чучело; иногда происходят состязания, борьба, разыгрываются сцены, относящиеся к смерти или воскрешению. На момент все внимание целой группы людей сосредоточивается на дереве или каком‑нибудь изображении растительности, на каком‑нибудь символе, долженствующем представлять и освящать то, что происходит со вселенной: скажем, «Весну». Как будто человеческая группа была не в состоянии выразить свою радость и принять участие в наступлении весны в большем масштабе по отношению не к ритуальному предмету, а ко всей природе. Радость человека и его участие в окончательной победе растительной жизни ограничены микрокосмом: веткой, деревом, чучелом, человеком в затейливой одежде. Присутствие природы обозначено одним предметом (или символом). Это не пантеистическое обожание природы или чувство единства с ней, но ощущение, вызываемое присутствием символа (ветки, дерева или чего‑нибудь еще) и стимулируемое исполнением обряда (шествия, состязания, борьбы и прочего)[1325]. Этот церемониал основан на максимально широком понятии о святости всякой живой силы, выражающейся на любом уровне жизни, растущей, изменяющейся и регулярно возрождающейся[1326]. Эта «биокосмическая святость» олицетворяется в различных формах, изменяясь, как будто бы по настроению или обстоятельствам. Дух растительности появляется время от времени в мифическом создании, живет, распространяется и, наконец, исчезает. Остается существенной и длительной «сила» растительности, которую одинаково хорошо можно ощущать и которой нетрудно управлять в ветке, в изображении или мифологической фигуре. Но было бы неверно видеть более подлинное религиозное значение в обряде, совершаемом вокруг мифического лица (такого, например, как Кострубонько), чем в обряде, где есть только знак (ветка или Майский шест и т. п.). Есть различия, которые — это следует понять — вытекают только из разницы в мифологическом творчестве разных обществ или даже из исторических случайностей. Ни в том, ни в другом случае они не очень важны. Во всех них мы находим ту же основную идею и ту же склонность праздновать в микрокосме то, что случается в макрокосме, праздновать это символически.
Важно, повторяю, не только выражение силы растительной жизни, но и время, в течение которого она действует; она выражает себя не только в пространстве, но и во времени. В определенный момент времени начинается новая стадия, другими словами, повторяется первоначальный мифический акт возрождения. Вот почему растительные церемонии проводятся — во всяких местах и во всякие исторические периоды — между временем карнавала и Ивановым днем. Не действительное появление весны породило эти ритуалы; вопрос не в том, что называют «природной религией», а в ритуальной драме, приспособленной к разным датам, о которых идет речь. Однако во всех случаях драма сохраняла свою первоначальную форму: это воспроизведение первобытного акта возрождения. Мы видим также, что, когда устанавливается новый Майский шест, прошлогодний сжигается, что чучела Карнавала, Зимы, Смерти и Растительности тоже сжигаются и что их пепел часто пользуется большим спросом за способность давать жизнь и отвращать беду: Люнгман, однако, замечает[1327], что некоторые древесные стволы тоже ритуально сжигаются в другое время: например, славяне Южного Дуная имеют обычай сжигать дерево или ветку, которые называют Бадняк, на Рождество, в Новый год или на Богоявление. Бадняк горит несколько дней подряд в каждом доме, а затем его зола рассыпается по полям — для плодородия. Болгары даже употребляли ладан, мирр и оливковое масло, чтобы почтить Бадняк; этот обычай, очень старинный на Балканах, обнаруживается по всей Европе и должен там быть очень древним.
Есть, конечно, места, где деревья сжигаются в самое разное время. В Тироле — это первый четверг поста, когда ритуальное бревно несут в торжественном шествии; в Швейцарии — это канун Рождества, Новый год и время карнавала. Более того, церемония несения и сжигания «Христова бревна» или карнавального дерева (на Западе) совершается теми же персонажами, которые приносят Майский шест; мы находим Короля и Королеву, дикаря, шута и так далее;[1328] те же герои и то же ритуальное дерево вновь появляются на свадьбах. Люнгман полагает, что все обычаи, включающие торжественное принесение и сожжение дерева, происходят от старинного обычая сжигать деревья Первого мая, в начале Нового года. С одной стороны, на Балканах и в других местах этот обычай был перенесен на рождественское и новогоднее время, с другой — на Западе его связали с Масленицей (карнавал), потом с Первым мая, с Пятидесятницей и с Ивановым днем[1329]. Интересно здесь отметить космовременное значение, какое имел этот обычай сожжения деревьев (и всегда хранил, хотя со временем все меньше). Сожжение было и осталось обрядом возрождения или Нового Начала, в то же время это было воспоминание о действии, совершенном in illo tempore. Магико–растительное значение заняло второе место в этом ритуале; он прежде всего знаменовал открытие года. Мы можем поэтому заключить, что для генезиса именно этого ритуала метафизическая основа имеет приоритет перед конкретным опытом наступления весны[1330].
124. ВЫВОДЫ
Не следует смущаться почти бесконечным обилием растительных иерофаний. Хотя их много и они различны, их можно довольно просто связать. Если взять только два из рассмотренных нами случаев, становится ясно, что главная разница между, например, Космическим деревом и Майским шествием — это различие между космологической идеограммой и ритуалом. Формула исполнения обряда — это не форма выражения идеограммы, мифа или легенды. Но все они имеют в основе одну и ту же мысль: что растительность — проявление живой реальности, периодически возобновляющейся жизни. Миф о деревьях, порождающих людей, о весенних растительных ритуалах, легенды о происхождении людей, о том, как герои старых сказок были обращены в растения, — все они выражают посредством символа или драмы то же умозрительное убеждение: растительный мир воплощает (или означает или участвует в ней) ту реальность, из которой сложена жизнь, которая неустанно созидает, которая всегда возрождается в бесчисленном разнообразии форм и никогда не исчерпывается. Коснуться дерева, чтобы забеременеть или чтобы защитить новорожденное дитя, означает определенное и полное отождествление человеческой реальности и жизни, воплощенных в растительности, и то же понятие подразумевается в идеограмме Космического дерева или мифах о Дереве Жизни: в каждом случае Жизнь проявляется через растительный символ. И так мы возвращаемся к идее о растительности, становящейся иерофанией — то есть воплощающей и проявляющей священное, — поскольку оно означает нечто другое, чем само растение. Ни одно дерево или растение никогда не бывает священным просто как дерево или растение; они такими становятся, потому что участвуют в трансцендентной реальности; они такими становятся, потому что означают эту трансцендентную реальность. Освящаясь, отдельная, «профанная» порода растений изменяет свою природу; в диалектике священного часть (дерево, растение) имеет смысл целого (Космос, Жизнь), профанное становится иерофанией. Иггдрасиль был символом Вселенной, но для древних германцев любой дуб мог стать священным, если соответствовал этому архетипическому условию, если он «повторял» Иггдрасиль. Таким же образом для алтайских народов любая береза могла быть освящена и так стать Деревом Мира, и, поднимаясь по ней в соответствии с ритуалом, шаман в действительности карабкался бы на небеса.
Поэтому то, что классифицируется как разряд «растительных культов», сложнее, чем о нем говорит его название. Через растительность возобновляется в своих разнообразных ритмах и «почитается» вся жизнь, сама природа, ее просят, ей молятся. Силы растительной жизни — эпифания жизни всей Вселенной. Так как жребий человека зависит от этой природы и он думает, что может пользоваться этой жизнью в собственных целях, он принимает «знаки» растительности и пользуется ими (Майские шесты, цветущие ветки, «свадьба деревьев» и все остальное) или почитает их («священные деревья» и так далее). Но никакого подлинного культа растительности, ни одной религии, построенной только на растениях и деревьях, не было никогда. Даже в большинстве «специализированных» религий (культы плодородия, например), когда растительная жизнь почиталась и использовалась в культе, параллельно почитались и другие природные силы. То, что известно всем как «растительные культы», — в действительности сезонные торжества, которые нельзя объяснить только как растительную иерофанию, но которые составляют часть гораздо более сложных драм, охватывающих всю жизнь Вселенной. Действительно, иногда трудно отделить растительные элементы от религиозных элементов, связанных с Матерью–Землей или Эросом, или почитанием предков, или Солнцем, или Новым годом, или любыми другими феноменами. Здесь я выделил их, чтобы мы могли получить более ясное представление о природе растительных иерофаний. Но, как и во всем первобытном религиозном опыте, все различные иерофаний (растения, Мать–Земля, Эрос и так далее) в действительности появляются бок о бок и всегда образуют часть какой‑нибудь системы. Применение растительных «символов» и чествование растительных «знаков» означает Жизнь во всех ее выражениях, неустанную и плодотворную деятельность Природы. Эти упоминания о Жизни и о Природе не должны быть поняты как своего рода пантеистический опыт, какой‑то мистический способ соприкосновения с космической жизнью. Ибо, как я отметил раньше (§ 123), не естественное явление весны, сам ее действительный ход вдохновляет весенние ритуалы, — напротив, ритуал сообщает свою значительность приходу весны; именно символизм и церемониал показывают все значение обновления природы и начала «новой жизни», периодического повторения нового созидания.
В этом кратком изложении мы не упомянули так называемых богов растительности просто потому, что этот термин вызывает немалую путаницу. Хотя есть растительные эпифании, олицетворяемые некоторыми божествами, было бы трудно свести их к растительной иерофании. Боги всегда обнаруживают больше, чем могла бы обнаружить простая растительная иерофания; их «форма», их карьера и их природа «заходят» гораздо дальше, чем простое раскрытие живой реальности Жизни, возобновляющейся с временами года. Чтобы как следует понять, что такое «бог растительности», нужно сначала понять, что такое «бог» вообще.
БИБЛИОГРАФИЯ
См. также библиографию к гл. IX, особенно работы У. Маннхардта, Дж. Фрэзера и Дж. — Дж. Мейера.
Parrott N. Les Représentations de l’arbre sacré sur les monuments de V Mésopotamie et d’Elam. P., 1937; Danthine H. Le Palmier‑dattier et les arbres sacrés dans l’iconographie et l’Asie occidentale ancienne. P., 1937; Wensinck A. J. Tree and Bird as Cosmological Symbols in Western Asia // Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wettenschappen. Amsterdam, 1921. Vol. ХХIII. P. 1–56; Coomaraswamy A. Yakşas. Washington, 1928–1931. 2 vols.; Nillson M. P. Geschichte der griechischen Religion. Vol. I. Münich, 1941. S. 194 и сл.; 260 и сл., Przyluski J. La Participation. P., 1940. P. 41 и сл.; Hentze С. Mythes et symboles lunaires. Antwerpen, 1932. P. 41 и сл.; Bergema H. De Boom des Levens in Schrift en Historie. Hilversum, 1938. S. 337 и сл.
Coomaraswamy A. The Inverted Tree // The Goarterly Journal of the Mythic Society. Bangalore, 1938. Vol. XXIX. №2. P. 1–38; Kagarow E. Der umgekehrte Schamanenbaum // AFRW. 1929. S. 183; ритуал перевернутых деревьев: Holmberg‑Harva U. Der Baum des Lebens // AASF. Helsinki, 1922–1923. Series В. Vol. XVI. S. 17, 59, и т. д.; Finno‑Ugric and Siberian Mythology. Boston, 1927 (в серии «Миология всех рас»). P. 349; Bergema H. De Boom… S. 275. №116; Eliade M. Le Chamanisme. P., 1951. P. 244 и сл.
ср.: ссылки и библиографию в работах De Vries J. Altgermanische Religionsgeschichte. Vol. II В.; Lpz., 1937. S. 402; Reuter. Germanische. Himmelskunde. Münich, 1934. S. 229; Bergema H De Boom… P. 551.
Marshall J. Mohenjo‑Daro and the Indus Civilization. Vol. I. L., 1931. Fgs. 63–67. P. 52; Contenau G. La Déesse nue babylonienne. P., 1914, везде; Contenau G. Le Déluge babylonien. P., 1941. P. 159; Aunran С La Préhistoire du Christianisme. Vol. I. P., 1941. P. 124; Albright W. F. The Babylonian Sage Ut‑Napistim Nudu // JAOS. 1918. Vol. XXXVIII. P. 60–65; Albright W. F. The Goddess of Life and Wisdom // JASS. 1920. Vol. XXXVI. P. 258–294; Albright W. F. Some Cruces in the Langdon Epic // JAOS. 1919. Vol. XXXLX. P. 65–90; Albright W. F. The Mouth of the Rivers // JASS. 1919. Vol. XXXV. P. 161–195; Albright W. F. Gilgamesh and Enkidu, Mesopotamia Genil of Fecundity // JAOS. 1920. Vol. LX. P. 307–335; Nilsson M. R. Geschichte der griechisahen Religion. Vol. I S. 260; Holmberg‑Harva U. Der Baum des Lebens. S. 83; Hentze С. Frühchinesische Bronzen und Kultdarztellungen. Antwerpen, 1937. S. 129; Marconi M. Riflessi mediterranei nella piu antica religione laziale. Milan, 1939; Persson A. W. The Religion of Greece in Prehistoric Times. Berkeley; Los Angeles, 1942; Bemadin S. A. De mannelijke en de vrouwelijke godheid van de boomcultus in Minoische golsdienst. Amsterdam, 1942; Pestalozza U. Pagine di religione mediterranea. Vol. II Milan, 1945.
Schmidt H. Die Erzählung von Paradies und Sündefall. Tübingen, 1931; Humbert P. Etudes sur le récit du paradis et la chute dans la Genèse. Neuchâtel, 1940; Bergenia H. De Boom… S. 120 и сл.
Contenau G. L’Epopée de Gilgamesh (translation with commentary), P., 1939; discussed in: Furiant G. La Religione babilonese‑assira. Bologna, 1921. Vol. II. P. 50; P. 83, no 69, bibliography; also Dhorme E. Les Religions de Babylonie et d’Assyrie. P., 1945. P. 328; Virolleaud C. Le Voyage de Gilgamesh au paradis // RHR 1930. Vol. CI. P. 202–215.
Barnett L. D. Yama, Gandharva and Glaucus // BSOAS. 1926–1928. Vol. IV P. 703–716, particularly P. 709 и сл.; Christensen A. Le Premier Hommt et le premier roi dans l’histoire légendaire des Iraniens. Vol. II. Uppsala; Leiden, 1931. P. 11 и сл.
Wünsche Α. Die Sagen vom Lebensbaum und Lebenswasser. Altorientalische Mythen // Ex Oriente Lux. Vol. I. Leipzig, 1905. Nos. 2–3; Hopkins E. W. The Fountain of Youth // JAOS. 1905. Vol. XXVI. P. 1–67; Fnendländer I. Die Chadirlegende und der Alexanderroman. Lpz., 1913; Holmberg‑Harva U. Der Baum des Ledens. — По всей работе; Bergema H. De Boom des Levens. S. 238 и сл.
Eliade M. Ierburile de sub Cruce. First published in: Revista Fundatulor Regale. November, 1939. P. 4; La Mandragore et les mythes de la naissance miraculeuse // CZ. 1942. Vol. III. P. 1–48, particularly P. 22; Ohrt F. Herba, Gratia Plena. Die Legenden der älteren Segensprüche über den göttlichen Ursprung der Heil- und Zauberkraüter. Helsinki, 1929 // FFC. №82; Delatte A. Herbarius. Recherches sur le cérémonial usité chez les anciens pour la cueillette des simples et des plantes magiques. 2nd ed. Liège; P., 1938.
Wünsche A. Lebensbaum. S. 33; Graf A. Miti, leggende e superstizioni del Medio Evo. Turin, 1925. P. 61 (библиография. P. 126, n. 6); Cartojan N. Carole populare in literatura româneasca. Vol. I. Bucharest, 1929. P. 123; Bergema H. P. 503; Walk L. Lebensbaum‑Kreuzesbaum: II; Kirchenkunst // OZK. Vol. IX. S. 53–57; Baltrusaitis J. Quelques survivances des symboles solaires dan l’art du Moyen Age // GBA. 6th series. Vol. XVII. P. 75–82; Nava A. Albero di Jesse nella cattedrale d’Orvieto e la pittura bizantina // RIASA. Vol. V. P. 363–376; Hildburgh W. L. A Medieval Brass Pectoral Cross // AB. 1932. Vol. XIV. P. 79–102; Detering A. Die Beleutung der Eiche seit der Vorzeit. Leipzig, 1939. S. 126. Fig. 51.
Holmberg‑Harva U. Baum des Lebens. S. 26 и сл. Finno‑Ugric Mythology. S. 338; Coomaraswamy A. Elements of Buddhist Iconography. Harvard University Press, 1935. P. 82; Mus P. Barabudur. Vol. I. Hanoi; P., 1935. P. 117 и сл., 440 и сл.; Granet M. La Pensee chinoise. P., 1935. P. 324; Lecher G. The Tree of Light in Indo‑European and Islamic Cultures // AI. 1937. Vol. IV. P. 369–416; Bauerreiss R. Arbor Vit. Der «Lebensbaum» und seine Verwendung in Liturgie, Kunst und Brauchtum des Abendlandes. Müunich, 1938; Eliade M. Le Chamanisme… P. 244 и сл.; ср. библиографию к гл. II со ссылкой на деревья шаманов и др.
Krappe А. Н. The Science of Folklore. L., 1930. P. 233; Hentze С. Mythes et symboles lunaires. Antwerpen, 1932. P. 155 и сл.; Wilke G. Der Weltenbaum und die beiden Kosmischen Vögel in der vorgeschichtlichen Kunst // MB. Vol. XIV. 1922. S. 73–99.
Sainbanu L Basmele Românilor. Bucharest, 1898. P. 449–457; Emsheimer E. Schamanentrommel und Trommelbaum. — ES. 1946. №4. S. 166–181; Eliade M. Le Chamanisme… P. 51 и сл., 160 и сл.
Baumann H. Schöpfung und Urzeit des Menschen im Mythos afrikanischer Völker. В., 1936. S. 224 и сл.; Vokhardt E. Kannibalismus. Stuttgart, 1939. S. 456 и сл.; Engelmann G. J. Die Geburt bei den Urvölkem. Eine Darstellung der Entwicklung der heutigen Geburtskunde aus den natürlichen Gebrauchen aller Rassen. Vienna, 1884. S. 77 и сл.; Hartland E. S. Primitive Paternity. The Mydi of Supernatural Birth in Relation to the History of the Family. Vol. I. L., 1909. P. 44 и сл.; Henize С. Mythes et symboles lunaires. P. 155; Krappe A. H. La Genèse des mythes. P., 1938. P. 278; Van Gennep A. Mythes et légendes d’Australie. P., 1906. P. 14; Matsumoto N. Essai sur la mythologie japonaise. P., 1929. P. 120; Przyluski J. Un Ancien peuple du Penjab: les Udumbara // JA. 1926. P. 25–36; Bagchi P.С. Pre‑Aryan and Pre‑Dravidian in India. Calcutta, 1929. P. 154; Przyluski J. Les Empalés // Mélanges chinois et bouddhiques. Vol. IV. Brussels, 1936. P. 1–51; Eliade M. Ierburile de sub Cruce; La Mandragore et les mythes de la naissance miraculeuse // CZ. 1940–1942. Vol. II. P. 3–48; иранские тексты, относящиеся к рождению Машьяг и Машьянаг из растения, собраны и переведены А. Кристинсеном в Le Premier homme et le premier roi dans l’historié légendaire des Iraniens. Vol. I. Uppsala, 1918. P. 21 и сл., 73 и т. д.
Nyberg В. Kind und Erde. S. 195 и сл.; Saineanu L. Basmele Pomânilor. P. 307 и сл.; Gosouin E. Les Contes indiens et l’occident P., 1922. P. 84 и сл.; Eliade M. Ierburile de Sub Cruce. P. 15 и сл.; La Mandragore, P. 34 и сл.
имеется библиография в: Bolte; Polivka. Ammerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Leipzig, 1913–1930. 4 vols: Vol. II. S. 125; Vol. IV. S. 257; Penzer N. M. The Pentamerone of Giambattista Basile. L., 1932. P. 158 и сл.; Thompson S. Motif‑Index of Folk‑Literature. Vol. V. Helsinki, 1935. P. 302 и сл.
Frazer J. The Golden Bough. Abridged ed. L., 1922. P. 114 и сл., Schmidt R. Liebe und Ehe in alten und modernen Indien. В., 1904. S. 406 и сл.; Nyberg В. S. 195 и сл.; Boulnois J. Le Caducée et la symbolique dravidienne indoméditerranéenne de l’arbre, de la pierre, du serpent et de la déesse‑mère. P., 1931. P. 8 и сл.; Abbot J. The Keys of Power. A Study of Indian Ritual and Belief. L., 1932. P. 335 и сл.
работы Mannhardt W., Frazer J., Meyer J. J. and Liungman W. quoted in the text Ср.: too Runeberg A. Witches, Demons and Fertility Magic. Helsinki, 1947.
Crooke W. The Holi: A Vernal Festival of the Hindus // FRE. Vol. XXV. P. 55–83; Crooke W. Popular Religion and Folklore of Northern India. L., 1894. P. 342 и сл. (2nd ed. Vol. II P. 197, 318); Meyer J. J. Trilogie, altindische Mächte und Feste der Vegetation. Vol. I (Kama). Zürich; Leipzig, 1937. S. 16 и сл., имеется большая библиография.
Frazer J. The Dying God, везде; Liungman W. Traditionswanderungen: Euphrat‑Rhein. I‑II // FFC. Helsinki. 1937–1938. №118–119, везде; Traditionswanderungen Rhein‑Jenissei. Eine Untersuchung über das Winter- und Todaustragen und einige hierhergehörige Braüche. I // FFC. Helsinki, 1941. №129; Frazer J. Der Kampf zwischen Sommer und Winter // FFC. Helsinki, 1941. №130; Meyer J. J. Trilogie. Vol. I. S. 199 и сл.
Глава IX
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И КУЛЬТ ПЛОДОРОДИЯ
125. РИТУАЛЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЗЕМЛЕДЕЛИЕМ
Земледелие в предельно драматическом виде воспроизводит тайну возрождения растительной жизни. Человек действенно участвует и в сельскохозяйственных работах, и ритуалах по поводу них; потому жизнь растений и сакральные силы, заключенные в растительном мире, уже не чужды ему; взращивая и используя растения, он сам приобщается к этим силам. Для «первобытного» человека земледелие, равно как и прочие основные виды деятельности, не является просто профанным занятием. Поскольку оно касается жизни, а его объект есть чудесное развитие этой жизни, обитающей в семени, борозде, дожде и духах растительности, оно в его сознании прежде всего является ритуалом[1331]. Так обстояло дело с самого начала, и так оно обстоит до сих пор во всех аграрных обществах, даже в наиболее цивилизованных областях Европы. Земледелец входит в сферу абсолютной святости и становится ее частью, а его труды имеют космические последствия, ибо они совершаются в рамках космического цикла, а также потому, что год, времена года, лето и зима, пора сева и пора жатвы — все они представляют собой целостные формы, каждая из которых обладает своей собственной, автономной онтологической значимостью.
Отметим вначале крайнюю важность времени и ритмов времен года для религиозного опыта в аграрных обществах. Земледелец имеет дело не только с сакральной сферой пространства (плодородной почвой, силами, действующими в семенах, почках и цветах); его работа также подчинена определенному ходу времени — циклу времен года, являясь его составной частью. Поскольку, таким образом, аграрные общества сильно зависят от замкнутых временных циклов, с ритуалами земледелия всегда тесно связано множество церемоний, в процессе которых провожается «старый год» и приветствуется «новый», изгоняются «болезни» и возрождаются «силы». Сами природные ритмы связывают их в единое целое и усиливают их эффективность. Как результат долгого общения с землей и цикличными изменениями, в ней постепенно возникает некоторый оптимистический взгляд на бытие: смерть представляется не более чем временной модификацией модели бытия; зима — это уже не конец, ибо за ней следует тотальное обновление природы, демонстрирующей новые, безграничные формы жизни; по сути, ничто не умирает — все лишь переходит в состояние первичной материи и отдыхает в ожидании следующей весны. В любом видении мира, основанном на идее ритмов, присутствуют подобные драматические моменты.
Сельский труд — это ритуал, частично потому, что он проводится на теле Матери–Земли и высвобождает сакральные силы растительности; но отчасти и потому, что он неразрывно связывает жизнь земледельца с благотворными или пагубными периодами времени; потому, что этот труд таит в себе опасности (например, гнев духа — хозяина той земли, которую расчищают под пашню); потому, что он предполагает совершение ряда церемоний, различных по форме и происхождению, имеющих целью помочь росту злаков и освятить работу земледельца; наконец, потому, что он приобщает земледельца к сфере, в определенном смысле находящейся «в ведомстве» смерти. Невозможно было бы перечислить здесь даже самые важные типы верований и ритуалов, связанных с земледелием. Эта тема обсуждалась во многих исследованиях, начиная с В. Маннхардта и Дж. Фрэзера и вплоть до А. — В. Рантасало, Й. Мейера и В. Люнгмана. Мы остановимся лишь на самых значимых ритуалах и верованиях, распространенных главным образом в ареалах, изученных наиболее методически, — таких как Финляндия и Эстония, которым Рантасало посвятил пять томов своего исследования «Der Ackerbau im Volksaberglauben der Finnen und Esten mit entsprechenden Gebrauchen der Germanen verglichen»[1332].
126. ЖЕНЩИНА, СЕКСУАЛЬНОСТЬ И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
Мы уже заметили (§ 93), что между женщиной и земледелием всегда существовала тесная связь. Еще не так давно в Восточной Пруссии был распространен обычай, когда обнаженная женщина выходила в поле сеять горох[1333]. В Финляндии женщины обычно выносили на поля первые семена в повязке, которую носят во время менструации, в туфле проститутки или в чулке внебрачного ребенка[1334], веря, что увеличивают плодородность зерна через контакт с вещами людей, носящих отчетливое клеймо эротизма. Свекла, посаженная женщиной, — сладкая; посаженная мужчиной — горькая[1335]. В Эстонии семена льна на поля выносили молодые девушки. Шведы разрешают сеять лен только женщинам. У немцев зерно сеют опять же женщины, предпочтительно замужние или беременные[1336]. Мистическая связь плодородия почвы и творящей силы женщины принадлежит к базовым интуитивным моментам «аграрной ментальности».
Очевидно, что, если женщины могут оказывать такое влияние на растительный мир, ритуальный брак и даже коллективная оргия a fortiori будут еще мощнее влиять на урожай. Ниже (§ 136) мы рассмотрим ряд ритуалов, подтверждающих несомненное воздействие эротической магии на земледелие. В настоящий же момент упомянем лишь тот факт, что финские крестьянки перед вспахиванием борозды обычно кропили ее несколькими каплями молока из своей груди[1337]. Этот обычай можно интерпретировать различным образом: как подношение умершим, как волшебный способ превращения бесплодного поля в плодородное, возможно, как просто результат взаимосвязанности плодовитой женщины, матери и процесса посева. Точно так же мы можем заметить, что обрядовое обнажение при сельскохозяйственных работах значит больше, чем обычный ритуал эротической магии. В Финляндии и Эстонии иногда пахали ночью в голом виде, тихо приговаривая: «Господи, я обнажен! Благослови мой лен!»[1338] Делается это, естественно, с целью получения обильного урожая, но также и для защиты его от сглаза и от вредителей полей. (Колдун, обезвреживающий чары и отгоняющий прочие бедствия от нивы, также ходит по полю обнаженным.) В Эстонии крестьяне иногда пашут и боронят в голом виде и тем самым обеспечивают себе хороший урожай[1339]. Индийские женщины в период засухи выходят на поля нагими и в таком виде проводят по ним плуг[1340]. В связи с этой эротической магией земледелия можно упомянуть также широко распространенный обычай опрыскивать плуг водой перед первой пахотой. В данном случае вода символизирует не только дождь, но и плодонесущее семя. В Германии пахарей часто обрызгивают водой, равно как в Финляндии и Эстонии[1341]. Из одного индийского текста явствует, что дождь играет такую же роль, как семя в отношениях между мужчиной и женщиной[1342]. По мере развития земледелия мужчина начинал играть в нем все более и более значительную роль. Если женщина отождествлялась с почвой, то мужчина чувствовал себя одним из оплодотворяющих ее семян. В индийском ритуале[1343] рисовые зерна олицетворяли сперму, оплодотворявшую женщин.
127. ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЗЕМЛЕДЕЛИЕМ
В этих нескольких примерах, составляющих лишь часть богатейшей коллекции, отчетливо просматривается ритуальная природа сельскохозяйственных работ. Женщина, плодовитость, сексуальность, нагота — все это различные средоточия сакральных сил, предпосылки церемониальной драмы. Но даже и без этих «средоточий», которые прежде всего нужны для раскрытия взаимосвязи между различными выражениями биокосмического плодородия, сельскохозяйственные работы сами по себе функционируют как ритуал. Как и при жертвоприношении или других религиозных церемониях, человек может приступать к работе в поле, лишь когда он ритуально чист. Когда начинается сев (а позже сбор урожая), работник должен вымыться, надеть чистые одежды и т. д. Ритуальные действия, совершаемые при посеве и при жатве, сходны друг с другом. Это не простое совпадение: сев и жатва — кульминационные моменты в земледельческой драме. Их первый этап — жертвоприношение, залог успеха. Поэтому первые семена не сеют, а бросают за пределы борозды в качестве подношения различным духам (умершим, ветрам, «богине пшеницы» и т. д.); таким же образом во время жатвы первые колосья оставляют птицам или же ангелам, «Трем Девам», «матери пшеницы» и т. д. А жертвы, приносимые во время сева, повторяются во время жатвы и молотьбы[1344]. Финны и германцы приносили в жертву баранов, ягнят, кошек, собак и других животных[1345].
Можно задать себе вопрос: кому и с какой целью приносились эти жертвы? Для ответа на него потребовалась масса изобретательности и исследовательского терпения. Относительно ритуальной природы этих обычаев нет никаких сомнений; целью их, разумеется, является обеспечение хорошего урожая. Однако обильность урожая зависит от бесчисленных сил, и вполне естественно, что различные способы их олицетворения приводят к некоторой путанице в классификации. Естественно также, что эти силы, участвующие в земледельческой драме, по крайней мере, косвенно, — варьируются в зависимости от конкретного типа культуры или конкретного народа даже в случае исконного родства этих культур и народов; в свою очередь, эти представления вписываются в определенный культурный и религиозный контекст и могут по–разному интерпретироваться в рамках даже одной нации, вплоть до противоречивых трактовок (например, в Северной Европе: изменения в религиозных представлениях германских племен, произошедшие в период миграции; или влияние христианства на Европу и ислама на Африку и Азию).
128. «СИЛА» УРОЖАЯ
С совершенной очевидностью можно говорить лишь об основных очертаниях упомянутой земледельческой драмы. Так, в любом из бесконечного множества сельскохозяйственных ритуалов и верований со. держится понятие проявленной в урожае силы. Эта «сила» может восприниматься как безличная, заключенная во многих вещах и действиях; но она может воплощаться и в мифической форме или же сосредоточиваться в определенных животных или людях. Цель ритуалов как простых, так и со сложным сценарием, — установить благоприятные отношения между человеком и этими силами, а также обеспечить их циклическое возрождение. Иногда с силой, воплощенной и проявляющей себя в урожае, обращаются таким образом, что цель ритуала невозможно четко определить: то ли с его помощью воздают почести мифической фигуре, олицетворяющей эту силу, то ли просто поддерживают ее активность. Существует широко распространенный обычай оставлять нетронутыми последние колоски на поле; у финнов, эстонцев и шведов их отдают либо «духу соседского дома», либо «жителям подземного мира», либо «коням Одина»[1346], в Германии — либо «gute Frau», «arme Frau», «Waldfräulein» («добрая жена», «бедная жена», «лесная барышня»)[1347], либо «жене пшеницы» или «Holzfrau» («жена–дерево»)[1348].
Как заметил Ян де Фриз[1349], этот обычай вызван страхом перед иссяканием животворной «силы» урожая. Точно так же с деревьев никогда не снимали последние плоды, на овцах всегда оставляли несколько пучков шерсти; в Эстонии и Финляндии лари, в которых хранят зерно, никогда не опустошают полностью, а крестьяне, набирая из колодца воду, обязательно отливают обратно несколько капель, чтобы колодец не пересох. В несрезанных колосьях сохраняется сила растения и всего поля. Этот обычай, проистекающий из изначальной идеи «силы», которая постепенно, но не до конца иссякает, а затем возрождается с помощью собственного волшебства, позже стал толковаться как жертвоприношение мифическим олицетворениям растительных сил или же различным духам, имеющим то или иное отношение к растительному миру.
Однако еще более распространен и еще более драматичен ритуал первого (или последнего) снопа на поле. В этом снопе, как и в нескольких несрезанных колосках, хранится «сила» растительности в целом. Тем не менее обращаться с этим снопом, отягощенным сакральной мощью, могут абсолютно разными способами. В некоторых краях все бросаются наперегонки, чтобы первым схватить его, в других — все его избегают. Иногда его с шествием относят в дом; иногда подбрасывают на поле соседу. В последнем снопе, бесспорно, содержится сакральная сила, порой дружелюбная, а порой враждебная; люди либо состязаются за право обладать ею, либо стремятся избавиться «г нее. Эта амбивалентность ни в коем случае не нарушает природу сакрального; скорее всего, противоречивые оценки последнего снопа представляют собой два параллельных сценария одного и того же ритуала — ритуала манипуляции «силой», воплощенной в растительности. Германцы составляли сноп из первых и последних колосков и помешали его на стол, ибо он приносил удачу[1350]. У финнов и эстонцев считается, что первый сноп, с церемониями отнесенный в дом, благословляет его, защищает от болезней, грозы и прочих зол, а также охраняет зерно от крыс. Широко распространен также обычай держать первый сноп в хозяйской спальне во время трапез или в течение одной ночи (в Германии, Эстонии и Швеции)[1351]. Кое–где защищают и благословляют скот, отдавая первый сноп ему.
В Эстонии считают, что первый сноп наделен пророческой силой; девушки, определенным образом разбрасывая его колосья, выясняют, кто из них первой выйдет замуж. А в Шотландии тот, кто свяжет последний сноп, называемый «девицей», обязательно женится до конца года; поэтому жнецы прибегают ко всякого рода уловкам, чтобы завладеть этим снопом[1352]. Во многих странах последнюю пригоршню сжатой пшеницы называют «невестой»[1353]. В некоторых областях Германии цену на хлеб в будущем году можно предугадать по первому снопу[1354]. В Финляндии и Эстонии каждая из жниц спешит первой добраться до последней полосы; финны зовут ее «люлька» и уверены, что женщина, связавшая сноп из растущей на ней пшеницы, обязательно забеременеет. Как в этих странах, так и в Германии можно зачастую встретить обычай связывать из последних колосьев особенно большой сноп, чтобы обеспечить хороший урожай на будущий год; а во время сева к семенам примешивают немного зерна из этого снопа[1355].
129. МИФИЧЕСКИЕ ОЛИЦЕТВОРЕНИЯ
Объектом рассмотренных выше верований и обычаев является сама по себе «мощь» урожая — как «сакральная сила», без соответствующего мифического олицетворения. Однако существует и множество других церемоний, более или менее отчетливо подразумевающих наличие определенной личности, в которой заключена эта «мощь». Образы, имена и значительность этих олицетворений различны. «Мать пшеницы» в англо–германских странах; «Великая Мать», «Мать колоска пшеницы», «Старая Блудница»[1356], «Старуха» или «Старец» у славян и других народов;[1357] «Мать урожая», «Старая» у арабов;[1358] «Старик» (дедо) или «Борода» (Спасителя, св. Илии или св. Николая) у болгар, сербов и русских[1359] — вот лишь несколько капель в море имен, которыми наделяется эта мифическая фигура, предположительно обитающая в последнем снопе пшеницы[1360].
Представления и терминология неиндоевропейских народов почти такие же. Так, перуанцы думают, что во всех употребляемых в пищу растениях живет божественная сила, обеспечивающая их рост и плодородность; в частности, они делают изображение «Матери маиса» (zara‑mama) из маисовых стеблей, связывая их так, чтобы получилась фигура женщины, и верят, что «раз она мать, она способна произвести много маиса»[1361]. Эта фигура хранится у них вплоть до нового урожая; однако в середине следующего года колдуны вопрошают ее, остались ли у нее еще силы, и если zara‑mama отвечает отрицательно, ее сжигают и делают новую, чтобы семена маиса не вымерли[1362]. Индонезийцы почитают «дух риса» — силу, способствующую росту риса и его хорошему урожаю; поэтому они обращаются с цветущим рисом как с беременной женщиной, а также стараются поймать этот дух и заключить его в корзинку, после чего его тщательно охраняют в рисовом амбаре[1363]. Если зреющий рис начинает сохнуть, бирманские карены считают, что его покинула душа риса (kelach) и, если ее не вернуть, он погибнет совсем. На этот случаи у них существует специальное обращение к этой «душе» — иссякшей силе растения: «О, приди, kelach риса, приди! Снизойди на поле, войди в рис; приди к нам с семенами всякого рода. Выйди из реки Кхо, выйди из реки Kay; выйди оттуда, где они сходятся. Приди к нам с Запада, приди с Востока. Из горла птицы, из утробы обезьяны, из глотки слона, приди от истоков рек, приди от их устьев. Приди из страны Шан и Бирман. Приди из далеких царств. Приди из всех житниц. О kelach риса, войди же в рис»[1364].
Племя минангкабау на Суматре считает, что рис охраняется женским духом, которого зовут Санинг Сари, а также indoea padi (буквально: «Мать риса»). Эту indoea padi, энергия которой принудительным и благотворным образом действует на урожай, олицетворяют несколько рисовых колосков; их особенно старательно выращивают и пересаживают в центр поля[1365]. У томори, живущих на о. Сулавеси, тоже есть «Мать риса» (ineno pae)[1366]. В. — В. Скит[1367] во время своего пребывания на Малайском полуострове присутствовал на церемониях, связанных с «Матерью риса–дитяти», существенным элементом которых, в частности, было то, что в течение трех дней после того, как «душу риса–дитяти» вносили в дом, к жене его владельца обращались как к матери новорожденного младенца. На островах Ява, Бали и Сомбок есть обычай торжественного обручения и свадьбы двух горстей риса с поля, готового к жатве, после чего «супружескую чету» помещают в амбар, чтобы «рис мог умножаться»[1368]. В последних двух примерах мы наблюдаем смешение двух идей: идеи силы, способствующей росту растений, и идеи волшебной, оплодотворяющей силы брака.
Можно сказать, что высшая степень персонификации силы растений наблюдается тогда, когда жнецы делают из последних колосков человеческую — обычно женскую — фигуру; или же когда они обвязывают живого человека соломой и называют его именем того мифического существа, которое он олицетворяет, после чего он принимает определенное участие во всех церемониях. Так, в Дании изображение «Старика» (gammelmanden) убирают цветами и со всяческими почестями относят в дом. Иногда, однако, последний сноп, изогнутый так, чтобы он напоминал человека с головой, руками и ногами, бросают на еще не сжатое поле соседа[1369]. У немцев «Старуху» или «Старика» также бросали на поле соседа или же вносили в дом и держали там вплоть до следующего урожая. В некоторых случаях это мифическое существо отождествляли со жнецом, связавшим последний сноп, или с чужаком, случайно проходившим по полю, или же с самим землевладельцем. В Швеции, например, девушка, срезавшая последние колосья, сплетала из них венок, надевала на шею и в таком виде отправлялась домой, а во время празднества урожая танцевала с венком как с кавалером[1370]. В Дании такая девушка должна была танцевать с чучелом, сделанным из последних колосьев, и плакать, поскольку она становилась «вдовой» — супругой мифического существа, обреченного на смерть[1371].
Иногда к людям, олицетворяющим силу, заключенную в урожае, относятся в высшей степени уважительно, а иногда наоборот. Вероятно, эта амбивалентность проистекает из двух различных функций, осуществляемых тем, кто срезает последние колосья; с одной стороны, его почитают, поскольку отождествляют с «духом», «мощью» земледелия; с другой стороны, он как бы уничтожает этот самый дух, и поэтому его ненавидят и даже грозят ему смертью. Так, в некоторых германских странах о человеке, нанесшем последний удар цепом, говорят, что он «сбил с ног Старика» или же «поймал Старика», и он либо должен под насмешки и издевательства толпы донести до деревни соломенное чучело, либо незаметно подбросить его на поле соседу, еще не закончившему молотьбу[1372]. В Германии последний сноп прикрепляют либо к сжавшему его жнецу, либо к связавшей его девушке; затем их с почестями вводят в деревню и во время праздника угощают лучшими блюдами[1373].
В Шотландии последнего снопа, называемого «Старухой» (caileach), старались избегать все, потому что считалось, что тому, кто сожнет его, придется вплоть до следующего урожая кормить воображаемую старуху[1374]. Норвежцы полагали, что весь год в полях незримо живет skurekail («Жнец»), который поедает пшеницу. Его захватывали в плен в последнем снопе, из которого делали чучело с тем же именем — skurekail[1375]. В некоторых источниках говорится, что это чучело подкидывали на поле не закончившего жатву соседа, которому в таком случае приходилось кормить его весь следующий год. У славян, напротив, человек, срезавший «Бабу», считался счастливчиком, потому что это должно было в тот же год принести ему ребенка[1376]. В окрестностях Кракова связавшего последний сноп называли «Баба» или «Бабушка», оборачивали соломой, так что наружу торчала лишь голова, и отвозили в последней повозке в дом, где вся семья опрыскивала его водой. «Бабой» его звали в течение целого года[1377]. В Каринтии такого человека также обвязывали соломой и бросали в воду. Болгары называли последний сноп «Царицей пшеницы»; его обряжали в женское платье, проносили по деревне и бросали в реку, обеспечивая тем самым дождь для следующего урожая; иногда его сжигали, а пепел развеивали по полям, чтобы умножить их плодородие[1378].
130. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ
Обычай опрыскивать водой и даже бросать в воду человека, олицетворяющего растительность, чрезвычайно распространен, равно как и обычай сожжения соломенного чучела, пеплом которого затем посыпают почву. Все эти действия имеют определенную ритуальную значимость, будучи частью одного сценария, который в некоторых местах сохранился до сих пор во всех деталях и без понимания которого невозможно понимание никаких земледельческих церемоний. Так в Швеции чужую женщину, забредшую на двор, обвязывают соломой и называют «Женой пшеницы». В Вандее эту роль исполняет жена земледельца, которую заворачивают в солому и кладут под молотилку, а потом вытаскивают оттуда и молотьбе подвергается только зерно, а ее при этом подбрасывают на одеяле, как если бы она была пшеницей, которую провеивают[1379]. Здесь мы видим полную идентификацию «силы» зерна и олицетворяющего ее человека; жена земледельца символически подвергается всему, что обычно делают с пшеницей — проходит через ряд ритуалов, призванных воспроизвести и умиротворить «силу», сконцентрированную в последнем снопе.
Во многих других областях Европы незнакомца, проходящего мимо поля, где работают жнецы, или мимо тока, в шутку предупреждают, что его могут убить[1380]. Еще кое–где его бьют по пальцам, приставляют к его шее серпы и т. д.[1381] В некоторых районах Германии жнецы связывают его и требуют выкуп за освобождение. Эту игру сопровождает пение, из которого отчетливо видны их намерения. Так, в Померании главный жнец объявляет:
Таким же образом приветствуют и незнакомца, приблизившегося к току: его хватают, связывают и грозят ему смертью.
Вполне вероятно, что перед нами пережитки ритуального сценария, включавшего в себя настоящее человеческое жертвоприношение. Конечно, это не означает, что все без исключения аграрные общины, которые до сих пор встречают случайного прохожего мнимым пленением и мнимыми угрозами, некогда во время жатвы приносили в жертву людей. Скорее всего, такие сельскохозяйственные ритуалы образовались из немногочисленных первоисточников (как‑то: Египет, Сирия, Месопотамия) и большинству народов достались лишь разные обрывки изначального сценария. Даже в античности человеческие жертвоприношения при сборе урожая были не более чем отдаленным воспоминанием. Так, в одной греческой легенде рассказывается о внебрачном сыне фригийского царя Мидаса — Литиэрсе, который прославился своим чрезмерным аппетитом и особым отношением к жатве. Всех, кто случайно проходил мимо его поля, Литиэрс приглашал в гости, затем выводил на поле и заставлял жать вместе с собой. Тех кто жал хуже него, он связывал, как сноп, отрезал им головы серпом а тела бросал на землю. В конце концов Литиэрс повстречался с Гераклом, который победил его в состязании жатвы, сам срубил ему голову и бросил труп в реку Меандр (возможно, именно так в конечном итоге Литиэрс поступал со своими жертвами)[1383]. По всей вероятности, фригийцы действительно приносили в жертву людей во время жатвы; существуют указания на то, что такие жертвы были распространены и в других областях Восточного Средиземноморья[1384].
131. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ У АЦТЕКОВ И КХОНДОВ
Имеются свидетельства и о том, что человеческие жертвоприношения во имя урожая практиковались некоторыми народами Центральной и Северной Америки, кое–где в Африке, на нескольких тихоокеанских островах и у части дравидийских племен в Индии[1385]. Мы ограничимся здесь лишь немногими примерами, но, чтобы лучше уяснить природу этих жертвоприношений, детально их проанализируем.
Саагун оставил нам подробное описание маисовых ритуалов, исполнявшихся мексиканскими ацтеками. Как только начинали прорастать первые побеги, ацтеки выходили на поля, чтобы «найти Бога маиса» — побег, который они вносили в дом и которому, как богу, предлагали пищу. Вечером его доставляли в храм Чикомекоатль (Богини пищи), где собиралось несколько девиц, каждая из которых имела при себе сверток из красной бумаги, окропленный соком растений; в нем хранилось семь колосков маиса от последнего урожая. Сверток называли чикомолотль («семикратный колос») — так же, как и Богиню маиса. Девицы были трех разных возрастов: маленькие девочки, отроковицы и взрослые девушки, что, несомненно, символизировало этапы роста маиса. Их руки и ноги украшали красные перья (красный цвет был цветом божеств маиса). Церемония была направлена лишь на то, чтобы почтить Богиню и добиться от нее магического благословения для всходов, поэтому она не включала в себя жертвоприношения. Однако спустя три месяца, когда урожай созревал, девушку, олицетворявшую Богиню нового маиса Ксилонен, обезглавливали, после чего этот маис можно было использовать в обыденных целях, в пишу; по–видимому, эта церемония имела ту же природу, что принесение в жертву первых плодов земли. Еще через шестьдесят дней, по завершении сбора урожая, совершалось следующее жертвоприношение: обезглавливали женщину, олицетворявшую Богиню Тоси — «нашу Мать» (Богиню маиса, употребляемого в пищу)[1386]. Сразу после этого с нее сдирали кожу, в которую облачался один из жрецов, но один кусок, снятый с бедра, относили в храм Синтеотля — Бога маиса, где другой участник церемонии изготовлял из него для себя маску. Несколько недель с этим человеком обращались как с женщиной при родах, ибо смысл этого ритуала, по–видимому, заключался в том, что погибшая Тоси возрождалась в своем сыне — сухом маисе, зерне, которое составляло зимний рацион. За этими церемониями следовал ряд других: маршировали воины (ибо, подобно множеству восточных богов и богинь плодородия, Тоси была также Богиней войны и смерти), исполнялись танцы, и в конце концов сам царь вместе со всем своим народом швырял все, что попадалось под руку, в голову человека, носившего на себе кожу Тоси, после чего удалялся. Тоси в конце концов как бы становилась «козлом отпущения», принимая на себя все грехи общества, ибо человек, игравший ее роль, отправлялся в крепость, расположенную на границе страны, где вывешивал на стене ее кожу с широко раскинутыми руками; туда же доставляли и маску Синтеотля[1387]. Другие американские племена, например индейцы пауни, приносили в жертву девушку, расчленяли ее тело и закапывали по одной части на каждом поле[1388]. Такой же обычай — расчленять тело и помещать его части в борозды — известен и в нескольких африканских племенах[1389].
Однако самым известным примером человеческого жертвоприношения, связанного с земледелием, до сих пор остается обычай, практиковавшийся вплоть до середины XIX века кхондами — дравидийским племенем, живущим в Бенгалии. Жертвы, называвшиеся «мериа», приносились Богине Земли — Тари Пенну, или Бера Пенну; их либо покупали у родителей, либо же они были отпрысками бывших жертв. Церемония совершалась в определенные праздничные дни или в чрезвычайных обстоятельствах; однако жертвы всегда были добровольными. «Мериа» жили спокойно на протяжении многих лет, обладая статусом «посвященных»; они могли жениться на других «жертвах» и получить в приданое земельный надел. За десять или двенадцать дней до жертвоприношения жертве стригли волосы; на этой церемонии присутствовали все, ибо кхонды считали, что жертва приносится на благо всему человечеству. Затем устраивалась неописуемая оргия (явление, типичное для множества празднеств, связанных с земледелием и плодородием), после чего «мериа» торжественно доставляли из деревни на место жертвоприношения (обычно в лес, не тронутый топором). Там его освящали — помазывали топленым маслом и куркумой и украшали цветами. Его как бы отождествляли с божеством; все в толпе старались дотронуться до него, а почести, которые ему оказывали, граничили с богослужением. Танцуя вокруг него под музыку и взывая к Земле, люди кричали: «О Боже, мы предлагаем тебе эту жертву; дай нам богатый урожай, хорошую погоду и доброе здравие!» Затем они обращались к жертве: «Мы купили тебя, а не схватили силой; теперь, согласно нашему обычаю, мы приносим тебя в жертву, и нет на нас греха!» На ночь оргия приостанавливалась, но утром возобновлялась и продолжалась вплоть до полудня, после чего все вновь собирались вокруг «мериа» наблюдать за жертвоприношением. «Мериа» могли убивать по–разному; накачав опиумом, связать и раздробить ему кости, удушить, разрубить на куски, зажарить на медленном огне и т. п. Главное, что каждому из зрителей и, соответственно, каждой деревне, представитель которой присутствовал на церемонии, полагалась частичка от тела жертвы. Ими по справедливости оделял всех жрец, после чего их разносили по деревням, где торжественно закапывали на полях. Остатки (голову и кости) сжигали, а пепел развеивали по пахотным землям, опять же с целью обеспечить хороший урожай. После того как английские власти запретили человеческие жертвоприношения, вместо «мериа» кхонды стали использовать животных (козла или буйвола)[1390].
132. ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ
Чтобы понять смысл этих человеческих жертвоприношений, необходимо обратиться к первобытной теории периодического возрождения сакральных сил. Ясно, что любой ритуал — по любому сценарию нацеленный на возрождение какой‑либо «силы», является лишь воспроизведением первоначального акта Творения, имевшего место ab initio (с начала). Человеческое жертвоприношение также есть ритуальный «повтор» Творения. Космогонический миф часто включает в себя ритуальную (т. е. насильственную) смерть изначального великана, из тела которого были сотворены миры и выросли растения. Происхождение растений, особенно злаков, как правило, связывают с подобного рода жертвоприношениями; выше (§ 113 и сл.) мы уже обращали внимание на то, что травы, пшеница, лианы и прочее вырастали из крови и плоти мифического существа, ритуальным образом принесенного в жертву «в начале начал», in illo tempore. Принесение в жертву людей, чтобы возродить «силу» урожая, ставит своей целью воспроизвести акт Творения, впервые давший жизнь зерну. Ритуал заново творит мир; время как бы останавливается и поворачивает вспять, к первому мигу полноты Творения, возрождая силу, действующую в растительности. Расчленяемое тело жертвы отождествляется с телом изначального мифического существа, вдохнувшего жизнь в зерно ценой собственной ритуальной смерти.
Думается, что именно этот сценарий послужил образцом для всех жертвоприношений, как человеческих, так и животных, целью которых являлось получить богатый урожай. Его непосредственный смысл — это всего лишь возрождение сакральной силы, заключенной в урожае. Плодородие само по себе есть исполненность, а следовательно — условие оптимального функционирования всего, что в противном случае возможно лишь теоретически. Первобытный человек жил в постоянном страхе перед тем, что окружающие его силы, приносящие столько пользы, когда‑нибудь иссякнут. На протяжении тысячелетий его терзали опасения, что при очередном зимнем солнцестоянии солнце исчезнет совсем, что луна не взойдет вновь, что растения умрут навсегда, и т. д. То же самое испытывал он и по отношению ко всем «силам»: они ненадежны и в один прекрасный день могут иссякнуть. Особенно острую тревогу вызывали у него «силы» растительности, ритм проявления которых в течение года включает в себя моменты очевидной ее смерти. А если человеку казалось, что иссякание «силы» есть результат его вмешательства (сбор первых плодов, сбор урожая и т. д.), он пытался «искупить вину», принося в жертву первые плоды земли, чтобы примириться с «силами» и получить разрешение на то, чтобы и дальше пользоваться ими безнаказанно. Такими ритуалами также отмечалось начало нового года — нового, «возрожденного» периода времени. Кафиры в Натале и зулусы, отметив Новый год, устраивают в царском краале пляски, во время которых колдуны возжигают новый огонь и варят на нем в новых сосудах, не используемых в других целях, все виды плодов. Только после того, как царь оделяет всех этим кушанием из первых плодов, можно употреблять в пищу другие фрукты[1391]. У индейцев крик — ритуал принесения в жертву первых плодов совпадает с ритуалом очищения и изгнания зла и грехов; гасятся все огни, и жрецы трением добывают новый, после чего все постятся в течение восьми дней, принимая рвотное и т. д. Только после такого «обновления» разрешается использовать собранное зерно[1392].
В этих церемониях можно различить несколько элементов: во–первых, опасность употребления в пищу нового урожая, связанную либо с иссяканием «силы» того или иного растения, либо с возможными неприятностями со стороны этой «силы»; во–вторых, необходимость предотвращения этой опасности через ритуальное освящение первых плодов и предварительное очищение («изгнание грехов», ср. «козла отпущения») и перерождение общества; все это достигается путем «обновления времени», т. е. восстановления изначальной ситуации и изначального, «незапятнанного» времени (каждый приход нового года есть новое творение времени, ср. § 153). Мы уже видели, что у ацтеков изгнание Старого года и вместе с ним зла и греха сопровождалось жертвоприношениями Богине маиса. Эта церемония включала шествия воинов, состязания мимов и др.; то же самое мы находим и в других земледельческих ритуалах (например, в древнейших ритуалах, посвященных Осирису).
133. РИТУАЛЫ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ЖАТВЫ
В заключение этого краткого обзора сельскохозяйственных церемоний упомянем также о нескольких обрядах, совершаемых позже, когда урожай уже доставлен в амбары. Финны начинают жатву с принесения в жертву первого ягненка, родившегося в этом году; крови дают стечь на землю, а внутренностями «платят Медведю» — «стражу полей». Мясо ягненка жарят и съедают на поле всей деревней, оставляя три куска «духу земли». У тех же финнов существует обычай перед началом урожая готовить определенные блюда — вероятно, восходящий к ритуальному пиру[1393]. В одном эстонском источнике говорится, что на поле была «яма подношений» и туда складывали первые плоды всех урожаев[1394]. Мы уже видели, что сбор урожая сохраняет свою ритуальную природу и поныне; поэтому первые три снопа сжинают молча; эстонцы, немцы и шведы не срезают первые несколько колосков[1395]. Такой обычай распространен весьма широко; оставленные колоски считаются подношениями, в зависимости от веры, либо «коню Одина», либо «корове Лесной Жены», либо мышам, либо «Семи Дочерям Грозы» (в Баварии), либо «лесной деве»[1396].
При перевозке пшеницы в амбар также совершались различные обряды: например, кое–где бросали горсть зерна через левое плечо, приговаривая: «Это для мышей». То, что бросали через левое плечо, указывает на связь этого подношения с миром умерших. У немцев был обычай ворошить первые охапки скошенного сена и говорить. «Это — еда для умерших»[1397]. В Швеции, чтобы завоевать расположение духа амбара, оставляли в нем хлеб и вино[1398]. При молотьбе также оставляли несколько колосков духу тока; финны утверждали, что благодаря этому подношению «в новом году пшеница будет не ниже, чем старом»[1399]. Согласно другой финской традиции, необмолоченный сноп отдается духу земли (mannhaltia). В некоторых областях Финляндии считается, что дух земли (talonhaltia) выходит на поверхность в пасхальную ночь и обмолачивает три снопа, оставленные для него с осени и называемые иногда «снопами духов». Шведы также не обмолачивают последний сноп, а оставляют его на поле вплоть до следующего урожая, чтобы «год был плодоносным»[1400].
Многие подобные подношения, несомненно, до некоторой степени были связаны с миром умерших; связь между ним и плодородностью полей весьма значительна, и ниже мы еще вернемся к этой теме. Здесь отметим лишь абсолютную симметрию между жертвами, приносимыми в начале сева, и жертвами во время жатвы, молотьбы или перевозки урожая. На Севере, в Микельмасе, цикл завершается осенью всеобщим празднеством, включающим пир, пляски и жертвоприношения различным духам;[1401] эта церемония завершает сельскохозяйственный год. Все земледельческие элементы зимних празднеств определяются тем, что культ плодородия связан с культом умерших, поскольку они, будучи защитниками посеянного зерна, охраняют и урожай, запертый в амбарах, который кормит людей зимой[1402].
Сходство между ритуалами начала года и его конца заслуживает внимания; оно свидетельствует о закрытости сельскохозяйственного цикла. Год как бы становится единым, закрытым для каких‑либо дополнений целым, а время уже не столь однообразно, как в доаграрных обществах, — ведь оно поделено не только на сезоны, но и на ряд автономных «единиц»: «старый год» кардинально отличен от «нового». Возрождение сил растительной жизни, обновляя Время, имеет власть и над возрождением человеческого общества[1403]. Вместе со Старым годом изгоняются также и грехи общества (§ 152). Представление о периодическом возрождении распространяется и на другие сферы, например на сферу верховной власти. Эта же идея вселяет и поддерживает надежду на возможное духовное возрождение через инициацию. И наконец, непосредственное отношение к ней имеют многочисленные ритуальные оргии — временный возврат в состояние изначального хаоса, воссоединение с бесформенным единством, существовавшим до Творения.
134. СЕМЕНА И ИХ СВЯЗЬ С УМЕРШИМИ
В качестве профанного занятия и в качестве культа земледелие соприкасается с миром умерших на двух различных уровнях. Первый уровень — хтонический, ибо лишь семена и покойники попадают в «подземное» измерение. Второй — управление плодородием, жизнью которая сама себя воспроизводит. Этим «ведает» земледелие, а мертвецы имеют прямое отношение к таинству возрождения, к циклу Творения, к неистощимости плодородия. Подобно семени, покоящемуся в лоне Земли, мертвецы также ожидают возвращения к жизни в новом обличий. Вот почему они подбираются так близко к живым, особенно в моменты высшего жизненного напряжения во время праздника плодородия, когда через ритуалы и оргии люди будят, высвобождают и возбуждают производящие силы Природы. Души мертвецов тянутся к любому проявлению биологического сверхизобилия или избытка органического начала; ведь каждое такое «переливание жизни через край» компенсирует их собственную «бедность» и бросает их в водоворот жизненного начала, изобилующий неограниченными возможностями.
Именно эту концентрацию жизненной энергии призван олицетворять пир всей общины, и поэтому ни одно сельскохозяйственное празднество и, соответственно, ни одни поминки не обходятся без такого пиршества со всеми его излишествами. Некогда подобные трапезы устраивались в непосредственной близости от могил, чтобы мертвецы могли вкусить от изобилия жизни, подошедшей к ним вплотную. В Индии мертвецам приносили в жертву преимущественно бобы, так как они считались также возбуждающим средством[1404]. В Китае супружескую постель помещали в самом темном углу, где хранились семена, и обычно над тем самым местом, где были захоронены умершие[1405]. Связь между предками, урожаем и половой жизнью была столь тесной, что три эти культа часто сливались в один. Для северных народов святки — празднество одновременно в честь умерших и плодородия, жизни; поэтому в святки и затевали самые разгульные пиршества, и устраивали свадьбы, и ухаживали за могилами[1406].
Считается, что во время этих празднеств умершие лично принимают участие в ритуалах живущих. В Швеции женщины хранят в узелке с предметами, которые будут похоронены вместе с ними, кусок от своего свадебного пирога. Соответственно, и в Скандинавии, и в Китае женщин хоронят в их свадебных нарядах[1407]. «Почетная арка», воздвигаемая на пути новобрачных, идентична арке, воздвигаемой на кладбище, через которую проносят покойника. Даже рождественскую елку (а первоначально на Севере — дерево, на котором оставлены лишь верхние листья, Майское дерево) и ту использовали и на свадьбах, и на похоронах[1408]. Ниже мы коснемся посмертных «браков», проистекающих из желания поместить умерших в максимально «жизненные» условия и предоставить им все возможности для возрождения.
Если умершие изо всех сил стараются приобщиться к жизни и к развитию мира живых, то живые столь же остро нуждаются в защите со стороны умерших своих семян и своего урожая[1409]. Несмотря на то, что Мать–Земля (или Великая Богиня плодородия) одинаково охраняет и покойников, и посевы, умершие в некотором смысле стоят ближе к человеку, и именно их земледелец умоляет благословить и поддержать его труды. (Заметим, что черный цвет — цвет как земли, так и мертвецов.) Гиппократ сообщает нам, что именно благодаря духам умерших семена прорастают и дают почки, а автор «Геопоники» уверяет, что ветры (души умерших) вдыхают жизнь в растения и во все остальное[1410]. В Аравии последний сноп («Старика») сжинает сам хозяин поля; затем он закапывает его в могилу, молясь о том, чтобы «пшеница возродилась от смерти к жизни»[1411]. Бамбара, опустив покойника в могилу и готовясь зарыть ее, молятся так: «Да будут ветры, которые дуют с севера и юга, с востока и запада, благосклонны к нам! Пошли нам дождь! Дай нам обильный урожай!»[1412] Финны при севе закапывают в землю кости (которые они берут с кладбища и возвращают обратно после жатвы) или вещи какого‑нибудь покойника. Если ни того, ни другого не достать, они довольствуются землей с кладбища или с перекрестка, через который проносили покойника[1413]. Немцы вместе с семенами разбрасывали по полю либо землю со свежей могилы, либо солому, на которой кто‑нибудь умер[1414]. Урожай защищают змеи, считающиеся прежде всего символом смерти. Весной, в начале сева, мертвым приносили жертвы, умоляя их защищать урожай и заботиться о нем[1415].
135. БОЖЕСТВА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ПОГРЕБЕНИЙ
Соотношение между умершими, с одной стороны, и плодородием и земледелием — с другой, станет еще более ясным, если мы начнем сопоставлять празднества и божества этих двух сфер жизни. Как правило, божества растительности и земли постепенно становятся и божествами смерти. Холика, первоначально изображавшийся в виде дерева, позже стал одновременно божеством мира умерших и духом растительного плодородия[1416]. Точно так же и многие другие духи растений и их роста, исходно обладавшие хтонической природой, изменились до неузнаваемости под воздействием мира умерших[1417]. В архаической Греции как прах покойников, так и зерно помещали в глиняные сосуды; восковые свечи приносились в жертву и богам подземного мира, и богам плодородия;[1418] Феронию называли dea agrorum sive inferorum (Богиня полей или подземного мира);[1419] Дурга, Великая Богиня плодородия, которой поклонялись последователи многочисленных культов, в частности, культов растительности, в конечном итоге стала также главным божеством подземного мира[1420].
Говоря о празднествах, заметим, что поминки по умершим в Древней Индии устраивались во время жатвы, одновременно с главным праздником урожая[1421]. Выше мы уже показали, что то же самое было характерно и для Скандинавии. В античности поклонение духам умерших (manes) сопровождалось исполнением ритуалов, связанных с растительностью. Михайлов день (29 сентября) некогда был как Днем поминовения умерших, так и праздником урожая во всех областях Северной и Центральной Европы. Погребальный культ оказывал все возрастающее влияние на культы плодородия, впитывая их ритуалы и превращая их в жертвоприношения духам предков. Умершие — это «те, кто живет под землей», и их расположение необходимо завоевывать. Хотя зерно, которое бросают через левое плечо, якобы является подношением «мыши», на самом деле оно предназначается покойникам. Если их умиротворить, накормить, задобрить, они будут защищать и множить урожай. «Старик» или «Старуха», обычно бывшие олицетворением «сил» и плодородности почвы, под влиянием культа мертвых заметно конкретизируются, принимая черты «предков» — духов умерших.
Особенно отчетливо это видно на примере германских народов. Даже Один, Бог смерти, поводырь «Диких охотников» — душ, не находящих покоя, и тот присвоил себе определенное количество сельскохозяйственных ритуалов. В святки (у германцев — празднество, посвященное умершим и устраиваемое в день зимнего солнцестояния) в рамках его культа из последнего снопа, сжатого в прошлом году, делают изображение мужчины, женщины, петуха, козы или другого животного[1422]. Знаменательно, что эти животные, которыми принято олицетворять «силу» растительности, олицетворяют и духов умерших — до того, что в некоторый момент становится невозможным различить, символизирует ли животное души тех, кого уже нет, или воплощает собой силы земли и растительности. Из‑за этого симбиоза исследователи до сих пор испытывают немалые затруднения и полемизируют друг с другом относительно того, какова же на самом деле природа Одина — земледельческая или погребальная[1423], каково происхождение святочных ритуалов и т. д. На самом деле мы имеем дело с рядом ритуальных и мифологических моделей, в которых смерть и возрождение переплетаются и становятся всего лишь разными моментами одной, «проточеловеческой», реальности. Сферы, где эти два культа сходятся, столь многочисленны и, как правило, столь значительны, что неудивительно, что они сплошь и рядом сливаются и возникает новый религиозный синтез, основанный на более глубоком осознании места человека во Вселенной.
В своей наиболее совершенной форме этот синтез обнаруживается в эгейско–азиатском мире II тысячелетия до н. э.; он стал фундаментом для религий, использующих в культе мистерии. В Северной Европе и в Китае смешение обоих культов началось еще в доисторические времена[1424], но, по–видимому, полный синтез осуществился намного позже. Не подлежит сомнению, что для Северной Европы зимнее солнцестояние имело куда большее значение, нежели для Южного Средиземноморья. К этому решающему моменту и было приурочено возбуждающее празднество — святки, во время которых мертвые собирались вокруг живущих, ибо именно тогда предрекалось «воскресение года» — приход весны. Души умерших притягивает любое «начало», любое «возрождение»: Новый год (как и всякое начало, Новый год есть символическое воспроизведение Творения), «праздник жизни» посреди зимней оцепенелости (бесконечные пиры, возлияния, оргии, свадебные пиршества), новая весна. Что касается живущих, то они собираются вместе, чтобы поддержать иссякающую энергию Солнца через собственную физическую невоздержанность; все их надежды и страхи сконцентрированы на растительном мире, точнее — на будущем урожае. Две линии — земледелия и жизни после смерти — пересекаются и сходятся вместе, формируя новый, единый образ бытия, завязанный на дремлющих в земле ростках жизни.
136. ПОЛОВАЯ ЖИЗНЬ И ПЛОДОРОДНОСТЬ ПОЛЕЙ
Растущим семенам требуется прямая помощь со стороны человека или, по крайней мере, некоторая поддержка. Солидарность всех форм Жизни — один из наиболее значительных концептов первобытного человека, из которого он извлек практическую выгоду, следуя принципу: самый благоприятный результат будет иметь то, что делается сообща. Женская плодовитость влияет на плодородие полей, но и пышное разрастание растительности, в свою очередь, помогает женщине зачать. И то и другое поддерживают умершие, надеясь, что оба источника плодородия снабдят их энергией, необходимой для возврата в поток жизни. В критический момент, когда начинается прорастание ячменя западноафриканские негры эве прибегают к священной проституции с целью предотвращения всяческих напастей. Богу Питону предлагается несколько невест; брак заключается жрецами, представителями Бога, в храме, после чего освященные таким образом девушки–жены совершают с ними сакральное соитие в отгороженной части святилища. Считается, что этот священный брак обеспечивает плодородие почвы и плодовитость животных[1425].
Роль, которую исполняют здесь жрецы, указывает на то, что ритуал этот развился из более простого, когда на заколосившихся полях совокуплялось множество людей; именно так обстояло дело в Китае, где весной юноши и девушки соединялись прямо на земле в убеждении, что таким образом они способствуют возрождению природы, помогая всякого рода произрастанию, вызывая дождь и предоставляя поля в распоряжение сил плодородия[1426]. Следы подобных явлений (совокупление молодых пар на свежепроросших бороздах) мы обнаруживаем и в эллинистической традиции; прототипом их служит союз Ясона и Деметры. Индейцы пипиль в Центральной Америке в течение четырех ночей не спят со своими женами, чтобы в ночь перед севом быть особенно мощными, а несколько пар должны совокупляться прямо во время сева. Кое–где, например на Яве, муж и жена совокуплялись на поле в период цветения риса[1427]. Даже и поныне в Северной и Центральной Европе можно найти следы ритуальных браков, заключаемых на поле; на тесную связь растительности и сексуальности указывает сакральное Майское дерево как элемент свадебной церемонии[1428]. На Украине существовал такой обычай: в День св. Георгия, когда священник благословлял урожай, молодые пары катались по бороздам. На Руси самого священника катали по земле женщины, естественно, не только чтобы освятить урожай, но и в знак смутного воспоминания об изначальной иерогамии[1429]. В других местах сакральный брак превратился просто в церемониальный танец, исполняемый парой, украшенной колосками пшеницы, или в аллегорический брак «невесты пшеницы» и ее «жениха». Такие браки заключаются с особой пышностью: в Силезии, например, молодоженов увозят с поля в деревню в разукрашенной брачной колеснице, сопровождаемой всеми жителями[1430].
Заметим, что европейские ритуалы периода жатвы почти не отличаются от весенних ритуалов, возвещающих появление растительности. И в тех, и в других «силу», «дух» плодородия непосредственно олицетворяют либо дерево, либо сноп пшеницы, либо супружеская пара; и те и другие призваны «оплодотворять» урожай, стада и женщин;[1431] и в тех, и в других ощущается необходимость для первобытного человека все делать сообща, всем миром. Пара, символизирующая силу или дух растительности, сама по себе есть энергетический центр и потому способна этот дух усилить. Магическая мощь растительности возрастает, будучи олицетворенной в молодой паре с максимальными эротическими возможностями или даже с прямой их реализацией.
137. РИТУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ОРГИИ
Обычно растительные оргии соответствуют той или иной иерогамии. Неистовая распущенность на земле соответствует воссоединению божественной четы на небе. Считается, что, когда молодые пары воспроизводят этот сакральный брак на распаханных полях, все силы общины возрастают до высшей точки. Жрец ораонов, отмечающих в мае брак Бога Солнца с Богиней Земли, публично совокупляется со своей женой, после чего развязывается неописуемая оргия[1432]. На некоторых островах, к западу от Новой Гвинеи и к северу от Австралии (архипелаги Лети и Сармата), подобные оргии устраиваются в начале сезона дождей[1433].
Лучшее, что может сделать человек, — это повторять за богами их действия, тем более если от этого зависит благосостояние всей Вселенной, особенно животных и растений. Его невоздержанность играет совершенно определенную, благотворную роль в структуре сакрального. Она устраняет барьеры между человеком, обществом, природой — и богами, помогает силам жизни и семени, заключенным в конкретных предметах, переместиться с уровня на уровень, из одной сферы реальности в другие. Истощенное наполняется; расколотое воссоединяется; изолированное вливается в лоно всего живого. Именно оргия дает толчок сакральной энергии жизни. Те моменты, когда природа либо приходит в упадок, либо, наоборот, особенно щедро проявляет себя, дают классический повод для оргий. Во многих местах во время засухи женщины бегают по полям обнаженными, чтобы стимулировать мужское начало неба и вызвать дождь. Другие народы, например африканское племя баганда или жители островов Фиджи, оргиями отмечают свадьбы и рождение близнецов[1434]. Оргии, связанные с перипетиями жизни растений, особенно с земледельческим церемониалом объясняются еще проще. Для того чтобы великий космический брак символизируемый дождем, произошел при оптимальных условиях нужно «разбудить» Землю и «растолкать» Небо — только тогда поле даст урожай, женщины будут рожать детей, животные — размножаться, а мертвые — заполнять свои «пустоты» жизненной силой.
Бразильские индейцы кана стимулируют силы, отвечающие за размножение растений, животных и человека, фаллическим танцем, имитирующим половой акт, после которого устраивается коллективная оргия[1435]. Следы фаллического символизма можно обнаружить и в европейских сельскохозяйственных церемониях; так, «Старика» иногда олицетворяет фаллос, а последний сноп называют «блудницей»; иногда к нему приделывали черную голову с красными губами — первоначально магико–символические цвета женских половых органов[1436]. Вспомним также разнузданность некоторых древних празднеств растительности, таких как римские флоралии (27 апреля), когда по улицам шествовали нагие юноши, или луперкалии, когда юноши касались женщин, чтобы они могли иметь детей; вспомним холи, главный индийский праздник растительности, во время которого творилось все что угодно.
Вплоть до недавних времен в холи сохранялись все признаки коллективной оргии, возбуждающей и доводящей до максимума все силы творения и естественного воспроизведения. Во время этого празднества забывались все правила приличия, т. к. речь шла о сохранении жизни на Земле — деле куда более важном, чем обычное уважение норм и обычаев. По улицам ходили ватагами мужчины и мальчики; они пели, горланили, осыпали себя порошком холи и обливали красной водой (красный цвет — прежде всего цвет жизни и генеративной энергии). Встретив женщину или даже просто увидев ее сквозь занавеску, они, согласно традиции, должны были бросать ей в лицо самые непристойные ругательства и оскорбления (заметим, что магическая сила ругательств ценилась и использовалась даже в высокоразвитых культах, ср. афинские фесмофории и др.)[1437]. Абсолютная сексуальная свобода предоставлялась индийцам и во время празднеств Бали; разрешалось любое совокупление, кроме инцеста[1438]. Племя хо в Северо–Западной Индии устраивало колоссальные оргии во время жатвы, оправдывая их тем, что как в мужчинах, так и в женщинах бушуют страсти удовлетворение которых необходимо для достижения общественного равновесия. Разврат во время празднеств урожая, столь характерный для древней Центральной и Южной Европы, осуждался в средние века на множестве соборов, в том числе на Оксерском соборе 590 году, и был заклеймен многими средневековыми писателями; тем не менее кое–где он практикуется и по сей день[1439].
138. ОРГИЯ И ВОССОЕДИНЕНИЕ
Оргии не всегда были составной частью именно земледельческого церемониала, хотя, как правило, постоянно связывались с ритуалами возрождения («Новый год») и плодородия. Метафизическое значение и психологическую функцию оргий мы рассмотрим подробнее в других главах этой книги. Здесь отметим лишь явную аналогию между феноменом земледелия и его мистикой, с одной стороны, и оргией как способом выражения жизни общества в качестве единого целого — с другой. Подобно семенам, утрачивающим свою первоначальную форму в процессе слияния с землей, разложения и трансформации в нечто иное (прорастание), человек в оргии утрачивает свою индивидуальность и сливается с остальными в единое живое целое, где все сплавляют свои эмоции в одну и перестают соблюдать «формы» и «закон». Человек как бы пытается заново войти в первичное, «предформенное» состояние хаоса, соответствующее космическому Хаосу, предшествующему акту Творения. Чтобы таким образом осуществить «слияние» семян в лоне земли, он использует магическое искусство имитации. Человек силится вернуться к биокосмическому единству, даже если это стоит ему регресса от состояния личности к состоянию семени. Оргия в некотором смысле превращает человека в подобие семени, ибо, отказываясь от норм, ограничений и индивидуальности, отдавая себя на волю стихийных космических сил, человек словно превращается в семя, разлагающееся и утрачивающее свою форму, чтобы дать жизнь новому растению.
В число прочих функций, которые исполняет оргия в духовной и психологической жизни общества, входит также функция «обновления», возрождения, которое она обеспечивает и подготавливает. Начало оргии можно сравнить с появлением на поле зеленых побегов: она снабжает человека субстанцией и энергией, достаточными для зарождения новой жизни. Более того: «восстанавливая» мифический Хаос, царивший до Творения, оргия позволяет заново повторить и сам акт Творения. На некоторое время человек погружается в аморфное, ночное состояние Хаоса, но лишь для того, чтобы возродиться в своем эго еще более сильным и энергичным, чем раньше. Подобно погружению в воду (§ 64), оргия одновременно уничтожает творение и возрождает его; отождествляясь с бесформенным, предкосмическим, человек надеется на свое перерождение, надеется, что станет «новым человеком». Сами природа и функции оргии указывают на то, что она воспроизводит изначальный акт Творения, упорядочивающий Хаос. В повседневной жизни, то и дело прерываемой оргиями (сатурналии, карнавалы и др.), уже заложен взгляд на эту жизнь как на ритмическое чередование деятельности и спячки, рождения и смерти; в ней также присутствует понятие циклического устройства Космоса, который был рожден из Хаоса и возвращается в хаос через великую катастрофу или махапралаю — «великое рассоединение». Разумеется, все монструозные формы оргии — лишь деградация базисной идеи мирового ритма и обновления, и они ни в коей мере не могут служить нам отправным пунктом для исследования ее причин и функций, тем более что любое празднество уже в силу своей природы включает элемент оргии.
139. МИСТИЦИЗМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И СПАСЕНИЕ
Необходимо подчеркнуть также элементы «избавления» в земледельческой мистике (даже вне связи с оргиями). Растительная жизнь, которая возрождается через видимое исчезновение (когда семена закапывают в землю), дает человеку пример и надежду: то же самое может произойти и с душами умерших. Действительно, периодическое воскресение природы было для первобытного человека не просто зрелищем, которое он пассивно созерцал; в его сознании этот процесс напрямую зависел от ритуалов и мер, принимаемых самим человеком. Воскресение завоевывалось через магические действа, через взывания к Великой богине, через помощь женщин, могущество Эроса и совместный труд всех природных сил (включая дождь, тепло и др.). Далее, воскресение возможно лишь постольку, поскольку повторяет изначальный акт — в форме ли ритуального брака, обновления времени («Новый год») либо в виде оргии, возвращающей мир к архетипическому Хаосу. Без труда ничего не дается, поэтому, чтобы жить, человек должен постоянно прилагать усилия, т. е. действовать в соответствии с нормами жизни, воспроизводя изначальный акт. Итак, все надежды людей в аграрных обществах, сформированные на опыте общения с растительной жизнью, с самого начала были обращены на действие. Человек может рассчитывать на воскресение лишь в том случае, если он следует определенной линии и действует согласно установленным образцам; исполнение ритуала есть неотъемлемая часть его жизни. Мы вернемся к этому постулату при анализе античных мистических религий, которые не просто сохранили следы сельскохозяйственных церемоний, но и, по–видимому, вообще не превратились бы в инициационные религии, если бы им не предшествовал длительный период земледельческого мистицизма, уходящий своими корнями глубоко в предысторию человечества, т. е. если бы человек на протяжении тысячелетий не наблюдал за периодическим возрождением растительной жизни и не вывел из этого наблюдения идею однородности человека и семени, что вселило в него надежду на возможность собственного возрождения после смерти и через смерть.
Принято считать, что открытие земледелия радикально изменило ход истории, поскольку человечество стало иметь достаточное количество пищи, и тем самым произошел колоссальный демографический взрыв. На самом же деле открытие земледелия имело столь важное значение по совершенно другой причине. Ход истории определило не изобилие пищи и не демографический взрыв, а скорее теория, которую человек вывел, открыв земледелие. Основным уроком для него стало то, что он увидел в зерне, то, чему он выучился при работе с ним, то, что он понял, наблюдая за слиянием семени с землей. Земледелие дало человеку Откровение о фундаментальном единстве всей органической жизни; отсюда — аналогии между женщиной и полем, между половым актом и посевом, отсюда же — более глубокий, интеллектуальный синтез: ритмичность жизни, смерть как возврат к единству и т. д.[1440] Именно этот синтез, ставший возможным лишь после открытия земледелия, столь существенно повлиял на развитие человечества. Одну из самых важных основ надежды на спасение следует искать в доисторической мистике земледелия: как семя в земле, так и умершие могут вернуться к жизни в новом обличье. Однако и пессимистический, даже скептический, взгляд на жизнь проистекает из того же созерцания мира растительности: ибо человек подобен полевому цветку…
СОВРЕМЕННЫЕ ИДЕИ И БИБЛИОГРАФИЯ
Выход в свет работы В. Маннхардта (W. Mannhardt) Wald- und Feldkulte. В., 1875–1877; 2nd ed. 1904–1905. 2 vols. — важное событие в истории исследования культов растительности и земледелия. Она представляет собой неисчерпаемый источник информации по фольклору и этнографии, собранной, расклассифицированной и интерпретированной немецким исследователем в свете его гипотезы о «демонах растительности». Вскоре после его смерти вышел в свет сборник дополнительных исследований — Mythologische Forschungen. Strasbourg, 1884. Потребовалось некоторое время, чтобы современники смогли оценить значение гипотез Маннхардта. Й. — Й. Мейер вспоминает (в приложении к своей Trilogie… Vol. 3. S. 284), что Франц Пфайфер, изучавший немецкую этнологию, упоминал об авторе Wald- und Feldkulte как об «обычном собирателе материала»; большинство исследователей даже не удосужились прочитать этот труд[1441]. Возможно, теория Маннхардта так и осталась бы в безвестности, если бы она не послужила столь прочным основанием для работы сэра Джеймса Фрэзера. Именно благодаря глубочайшей эрудиции и художественному таланту Фрэзера категория «демонов растительности» прочно утвердилась во всех исследованиях по этнологии и истории религии вплоть до первой мировой войны. Исследования Маннхардта, таким образом, вновь всплыли на поверхность с помощью «Золотой ветви». Первое издание этой книги вышло в двух томах в 1891 г.; второе — в трех томах в 1900–м а третье — в двенадцати, в 1911–1918 гг. (и с тех пор неоднократно перепечатывалось). В 1924 г. вышел в свет сокращенный вариант без комментариев, а в 1937 г. появился дополнительный том (Aftermath). Конкретно ритуалам и мифам, связанным с растительностью и земледелием, в «Золотой ветви» посвящены Adonis Attis, Osiris (два тома) и Spirits of the Corn and of the Wild. Можно упомянуть о вердикте, вынесенном Гольденвейзером (Goldenweiser. Anthiropology. L., 1937. P. 531) по поводу «Золотой ветви»: «Незначительно в теоретическом отношении, непревзойденно в отношении собранного материала по первобытной религии»[1442]. См. также в: Sydow С.W. von. The Mannhardtian Theories About die Last Sheaf and the Fertility Demons from a Modern Critical Point of View // FRE. 1937. Vol. 75. P. 291 309; Hatt G. The Com Mother in America and in Indonesia // APS. 1951. Vol. 76 P. 853–914.
Проблема сакрального начала в ритуалах, связанных с растительностью и земледелием, неоднократно поднималась и после опубликования работ Фрэзера. Приведем здесь названия лишь наиболее заметных исследований: Rantasalo А.V. Der kerbau im Volksaberglauben der Finnen und Esten mit entsprechenden Gebrauchen der verglichen. 5 vols. // FFC №30, 31, 32, 55, 62; Sortavala; Helsinki, 1919–1925) — работа, богатая информацией, отчасти публикуемой впервые; Vries J. de. Contributions to die Study of Othin, Especialy in his Relation to Agricultural Practices in Modern Popular Lore. Helsinki, 1931 // FFC. №94; Meyer J. J. Trilogie altindische Maechte und Feste der Vegetation. Zürich; Leipzig, 1937. 3 vols, (основано преимущественно на текстах Пуран и ряде этнологических параллелей, ср. рецензию В. Рубена в: APS. 1939. P. 463 и сл.); Liungman W. Traditionswanderungen: Euphrat‑Rhein. Vol. I–П. Helsinki, 1937–1938 // FFC. №118–119. 2 vols., особенно S. 103 и сл., 1027 и сл.). В работе Люнгмана интересен не столько используемый им материал (который шведский исследователь в основном заимствует у Фрэзера), сколько его оценка гипотезы Маннхардта и Фрэзера (в этом отношении он развивает критику Э. Ланга, Аничкова, А. Хаберландта, фон Зюдова и др.) и попытка описания «истории» того, как древневосточные сельскохозяйственные ритуалы и мифы распространялись на север, вплоть до германских территорий. Добавим, однако, что эта «история» не кажется нам стопроцентно убедительной.
Маннхардт (Wald- und Feldkulte. 2nd ed. Vol. I. S. 1155) основывает свою гипотезу о существовании «духа дерева» (Baumseele) на следующих фактах: (1) общая тенденция сравнивать Вселенную и человека с деревом; (2) обычай связывать судьбу человека с жизнью дерева; (3) первобытное верование, что дерево — это место обитания не только «духа леса» (Waldgeist), но и других духов, и дружелюбных и враждебных, жизнь части которых (например гамадриад) органически связана с жизнью самого дерева; (4) обычай наказывать преступников с помощью деревьев. По Маннхардту, именно из индивидуальных «духов» деревьев складывается общий дух леса (Wald… Vol. I. S. 604).
Однако, как показывает Люнгман (Euphrat‑Rein. Vol. I. S. 336), из вышеприведенных фактов невозможно вывести подобное обобщение или «тотализацию» индивидуальных «духов». Аргументы Маннхардта соответствуют рационалистическим, ассоциативным взглядам его времени. Явление, которое он брался объяснить, было как бы воссоздано им по–своему путем искусственных комбинаций: из «духа дерева» якобы возникает «дух леса», который, в свою очередь, якобы сливается с «духом ветра», и из всего этого возникает «общий дух растительности». Маннхардт полагал (Wald… Vol. I. S. 148 и сл.), что этот новый синтез можно доказать через связь некоторых лесных духов («зеленых дам», «древесных жен») с полями; но подобные ассоциации случайны и в конечном итоге не доказывают ничего. Однако его произвольная реконструкция Великого Духа растительности основана не только на слиянии духов села и духов леса. Он полагает также, что Baumseele, воплощенный, как и подобает демону растительности, в дереве, иногда сформируется в олицетворение весны или лета и получает соответствующие имена (Wald… Vol. I. S. 155). На самом деле обе эти мифические формы вполне автономны и невыводимы друг из друга; обе зависят от не имеющих прямого отношения друг к другу ритуалов, каждый из которых, в свою очередь, основан на общей религиозной теории. Люнгман (Euphrat‑Rein. Vol. I. S. 341) справедливо заменяет «демона растительности» на «специализированную» сакральную силу растительности, которую мы бы назвали растительной иерофанией. Люнгман считает, что жертвоприношения божествам растений произошли из жертвоприношений, призванных возродить ту или иную сакральную силу, прежде всего — из «принесения в жертву сына» (Euphrat‑Rem. Vol. I. S. 342). Упомянем критику шведским ученым гипотез Маннхардта и Фрэзера о существовании специфического германского «демона растительности»: как в таком случае объяснить тот факт, спрашивает он (S. 346), что связанные с ним верования и ритуалы шире распространены в Южной Германии, чем в Северной? Сам Люнгман думает, что соответствующие германские верования восходят к восточным, которые, в свою очередь, возникли под влиянием южных племен во время великих переселений; однако удовлетворительно обосновать этот тезис ему так и не удалось.
Шведский исследователь полагает, что человеческие жертвоприношения во благо урожая своими корнями уходят в Египет. Древнейшие церемонии такого рода, по его мнению, можно найти среди доосирисовских ритуалов. В доисторические времена человека закатывали в папирус (прототип колонны дед), отрубали ему голову, а тело либо бросали в воду, либо разрубали на куски (иногда в пруд бросали только детородный орган, а все остальное закапывали на поле). Это жертвоприношение олицетворяло ритуальную битву двух сил. В более поздней форме данного ритуала Осирис («Старик») отождествлялся с обезглавленным или искалеченным человеком, упрятанным в сноп, а Сет (олицетворение засухи) — с тем, кто наносил ему удар или бросал труп в воду. Принесение в жертву животного, символизирующего Сета (козу, гуся, иногда свинью или зайца) имитировало месть Осириса. Церемония устраивалась в конце жатвы (в середине мая). Считалось, что 17 июня, когда начинался разлив Нила, Исида выходила на поиски Осириса; в этот день все мужчины собирались на берегу и оплакивали убитого Бога. Возможно, торжественный проход по Нилу в лодке с огнями также был частью этого ритуала. В начале августа Исиду (обрученную с Нилом), которую олицетворял конический столб, с колосьями пшеницы наверху, символически оплодотворяли открытием нильских плотин, и богиня зачинала Гора, после чего бог Тот складывал вместе части тела Осириса и последний возвращался к жизни. В честь этого события разбивались «сады Осириса»; в начале ноября устраивалось ритуальное вспахивание земли и ритуальный сев. Прорастание семян говорило о том, что Осирис ожил.
Именно эти ритуалы, в той или иной степени исполнявшиеся в Сирии, Месопотамии, Анатолии и Греции, способствовали распространению земледельческой обрядности по всему миру, причем распространялась она не только в древности, но и позже, в рамках христианства и ислама (Liungman W. Euphrat‑Rhein. Vol. I. S. 103 и сл.). Германцы и славяне, по–видимому, заимствовали эти церемонии из Восточной Европы и с Балкан (см. также: Gruppe О. Die griechischen Kulte. Leipzig, 1887. Vol. XXVI. S. 181 и сл.; Geschichte der klassischen Mythologie und Religionsgeschichte. Leipzig, 1921. § 77. S. 190).
Благодаря гипотезе Люнгмана у исследований земледельческих верований и ритуалов появляются новые перспективы; однако, хотя она и объясняет факты, наблюдаемые в европейской и афро–азиатской областях, американские варианты этих ритуалов остаются вне сферы ее действия, ср.: Halt G. The Corn Mother in America and Indonesia // APS. 1951. XLVI. P. 853–914; Eliade M. La Terre‑Mere et les hiérogamies cosmiques // EJ. 1953. Тем не менее мы вполне согласны с тем, что они действительно имеют восточное происхождение (Египет, Сирия, Месопотамия) и развились из жертвоприношения, носившего театрализованный характер и устраиваемого с целью возрождения (см. также в: Moret A. Rituels agraires de l’ancien Orient // Melanges Capart. Brussels, 1935. P. 311–342; Blackman A. M. Osiris as die Maker of Corn // SA. 1938. Vol. I). Индийский материал и о символизме «смерти пшеницы» см. в: Coomaraswamy A. Atmayajna: Self‑Sacnfìce // HJAS. 1942. Vol. VI, особенно р. 362, 363.
Остается определить, можно ли возвести к египетскому или вообще восточному архетипу повсеместно распространенный обычай отождествлять последний сноп с животным (козой, козлом, свиньей, конем, кошкой, лисой, петухом, волком и т. д.), когда из последних колосков изготавливают чучело этого животного воплощение силы урожая и «духа пшеницы». Фрэзер, как известно, объясняет это явление через тот факт, что первые земледельцы ассоциировали животных, обитавших на поле и убегавших прочь при сжатии последнего снопа, с магической силой растительности (Golden Bough. P. 447 и сл.; Spurts… Vol. 1. P. 270 и сл.). Однако великий исследователь не дает понять, каким образом на поле могли обитать кони, быки, волки и т. п. Точно так же его гипотеза о том, что древние божества растительности первоначально представлялись в образе животных (Дионис в образе козла или быка, Аттис и Адонис в образе кабанов и т. д.) — не более чем произвольное суждение, вытекающее из гиперрационалистических взглядов. Люнгман, в свою очередь, полагал, что эти животные, которые в некоторый момент стали олицетворять «силу», «дух» урожая, изначально имели функцию «животных Сета», приносимых в жертву, чтобы отомстить за убийство Сетом Осириса и улучшить урожай; впоследствии эта исходная функция была ими утрачена. Шведский исследователь считает, что это также объясняет, почему в Египте в жертву приносили преимущественно животных с рыжей шерстью, особенно быков: рыжие волосы были атрибутом Сета, и, следовательно, с Сетом отождествлялось любое животное рыжего цвета, которое затем можно было заколоть и тем самым отомстить за Осириса (Spirits… Vol. 1. P. 263). Жертвоприношения быков в Греции (буфония и др.); косвенные указания на то, что в Европе последнему снопу придавали форму быка и называли быком; бык, которого приносили в жертву и съедали во время жатвы во Франции; калечение или заклание коз при сборе урожая; жертвоприношение свиней (в Египте; в Австрии и Швейцарии «свиньей» называли последний сноп); ритуальное убийство рыжих собак и лис — все это, по мнению Люнгмана, произошло непосредственно или косвенным образом от принесения в жертву животных, олицетворявших Сета.
Как нам представляется, не все имеющиеся факты подтверждают эту гипотезу. Так, принесение в жертву быков уходит корнями в предысторию Средиземноморья и никак не могло сформироваться под влиянием мифа об Осирисе. Нет сомнений относительно космогонической значимости этих жертв; хотя они и связаны непосредственно с сельскохозяйственными церемониями, нельзя забывать о мистической симметрии, регулярно обнаруживаемой между любым актом Творения и архетипическим Творением Вселенной. Реальная связь этих жертв с земледельческим ритуалом адекватно объясняется через генеративную силу быка, козла и кабана: оплодотворяющая энергия, сконцентрированная в этих животных, как бы высвобождается и распределяется по полям. Таким же образом можно объяснить и частотность оргий и эротических ритуалов, сопровождающих земледельческие празднества. Попытка же Люнгмана воссоздать «доосирисовский» ритуал не объясняет ни божественной природы Осириса, ни происхождения мифа об Осирисе. Между египетскими ритуалами жатвы и ритуалами осирисовского мифа различие столь же велико, как между адюльтером и «Госпожой Бовари» или «Анной Карениной». Миф, как и роман, прежде всего представляет собой автономный акт разумного Творения.
Другие интерпретации сельскохозяйственных ритуалов см.: Loisy A. Essai historique sur le sacrifice. P., 1920. P. 235 и сл.; Westermarck E. A. The Origin and Development of the Moral Ideas. Vol. I. L., 1905. P. 441–451 (автор объясняет жертвоприношения кхондов через «принцип субституции» — удобную, но довольно поверхностную формулу, не учитывающую в полной степени всю сложность проблемы). О «мериа» см. также в: Vallee‑Poussin L. de la. Indo‑europeens et Indoiraniens (new ed.). P., 1936. P. 375–399; Macdonald A. W. A Propos de Prajapati // JA. 1952. P. 323–332.
см.: Frazer J. The Belief in Immortality. Vol. I. L., 1913. P. 247 и сл.; Frazer J. The Fear of the Dead in Primitive Religion. L., 1933–1936. Vol. I. P. 51 и сл., 82 и сл.
О связях между сельскохозяйственными праздниками и браком, сексуальностью и т. д.
см. также: Haeberlin Н. К. The Idea of Fertilization in the Culture of the Pueblo Indians, American Anthropological Association. Vol. 3. Memoirs, 1916. P. 1 и сл.; Granet M. Festivals and Songs of Ancient China. L., 1932. P. 166 и сл.; Malinowski В. Coral Gardens and their Magic. Vol. I. L., 1935. P. 110 и сл., 119 (сексуальная чистота и сельскохозяйственные работы), р. 219 и сл. (магия процветания). Об аналогиях между полем и женщиной см. в: Gaster // АОА. 1933. Vol. V. P. 119; Gosier. A Canaanite Ritual Drama // JAOS. Vol. LXVI. P. 63.
см. в моей работе: Mitul Reintegrarli. Bucharest, 1942. P. 24 и сл.
см.: Mannhardt W. Mythologische… S. 142–143; Mannhardt W. Wald- und Feldkulte. Vol. I. S. 424–434; ср. также RH. Vol. LVI. P. 265; RES. Vol. III. P. 86.
собран в работе: Hahn E. Demeter und Baubo. Luebeck, 1896. S. 30 и сл.
Ср.: Hahn U. Die deutschen Opfergebräuche bei Ackerbau und Viehzucht (Germanistische Abhandlungen, ed. K. Weinhold. Vol. 3); Armstrong E. A. The Ritual of the Plough // FRE. 1943. Vol. LIV. №1; Altheim F. Terra Mater. Giessen, 1931; Rydh H Seasonal Fertility Rites and the Death Cult in Scandinavia and China // BMAS. 1931. №3. P. 69–98.
см.: Laviosa‑Zambotti P. Le Piu Antiche culture agricole europee. Milan, 1943; Lamosa‑Zambotti P. Origini e diffusione della civilta. Milan, 1947. P. 175 и сл. О религиозных концептах древнейших земледельческих обществ см. в: Jensen A. E. Das religioese Weltbild einer fruehen Kultur. Stuttgart, 1948. О матриархате читатель может узнать из работы Schmidt W. Das Muterrecht Vienna, 1955.
См. также библиографию к главам VII и VIII.
Глава X
СВЯЩЕННЫЕ МЕСТА: ХРАМ, ДВОРЕЦ, ЦЕНТР МИРА
140. ИЕРОФАНИИ И ПОВТОРЯЕМОСТЬ
Любая кратофания или иерофания преображает место, где происходит, и оно, до того простое, пустое, ничего не значившее — профанное, становится священным. Так, для канака Новой Каледонии «разбросанные в чащобе бесчисленные валуны и камни с отверстиями наделены особым смыслом с помощью вот этой трещины можно вызвать дождь, в этой обитает тотем, а это место посещает мстительный дух убитого человека. Вся земля — живая, ее малейшая частица что‑то значит; природа насыщена человеческой историей»[1443]. Выражаясь более точно, природу преображает — и нагружает мифом — сам факт кратофании или иерофании. Леви–Брюль на основании наблюдений А. Р. Рэдклифф–Брауна и А. — П. Элкина справедливо подчеркивает иерофанический характер священных мест: «В представлениях аборигенов священное место никогда не существует само по себе. Оно всегда есть часть целокупности; в него входят животные или растения, типичные для него в разные времена года, а также мифические герои, которые тут жили, бывали или же сотворили здесь что‑то и которые воплощены нередко в самой земле этого места; совершаемые здесь обряды и возникающее здесь эмоциональное состояние»[1444].
По Рэдклифф–Брауну, сердцевиной этой целокупности является «центр местного тотема», и во многих случаях можно увидеть прямую связь — «сопричастность», пользуясь выражением Леви–Брюля, — между центрами тотемов и мифологическими персонажами, жившими в начале времени и тогда же сотворившими центры тотемов. Именно в этих священноявленных местах были сделаны главные Откровения; именно здесь человек был научен кормить себя и пополнять свои пищевые запасы. И все связанные с пищей обряды, исполняемые в священном месте, в центре тотема, — это просто имитация и повторение того, что делали in illo tempore мифические существа. «Так бандикуты, опоссумы, рыбы и пчелы были вырваны из своих гнезд героями древних (bugari) времен»[1445].
Само понятие священного места включает в себя идею повторения древней иерофании, благодаря которой оно выделилось, отделилось от окружающего профанного пространства и тем самым было освящено В следующей главе я покажу, что в основе понятия священного времени лежит та же идея повторения. На самом деле это основа бесчисленных ритуальных систем и вообще веры религиозных людей в спасение. Святое место остается таковым, потому что иерофания, некогда осенившая его, имеет перманентную природу. Вот почему для пополнения своей энергии и жизненной силы представители одного из боливийских племен отправляются в то место, которое считают колыбелью своих предков[1446]. Таким образом, иерофания не просто преображает в священный данный сегмент ничем не примечательного профанного пространства — своей силой она поддерживает в нем эту святость. Именно здесь, в этом месте, иерофания повторяется. Именно поэтому место становится неиссякаемым источником энергии и святости, наделяя ими любого человека, даже просто находящегося здесь, и поддерживая его связь со священным. Целые ритуальные системы, нередко сложные и разветвленные, покоятся на том простом факте, что, становясь сценой иерофании, данное место приобретает свойство святости. Что бы из себя ни представляли эти священные пространства, у них есть одна общая черта — четкие границы, внутри которых можно соприкоснуться (хотя и во множестве различных форм) со священным.
Неизбывная святость этих мест объясняется непрерывностью иерофании. Не голод, не нужда заставляли австралийских аборигенов ходить в свои традиционные тайные места: в экономике, как заметил Элкин, они целиком полагались на белого человека с тех пор, как попали к нему в услужение[1447]. Чего они желали, так это сохранить свою мистическую связь с землей и со своими предками — основателями уклада племенной жизни. Эта потребность аборигенов сохранить контакт со священноявленными местами — чисто религиозного порядка; она была не чем иным, как потребностью не отдаляться от «центра», продуцирующего святость. Далеко не сразу и не легко лишились эти места своего значения — знания о них передавались наподобие фамильной драгоценности от племени к племени, от религии к религии. И нынешние христиане в той или иной форме поклоняются скалам, родникам, пещерам и лесам, которые были священными для доисторических людей. Поверхностный наблюдатель скажет, что это «суеверия» и доказательство того, что религиозная жизнь состоит по преимуществу из явлений, дошедших до нас из глубин истории. Однако на самом деле неискоренимость святых мест говорит об автономности иерофании: священное имеет свои собственные законы и свою собственную диалектику и является человеку извне. Если бы «выбор» святых мест оставался за самим человеком, их неискоренимости не было бы объяснения.
141. ОСВЯЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА
В действительности человек никогда не «выбирает» место, он его только открывает;[1448] т. е. святое место так или иначе открывает себя человеку. «Открытие» необязательно совершается путем непосредственной иерофании (именно здесь, именно этот ключ, именно это дерево), но может произойти каким‑то традиционным способом, имеющим источник и основу в космологии. Одним из таких способов был orientatio.
Разумеется — и мы это сейчас увидим, — освящаться должны не только места для культовых центров: построение жилища также требует преображения профанного пространства. Но во всех случаях на место указывает нечто извне человеческой сферы — ослепительная ли иерофания, космологические ли символы, составляющие основу ориентации и геомантии, или же просто «знак» иерофании, чаще всего — присутствие какого‑нибудь животного. Сартори собрал множество указаний на то, что животным доверяли подать решающий знак при выборе места для жилища[1449]. Даже, например, наличие или отсутствие муравьев или мышей иногда указывает на иерофанию. А то выпускают на волю домашнее животное, например быка, и по прошествии нескольких дней отправляются его искать. Быка приносят в жертву там, где находят, а место становится пригодным для закладки здесь поселения.
«Все культовые сооружения освящены иерофанией», — писал Робертсон–Смит[1450]. Это не означает, что только культовые постройки отмечены таким образом: об убежищах отшельников или святых, более того, обо всех человеческих жилищах можно сказать то же самое. «Легенда гласит, что основатель Эль–Хемеля, мусульманский аскет конца XVI века, остановившись однажды на ночлег у родника, воткнул в землю свой посох. Наутро он попытался вытащить его, чтобы продолжить путь, но увидел, что тот пустил корни и выпустил листья. Аскет понял, что это знак воли Господней, и построил здесь свое жилище»[1451]. Все те места, где жили, молились или умерли святые, также освящены и отделены от окружающего их профанного пространства оградой из камней[1452]. Мы уже говорили (§ 75) о подобных «пометках камнем» на местах, где людям случалось умирать не своей смертью — от удара молнии или укуса змеи; такая смерть тоже имеет свойство кратофании или иерофании.
Очерчивающие святое место ограда, стена или выложенный из камней круг — одно из первых рукотворных святилищ. Они существовали уже во времена индской цивилизации (в Мохенджо–Даро, например; см. § 97) и эгейской культуры[1453]. Ограда не только обозначает перманентное присутствие внутри нее кратофании или иерофании — она также служит для предостережения профанного человека от опасности, которой он подвергнется, если войдет в огороженные пределы без должных предохранительных мер. Священное всегда представляет опасность для того, кто входит в контакт с ним неподготовленным, не соблюдая «ритуал приближения» — требование всякой религии. «И сказал Бог Моисею: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих; ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая»[1454]. Отсюда и множество ритуалов и предписаний (босые ноги и т. п.) относительно вхождения в храм, примеры чему находим у семитских и других средиземноморских народов[1455]. Ритуальное значение порогов храма и дома[1456] тоже проистекает из разделяющей функции ограничительных линий, хотя со временем меняются их интерпретации и связанные с ними ценности.
То же можно сказать и о городских стенах: задолго до превращения в военные укрепления они служили для обеспечения магической защиты людей, потому что очерчивали в хаотическом, населенном демонами и фантомами (см. ниже) пространстве место организованное, космизированное — другими словами, имевшее Центр. Поэтому во времена кризисов, наподобие осад или эпидемий, все жители выходили и шли друг за другом вдоль городских стен — чтобы тем самым приумножить магическо–религиозную силу городских границ и бастионов. Этот ход вокруг города со свечами и реликвиями иногда имел чисто магико–символическую форму. Такие защитные меры были особенно распространены в средние века[1457], но встречались и в другие времена и не только в Европе. Например, на севере Индии во время эпидемии деревню очерчивают кругом, чтобы не пропустить дальше демонов болезни[1458]. «Магический круг», любимый компонент стольких магико–религиозных ритуалов, призван разграничить два разнородных пространства.
142. «КОНСТРУКЦИЯ» СВЯЩЕННОГО ПРОСТРАНСТВА
Священные места высшего ранга — алтари и святилища строились, разумеется, по традиционным канонам. Но в конечном счете эти каноны дала выработка in illo tempore архетипа святого места, архетипа, который с тех пор при возведении каждого нового храма, святилища или алтаря воспроизводился снова и снова. Примеры священных мест, построенных по архетипической модели, бесчисленны. Приведем всего несколько из архитектуры Ближнего и Дальнего Востока. Возьмем, например, иранское maga. Нюберг, отказываясь от прежних интерпретаций этого термина (Гельднер переводил его как Bund, Geheimbund), выводит его из слова «maya» в том смысле, в каком оно употреблено в «Видевдат»[1459] (т. е. как акт очищения, совершенный в святом месте с девятью рвами), и видит в нем святое место, где покончено со всякой нечистотой и где становится возможным соединение Небес и Земли[1460]. Именно в таком тщательно помеченном месте группа, которую Нюберг назвал «общиной Гата», испытала свой мистический опыт[1461].
Способ возведения ведического алтаря еще более показателен. Освящение места для него предполагало двойную символику. С одной стороны, сооружение алтаря представляло собой сотворение мира[1462]. Вода, в которой размешивали глину, бралась как бы из изначальных вод, глина в основании алтаря была землей, боковые стены — окружающим воздухом и т. д.[1463] С другой стороны, строительство алтаря символизировало собой интеграцию времени, «его материализацию в самой вещественности алтаря». «Алтарь огня — это год… Ночи — это камни, окружающие его, и их 360 по числу ночей в году; дни — это кирпичи yajusmati, потому что их 360, и дней в году 360»[1464]. Таким образом, алтарь превращается в наделенный имманентным мистическим пространством и временем микрокосм, существующий внутри иноприродного ему профанного пространства и времени. Сооружение алтаря — это повторение акта сотворения мира. О глубинной значимости такого повторения мы поговорим ниже (§ 151 и сл.).
Такое же чувство причастности к космогонии сопровождает строительство мандалы в тантризме[1465]. Само слово означает «круг», у народов Тибета оно значит Центр или «то, что окружает». Мандала — это ряд окружностей, концентрических либо нет, умещенных в квадрате. Вся фигура вычерчивается на земле с помощью цветной нити или цветного порошка, а внутри нее располагаются изображения различных тантристских божеств. Мандала — одновременно imago mundi и символический пантеон. Проходящий инициацию неофит должен проникать в разные области или преодолевать разные ступени мандалы. Ритуал сравним с прадакшива, известной церемонией обхода храма или священного предмета (ступа), или с инициацией посредством вхождения в лабиринт. Сопоставимость храма с мандалой очевидна к Боробудуре[1466] и в индо–тибетских храмах, построенных под влиянием тантризма[1467]. Все эти священные постройки символизируют Вселенную а их этажи и террасы представляют «небеса» или уровни Космоса Каждая из этих построек призвана также изображать Космическую гору, поэтому можно сказать, что построены они все в «Центре мира», Символизм Центра, как я покажу дальше, присутствует и при строительстве городов и даже домов в них. На самом деле, каждое освященное место, любое место, где возможны иерофании и теофании и где происходит разрыв уровней и переход от земного к небесному, есть Центр.
Возведение человеком какой бы то ни было постройки есть в некотором смысле строительство мира (§ 151). Чтобы город или жилище прочно стояли на земле, чтобы они были реальны, они с помощью строительных ритуалов должны быть спроецированы на «Центр Вселенной». Все предания говорят о сотворении мира «в Центре», и поэтому города тоже должны расти вокруг Центра. Ромул вырыл глубокий ров (fossa), наполнил его плодами, снова засыпал землей и, возведя на нем алтарь (ara), обошел это место с плугом (designat moenia sulco — бороздой обозначил городскую черту — лат.)[1468]. Ров был mundus, и, как указывает Плутарх[1469], «ров назвали миром (mundus), как саму Вселенную». Данный mundus был точкой пересечения трех космических сфер[1470]. Возможно, что в примитивном изображении модель Рима представляла собой квадрат, вписанный в окружность, — на это указывает широко распространенная традиция круг и квадрат помещать вместе, представлять взаимосвязанными[1471].
С другой стороны, столь активно выявляемый Ф. Робертом хтонический смысл круглых памятников Древней Греции (bothros, tholos, thymele и др.)[1472] не должен заслонять от нас и другие возможные интерпретации последних. Вполне можно предположить, что толкование Роберта относится только к эгейской культуре, поскольку почитаемые памятники, даже из погребальной сферы (ср. инд. ступа), обычно несут гораздо более широкий космологический смысл — это пересечение всех космических уровней, — который превращает любое такое сооружение в Центр. Африка дает нам весьма поучительный пример церемонии, в которой хтонический элемент не закрывает собой космогонического начала, — ритуал племени манди, сопровождающий закладку поселений. Его описал Фробениус[1473], а Жанмэр[1474] и Кереньи[1475] не без основания сравнивают его с церемонией закладки Рима[1476]. Этот африканский ритуал, соединяющий в себе элементы хтонического и аграрного культа (жертвоприношение быка и сооружение на его репродуктивном органе фаллического по форме алтаря), имеет в основе космогоническую идею. Закладка города повторяет сотворение мира; после утверждения места посредством ритуала оно обносится квадратной или круглой оградой с четырьмя воротами, соответствующими четырем сторонам света. Как показал Узенер[1477], деление городов на четыре части уподобляет их Космосу; иными словами, города — это слепки мироздания.
143. ЦЕНТР МИРОЗДАНИЯ
Поскольку я уже говорил о символизме и космологизме Центра в других своих работах[1478], здесь я приведу лишь соответствующие примеры. При попытке охватить все факты одной широкой перспективой выявляются три взаимосвязанных и взаимодополняющих момента: 1) Священная гора, где сходятся Земля и Небо, стоит в Центре мира; 2) любой храм, дворец или, более расширительно, священный город или царское жилище уподобляются Священной горе и тоже становятся Центром; 3) соответственно, храм или священный город, через которые всегда проходит ось мироздания, считаются местом схождения Небес, Земли и Ада.
Так, по верованиям индийцев, гора Меру стоит в Центре мира, а над ней светит Полярная звезда. В это же верят урало–алтайские этносы, иранцы, германцы[1479] и даже такие «примитивные» народы, как пигмеи Малакки;[1480] возможно, и символизм доисторических памятников включал в себя данное верование[1481]. Находящийся в центре Месопотамии холм («Гора земель») соединяет Землю и Небеса[1482]. Название палестинской горы Фавор, вполне вероятно, происходит от tabbur, что означает пуп, omphalos;[1483] называли же гору Геризим «пупом Земли» (tabbur eres)[1484]. Именно потому, что Палестина находится на большое высоте — почти на вершине Космической горы, — она осталась над водой во время всемирного потопа[1485]. Христиане Центром Земли почитали Голгофу, причем она считалась и вершиной Космической горы, и местом, где был создан и впоследствии похоронен Адам. Череп Адама, зарытый у подножия креста, во искупление греха первого человека окроплялся кровью Спасителя[1486].
Месопотамские названия храмов и жилищ явственно указывают на уподобление последних Космической горе: святилища назывались «горний дом», «дом горы всех земель», «гора гроз», «связь Земли и Неба» и т. п.[1487] Надпись на цилиндре времен царя Гудеа гласит, что «спальня [бога], которую он [царь] соорудил, была похожа на Космическую гору»[1488]. На Востоке все города стояли в Центре мира. Вавилон — это Babilani, «дверь богов», через нее боги спускались на землю. Месопотамский зиккурат был, по существу, Космической горой (ср. § 31). Храм Боробудур тоже не что иное, как образ Космоса, и построен он в форме горы[1489]. Паломник, восходя по его террасам, приближается к Центру мира, а на высшей ступени он преодолевает профанное, разрозненное пространство и прорывается в сферу «чистой Земли».
Города и святые места нагружены тем же смыслом — они вершины Космических гор, поэтому их не покрыл водой всемирный потоп. В исламском мире высшей точкой земли считается Кааба — на ее местоположение под центром небосвода указывает Полярная звезда[1490]. У совершенного китайского императора солнечные часы в столице не должны отбрасывать тени в 12 часов в день летнего солнцестояния. Такая столица существует в Центре Вселенной, близ чудотворного дерева под названием «Стоящий лес» (Цянь му), где пересекаются космические области Небес, Земли и Ада[1491].
Само помещение в центре Космоса делает храм или священный город местом встречи трех космических сфер. Dur‑an‑ki («связь между Небом и Землей») — так назывались святилища в Ниппуре, Ларсе и, возможно, Сиппаре[1492]. Вавилон называли десятками имен и в числе прочих «домом основания Земли и Неба», «связью между Небом и Землей»[1493]. Именно в Вавилоне Земля имела соединение с подземным миром, потому что город был построен на bab‑apsi, «воротах Апсу»[1494], а апсу — это воды Хаоса, предшествовавшего Творению. Такова же и древнееврейская традиция. Иерусалимская скала уходит глубоко в подземные воды (tehom). В «Мишне»[1495] говорится, что Иерусалимский храм стоит точно над tehom (древнееврейский эквивалент apsu), и, подобно вавилонским «воротам Апсу», скала Иерусалимского храма «закрывает устье tehom»[1496]. В римском мире встречаются такие же образы: «Когда мир открывается — это открываются, так сказать, ворота для мрачных богов подземного царства», — говорит Варрон[1497]. Италийский храм также был местом встречи высшего (божественного), земного и подземного миров.
Мы уже указывали (§ 81), что омфал считался «пупом Земли» или Центром Вселенной. Хотя омфал имеет некоторое отношение к земле и похоронам, это не лишает его априори определенного космологического смысла. Символизм Центра включает целый ряд понятий, таких как точка пересечения космических сфер (канал, соединяющий Землю и Ад; ср. Вефиль Иакова, § 79, 80); место иерофании, т. е. реально существующее, в высшей степени «животворное» место, где находится источник всякой реальности и, следовательно, энергии и жизни. Недаром же космологические мифы заимствуют лексику эмбриологии для выражения символизма Центра:[1498] «Всесвятый сотворил мир наподобие зародыша. Как зародыш начинает расти от пупка, так Бог начал сотворение мира от пупа, и он стал расти во все стороны»[1499]. «Йома»[1500] утверждает: «Мир начался с сотворения Сиона»[1501]. То же в «Ригведе»:[1502] Вселенная расходится из одной центральной точки[1503].
Близка к этому и образность буддийской традиции: Творение началось с вершины, с точки, одновременно центральной и запредельной. «Только что родившись, Бодхисатва твердо поставил ноги на землю и, повернув на север, сделал семь шагов, достиг полюса и воскликнул: Это я — на вершине Мира… [aggo’ham asmi lokassa], это я — первенец мира [jetto’ham asmi lokassa]!»[1504] Достижение вершины Космоса привело Будду во временную точку начала мира. Самим фактом вхождения в Центр, из которого выросла вся Вселенная, Будда чудесным образом упразднил время и оказался в «безвременье», предшествовавшем Творению[1505]. Сейчас мы поговорим об этом подробнее; всякое «построение», всякий контакт с Центром влекут за собой уход от профанного времени и погружение в мифическое illud tempus творения.
Раз сотворение мира началось в определенной центральной точке то и сотворение человека должно было состояться в этом же в высшей степени реальном и животворном месте. По месопотамскому преданию, человек появился у «пупа Земли», созданный из U Ζ U (плоть), S A R (связь), К I (место, земля), где также был Dar‑an‑ki (связь между Небом и Землей)[1506]. Ормузд сотворяет первобытного быка Эвадгата и первобытного человека Гайомарда в Центре мира[1507]. Рай, где из глины был вылеплен Адам, находился, разумеется, в Центре Космоса. Рай представлял собой «пуп Земли» и, как гласит одно из сирийских преданий, располагался «на горе выше всех остальных»[1508]. В сирийской «Книге о Пещере сокровищ» говорится, что Адам был сотворен в Центре Земли на том самом месте, где впоследствии воздвигли крест Иисуса Христа[1509]. В иудаизме сохранились аналогичные предания[1510]. В иудаистском «Апокалипсисе» и мидрашах[1511] даже говорится, что Адам был сотворен в Иерусалиме[1512], и, поскольку его похоронили точно на месте Творения, в Центре мира, на Голгофе, кровь Спасителя, как мы видели выше, искупила грехи этого Мира напрямую[1513].
144. МОДЕЛИ КОСМОСА И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ
Сотворение мира — прообраз всякого строительства. Каждое новое поселение, каждый вновь построенный дом есть имитация и в некотором смысле повторение сотворения мира. В самом деле, каждый город, каждый дом стоит в Центре мира, и поэтому его возведение становится возможным только благодаря выходу из профанного времени и пространства и учреждению сакрального пространства и времени[1514]. Дом тоже микрокосм, как город imago mundi. Порог отделяет друг от друга два рода пространств, и дом равнозначен Центру мира. Центральный столб жилища у первобытных народов (Urkulturen, по терминологии школы Гребнера — Шмидта)[1515] Арктики и Северной Америки (самодийцев, айнов, индейцев Северной и Центральной Калифорнии, алгонкинов) уподобляется космической оси. В жилищах другой формы (как, например, у пастухов и скотоводов Центральной Азии) или в юртах мистическую и религиозную функцию выполняет отверстие в крыше, оставленное для выхода дыма. Для обряда жертвоприношения обитатели вносят в юрту дерево и выставляют его вершину в дымовое отверстие[1516]. Семь ветвей жертвенного дерева символизируют семь небесных сфер. Таким образом, дом соотносится со Вселенной, располагаясь в то же время в Центре мира, прямо под Полярной звездой, к которой обращено дымовое отверстие. Каждое жилище преображается в Центр уже самим процессом своего построения, освящающего также и занимаемое домом пространство. Т. е. все дома, как и все храмы, дворцы и города, стоят на одном и том же месте — в Центре Вселенной. Как мы помним, это трансцендентное пространство имеет иную природу, нежели обычное, и вмещает в себя множество и даже беспредельное число «центров».
В Индии перед началом строительства дома обращаются к астрологу, чтобы он указал, какой из камней фундамента нужно положить на голову поддерживающего Землю мифического змея[1517] во избежание землетрясений. Главный каменщик вонзает в указанное место кол, прочно «пригвождая к земле» голову змея[1518]. Возведение дома — акт, не только происходящий в Центре мира, но и в каком‑то смысле повторяющий само сотворение мира. Мы знаем, что о рождении мира из разрубленного на куски первобытного чудища, нередко змееподобного, повествуют бесчисленные мифы. Все жилища магическим образом помещаются в Центре мироздания, и точно так же все они строятся на заре Творения (§ 152 и сл.). Как и священное пространство, мифическое время может воспроизводиться ad infinitum при изготовлении человеком каждой новой вещи.
145. СИМВОЛИЗМ ЦЕНТРА
Во многих мифах и легендах Космическое дерево символизирует Вселенную (а его семь ветвей — семь небесных сфер), центральное дерево или столб поддерживает мир, а Древо жизни, или чудотворное дерево, наделяет бессмертием тех, кто вкушает от его плодов, и т. д. (ср. § 97 и сл.). Каждое из этих преданий по–своему представляет теорию Центра, а именно — что дерево воплощает абсолютную реальность, ход жизни и сакральную власть и поэтому находится в Центре мироздания. Называется ли оно Космическим деревом, Древом Вечной Жизни или Древом познания Добра и Зла — дорога к нему неизменно многотрудна и терниста, окружающая местность неприветлива, а чудовище ужасно. Не всякий отправляющийся в путь достигает цели, и не всякий дошедший побеждает чудовище, с которым должен сразиться. Только на долю героев выпадает миссия преодолеть все препятствия и убить чудовище, охраняющее подступы к дереву, траве бессмертия, золотым яблокам, золотому руну — к любому символу абсолютной реальности, сакральной власти и бессмертия, которые, как мы уже говорили выше, всегда труднодоступны. Такие символы находятся в Центре; с них не спускает глаз охрана, и добраться до них — все равно что пройти инициацию, «героическим» или «мистическим» путем завоевать бессмертие.
Не торопясь окончательно решать, каковы были изначальные значение и функция лабиринта, скажем, что они, несомненно, имели отношение к понятию защиты и охраны Центра. Не всем дано выйти из лабиринта невредимым; прохождение его равносильно инициации. Центром же могло быть разное: лабиринт мог служить для защиты города, склепа или святилища, но во всех случаях он оберегал некое магико–религиозное пространство, которое необходимо ограждать от присутствия незваных, непосвященных[1519]. Военная функция лабиринта была лишь разновидностью его основной функции защиты от злых, враждебных духов и смерти. Во время нападений лабиринт препятствовал вторжению неприятеля в город или, по крайней мере, затруднял это вторжение, С религиозной же точки зрения он преграждал дорогу наступающим силам зла, демонам пустыни и смерти. И Центр в данном случае — это весь город, который, как мы знаем, есть воспроизведение самой Вселенной.
Но нередко лабиринт служил непосредственно для охраны и защиты Центра, т. е. воплощал собой путь — через инициацию — к сакральному, к вечному, к абсолютной реальности. Ритуалы инициации с использованием лабиринта (как, например, на острове Малекула) призваны были научить неофита входить при жизни в царство смерти и не теряться в нем. Как и все инициации, лабиринт — нелегкое испытание, и не всем дано его выдержать. Подвиг Тезея в лабиринте Крита наделен отчасти тем же смыслом, что и поход за золотыми яблоками в сад Гесперид или за золотым руном Колхиды. По сути своей все подвиги такого рода — это проникновение победителя в труднодоступное место, в котором находится источник или символ могущества, святости или бессмертия.
Но я не хочу сказать, что «многотрудное путешествие» — принадлежность одних только инициаций или подвигов героев. Мы видим его и во многих других обстоятельствах. Его образом являются, например, сложные изгибы интерьера храмов (Боробудур), хождение к святым местам (в Мекку, Хадвар, Иерусалим и др.), самоистязание аскета, ищущего путь к самому себе, к Центру своего существа. Дорога тяжела и опасна, потому что это на самом деле дорога от профанного к священному, от преходящего и иллюзорного к реальному и вечному, от смерти к жизни и от человека к Богу. Достигнуть Центра означает приобщиться к священному, пройти инициацию. За вчерашним профанным и иллюзорным существованием последует новая жизнь, реальная, непреходящая и могущественная.
При ближайшем рассмотрении диалектика святых мест и особенно Центра оказывается противоречивой. В одной группе мифов, ритуалов и символов подчеркиваются трудность достижения Центра и сопутствующая этому достижению печаль, в то время как другая группа, наоборот, показывает, как легко добраться до Центра. Хождение к святым местам тяжко, но и любое посещение церкви — это хождение. Космическое древо недоступно, но в любую юрту человек имеет возможность принести его образ — обычное дерево из леса. Путешествие к Центру тяжело и опасно, и, однако, каждый город, каждый храм и каждое жилище находятся в Центре Вселенной. Высший обряд инициации заключается в том, чтобы войти в лабиринт и выйти из него, но и любая человеческая жизнь, даже самая бедная на события, напоминает путешествие по лабиринту. Страдания и подвиги Одиссея вошли в легенду, но и возвращение каждого человека домой равнозначно возвращению Одиссея в Итаку.
146. «НОСТАЛЬГИЯ ПО РАЮ»
Короче говоря, все рассмотренные нами символы и уподобления доказывают, что человек считает для себя возможным жить только в сакральном пространстве, каким бы необычным, по сравнению с профанным, оно ни было. И если не происходит иерофании, которая бы открыла священное пространство, человек сам создает его для себя по законам космологии и геомантии. Поэтому, хотя считается, что Центр находится «где‑то там», куда добираются только немногие посвященные, каждое жилище тем не менее строится именно в Центре мира. Можно сказать, что одни предания выражают желание человека оказаться, не тратя сил, в центре мироздания, а другие, напротив, подчеркивают тяжесть пути к нему, а следовательно, доблесть того, кто его достиг. Сейчас я не хочу касаться истории каждой из этих традиций. Тот факт, что первая — легкость создания Центра мира в любом жилище — распространена почти повсеместно, побуждает нас думать, если и не решить немедленно, что она является более древней или по меньшей мере существенной и характерной для всего человечества. Она ясно показывает особое состояние человека в Космосе, которое мы можем назвать «ностальгией по раю». Под этим я имею в виду желание пребывать всегда и без усилий в средине мироздания, в Центре реальности, в сердце сакрального — т. е. преодолеть в обычной жизни человеческое предопределение и возвратить себе судьбу богов — то, что христиане называют состоянием человека до грехопадения.
Далее, сравнение центрального столба жилища с мировой осью у первобытных народов и их вера в легкость соединения Земли и Небес[1520] позволяет нам утверждать, что желание постоянно находиться в священном пространстве и считать это естественным легче удовлетворяется в контексте традиционных культур, нежели в рамках цивилизаций, возникших позднее. В самом деле, такого состояния становится все труднее достигнуть — по мере развития цивилизаций появляется все больше мифов о героях, которые только одни и способны добраться до Центра; понятия доблести, мужества, сильной личности, тяжелых испытаний и т. п. все более выдвигаются на первый план и гипертрофируются, чему способствует и растущее влияние магии и идеи личной власти.
Но в обеих традициях ностальгия по раю выражается с одинаковой силой[1521]. Даже там, где преобладает идея тщательно охраняемого Центра, мы находим великое множество «эквивалентов» и с более низкими барьерами доступности. Мы можем говорить о «легкодостижимых» центрах по аналогии с тем, как «Древо Жизни» или «трава бессмертия» находят себе «доступные замены» в магии, фармакологии и народной медицине: любое магическое или целебное растение способно занять их место (§ 111). Короче говоря, с какой стороны ни взглянуть, в диалектике святого места всегда проявляется ностальгия по раю.
Эти факты чрезвычайно любопытны, потому что они могут послужить основой, а может быть, и ценнейшим вкладом в истинно философскую антропологию. Прежде всего они обнаруживают в человечестве, все еще находящемся, как говорится, «на этнологическом уровне», присутствие «установки» на духовность, которую отличает от развитых теологических или метафизических систем лишь ограниченность средств выражения (символы, ритуалы и «предрассудки» исчерпывают их список). Но даже сами эти скудость способов и прямолинейность выражения придают такому духовному состоянию особый вес. Его подлинность и роль в жизни первобытных и полуцивилизованных народов доказывают, во всяком случае, что проблемы метафизики и теологии отнюдь не являются ни недавним открытием человеческого ума, ни аберрантной формой или преходящей фазой духовной истории человечества.
Однако на эту диалектику парадокса — доступность и одновременная недоступность священного пространства, его уникальность и трансцендентность, с одной стороны, и «воспроизводимость» по желанию, с другой, — следует взглянуть и с другой точки зрения, которая возвращает нас непосредственно к тому, что мы назвали амбивалентностью священного (§ 6 и сл.). Мы видели, что священное и привлекает, и отталкивает, оно и благодетельно, и опасно, оно несет и смерть, и бессмертие. Эта амбивалентность проявляет себя также в формировании сложной и противоречивой морфологии священного пространства, чьи негативные свойства (труднодоступность, сопряженность с опасностью, в том числе исходящей от чудовища–сторожа) конечно же могут быть объяснены существованием «ужасной» стороны (табу, опасность и все остальное), и наоборот.
Наконец, необходимо суммировать сказанное о «легко осуществимых заменах» священного пространства и особенно Центра. То, что их изобретали во множестве, при этом делая их все более и более доступными (в результате многообразных уподоблений что угодно получило способность превращаться в Центр, в лабиринт, в символ бессмертия и т. п.), свидетельствует о воспроизведении, почти что даже механическом, единого архетипа во все более «локализованных» и «грубых» вариантах. Здесь не место углубляться в изучение структуры и функции подобных архетипов, о которых мы уже говорили в предыдущих главах этой книги; повторим лишь, что любое дерево может стать Космическим деревом, любая вода — изначальными водами и т. д. Этому вопросу мы посвятили специальную работу[1522], к которой обратимся позже. Сейчас мы только укажем, что «динамика» и «физиология» сакральных пространств позволяют нам констатировать существование архетипического сакрального пространства, которое может «актуализироваться» путем иерофаний и освящения любых мест. Как мы уже говорили, «центров» может быть множество, потому что природа священного пространства допускает сосуществование бесчисленных мест, могущих ими стать. И «динамика», «актуализация» этой бесконечности возможна потому, что она представляет собой повторение архетипа. Мы видели, что архетип можно повторить на любом угодном человеку уровне и в любой форме, какой бы приблизительной она ни была (как в случае со священным деревом, священными водами и др.); существенным мне представляется не факт открытости архетипа для грубых имитаций (повторений), но то, что человек тянется к архетипу даже в своем первоначальном и непосредственном религиозном опыте и стремится воссоздать его в реальности. Если все это говорит нам что‑то о месте человека в Космосе, то речь идет не о том, что Дерево Жизни можно принизить и вплести в любое магико–медицинское суеверие или что символ Центра сводится к такой «легкой замене», как мое жилище. Нет, все вышеприведенное говорит нам о постоянно ощущаемой человеком потребности «реализовывать» архетипы даже в самых «нечистых» опытах повседневного существования; о жажде трансцендентных форм, в данном случае — о жажде священного пространства.
БИБЛИОГРАФИЯ
Van der Leeuw G. Religion in Essence and Manifestation. L., 1938. P. 393 и сл.; Guardinin R. Von heiligen Zeichen. S. 71 и сл.; Bogoras W. Ideas of Space and Time in the Conception of Primitive Religion // AA. New series. 1917, april. P. 205–266; Nissen H. Orientation. По всей работе // Studien zur Geschichte der Religion. Vols. I‑III. В., 1906–1907; Granet M. La Pensée chinoise. P. 91 и сл.; Cuilandre J. La Droite et la gauche dans les poemes homériques. P., 1940. P. 56, 57; Deffontaines P. Géographie et religions. P., 1948.
Sartori P. Über das Bauopfer // ZFE. 1898. Vol. XXX. S. 1–54; Sebillot P. Les Travaux publiques et les mines dans les traditions et les superstitions de tous les pays. P., 1894. P. 85–120; Sebillot P. Le Folklore de France. Vol. IV. P., 1906. P. 89–99; недавние работы можно найти в: Eliade M. Comentarii la legenda Mesterului Manole. Bucharest, 1943, особенно с. 37 и сл.; Cocchiara. Il ponte di arta e i sacrifici di costruzione // Annali del Museo Pitre. Vol. I. Palermo, 1950. P. 38–81[1523].
Saintyves P. Le Tour de la ville et la chute de Jericho // Essais de folklore biblique. P., 1923. P. 177–204; Pax W. WS. 1937. Vol. VIII. P. 1–88; Mus P. Barabudur. Vol. I. P.; Hanoi, 1935. P. 68 и сл., 94 и сл. и по всей работе.
De Visser M. W. Ancient Buddhism in Japan. Vol. I. P., 1921. P. 159–175; Zimmern H. Kunstform und Yoga. В., 1926. P. 94 и сл.; Tucci G. Il Simbolismo architectonico dei tempi di Tibet occidentale // Indo‑Tibetica. Vols. III, IV. Rome, 1938; Tucci G. Teoria e pratica del mandala. Rome, 1949; Suzuki E. Mandara // Eastern Buddhism. Vol. VII. 1936, May; Eliade M. Techniquesdu Youga. P., 1948. P. 185 и сл.; Eliade M. Le Yoga: Immortalité et liberté. P., 1954. P. 233 и сл.
Deubner L. Mundus // HE. 1933. Vol. LVIII. P. 276–287; Hedbund. Mundus // EJ. 1933. Vol. XXXVI. P. 53–70; Allcroft A. H. The Circle and the Cross. L., 1927. По всей книге; Robert F. Thymele. Recherches sur la signification et la destination des monuments circulaires dans l’architecture religieuse de la Grece. P., 1939. P. 181, 225 и по всей работе.
Eliade M. Cosmologie si Alchimie Babiloniana. Bucharest, 1937. P. 31 и сл.; Eliade M. Comentarii la legenda Mesterului Manole. Bucharest, 1943. P. 72 и сл.; Eliade M. The Myth of the Eternal Return. L., 1955. P. 12–16 и сл.; Eliade M. Images and Symboles. P., 1952. P. 33 и сл.; Gaerte W. Kosmische Vorstellungen im Bilde prähisorischer Ziet: Erdberg, Himmelsbegr, Erdnabel und Weltstrome // APS. 1914. Vol. IX. P. 956–979; Burrows E. Some Cosmological Patterns in Babylonian Religion // The Labyrinth. L., 1935. P. 45–70; Wensinck A. J. The Ideas of Western Semites concerning the Navel of the Earth. Amsterdam, 1916; Dombart T. Der Sakralturm; I: Zikkurat Münich, 1920; Allbright W. F The Mouth of the Rivers // AJSL 1919. Vol. XXXV. P. 161–195.[1524]
см. библиографию к гл. VI.
см. библиографию к гл. VIII.
Jackson Knight W. F. Cumoean Gates: A Reference of the Sixth Aeneid to the Initiation pattern. Oxford, 1936; Kerenyi K. Labyrinth‑Studien // Alboe Vigiloe. Vol. XV. Amsterdam; Lpz., 1941.
см.: Bernard A. Malekula. A Vanishing People of the Hew Hebrides. L., 1942. P. 340 и сл., 649 и сл.
Глава XI
САКРАЛЬНОЕ ВРЕМЯ И МИФ О ВЕЧНОМ ВОЗОБНОВЛЕНИИ
147. РАЗНОРОДНОСТЬ ВРЕМЕНИ
Проблема, к рассмотрению которой мы приступаем в этой главе, одна из наиболее трудных в религиозной феноменологии. И трудность заключается не в том, что магико–религиозное и профанное время различны по характеру. Скорее, проблему составляет тот факт, что реальное переживание времени, его опытное восприятие разнятся у первобытных народов и у современного человека западной культуры. Да, сакральное время отличается от профанного, но и само это отличие не одинаково по своей природе в первобытном и современном обществе. Поначалу трудно определить, не коренится ли отличие в том, что для первобытного человека восприятие профанного времени еще не отделилось полностью от представления о магико–религиозном времени. Разумеется, такое восприятие дает первобытному человеку постоянный «выход» в религиозное время. Чтобы упростить объяснение и до некоторой степени предвосхитить результаты нашего исследования, мы можем сказать, что сама природа ощущения времени первобытным человеком позволяет ему легко превращать профанное в сакральное. Но поскольку основной интерес эта проблема представляет для философской антропологии и социологии, мы ее коснемся только для того, чтобы перейти к обсуждению времени иерофанического.
По существу, вопрос, которым мы задались сейчас, таков: что отличает сакральное время от «профанной» длительности, предшествовавшей ему и за ним следующей? Очевидно, что под словосочетанием «иерофаническое время» понимается целый ряд разнообразных вещей. Оно может означать время, в течение которого совершается тот или иной ритуал, т. е. сакральное время, по самой своей сути отличающееся от обыденной временной протяженности. Им может также быть обозначено мифическое время, воскрешенное ритуалом или простым повторением какого‑либо действия, имеющего мифический архетип. Наконец, так могут называться ритмы Космоса (например, «иерофании Луны»), если их понимать как моменты, в которые обнаруживает себя, т. е. проявляется, изначальная сакральная сила, движущая Космосом. Таким образом, момент или фрагмент времени могут в любое мгновение превратиться в иерофанические: кратофания, иерофания или теофания тут же преображают, освящают и делают его памятным, а следовательно, всегда открытым для повторения. Любой род времени «открывается» в сакральное время, иными словами, может обнаружить перед нами то, что мы для удобства называем абсолютным, сверхъестественным, сверхчеловеческим или сверхисторическим.
Время в восприятии первобытного человека неоднородно. Не говоря уже о возможной его «иерофанизации», оно может представать еще ряде форм, различных по своему назначению и «интенсивности». Леви–Брюль, вслед за Харделандом, насчитал пять разных типов времени, которые, по верованиям даяков, благодаря своим особым свойствам определяют течение дня: 1) восход солнца, хорошее время для начала всякой работы. Удачей считается родиться в это время, однако тогда же не следует отправляться на охоту, рыбную ловлю или в путешествие — счастья не будет; 2) около 9 утра — момент несчастливый для любых начинаний, но если выходишь в дорогу, можешь не опасаться бандитов; 3) полдень — весьма благоприятное время; 4) 3 часа пополудни — час сражений: повезет врагу, разбойнику, охотнику и рыболову, но не путешественнику; 5) на закате период удачи более краток[1525].
Примеры легко умножить. В любой религии есть поверья о счастливых и несчастливых днях, о наилучших моментах удачных дней, о «сконцентрированном» или «растянутом» времени, о временах «сильных» или «слабых» и т. п. Одно мы должны помнить: время всегда воспринималось как неоднородное, и не только в смысле разнообразных значений, придаваемых ему различными ритуальными системами, — всегда во времени противопоставлялись удачные и неудачные периоды. Иными словами, у природы времени есть еще одно измерение, которое мы можем назвать иерофаническим; благодаря ему время не только принимает форму определенной последовательности, но и выполняет различные предназначения, облекается разнообразными «призваниями», приводится в движение противоречивыми «движущими силами». Ясно, что это иерофаническое измерение может быть обнаружено в ритмичности природных феноменов, оно может быть «следствием» чего‑то подобного вере даяков в пять типов времени или связанным с кризисами солнцестояния или с фазами луны и проч.; также его может «порождать» религиозная практика человеческих обществ, например зимние праздники, основанные на факте «мертвого» сезона в календаре сельскохозяйственных работ.
Разные авторы (например, Мосс и Гране) говорят о жизни человеческих сообществ как об источнике ритмов сакрального времени; однако нельзя отрицать и того, что в открытии и упорядочивании систем счета времени ведущую роль сыграли ритмы Космоса. Вспомним хотя бы, насколько велико религиозное значение движения луны (§ 47 и сл.) или жизненного цикла растений (§ 139) в духовной жизни первобытного человека. Сами идеи ритма и повторения, к которым мы будем возвращаться по ходу наших рассуждений, возможно, были в свое время откровениями иерофаний Луны еще до того, как примеры ритмов и повторений обнаружились в структуре социальной действительности как таковой. Есть мнение[1526], что «социальное» происхождение сакрального времени подтверждают наблюдаемые несоответствия религиозных календарей ритмам природных явлений. На самом деле такие расхождения ни в коей мере не опровергают существование связи между системами счета времени, изобретенными человеком, и природными ритмами; они доказывают лишь, что первобытная хронометрия была несовершенной и что вера древнего человека не носила «натуралистического» характера, праздниками отмечалось не само природное явление, а его религиозный аспект.
Растительные иерофании (§ 123) показали нам, как весенний праздник двигался по календарю, не имея фиксированной даты. Я уже объяснял также, что мистическим и религиозным содержанием весеннего праздника было возрождение Природы и обновление Жизни, а не естественное наступление соответствующего времени года. Не потому сакральное время имело независимую от ритма природных явлений организацию, что календарные праздники не соответствовали астрономическому календарю, а потому, что этот ритм признавался значимым ровно настолько, насколько он был выражением иерофании, и именно эта «иерофанизация» освобождала его от «обязанности» совпадать с астрономическим временем, служившим ему некой колыбелью. «Знак» весны мог объявить весну еще до того, как «весна природы» давала себя почувствовать (§ 123). Знак метил начало новой эры, а наступавшая вскоре весна только подтверждала ее приход, и не просто как явления природы, а как манифестация полного обновления и нового начала всей космической жизни. Разумеется, понятие обновления включало, вместе с Космосом, и отдельных людей, и само общество. Уже не впервые я объясняю на страницах этой книги, как первобытная духовность возвращала все на свете к единству, приводила все уровни к соответствию друг другу.
148. ЕДИНСТВО И НЕПРЕРЫВНОСТЬ ИЕРОФАНИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ
В разнородном времени сакральные периоды не просто вклиниваются в обычную временную протяженность, как если бы в ней для этого периодически делались некие «надрезы»: вклинившиеся куски тоже связаны между собой и тоже образуют своего рода непрерывную длительность. Воскресная литургия в христианском культе — это литургия и для данного воскресенья, и для прошлого, и для следующего. Сакральное время, в которое совершается таинство претворения хлеба и вина в тело и кровь Христовы, не только качественно отличается отделенной от него профанной предшествующей и последующей протяженности; оно не только связано с мессой, состоявшейся в прошлое воскресенье, и с мессой на следующей неделе, — это время можно рассматривать как непрерывную мессу, начавшуюся в момент таинства и продолжающуюся поныне. Профанное же время, тянущееся между двумя мессами, не трансформированное в сакральное, никак не касается иерофанического времени этого непрерывного ритуала. То время идет параллельно сакральному, которое, таким образом, предстает как континуум, только на вид прерываемый профанными фрагментами.
Сказанное о времени в христианстве относится ко времени во всех религиях, в магии, в мифе и в легенде. Любой ритуал не просто повторяет такой же ритуал, исполненный ранее (и воспроизводящий архетип), а как бы продолжает нечто единое, совершаемое непрерывно, — не важно, в фиксированные периоды или нет. Травы, обладающие магической силой, собирают именно в те критические моменты, в которые происходят прорывы из профанного в магико–религиозное время, как, например, в ночь на Ивана Купалу. По народным поверьям, на несколько секунд небеса отверзаются, и травы, в том числе «железная трава» (румынская iarba fiarelor), и папоротник получают необычайную силу; тот, кто сорвет их в этот момент, станет неуязвимым, невидимым и т. д.[1527]
Подобные случаи иерофании повторяются каждый год. И поскольку они, следуя один за другим, образуют некую последовательность событий, пусть и сакральных по своей природе, то можно сказать, что каждое из них — часть непрерывного, годов и веков единого, уникального по содержанию «Времени». Это не мешает иерофаниям периодически повторяться: их можно рассматривать как моменты выхода в Великое Время, которое в эти парадоксальные секунды разрывает профанную последовательность событий. Понятие повторения и возвращения играет очень важную роль и в фольклоре, и в мифологии. «В легендах об исчезнувших церквах, замках, городах проклятие не заканчивается с их уходом под землю: каждый год, или семь лет, или девять лет в день катастрофы город восстает из‑под земли, колокола звонят, хозяйка замка выходит из укрытия, сокровища обнаруживаются, а охрана спит; но в назначенный момент чары спадают и все вновь исчезает. Этих периодических повторений почти достаточно, чтобы доказать, что сами даты вызывают одни и те же события»[1528].
149. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПОВТОРЕНИЯ КАК ВЕЧНОЕ ПРИСУТСТВИЕ
В религии, как и в магии, периодическое повторение чего‑либо означает главным образом, что мифическое время идет именно теперь и может длиться бесконечно. Каждый ритуал имеет свойство совершаться сейчас, сию минуту. То время, которое ритуал воскрешает или в честь которого совершается, делается настоящим, «пред–стоит» перед нами, так сказать, как бы давно ни происходили породившие ритуал реальные события. Страсти Христовы, его смерть и воскресение не просто вспоминаются во время служб на Святой неделе — они происходят именно в эти моменты перед «имеющими глаза». И твердый христианин должен ощущать свою современность тем трансисторическим событиям — воспроизведенные заново, они вызывают в текущую реальность момент теофании.
То же можно сказать и о магии. Мы видели (§ 111), что люди отправляются искать целебные травы со словами: «Мы соберем травы и приложим их к ранам на теле Спасителя». Этим магическим обрядом целительница превращает себя в современницу страстей Христовых, лечебную же силу трава обретает благодаря тому, что прикладывается (по крайней мере, может быть приложена) к ранам Иисуса или растет у подножия креста. Знахарка произносит свои заклинания, в которых рассказывается, как она встретила Благословенную Деву Марию или другого святого, поведала им о чьей‑то болезни и они сообщили ей о способах лечения и т. д.
Ограничусь одним примером из румынского фольклора (из которого можно многое почерпнуть). «Девять одинаково одетых братьев, у которых были разные отцы, нашли девять хорошо отточенных мотыг и девять острых топоров. Дойдя до середины бронзового моста, они встретили Святую Марию; она спускалась по восковой лестнице и стала задавать им вопросы: «Куда вы направляетесь, девять одинаково одетых братьев, сыновья девяти отцов?» «Мы идем к горе Галилейской, чтобы срубить райское дерево». «Оставьте райское дерево стоять, где оно стоит. Отправляйтесь к Иону, срежьте его бородавки, изрубите их на части и бросьте на дно моря»[1529].
Сцена происходит в мифическое время до того, как было срублено райское дерево, и тем не менее она совершается именно сейчас, в данную минуту, когда Ион страдает от своих бородавок. Заговор не просто призывает на помощь могущество Святой Девы, ибо любое могущество, даже божественное, теряет силу, если проявляется в профанное время. Он учреждает другое, магико–религиозное время, то время, когда человек может пойти и срубить райское дерево, а Дева Мария сама спускается вниз по божественной лестнице. И это не аллегорический а вполне реальный акт: страдающий Ион и девять братьев, встречающие Деву, — современники. Современность великим моментам мифов есть непременное условие эффективности любого магико–религиозного действия. В таком свете мысль Серена Кьеркегора, что быть христианином — это значит быть современником Иисуса, не кажется столь революционной; Кьеркегор всего лишь по–новому сформулировал обычное и нормальное мироощущение древнего человека.
Периодические возвращения, повторения, вечное настоящее — вот три свойства религиозно–магического времени, которые, взятые вместе, объясняют мое утверждение о неоднородности времени крато- и иерофании и обыденного времени. Подобно другим видам человеческой деятельности (охоте, рыбной ловле, собиранию плодов, земледелию и всему прочему), которые со временем стали профанными, хотя и не до конца, — обряды тоже были явлены людям богами или «предками». Каждый раз в ритуале или ином важном действии (например, охоте) повторяется архетипическое действие божества или предка, действие, имевшее место в начале времени, во времени мифа.
Но это повторение имеет способность восстанавливать также и время богов и предков. На Новой Гвинее, когда капитан торгового судна отправлялся в море, он олицетворял собой мифического героя Аори: «Он надевает наряд, какой носил Аори; он чернит лицо и… танцует на помосте и разбрасывает руки, как Аори свои крылья… Один человек рассказывал мне, что, когда он идет стрелять рыбу (с помощью лука и стрел), он воображает себя самим Кивавиа»[1530]. Этот рыбак не молил Кивавиа о благосклонности и помощи — он идентифицировал себя с мифическим героем. Иными словами, рыбаки жили в мифические времена Кивавиа точно так же, как моряк, отождествлявший себя с Аори, жил в трансисторическое время этого героя. Превращался ли меланезиец в героя или был только его современникам, но он пребывал в мифическом настоящем времени, которое никак нельзя спутать с профанным, обыденным настоящим. Повторяя архетипическое действие, он погружался в сакральное, историческое время, однако это погружение могло осуществиться только в том случае, если профанное время элиминировалось. Дальше мы увидим, сколь важно для первобытного человека было уметь отрешаться от профанного времени.
150. ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИФИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ
Совершением любого ритуала и, следовательно, выполнением любого значимого действия (к ним относятся, например, охота, рыбная ловля) первобытный человек помещает себя в мифическое время. «Период мифического времени, dzugur, не надо воспринимать как просто ушедшее время — оно и настоящее и будущее; оно одновременно и состояние, и отдельный период»[1531]. Это период Творения[1532] в том смысле что именно тогда, in illo tempore, был сотворен и упорядочен Космос, а боги, предки и культурные герои научили людей действиям, ставшим архетипическими. In illo tempore, в мифическое время, все было возможно. Виды материи еще не утвердились, и все формы были «текучими». (Память о периоде такой неопределенности сохраняется даже в самых высокоразвитых мифологических традициях; например в греческой мифологии — это время Урана или Кроноса; ср. § 23.) Но та же зыбкость форм «на другом конце сакрального времени» станет знаком конца света, отметит момент, когда история подойдет к своему завершению и для мира начнется священное время, вечность. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком»[1533]. Тогда nec magnos metuent armenta leones — «стада не убоятся великих львов»[1534].
Невозможно было бы преувеличить значение существующего у человека любого общества, независимо от уровня развития последнего, стремления вернуть то, мифическое великое время, потому что каждый ритуал и каждое значимое действие производят это возвращение. «Ритуал — это повторение фрагмента изначального времени». А «изначальное время — пример для всех времен. Что произошло во время оно, повторяется во веки вечные. Нужно только знать миф, и тогда жизнь станет понятной»[1535].
Что же касается значения и формы мифа, попробуем поточнее разобраться, насколько верна формула Ван дер Лееува: «Нужно только знать миф, и тогда жизнь станет понятной». Обратим внимание на два свойства мифического времени (или сакрального, магико–религиозного или иерофанического) — 1) на его повторяемость (в том смысле, что его воспроизводит каждый значимый акт) и 2) на тот факт, что, хотя оно считается трансисторическим, находящимся вне любой системы счета, т. е. как бы в вечности, у священного времени все же есть «начало» в истории — это тот момент, когда божество сотворило мир или внесло в него порядок или же когда предок или цивилизующий герой открыл человеку какой‑то вид деятельности.
С точки зрения первобытной духовности любое начало есть illud tempus, а значит, момент и акт выхода в Великое время, в вечность. Марсель Мосс справедливо заметил, что «логично и правомерно религиозные явления, имеющие место во времени, рассматривать как имеющие место в вечности»[1536]. В самом деле, каждое из этих «религиозных явлений» бесконечно повторяет архетип, т. е. воспроизводит то, что произошло в «начале», в момент открытия человеку — и одновременного помещения в историю — ритуала или религиозного действа.
Ниже мы подросшее поговорим о том, что в восприятии первобытного ума история совпадает с мифом: для него каждое событие (то, что случается и несет определенный смысл) уже одним тем, что оно происходит во времени, представляет собой разрыв профанного и вторжение сакрального времени. В этом смысле каждое событие постольку, поскольку оно имеет место во времени, уже является для него иерофанией, «откровением». Парадокс «событие — оно же и иерофания» и «историческое время — оно же и мифическое» — только кажущийся; надо лишь войти в то состояние, в котором находился породивший этот парадокс разум. Первобытному человеку людские деяния (труд земледельца, например, или половая жизнь, или общественные нравы, или культура), в сущности, интересны и важны лишь настолько, насколько они повторяют деяния, совершенные богами, культурными героями или предками. Все, что выходит за рамки этих значимых действий, не имея сверхъестественной модели, не имеет и названия и ценности. Но все эти архетипические действия были явлены тогда, in illo tempore, вне времени, зафиксированного историей, — в мифическое время. В момент откровения они разъяли профанное время, «впустив» туда мифическое. Но в тот же самый момент они возвестили приход «события», которое, нарушив печальную монотонность профанного времени[1537] (времени, в котором лишенные смысла действия сменяют друг друга), положило начало «истории» — последовательности событий, исполненных смысла, — последовательности, столь отличной от цепи автоматических и пустых актов. Таким образом, хотя это и кажется парадоксальным, но то, что мы называем «историей первобытных обществ», состоит исключительно из мифических событий, произошедших in illo tempore и повторявшихся с того момента по нынешний. Уникальное и случившееся единожды, то, что современному человеку представляется «историческим событием», первобытным человеком воспринимается как событие несущественное из‑за отсутствия у него историко–мифологического прецедента.
151. НЕРЕГУЛЯРНЫЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ
Вышеприведенные замечания в равной мере способствуют нашему пониманию мифа (§ 156 и сл.) и того мифического, иерофанического, магико–религиозного времени, о котором мы ведем речь в этой главе. Теперь мы в состоянии понять, почему священное, религиозное время не всегда воспроизводится регулярно; почему, в то время как такой‑то праздник (случающийся в иерофаническом времени) повторяется периодически, есть другие действия, кажущиеся профанными, — но только кажущиеся, которые, хотя и были произведены in illud tempus могут происходить в любое время. Человек может в любое время отправиться ловить рыбу или охотиться, тем самым в любое же время имитируя мифического героя, воплощаясь в нем, восстанавливая мифическое и покидая профанное время, повторяя миф–историю. Как я сказал чуть выше, любое время может стать сакральным; в любой момент последовательность может превратиться в вечность. Естественно, что периодический возврат сакрального времени, как мы увидим, играет важную роль в религиозных системах всего человечества; но чрезвычайно существенно то, что этот же прием имитации архетипа и повторения архетипического действия упраздняет профанное время и обращает его в сакральное вне зависимости от каких‑либо периодически исполняемых ритуалов. Это доказывает, с одной стороны, что тенденция «иерофанизировать» время есть нечто изначальное, не связанное ни с какими системами социальной жизни, не зависимое ни от каких способов отмены профанного времени («старый год») и учреждения сакрального, о чем мы поговорим ниже. С другой стороны, это напоминает нам о «доступных заменах» сакрального пространства, о которых мы уже говорили (§ 146). Центр мироздания, находящийся, по определению, в некотором недосягаемом месте, может тем не менее быть сооружен в любой точке и притом без неимоверных трудностей, о которых повествуют мифы и легенды о героях. Точно так же и в сакральном времени, обычно закрепленном общинными календарными праздниками, может оказаться каждый человек в любой момент, просто повторив архетипическое, мифическое действие. Важно помнить об этой тенденции — выходить за рамки социальной жизни для того, чтобы оказаться в сакральном времени; в каком смысле это важно, мы увидим ниже.
152. РЕГЕНЕРАЦИЯ ВРЕМЕНИ
Праздники происходят в сакральном времени, или, как указывал Марсель Мосс[1538], в вечности. Но есть сезонные праздники, самые важные из всех, — в которых проглядывает еще нечто: желание разрушить профанное время, воспринимаемое как прошлое, и установить «новое время». Другими словами, завершающие один временной цикл и открывающие другой сезонные праздники имеют целью полностью регенерировать время. В других работах[1539] я подробно исследовал сценарии празднования окончания старого года и начала нового, поэтому здесь мы лишь бросим беглый взгляд на эту важную тему.
Ритуальные драмы, посвященные сезонам года, богаты по своей морфологии. На основании исследований Фрэзера, Венсинка, Дюмезиля и других авторов можно так сформулировать сущность последней. Конец одного года и начало другого отмечаются серией обрядов: 1) очищением, исповедями в грехах, изгнанием демонов и всяческого рода из деревень и т. д.; 2) погашением и новым зажжением всех огней; 3) процессиями масок (символизирующих души умерших), церемониями приветствия мертвых, которых встречают (угощением и т. п.), а в конце пира провожают к границам территории, к морю или реке и др.; 4) состязаниями; 5) интерлюдиями карнавалов, сатурналий, нарушениями обычного порядка, «оргией».
Вряд ли надо говорить, что нигде сценарий проводов старого года и встречи нового не вмещает всех этих обрядов, но и список их не исчерпывается перечисленным — бывают еще, например, инициации и браки умыканием. Однако все они составляют части одной церемониальной системы. Каждый на своем уровне и со своей точки зрения направлен на отмену времени, составлявшего заканчивающийся цикл. Все эти очищения, сожжения образов старого года, изгнания демонов и ведьм и вообще всего, ассоциирующегося с уходящим годом, производятся для того, чтобы избавиться от прошлого, запретить его. Погашением всех огней вызывается «тьма», «космическая ночь», в которой все «формы» теряют свои очертания и сливаются. На космологическом уровне эта тьма отождествляется с Хаосом, тогда как возжигание огней символизирует Творение, восстановление форм и границ. Появление масок — душ умерших, отдающих ритуальный визит живущим (в Японии, Германии и других местах), тоже есть знак того, что все барьеры сняты и все формы жизни сливаются в единое целое. В этот парадоксальный промежуток между двумя «временами» (между двумя Космосами) общение живого и мертвого, имеющего форму и до–форменного становится возможным. Можно сказать, что в каком‑то смысле во «тьме» и «Хаосе», вызванных для избавления от старого года, все формы сплавляются воедино, и слияние всего («ночь» — «потоп» — «растворение») делает возможным легкое, автоматическое coincidentia opposüorium на каждом уровне существования.
Это желание упразднить время еще виднее в другой составной части новогодних церемоний — в «оргии», более или менее неистовой. Оргия — это тоже уход во «тьму», погружение в первобытный Хаос, предшествовавший всякому Творению, всякой оформленности. Слияние всех форм в неохватное, однородное единство в точности воспроизводит «тотальную» реальность. Ранее (§ 138) я уже обращался к определению функции и смысла оргии — явления, принадлежащего одновременно сексуальной и земледельческой сферам. На космологическом уровне оргия есть эквивалент Хаоса или окончательного исчезновения всяких границ и торжественный момент наступления «недлящегося» Великого Времени, «мгновения–вечности». Присутствие оргии в церемониалах, посвященных периодам времени, указывает на желание полностью упразднить прошлое путем упразднения всего сотворенного. «Слияние форм» воплощается в нарушении всех социальных устоев (во время сатурналий раб был хозяином и хозяин выполнял приказы раба; в Месопотамии правителя сбрасывали с трона и подвергали унижениям), в сближении оппозиций (к матронам обращались как к куртизанкам и т. п.), в отмене всех норм. Позволяются вольности, нарушаются заповеди, сходятся противоположности. Цель всего этого — заставить мир (и его копию — общество) исчезнуть, вызвать изначальное illud tempus, мифический момент начала (Хаос) и конца (потоп, или ekpyrosis, апокалипсис).
153. ЕЖЕГОДНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА
То, что именно это составляет смысл карнавальной оргии конца года, подтверждается тем фактом, что за Хаосом непременно следует новое сотворение Космоса. Все сезонные праздники переходят в более или менее очевидные символические воспроизведения сотворения мира. Приведу несколько примеров. Вавилоняне во время своего двенадцатидневного празднования Нового года, akitu, несколько раз читали поэму Творения, «Эиума элиш», в замке Мардук; тем самым с помощью магии слова и сопутствующих ритуалов они переносили в свое время битву между Мардуком и морским чудищем Тиамат, битву, произошедшую в illo tempore и благодаря победе божества положившую конец Хаосу. У хеттов составной частью новогоднего праздника было рассказывание и сценическое представление архетипической схватки между Тешубом, богом–громовержцем, и змеем Иллуянка[1540]. Битву Мардука и Тиамат символизировал спор двух групп мужчин;[1541] аналогичный ритуал имелся у хеттов (во время празднования Нового года)[1542] и у египтян[1543]. Воспроизводилось превращение Хаоса в Космос: «Да продолжит он побеждать Тиамат и сокращать ее дни!» — восклицали вавилоняне. Таким образом, битва, победа Мардука и сотворение мира имели место именно в момент празднования[1544].
Во время akitu происходил также zakmuk, «пир жеребьевки», называвшийся так потому, что в это время бросали жребий на каждый месяц наступающего года; можно сказать, вавилоняне сотворяли последующие двенадцать месяцев в соответствии с понятием, существующим и в ряде других традиций. С этим была связана целая серия ритуалов: сошествие Мардука в ад, унижение царя, изгнание зла под видом «козла отпущения», наконец, бракосочетание божества с Царпаниту, которое изображалось символическим бракосочетанием царя с храмовой прислужницей в святилище богини[1545] и которое, возможно, служило сигналом к кратковременной половой вседозволенности. Мы видим, таким образом, возвращение к Хаосу (где Тиамат верховенствует и где спутаны все формы), а затем новое сотворение мира (победа Мардука, определение всех судеб, священное бракосочетание иди «новое рождение»). В тот момент, когда старый мир растворялся в первобытном Хаосе, люди упраздняли и старое время, «историю», как сказали бы сейчас, уходящего цикла.
По понятиям первобытного человека уходящее время составляла последовательность событий, ни одно из которых не было значащим, т. е. не имело архетипической модели; профанная история — это память о таких именно событиях, о том, что с полным правом можно назвать «бессмыслием» и даже грехом (в той степени, в какой события отступали от архетипических норм). Как мы видели, для первобытного человека настоящая история — не эти события, а миф; в анналы подлинной истории заносятся лишь архетипические действия богов, предков или культурных героев, совершенные в мифическое время, in illo tempore. Для первобытного человека все повторения архетипов имеют место вне профанного времени; из этого следует, с одной стороны, что такие действия не являются «грехом», отступлением от нормы, а с другой — что они не соприкасаются с обыденной цепью событий, со «старым временем», периодически упраздняемым. Изгнание демонов и духов, исповедь в грехах, очищение и особенно символическое возвращение в первобытный Хаос — все это признаки упразднения профанного времени, в котором произошли лишенные смысла события и имели место всяческие отклонения.
Таким образом, раз в год старое время, прошлое, память обо всех неархетипических событиях (короче говоря, «история» в нашем понимании) отменяются. Символическое сотворение, которое следует за символическим уничтожением старого мира, возрождает время в его целостности, неделимости. И это не просто праздник, привносящий в профанную протяженность «овеянный вечностью момент сакрального времени», — это тотальное уничтожение всего профанного времени, которое составляло приближающийся сейчас к своему концу цикл. В желании начать новую жизнь в лоне нового Творения — а это чаяние выражают все церемонии встречи одного года и проводов другого — есть и парадоксальная жажда достичь подлинно исторического существования, жить только в сакральном времени. Человеку хочется возрождения неделимого, нерасчлененного времени, превращения последовательности в «вечность».
Эта потребность в полной регенерации времени (которая может достигаться ежегодным воспроизведением Творения) сохранилась даже далеко не в первобытных традициях. Я упоминал уже о некоторых деталях вавилонского празднования нового года. Элементы Творения не менее очевидны в соответствующей иудаистской обрядности. «Праздник собирания плодов в конце года»[1546], «в конце года»[1547] происходила битва Яхве с Раавом[1548], Яхве побеждал морское чудовище (аналог Тиамат) и укрощал воды, что было равнозначно сотворению мира и одновременно спасению человека (преодоление смерти, обещание сытой жизни в новом году и т. д.)[1549].
Венсинк находит и другие следы первобытного представления о ежегодном сотворении Космоса, которые сохранили иудаистская и христианская традиции[1550]. Мир был сотворен в месяце Тишри, или Нисан, т. е. в дождливый период, каковой есть идеальное время для космогонии. У восточных христиан благословение воды на эпифанию[1551] тоже имело космогонический смысл. «Он [Бог] сотворил небеса вновь, потому что грешники поклонялись всем небесным телам; сотворил мир вновь, потому что Адам иссушил его; новое родилось от Его плевка»[1552]. «Тот Аллах, кто сотворяет, он же повторяет Творение»[1553]. Это вечное повторение акта Творения, которое превращает каждый Новый год в «инаугурацию» новой эры, позволяет мертвым вернуться к жизни и поддерживает надежду верующих на воскрешение плоти. Такая же традиция существует у семитских народов и у христиан[1554]. «Всемогущий пробуждает тела [на эпифанию] вместе с духом»[1555].
Переведенный Дармштедтером[1556] с пехлеви текст гласит: «В месяц Фравартин, в день Ксурдхат Господь Ормазд произведет воскрешение, и второе тело, и весь мир будут избавлены от бессилия перед демонами, ядом… И настанет изобилие всего, не будет больше потребности в пище; мир пребудет чистым, и человек освободится от противоборства [со злым духом] и станет навсегда бессмертным». Казвини говорит, что в день Навруза Бог воскресит мертвых, «вернет им их души, прикажет небу пролить над ними дождь, и поэтому у людей будет обычай лить воду в этот день»[1557]. Тесная связь понятий «сотворения водой» (водная космогония; периодические потопы, возрождающие «историческую» жизнь; дождь), рождения и воскресения подтверждается следующей фразой из Талмуда: «У Бога три ключа: от дождя, от рождения и от воскресения мертвых»[1558].
Навруз, персидский Новый год, — одновременно и праздник Ахура–Мазды (отмечаемый в «день Ормазд» первого месяца), и день, когда были сотворены человек и мир[1559]. «Обновление Творения» произошло в день Навруза[1560]. В предании, рассказанном Димашки[1561], царь провозглашает: «Сегодня новый день нового месяца нового года; все, что время состарило, должно быть обновлено!» Именно в этот день определяются на целый год и людские судьбы[1562]. В ночь Навруза можно видеть бесчисленные огни и костры[1563], тогда же совершаются омовения и очищения водой, чтобы заручиться хорошими дождями в наступающем году[1564].
В период «Великого Навруза» люди высевали в чашах семь сортов зерна и «по их росту судили о будущем урожае»[1565]. Этот обычай напоминает «жеребьевку» Нового года у вавилонян, и даже в наше время нечто подобное есть в новогодних церемониях мандеев[1566] и езидов[1567]. Опять‑таки потому, что Новый год — это воспроизведение Творения, двенадцать дней между Рождеством и эпифанией и сейчас рассматриваются как пророческие для двенадцати месяцев будущего года; по всей Европе крестьяне по «метеорологическим знакам» этих двенадцати дней прикидывают на каждый месяц, какими будут осадки и температура воздуха[1568]. Таким же образом гадали о дождях во время праздника Кущей[1569]. Индийцы ведических времен считали двенадцать дней середины зимы образом и подобием всего года[1570], такое же «сжатие» года в двенадцать дней наблюдается и в китайской традиции[1571].
154. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПЕРВОТВОРЕНИЯ ПО ОСОБЫМ СЛУЧАЯМ
У всего, что мы рассматривали, есть нечто общее: во всех этих случаях присутствует понятие периодической регенерации времени посредством символического воспроизведения первотворения. Однако повторение первотворения не привязано к одним только новогодним обрядам. Иными словами, «прежнее», «профанное», «историческое» время может быть упразднено, а «новое», «мифическое» установлено повторением первотворения также и в моменты, далеко отстоящие по ходу года от упомянутых общинных обрядов. Так, для исландцев войти во владение чем‑либо — все равно что превратить Хаос в Космос[1572], а в ведической Индии овладение какой‑либо местностью подтверждалось воздвижением огненного алтаря, что рассматривалось как воспроизведение акта Творения. Огненный алтарь символизировал Вселенную, и установка его была равноценна сотворению Мира; когда бы ни воздвигался такой алтарь, его создатель всегда совершал архетипический акт первотворения и «строительства» времени[1573].
Фиджийцы называли свою церемонию введения в должность нового вождя «сотворением мира»[1574]. Та же идея видна, пусть и не так отчетливо, и в обрядности более развитых цивилизаций: любое возведение монарха на престол эквивалентно новому сотворению или новому рождению мира. Своим самым первым декретом по восхождении на трон китайский император вводил новый календарь и, прежде чем установить новый порядок времени, упразднял старый[1575]. Ашшурбанипал считал себя обновителем Космоса, потому что, по его словам, «с тех пор, как боги в своем благоволении поставили меня на престол моих отцов, Рамман посылал дожди… урожай не оскудевал, зерно было в изобилии… скот приумножался чрезвычайно»[1576].
Предсказание, содержащееся в четвертой эклоге Вергилия, magnus ab integro saeculorum nascitur ordo… (заново рождается величественный ряд поколений — лат.) — в некотором смысле относится к любому суверену. С каждым новым правителем, даже самым незначительным, начинается «новая эра». Новое правление рассматривается как возрождение истории нации, если не всей мировой истории. Было бы неверно сводить подобные патетические формулировки к тому, чем они стали с закатом монархии, — к простому самовосхвалению суверенов и лести придворных. Надежда на приход «новой эры», связанная с воцарением нового правителя, оказывается не только искренней и неподдельной, но и совершенно естественной, если принять точку зрения первобытного человека. Вообще говоря, не нужно даже нового правления, чтобы открылась новая эра: достаточно свадьбы, рождения ребенка, построения дома и тому подобных событий. Человек и Вселенная всеми и всяческими средствами все время обновляются, прошлое исчезает, ошибки и грехи отбрасываются, и ничто не может остановить этого процесса. Сколь бы ни были разнообразны его формы, все они одинаково эффективны — они зачеркивают Время, которое прошло, и упраздняют Историю путем постоянного возвращения в illud tempus[1577].
Фиджийцы, таким образом, повторяют первотворение не только тогда, когда приводят к власти нового вождя, но и каждый раз, когда опасаются за урожай[1578]. Как только нарушаются природные ритмы и жизни в целом грозит опасность, фиджийцы спасаются возвращением in principium (в начало): они ждут, иначе говоря, пока вновь установится Космос, — не выправится, а именно снова родится. Аналогичен смысл всякого «начала», всего «нового», «девственного» и т. д. в народной медицине и магии («новая вода», «новый кувшин», символизм ребенка, девственницы, «непорочного» и т. п.). Мы видели (§ 149), как с помощью магии актуализируется мифическое событие, могущее придать силу снадобью и помочь излечению больного. Символизм «нового», «еще не начавшегося» также связывает во времени сегодняшнее действие и мифическое, архетипическое событие. Как и в случае заботы об урожае, надо не латать старое, а начинать заново, т. е. возвращаться в illud tempus. (Совсем необязательно колдуну, выполняющему соответствующие ритуалы, знать их теоретические основы; достаточно того, что сами ритуалы вытекают из заключенной в них теории; ср. § 3.)
Похожие идеи, не избежавшие, конечно, разного рода искажений и прибавлений, можно обнаружить в основе приемов горнодобычи и металлургии[1579]. С другой стороны, посвятительские церемонии (типа «смерти» прежнего человека и «рождения» нового) базируются на представлении о том, что прошлое — «история» — может быть упразднено, а новое время установлено. Если водный и лунный символизм (ср. § 63) играл такую важную роль в духовной жизни архаического человека, то это только потому, что он делал ясными и понятными постоянные элиминации и восстановления «форм», периодические исчезновения с последующими новыми появлениями и вечное возвращение (в действительности — возвращение к Началу). На всех уровнях — от космологии до сотериологии — понятие возрождения связано с идеей нового времени, с верой человека в возможность в какие‑то моменты достигать Абсолютного начала.
155. ПОЛНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ
Эта озаренность идеей возрождения присутствует также во всех мифах и учениях о цикличном времени, о чем я говорил в «Мифе о вечном возвращении». Вера в круговорот Времени, в вечное возвращение, в периодическое исчезновение мира и человечества, за которым следует появление нового мира и нового, возрожденного человечества, — все эти верования свидетельствуют прежде всего о желании обновлять время от времени прошлое, историю и о вере в такую возможность. Цикл, о котором идет речь, — это, по сути, Великий Год — весьма распространенное понятие в греко–восточной терминологической системе. Открывает Великий Год сотворение мира, а завершает Хаос, полное слияние всех стихий. Космический цикл включает «Творение», «существование» (или «историю», изнашивание, дегенерацию) и «возвращение к Хаосу» (ekpyrosis, ragnaröok, pralaya[1580], гибель Атлантиды, Апокалипсис). В структурном смысле Великий Год относится к обычному году, как этот последний — к месяцу и дню. Но нас в данный момент интересует главным образом надежда на полную регенерацию времени, проглядывающая во всех мифах и верованиях, связанных с космическими циклами. Каждый цикл есть Абсолютное начало, потому что вся «история» полностью упраздняется в мгновение ока в момент возвращения к Хаосу.
Таким образом, любой архаичный человек уповает на исчезновение профанного времени, чтобы жить в сакральном. Мы видим, далее, желание и надежду возродить время в его целостности и жить в вечности, трансформировав временную последовательность в единый вечно длящийся момент. Это чаяние вечности живет как бы параллельно с ностальгией по раю, о которой мы говорили в предыдущей главе (§ 146). Желанию всегда и безо всяких условий жить в священном месте (раю) соответствует желание всегда жить в вечности, повторяя для этого архетипические действия. Воспроизведение архетипов говорит о парадоксальном стремлении человека достичь идеального (архетипа) в рамках самого человеческого существования, жить во времени, но не пожинать плодов его быстротечности, не быть лишенным возможности «обратить время вспять». Заметим, что это желание не есть установка на «духовность», отказывающая земной жизни в ценности ради «духовной» отрешенности от мира. Напротив чувство, которое можно назвать «ностальгией по вечности» доказывает, что человек жаждет вполне конкретного рая и верит в возможность иметь его здесь, на Земле, и сейчас, в данную минуту. Именно в таком смысле древние мифы и обряды, связанные со священными местами и сакральным временем, можно, похоже, генетически вывести из ностальгических воспоминаний о «земном рае» и некой «реализуемой» вечности, в достижимость которой, может быть, все еще верит человек.
БИБЛИОГРАФИЯ
Van der Leeuw G. Religion in Essence and Manifestation. L., 1938. P. 384 и сл.; Van der Leeuw G. L’Homme primitif et la religion. По всей работе; Dumezil G. Temps et Mythes // Recherches philosophiques. Vol. V. 1935–1936. P. 235–251; Reuter H. Die Zeit: eine religionswissenshaftliche Untersuchung. Bonn, 1941; Coomaraswamy A. Time and Eternity. Ascona, 1947.
Hubert H., Mauss M. La Représentation de temps dans la religion et la magie // Mélanges d’histoire des religions, 1909. P. 190–229; Saintyves P. Les Notions de temps et d’éternité dans la magie et la religion // RHR 1919. Vol. LXXIX. P. 74–104; Nilsson M. P. Primitive Time Reckoning // Reg. Societas Humaniorum Letterarum Lundensis Acta. Vol. I. Lund, 1920; Cavatgnac E. Calendaners et fêtes religieuses // RHR. 1925. Vol. II. P. 8 и сл.
Granet M. Danses et légendes de la Clune ancienne. P., 1928. P. 114 и сл., 230 и сл.; Levy‑Bruhl L. Primitives and the Supernatural. L., 1936 — по всей работе; Dangal R. Tagesanbruch und Weltenstehung // SMSR, 1938. Vol. XIV. S. 65–81; Lehmann F. R. Weltuntergang und Welterneuerung im Glauben Schriftloser Völker // ZFE. 1939. Vol. LXXI. S. 103–115; Soustelle J. La Pensée cosmologique des anciens Mexicains. P., 1940. P. 79 и сл.; Leenhardt M. Do Kamo. La Personne et le mythe dans le monde mélanésien. P., 1947. P. 96 и сл.; Van der Leeuw G. Urzeit und Endzeit // EJ. 1950. Vol. XVII. S. 11–51; Puech H. Ch. La Gnose et le temps // EJ. 1951. Vol. XX. P. 57–113; Corbin H. Le Temps cyclique dans le Mazdéisme et dans l’Ismaélisme // EJ. 1951. Vol. XX. P. 149–217; Ringgren H. Fatalism in Persian Epics. Uppsala, 1952. S. 9 и сл.
Jeremías A. Handbuch der altorientalischen Geisteskultur. 2nd ed. В., 1929. S. 239 и сл., 313 и сл.; Johnson A. J. The Role of the King in the Jerusalem Cultus // The Labyrinth. L., 1938. P. 73–11; Carcopino J. Virgile et le mystère de la XVe Eclogue. Revised and augmented edition. P., 1943.
Christensen A. Le Premier Homme et le premier roi dans l’histoire légendaire des Iraniens. Uppsala, 1918–1924. 2 vols.; Dumezil G. Le problème des Centaures. P., 1929; Lehmann F. R., Pedersen. Der Beweis für die Auferstehung im Koran // Der Islam. vol. V. S. 54–61; Wensinck F. J. The Semitic New Year and the Origin of Eschatology // AOA. 1923. Vol. I. P. 158–99; Marquart J. The Nawroz, Its History and Significance // Journal of Cama Oriental Institute. Bombay, 1937. № XXXI. P. 1–51; Schefrelowitz J. Die Zeit als Schicksalsgottheit in der indischen and iranischen Religion. Stuttgart, 1929; Hertel J. Das indogermanische Neujahrsopfer im Veda. Lpz., 1938.
Eliade M. The Myth of the Eternal Return. L., 1955. Ch. II, III; Eliade M. Images et Symboles. P., 1952. Ch. II.
Pallis S. A. The Babylonian Akitu Festival. Copenhagen, 1926; Zimmern Η. Zum babylonishen Neujarsfest. Pts. Ι, II, Berichte über d. Verhandl d. Kgl. Sachs. Gesell d. Wiss. Lpz., 1906–1918. Vol. XVIII, 3; Vol. LXX, 5; Frazer J. The Scapegoat P. 355: Labat R. Le caractère religieux de la royauté assyro‑babylonienne. P., 1939. P. 95. Pettazzoni R. Der babylonische Ritus des Akitu und das Gedicht der Weltschöpfung // EJ. 1950. Vol. XIX. S. 703–730.
Глава XII
МОРФОЛОГИЯ И ФУНКЦИЯ МИФА
156. МИФ ТВОРЕНИЯ — МИФ–ОБРАЗЕЦ
Согласно полинезийскому мифу, в начале были только первобытные воды, погруженные в космическую тьму. И вот из «безмерности пространства» раздался голос пребывавшего там Ио[1581], Верховного Бога, выразившего желание прервать свой покой. И тотчас явился свет. И Бог говорил: «Вы, воды Таи–Кама, разделитесь. Да возникнут небеса!» Так через посредство космогонических речей Ио возник мир. Вспомнив эти «древние и заветные формулы… древнюю и заветную космологическую мудрость (вананга), которая вызвала произрастание из бездны…», современный полинезиец Харе Хонги продолжает в словах, исполненных красноречивого косноязычия:
«Так вот, друзья мои, есть три важных случая, когда эти заветные формулы используются в наших священных ритуалах. Во–первых, в ритуале оплодотворения бесплодной утробы. Во–вторых, в ритуале просвещения души и тела. И наконец, в–третьих, в ритуале, совершаемом по таким торжественным поводам, как смерть, война, крещение, пение родословных повествований и тому подобные важные дела, входившие в круг специальных обязанностей священников.
Слова, которыми Ио образовал Вселенную, — которыми, иначе сказать, она была оплодотворена и побуждена произвести мир света, — те же слова используются в ритуале оплодотворения бесплодной утробы. Слова, которыми Ио зажег свет во тьме, используются в ритуалах, предназначенных ободрить омраченное и впавшее в уныние сердце, немощную старость; осветить потаенные места и дела, вдохновить на песнесложение и многие другие деяния, помогающие противостоять отчаянию во времена поражений. Ибо всякий такой ритуал содержит слова [использованные Ио] для преодоления и рассеяния тьмы. Наконец, существует приуготовительный ритуал, посвященный последовательности образования Вселенной и истории происхождения самого человека».
Космогонический миф, таким образом, служит полинезийцам в качестве архетипической модели для всех случаев Творения, на каком бы уровне они ни имели место: биологическом, психологическом, духовном. Главная функция мифа состоит в том, чтобы задать образцы, модели для всякого ритуала и для всякого важного действия, совершаемого человеком. Что дело обстоит именно так, было показано многочисленными этнологами.
«У маринд–аним (Голландская Новая Гвинея), — пишет П. Вирц, — миф, собственно говоря, в той же мере лежит в основании больших празднеств, где появляются исполнители дема, как и в основании тайных культов»[1582]. Как мы видели (§ 150), даже за пределами сферы религиозных в точном смысле слова действий мифы служат моделью для других важных занятий человека, таких как, например, навигация и рыбная ловля.
Что особенно интересно в связи с полинезийским мифом Творения так это отмеченное выше многообразие применений этого мифа в ситуациях, которые, по крайней мере на первый взгляд, не имеют никакого отношения к религиозной жизни, — таким как акт продолжения рода, утешение отчаявшихся, стариков и больных, вдохновление сказителей и воинов и т. д. Космогония, таким образом, служит моделью везде, где встает вопрос о том, чтобы сотворить нечто; часто это нечто «живое», нечто «одушевленное» (биологического, психологического или духовного рода), как в приведенных выше случаях, но иногда речь идет о сотворении предмета очевидно «неодушевленного» — дома, лодки, государства и т. д.; вспомним космогоническую модель для строительства домов, дворцов и городов (§ 143 и далее).
Эти мифы–модели встречаются не только в «архаичных» традициях: в индийском метафизическом трактате «Брихадараньяка–упанишада» описывается ритуал, цель которого — появление на свет мальчика. Акт рождения этот ритуал преобразует в иерогамию. Человеческая пара отождествляется с космической парой. «Я — Небо, ты — Земля» (dyaur aham, prthivi ivam), — говорит муж[1583]. Зачатие становится творческим актом космических пропорций с участием целого ряда богов: «Пусть Вишну приготовит лоно, пусть Тваштар сотворит образы, пусть Праджапати вольется, пусть Дхатар даст тебе плод»[1584]. Иерогамия Неба и Земли или Солнца и Луны часто понимается вполне буквально: ut maritus supra feminam in coitione iacet, sic coelum supra terram (как муж в соитии простирается над женой, так небо простирается над землей)[1585]. Было бы заблуждением считать, что эта идея иерогамии свойственна лишь «архаичной ментальности»: тот же антропоморфизм используется и в весьма развитом символизме алхимии, относящемся к союзу Солнца и Луны[1586], и в других случаях coniunctio (союза) жду космологическими или духовными началами[1587]. Короче говоря, оогамия сохраняет свой космологический характер независимо от разнообразия контекстов, где она встречается, и от того, насколько антропоморфны формулы, в которых она выражается.
Миф Творения, включает он или не включает в себя иерогамию, вдобавок к такой своей важной функции, как моделирование и оправдание всей человеческой деятельности, является еще и архетипом для всего комплекса мифов и ритуальных систем. Прообразом всякой идеи обновления, нового начала, восстановления прежде бывшего, на каком бы уровне она ни появилась, можно считать идею «рождения», а прообразом последней — идею «сотворения Космоса». С аналогичными отождествлениями мы сталкиваемся при изучении ритуалов и символики по поводу возрождения растительной жизни (§ 118 и далее); всякий приход весны являет собой космогонию, всякий знак воскресения растительности равнозначен манифестации Вселенной во всей ее полноте, и вот почему, как мы видели (§ 123), с этим знаком — веткой, цветком или животным — ходят процессией от дома к дому, чтобы показать его всем. Это доказательство, что «весна пришла», не только весна природы, физическое явление, но и воскресение жизни. Ритуальные представления, происходившие под Новый год (§ 152 и далее) или с приходом весны (борьба весны и зимы, изгнание смерти, казнь зимы или смерти и т. п.; ср. § 121 и далее), — суть лишь фрагментарные и «специализированные» версии одного и того же мифа, вырастающего из мифа космогонического.
Каждый год мир создается заново. Может случиться, как было, к примеру, в Месопотамии, что Творение воспроизводится явным образом (декламацией поэмы о Творении). Но если нам и не сообщают, что речь идет о подражании Творению, следы этого явственно различимы (гашение и зажигание огней, явления умерших, состязания соперничающих сторон, инициации, браки, оргии и т. п.; ср. § 152). Эти новогодние и весенние ритуалы, разумеется, не всегда явным образом связаны с «мифом»; правильнее сказать, что они интегрированы в состав побочных мифов, где акцент сделан не на функции Творения. Но взятые в совокупности все сакральные акты, все «знаки», используемые в канун Нового года и с приходом весны — будь они в существе своем символическими или ритуальными, мифологическими или легендарными, — подчиняются единой парадигме; все они выражают с большей или меньшей отчетливостью драму Творения. В этом плане все они суть часть космогонического мифа, хотя во многих случаях речь идет не о «мифах» в точном смысле слова, а всего лишь о ритуалах или «знаках». Таким образом, «знак» наступления весны можно рассматривать как зашифрованный или «концентрированный» миф, ибо сама демонстрация знака эквивалентна провозглашению Творения. Настоящий миф описывает архетипическое событие (в данном случае сотворение мира) словами, тогда как «знак» (в данном случае зеленая ветка или животное) воскрешает событие самим фактом своей демонстрации. Я приведу несколько примеров, проясняющих отношение между мифом в точном смысле слова и магико–религиозными феноменами этого последнего рода, которые можно назвать «зашифрованными» или «концентрированными» мифами.
157. КОСМОГОНИЧЕСКОЕ ЯЙЦО
Космогонический миф островов Общества повествует о Таароа, «предке всех богов» и Творце мира, пребывающем «от вечности в своей раковине, во тьме. Раковина была подобна яйцу, вращающемуся в бесконечном пространстве»[1588]. Этот мотив космогонического яйца, встречаемый нами в Полинезии[1589], распространен также в Индии[1590], Индонезии[1591], Иране, Греции[1592], Финикии[1593], Латвии, Эстонии, Финляндии[1594], у западноафриканских пангве[1595], в Центральной Америке и на западном побережье Южной Америки (согласно карте Фробениуса[1596]). Местом зарождения этого мифа следует, по–видимому, считать Индию или Индонезию. Что для нас особенно важно, так это ритуальные и мифологические параллели космогонического яйца. В Океании, к примеру, верят, что человек рожден из яйца;[1597] другими словами, сотворение мира служит моделью для сотворения человека, сотворение человека воспроизводит и повторяет сотворение мира.
Кроме того, во многих местах яйцо связано с символами обновления природы и растительности; новогодние деревья, Майские деревья, деревья св. Иоанна и т. д. декорировались яйцами и яичной скорлупой[1598]. Мы знаем, что все эти растительные и новогодние символы в известной мере резюмируют миф периодического Творения. Дерево и само по себе есть символ природы и ее неустанного обновления, и, когда к нему добавляется яйцо, оно оказывается дополнительным подтверждением всех этих космогонических ценностей. Отсюда та роль, которую оно на Востоке играет во всех новогодних драмах. В Персии, примеру, крашеное яйцо может служить подарком к Новому году, который и в наши дни там продолжают называть «праздником крашеных яиц»[1599]. А крашеные яйца, которые дарят на Пасху на Балканах суть, вероятно, пережиток аналогичного ритуала, знаменовавшего некогда приход весны. Во всех этих случаях, как и в тех, к рассмотрению которых мы подходим, ритуальная сила яйца не объяснима с помощью какой‑либо эмпирической или рационалистической интерпретации яйца как семени; эта сила основана на воплощенном в яйце символе, который указывает не столько на рождение, сколько на возрождение, совершающееся в соответствии с космогонической моделью. Иначе было бы невозможно объяснить то важное место, которое занимают яйца в праздновании Нового года и в поминовении усопших. Мы уже видели, сколь тесная связь существует между культом усопших и началом года; с наступлением Нового года, когда мир творится заново, умершие ощущают притяжение к живым и могут надеяться до некоторой степени возвратиться к жизни[1600]. К какому бы из этих ритуальных или мифологических примеров мы ни обратились, везде в основе лежит идея не обычного рождения, а повторения архетипического рождения Космоса, имитация космогонии. В некоторых местах Индии существует обычай во время индуистского земледельческого праздника холи, являющегося одновременно и днем поминовения усопших, жечь костры и бросать в них две маленькие фигурки мужчины и женщины, представляющие Камадеву и Рати. Вместе с мужской фигуркой в огонь бросаются также яйцо и живая курица[1601]. В такой форме праздник символизирует смерть и воскресение Камадевы и Рати. Яйцо подтверждает воскресение и способствует ему, причем, повторим еще раз, речь идет не о рождении, а о «возвращении», о «повторении».
Символизм такого рода мы встречаем даже в некоторых доисторических и протоисторических обществах. Глиняные яйца были обнаружены во множестве захоронений на территориях России и Швеции[1602]; Арне не без оснований считает их символами бессмертия[1603]. В ритуале, относящемся к культу Осириса, используется яйцо, изготовленное из смеси самых разных составляющих (алмазной пыли, финиковой муки, ароматических веществ и др.), назначение яйца вполне уяснить пока не удается[1604]. Статуи Диониса, найденные в беотийских захоронениях, всегда держат в одной руке яйцо[1605], что символизирует возвращение к жизни. Этим объясняется запрет есть яйца в орфической традиции[1606], поскольку главной целью орфизма было избавление от бесконечной цепи реинкарнации — прекращение, другими словами периодического возвращения к жизни.
В заключение я приведу еще несколько примеров ритуального использования яйца. Это, во–первых, земледельческие ритуалы, которые еще совершаются в наши дни. Для того чтобы обеспечить хороший рост зерновых, финские крестьяне имели обыкновение держать яйцо в кармане в течение всего времени сева или же класть его в распаханную землю[1607]. Эстонцы едят яйца во время пахоты, «чтобы набраться сил», а шведы бросают яйца в распаханное поле. Когда немцы сеют лен, они иногда кладут с семенами льна яйца, или оставляют одно яйцо в поле, или же едят яйца во время сева[1608]. У немцев же еще сохранился обычай закапывать в своих полях освященные пасхальные яйца[1609]. Черемисы (марийцы) и вотяки (удмурты) подбрасывают яйца в воздух перед началом сева;[1610] в других случаях они закапывают яйца в бороздах как приношение Матери–Земле[1611]. Яйцо приносится в дар богам подземного мира; нередко оно используется как приношение и в культе умерших[1612]. Но с каким бы ритуалом ни было связано яйцо, оно никогда не утрачивает своего первичного значения: оно обеспечивает повторение акта Творения, в результате которого in illo tempore возникли живые формы. При сборе лекарственных трав иногда на место сорванного растения кладется яйцо, что должно обеспечить появление нового растения на этом месте[1613].
Во всех этих примерах яйцо гарантирует возможность повторения первичного акта, акта Творения. Тем самым мы в некотором смысле можем говорить о ритуальных вариациях мифа Творения. Ибо нам следует научиться отделять понятие «мифа» от таких понятий, как «слово» или «повествование» (ср. гомеровское употребление слова mythos в значении «слово», «речь»), и связывать его с представлениями о «сакральном действии», «значимом жесте» и «первичном событии». Мифическим является не только все, что повествуется о различных событиях, имевших место in illo tempore, или лицах, тогда живших, но и все, что прямо или косвенно имеет к ним отношение. В той мере, в какой яйцо связано с сюжетами Нового года или возвращения весны, представляет собой манифестацию Творения и — в контексте не эмпирического и рационального, но иерофанического опыта — резюме космогонии.
С некоторой точки зрения всякий миф есть миф «космогонический», поскольку всякий миф выражает появление новой космической «ситуации» или некоторое первичное событие, которое становится в силу одного того, что оно таким образом выражено, парадигмой на все последующие времена. Но разумнее не связывать себя какой‑либо формулой и не сводить все мифы к единственному прототипу, как это делали некоторые из крупных ученых прошлых поколений, видевшие во всякой мифологии исключительно манифестации Солнца или Луны. Более полезными, нежели классификация мифов и поиск их возможного «происхождения», нам представляются исследования их структуры и той роли, которую они играют в духовном опыте архаичного человека.
158. ЧТО ОТКРЫВАЮТ МИФЫ
Миф, какова бы ни была его природа, есть всегда прецедент и пример не только для действий человека (сакральных или профанных), но и по отношению к месту, занимаемому человеком в мире; правильнее сказать: по отношению к модусам реального в целом. «Нам следует делать то, что в начале делали боги»;[1614] «Так действовали боги, так действуют люди»[1615]. Утверждения такого рода прекрасно передают образ поведения архаичного человека, но они едва ли исчерпывают содержание и функции мифов[1616]. В самом деле, существует целый ряд мифов, которые, повествуя о том, что боги или мифические существа делали in illo tempore, раскрывают уровень реальности, лежащий полностью за пределами какого‑либо эмпирического или рационального постижения. Существуют, например, мифы, которые можно объединить в одну категорию мифов полярности (или двуединства) и реинтеграции и которым была специально посвящена другая наша книга[1617]. Существует большая группа мифов о братстве богов и демонов (например, девов и асуров), о «дружбе» или кровном родстве героев и их противников (как в случае Индры и Намуки), легендарных святых и дьяволиц (например, фольклорного св. Сисиния и его сестры, дьяволицы Юрцелии) и т. п. Мифы, наделяющие одним «отцом» фигуры, воплощающие диаметрально противоположные принципы, все еще сохраняются в религиозных традициях, акцентирующих дуализм, таких, например, как иранская религия. Зерванизм именует Ормузда и Ахримана братьями, сыновьями Зервана, и даже в «Авесте» сохраняются следы этого представления[1618]. Этот миф в некоторых случаях перешел и в фольклорные традиции: существует множество румынских поверий и пословиц, где Бога и Сатану именуют братьями[1619].
Существует еще одна категория мифов и легенд, где речь идет уже не о братстве между противоположными фигурами, а об их парадоксальной взаимообратимости. Солнце, прототип богов, именуется иногда «Змеем» (§ 45)[1620], а Агни, Бог огня, есть в то же самое время «жрец Асура»[1621], т. е., по существу, демон. Его иногда описывают[1622] как «не имеющего ни ног, ни головы, прячущего обе свои головы», подобно свернувшейся змее. «Айтарея–брахмана»[1623] утверждает, что Ахи Будхнья[1624] есть невидимо (пароксена) тот, кто видимым образом (пратьякша) есть Агни; другими словами, змей есть виртуальность огня, а тьма есть свет в скрытом состоянии. В «Ваджасанее–самхите»[1625]. Ахи Будхнья отождествляется с Солнцем. Сома, напиток, наделяющий бессмертием, имеет в высшей степени «божественную», «солнечную» природу, и при этом мы читаем в «Ригведе»[1626], что сома, «подобно Агни, сбрасывает свою старую кожу», что придает ему в какой‑то мере змеиный характер. Варуна, Бог Неба и архетип «Господина Вселенной» (§ 21), есть одновременно Бог Океана, где, как объясняет «Махабхарата», обитают змеи; он — «змеиный царь» (нагараджа), и «Атхарваведа»[1627] даже называет его «гадюкой».
С точки зрения логики все эти «рептильные» атрибуты никак не могут подходить такому небесному божеству, как Варуна. Но миф приоткрывает онтологическую область, где законы поверхностной логики не имеют силы. Миф о Варуне являет нам божественное двуединство, наложение противоположностей, происходящую внутри божественной природы тотализацию всех атрибутов[1628]. В действенной и драматической форме миф выражает то, что метафизика и богословие определяют диалектически. Гераклит знал, что «Бог есть день и ночь, зима и лето, война и мир, сытость и голод — в нем все противоположности»[1629]. Сходным образом эта идея выражена в индийском тексте, где говорится, что богиня «есть шри [великолепие] в доме тех, кто творит добро, алакшми [противоположность Лакшми, Богини удачи и благополучия] в доме злых»[1630]. Но ведь этот текст всего лишь по–своему выражает то обстоятельство, что индийские Великие богини (Кали и другие), как и все иные великие богини, совмещают в себе черты как благости, так и грозности. Они суть одновременно богини плодородия и разрушения, рождения и смерти (часто также войны). Кали, к примеру, именуется «кроткой и милостивой», хотя связанные с нею мифология и иконография — ужасающие (Кали, покрытая кровью, в ожерелье из черепов, держащая чашу из черепа и т. п.) и ее культ — самый кровавый из азиатских культов. В Индии всякое божество имеет как «милостивый образ», так и «ужасающий образ» (кродха–мурти). В этом отношении в Шиве можно видеть архетип бесчисленного ряда богов и богинь, поскольку он периодически творит и уничтожает всю Вселенную.
159. COINCIDENTIA OPPOSITORUM — МИФОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Мифы, о которых выше шла речь, заключают в себе двойственное откровение: с одной стороны, они выражают диаметральную противоположность двух божественных персонажей, ведущих свое происхождение из единого начала и предназначенных, во многих версиях, воссоединиться в некотором эсхатологическом illud tempus, а с другой стороны, coincidentia oppositorum (совпадение противоположностей) есть само существо божества, которое являет себя поочередно или даже одновременно милостивым и ужасным, творящим и разрушительным, солнечным и змеиным и т. д. (иными словами, актуальным и потенциальным). В этом смысле справедливо будет сказать, что миф более глубоко, чем любой рациональный опыт, раскрывает подлинное строение божества, превосходящего все атрибуты и примиряющего все противоположности. Что этот мифологический опыт не есть исключение, доказывается тем фактом, что он входит в состав почти всех наличествующих форм религии, даже в состав такой строгой традиции, как иудео–христианская. Яхве и добр и гневлив; Бог христианских мистиков и богословов одновременно и ужасен и милостив; это coincidentia oppositorum и служит отправной точкой для дерзновеннейших умозрений таких исследователей, как Псевдо–Дионисий[1631], Мейстер Экхарт и Николай Кузанский[1632].
Coincidentia oppositorum есть один из наиболее архаичных способов выражения парадокса божественной реальности. Мы вернемся к этой формуле, когда будем рассматривать божественные «формы», ту особенную структуру, которую являет нам всякая «божественная личность», при том, разумеется, условии, что мы не смотрим на нее как на простую проекцию человеческой личности. Однако, хотя эта концепция, согласно которой все противоположности примиряются (точнее, превосходятся, трансцендируются), представляет собой, по существу, наиболее фундаментальное определение божества и показывает, насколько радикальным является его отличие от человека, coincidentia oppositorum оказывается тем не менее архетипической моделью и для некоторых категорий религиозных людей, и для некоторых модальностей религиозного опыта. Coincidentia oppositorum, или трансцендирование всех атрибутов, может достигаться человеком всевозможными путями. На самом элементарном уровне религиозной жизни — это «оргия», символизирующая возврат к аморфному и нерасчлененному, к состоянию, в котором все атрибуты исчезают и противоположности сливаются[1633]. Но ведь то же представление можно различить и в идеале, к которому стремится восточный мудрец и аскет, чьи медитативные техники нацелены на преодоление всех атрибутов. Аскет, мудрец, индийский или китайский «мистик» пытается изгнать из своего опыта и сознания любые «крайности», достичь состояния полнейшего безразличия и нейтральности, стать нечувствительным к удовольствию и страданию, стать абсолютно самодостаточным. Трансцендирование крайностей путем аскетических упражнений и созерцания также приводит к «совпадению противоположностей»; сознание такого человека больше не знает конфликтов, и такие пары противоположностей, как удовольствие и страдание, желание и отвращение, холод и жара, приятное и неприятное, изгоняются из его сознания — в ходе того, как в нем осуществляется процесс «тотализации», аналогичный «тотализации» противоположностей в недрах божества. Как мы уже видели ранее (§ 57)[1634], восточный ум воспринимает совершенство не иначе как при наличии всех противоположностей в их полноте. Неофит начинает свой путь с приведения своего опыта в соответствие с ритмами, управляющими миром (солнечным и лунным), но по достижении этой «космизации» он обращает свои усилия на соединение Солнца и Луны, что означает принятие внутрь себя Космоса как целого. Он восстанавливает в себе и для себя то первобытное единство, которое существовало до сотворения мира, единство, означающее не Хаос, существовавший до сотворения каких‑либо форм, но нерасчлененное бытие, в котором все формы слиты.
160. МИФ О БОЖЕСТВЕННОЙ АНДРОГИНИИ
Есть один пример, который еще лучше иллюстрирует усилия, предпринимаемые религиозным человеком для уподобления божественному архетипу, раскрываемому в мифе. Поскольку в божестве сосуществуют все атрибуты, следует ожидать, что в нем получают свое выражение более или менее отчетливым образом и оба пола. Божественная андрогиния есть лишь одно из простейших проявлений божественного двуединства; мифологическая и религиозная мысль, прежде чем выразить эту идею божественного единства–двух–в-одном в метафизических терминах (esse и non esse) или в богословских терминах (явленное и неявленное), выразили ее в биологических терминах бисексуальности. Мы уже не дин раз отмечали, как архаическая онтология получала выражение в биологических терминах. Но нам не следует впадать в ошибку поверхностного восприятия этой терминологии в ее конкретном, профанном («современном») значении. В мифе или ритуале слово «женщина» никогда не означает только женщину: его значение включает в себя также космологический принцип, который воплощает в себе женщина. А божественная андрогиния, обнаруживаемая в столь многих мифах и верованиях, имеет свое теоретическое, метафизическое значение. Подлинное назначение этого понятия — выразить (в биологических терминах) сосуществование противоположностей, космологических принципов (мужского и женского) в недрах божества.
Здесь не место обсуждать проблему, которую мы рассматривали в книге «Mitul Reintegrărti». Достаточно отметить, что божества космического плодородия по большей части либо гермафродиты, либо же бывают погодно то мужского, то женского пола (как, например, «дух леса» у эстонцев). Большинство божеств растительности (таких как Аттис, Адонис, Дионис) бисексуальны, равно как и Великие Матери (например, Кибела). Первобог является андрогином в такой архаичной религии, как религия австралийцев, и в то же время в наиболее развитых религиях Индии и других (иногда это даже Дьяус или Пуруша, космический великан «Ригведы»[1635]). Наиболее важная пара индийского пантеона Шива — Кали иногда представляется в виде единого существа (ардханаришвара). А тантрическая иконография кишит изображениями Бога Шивы, сплетенного в объятиях с Шакти, его собственной силой, представленной в виде божества женского пола (Кали). И наконец, весь индийский эротический мистицизм отчетливо нацелен на достижение человеком совершенства путем его отождествления с «божественной парой», т. е. путем андрогинии.
Божественная андрогиния есть элемент, обнаруживаемый во множестве религий[1636], и, что заслуживает внимания, даже в высшей степени мужественные или женственные божества являются андрогинами. В какой бы форме ни являло себя божество, оно есть последняя реальность, абсолютное могущество, и эта реальность, это могущество не допускают ограничения себя какими бы то ни было атрибутами (добро, зло, мужское, женское и т. д.). Несколько древнейших египетских божеств были бисексуальными[1637]. У греков андрогиния признавалась до последних столетий античности[1638]. У всех основных богов скандинавской мифологии сохраняются следы андрогинии; таковы Один Локи, Туисто, Нертус и др.[1639] Иранский Бог безграничного Времени Зерван, в котором греческие историки справедливо усматривали Кроноса, также был андрогином[1640], и Зерван, как мы уже выше отмечали породил сыновей–близнецов Ормузда и Ахримана, Бога Добра и Бога Зла, Бога Света и Бога Тьмы. Даже у китайцев было андрогинное верховное божество, которое было богом тьмы и света;[1641] этот символ весьма устойчив, ибо свет и тьма суть чередующиеся стороны одной и той же реальности; увиденные по отдельности, они могут казаться раздельными и противостоящими друг другу, но в глазах мудрого они не просто «близнецы» (как Ормузд и Ахриман), но образуют единую сущность, иногда явную, иногда скрытую.
Божественные пары (такие как Бел и Белит, и т. п.) — это чаще всего создания позднейших времен или же несовершенные выражения первобытной андрогинии, свойственной всем божествам[1642]. Так, у семитов богиня Танит прозывалась «дочерью Баала», а Астарта — «именем Баала»[1643]. Имеются бесчисленные случаи называния божества «отцом и матерью»;[1644] миры, существа, люди — все это было рождено из его собственной субстанции, без чьего‑либо посредничества. В качестве необходимого логического следствия божественная андрогиния предполагает моногению, или аутогению, и множество мифов повествуют нам о том, как божество извлекло свое существование из себя самого, — простой и выразительный способ передачи идеи его самодостаточности. Этот же миф возродился в неоплатоническом и гностическом умозрении поздней античности, на этот раз вместе со сложным метафизическим обоснованием.
161. МИФ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ АНДРОГИНИИ
Параллельно с мифом о божественной андрогинии, — который отчетливее любого другого выражения принципа coincidentia oppositorum выявляет парадокс божественного бытия, — существует целый ряд мифов и ритуалов, относящихся к человеческой андрогинии. Миф о божестве образует парадигму для религиозного опыта человека. Согласно многим традициям, «первочеловек», прародитель, был гермафродитом (например, Туисто), а в позднейших мифах повествуется о «прародительских парах» (Яма, т. е. «близнец», и его сестра Ями, или иранская пара Йима и Йимак, или Машьяг и Машьянаг). Некоторые комментарии раввинов дают нам понять, что даже Адама иногда представляли андрогином. В этом случае «рождение» Евы оказывалось просто разделением первоначального гермафродита на два существа: мужчину и женщину. «Адам и Ева были сотворены спина к спине соединенными в плечах; затем Бог разделил их топором, рассек надвое. Другие изображают это иначе: первый человек, Адам, был с левого бока мужчиной, а с правого — женщиной; но Бог расщепил его на две части»[1645]. Бисексуальность первочеловека является еще более живой традицией в обществах, которые мы называем архаичными (например, в Австралии и Океании)[1646], но эта традиция сохраняется и даже развивается в столь разработанных антропологиях, как у Платона[1647] и гностиков[1648].
Еще одним подтверждением того, что андрогиния первочеловека была одним из выражений его совершенства и самодостаточности, может служить тот факт, что первого гермафродита очень часто представляли сферическим (Австралия, Платон); а хорошо известно, что сфера символизировала совершенство и полноту со времени древнейших культур (например, китайской). Тем самым миф о сферической форме первобытного гермафродита смыкается с мифом о космическом яйце. В даосской традиции, например, «дуновения» — служившие воплощением, среди прочего, двух полов — слились и образовали яйцо, Великое Одно, из которого позднее выделились Земля и Небо. Очевидно, что эта космологическая схема служила моделью для мистико–физиологических техник, практиковавшихся даосами[1649].
Миф о боге–гермафродите и бисексуальном праотце (или первочеловеке) выступает в качестве парадигмы для целого ряда ритуалов, нацеленных на периодическое возвращение к этому изначальному состоянию, которое считается совершенным выражением человеческой природы. В дополнение к обрезанию одного и другого рода (circumcision and subincision), выполняемому, соответственно, над юными австралийцами и австралийками с целью ритуального превращения их в андрогинов[1650], можно упомянуть еще ритуалы «обмена одеждой», представляющие собой ослабленный вариант того же явления[1651]. В Индии, Персии и других странах Азии ритуал «обмена одеждой» играл большую роль в сельскохозяйственных праздниках. В некоторых районах Индии мужчины даже носили фальшивые груди во время праздника богини плодородия, которая сама, разумеется, тоже была андрогином[1652].
Короче говоря, время от времени человек ощущает потребность вернуться — хотя бы на мгновение — к тому состоянию совершенной натуральности, когда имело место сосуществование полов, подобное их сосуществованию, вместе со всеми другими атрибутами в божестве. Мужчина, одетый в женское платье, вовсе не пытается превратиться в женщину, как может показаться на первый взгляд; нет, он на мгновение реализует единство полов и тем самым облегчает себе целостное понимание Космоса. Потребность, ощущаемая человеком, периодически упразднять свое выделенное и потому «частичное» состояние и тем самым возвращаться к первобытной «тотализации» — это та же самая потребность, которая побуждает его к периодическому участию в оргиях, где распадаются все формы, ради достижения в конечном счете того «единства», которое имело место до Творения. Здесь мы вновь встречаемся с потребностью разрушения прошлого, упразднения «истории» и начала новой жизни в новом Творении. Ритуал «обмена одеждой», в сущности, аналогичен ритуальной оргии, и действительно, такие переодевания очень часто служили сигналом к развязыванию настоящих оргий. Но даже дичайшие формы такого рода ритуалов никогда не утрачивали своего фундаментального смысла — нового приобщения их участников к райскому состоянию «первобытного человека». И в качестве парадигмы для всех этих ритуалов служит миф о божественной андрогинии.
Если бы нам понадобились дополнительные примеры парадигматической функции мифов, нам было бы достаточно еще раз просмотреть материал предыдущих глав. Как мы видели, речь идет о парадигматике не только для ритуала, но и для другого религиозного или метафизического опыта, для «мудрости», для мистико–физиологических техник и т. д. Наиболее фундаментальные из мифов заключают в себе архетипы, которые человек стремится переживать вновь и вновь, часто за пределами того, что обычно именуют религиозной жизнью. Вот лишь один пример: андрогиния достигается не только посредством хирургических операций, сопровождающих австралийские инициационные ритуалы, не только в ритуальных оргиях, «обмене одеждой» и т. п., но и в алхимии (ср. ребис, формулу философского камня, называемого также «герметическим гермафродитом»), в браке (например, в каббалистическом его понимании) и даже, согласно идеологии немецкого романтизма, в половом акте[1653]. Мы даже можем говорить об «андрогинизации» человека посредством любви, ибо в любви каждый из полов достигает, завоевывает «характеристики» противоположного пола (как, например, в случае внимания, покорности и поклонения со стороны влюбленного мужчины).
162. МИФЫ ОБНОВЛЕНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ИНИЦИАЦИИ И Т. П.
Ни в каком случае нельзя рассматривать миф в качестве фантастической проекции «естественного» события. В плоскости магико–религиозного опыта, как мы уже указывали, природа («естество») никогда не бывает «естественной». То, что уму эмпирика или рационалиста представляется естественной ситуацией или естественным процессом, в магико–религиозном опыте есть кратофания или иерофания. И только за счет этих кратофаний и иерофаний «природа» становится чем‑то магико–религиозным и тем самым представляющим интерес для религиозной феноменологии и истории религий. Мифы о «богах растительного мира» составляют в этом отношении отличный пример трансформации «естественного» космического события и обретения им религиозной ценности. Образы богов растительности (Таммуза, Аттиса, Осириса и других) и мифы о них возникли не из факта периодического исчезновения растительности и ее появления вновь; по крайней мере, не из простого наблюдения, эмпирического и рационального, этих «естественных» явлений. Появление и исчезновение растительности всегда воспринималось — в перспективе магико–религиозного опыта — как знак периодического Творения мира. Страдания, смерть и воскресение Таммуза, какими они явлены нам в мифе и в том, что они открывают, столь же далеки от «естественных феноменов» зимы и весны, как образы мадам Бовари и Анны Карениной от адюльтера. Миф есть автономный акт духовного творчества; именно через этот творческий акт осуществляется откровение — а не через те вещи или события, которые он использует. Короче: драма смерти и воскресения растительного мира раскрывается нам посредством мифа о Таммузе, а не наоборот.
В самом деле, миф о Таммузе и мифы о богах, ему подобных, раскрывают такие аспекты природы Космоса, которые далеко выходят за пределы сферы растительной жизни; они говорят, с одной стороны, о фундаментальном единстве жизни и смерти, а с другой — о тех надеждах, которые человек не без основания извлекает из этого фундаментального единства относительно своей собственной жизни после смерти. С этой точки зрения мы можем рассматривать мифы о страданиях, смерти и воскресении растительных богов как парадигмы для человеческой судьбы: они раскрывают «природу» лучше и глубже, чем какой бы то ни было эмпирический или рациональный опыт; именно для сохранения и возобновления этого Откровения и должны постоянно воспроизводиться и праздноваться эти мифы. Появление и исчезновение растительности как таковой, как «космического явления» означает лишь то, что оно есть: периодическое появление и исчезновение растительной жизни. Лишь миф может преобразовать это событие в категорию: с одной стороны, потому, разумеется, что смерть и воскресение растительных богов выступают в качестве архетипов всех смертей и всех воскресений, в какой бы форме и в какой бы плоскости они ни происходили, но и потому, с другой стороны, что они оказываются более совершенным средством раскрытия человеческой судьбы, нежели какие бы то ни было рациональные или эмпирические средства.
Аналогичным образом некоторые космогонические мифы, повествующие о том, как мир был сотворен из тела первобытного великана, если не из тела и крови самого Творца, стали моделью не только для «строительных ритуалов» (связанных, как мы знаем, с принесением в жертву живого существа при возведении дома, моста или святилища), но и для всех форм «творчества» в широчайшем смысле этого слова. Миф раскрывал природу всех «творческих актов» — а именно то, что они не могут быть осуществлены без «одушевления», без прямой жертвы жизнью созданием, которое уже обладает этой жизнью. В то же время он раскрывал неспособность человека творить помимо воспроизведения своего собственного вида — но даже и это воспроизведение представляется во многих обществах делом религиозных сил, источник которых находится вне человека (считается, что дети происходят от деревьев, камней, воды, «предков» и т. д.).
Множество мифов и легенд повествуют о «трудностях», с которыми сталкиваются полубоги и герои при вступлении в «заповедную область», символизирующую некоторое трансцендентное место — ад или рай. Там мост, перейти по которому все равно что по лезвию ножа; дрожащая лиана, по которой нужно пробежать и не упасть; две почти соприкасающиеся скалы, между которыми нужно пройти; дверь, в которую нужно войти за мгновение, когда она бывает открыта; место, окруженное горами, водой, кольцом огня, охраняемое чудовищами, или дверь, стоящая в точке, где «встречаются Небо и Земля» или где «сходятся вместе концы года»[1654]. Некоторые варианты этого типа мифов об испытаниях, такие как подвиги и приключения Геракла, путешествие аргонавтов и другие, даже обрели в античные времена богатую литературную судьбу: их постоянно использовали и переделывали поэты и мифографы. Далее, они воспроизводились в циклах полуисторических легенд, подобных циклу легенд об Александре Великом, который также побывал в стране тьмы, искал траву жизни, сражался с чудовищами и т. д. Многие из этих мифов послужили, без сомнения, архетипами для ритуалов инициации (например, схватка с трехглавым чудовищем — это классическое «испытание» в военных инициациях)[1655]. Но эти мифы о «поиске запредельной земли» заключают в себе нечто большее, чем сценарии инициации; мы хотим сказать: парадоксальную «модальность» выхода за пределы полярности, которая неотделима от любого мира (любого «состояния»). Прохождение через «тесные врата», через «игольное ушко», между «соприкасающимися скалами» и т. п. всегда подразумевает пары противоположностей (добро и зло, ночь и день, высокое и низкое и т. д.)[1656]. В этом смысле справедливо будет сказать, что мифы «поиска» и «инициационных испытаний» раскрывают, в пластической или драматической форме, действительный акт, посредством которого дух выходит за пределы Космоса, обусловленного, поляризованного и фрагментарного, чтобы вернуться к фундаментальному единству, существовавшему до сотворения.
163. СТРУКТУРА МИФА: ВАРУНА И ВРИТРА
Миф, как и символ, имеет свою особую «логику», свою собственную внутреннюю связность, которая позволяет ему быть «истинным» в различных плоскостях, сколь бы далеко они ни отходили от той плоскости, в которой этот миф первоначально появился. Мы уже отмечали ранее, сколь по–разному и со сколь многих различных точек зрения «истинен» — и тем самым эффективен, «полезен» — миф о Творении. В качестве другого примера обратимся еще раз к мифу о Варуне, верховном Боге Неба, всемогущем и таком, что при необходимости он «связывает» посредством своей «духовной силы», посредством «магии». Но космический аспект этого образа еще более сложен: как мы видели, он не только Бог Неба, но и Бог Луны, и водный Бог. В образе Варуны различима определенная «ноктюрновая» доминанта — причем, возможно, уже с довольно ранних времен, — которую весьма акцентировали Бергень и, ближе к нашим дням, Кумарасвами. Бергень обращал внимание[1657] на то, что комментатор «Тайттирия–самхиты»[1658] говорит о Варуне, что он «объемлет как тьма». Эту «ноктюрновую» сторону Варуны не следует понимать в одном лишь ураническом смысле, как «ночное небо», но и в более широком, космологическом, даже метафизическом смысле: ночь тоже есть виртуальность, семя, непроявленность; именно в силу того, что Варуна обладает этим «ноктюрновым» элементом, он и может быть Богом Воды;[1659] в силу этого же существует возможность его отождествления с демоном Вритрой.
Здесь не место углубляться в проблему «Вритра — Варуна»; мы лишь укажем на тот факт, что эти два персонажа имеют по меньшей мере одну общую черту. Даже оставляя в стороне возможную этимологическую связь между их именами[1660], мы должны отметить, что оба они связаны с водой, и в первую очередь с «удерживаемой водой» («Великий Варуна спрятал море»)[1661], и что Вритра, как и Варуна, иногда именуется майин, т. е. «магом»[1662]. В определенной перспективе эти различные отождествления Варуны с Вритрой, равно как и все другие модальности и функции Варуны, обнаруживают взаимное соответствие и объясняют друг друга. Ночь (непроявленное), вода (виртуальное, семена), «трансцендентность» и «недеяние» (то и другое суть характеристики верховных богов и богов Неба, соответственно, и Варуны) согласуются — как в мифологическом, так и в метафизическом плане — с одной стороны, со всяким существом, которое «связывает», а с другой стороны, с Вритрой, который «удерживает», «останавливает» и «сковывает» воды. На космическом уровне Вритра тоже есть «тот, кто связывает». Как и все великие мифы, миф о Вритре, таким образом, имеет много смыслов, и ни одна интерпретация их не исчерпывает. Можно даже сказать, что одна из основных функций мифа состоит в том, чтобы определить, узаконить уровни реальности, которая как непосредственному восприятию, так и рефлексии предстает множественной и неоднородной. Так, в мифе о Вритре мы, помимо других смыслов, выделяем смысл возвращения к непроявленному, «остановки», «оков», препятствующих развитию «форм», т. е. космической жизни. Конечно же нам не следует заходить слишком далеко в прослеживании параллелизма мифов о Вритре и Варуне. Но невозможно отрицать структурную связь между «ночным», «недействующим», «магом» Варуной, который «связывает» виновных на расстоянии, и Вритрой, «сковывающим» воды. Действия обоих направлены на то, чтобы остановить жизнь и принести смерть, только один это делает индивидуально, а другой — на космическом уровне.
164. МИФ КАК «ОБРАЗЦОВАЯ ИСТОРИЯ»
Всякий миф, независимо от его характера, повествует о событии, имевшем место in illo tempore, и является в силу этого прецедентом и образцом для всех действий и ситуаций, в последующем это событие воспроизводящих. Всякий ритуал и всякий осмысленный акт, выполняемый человеком, воспроизводит мифический архетип. И, как мы видели, это воспроизведение предполагает упразднение профанного времени и помещение человека в магико–религиозное время, которое никак не связано со следованием в точном смысле слова, но представляет собой «вечное теперь» мифического времени. Другими словами, наряду с другими типами магико–религиозного опыта, миф возвращает человека во вневременную эпоху, каковая представляет собой, в сущности, illud tempus, т. е. «предрассветное», «канунное» время — оно же «райское» время, время вне истории. Всякий, совершающий ритуал, выходит за пределы профанного времени и пространства; аналогично всякий «имитирующий» мифологическую модель или даже выступающий в роли слушателя (а значит, участника) ритуальной рецитации мифа изымается из процесса профанного «становления» и возвращается в Великое Время.
Мы, современные люди, сказали бы, что миф (а вместе с ним и все другие виды религиозного опыта) упраздняет «историю» (§ 150). Но заметьте: большинство мифов, просто потому, что они повествуют о том, что имело место in illo tempore, сами представляют некую образцовую историю для того человеческого общества, в котором они были сохранены, и для мира, в котором живет это общество. Даже космогонический миф есть история, поскольку он рассказывает обо всем, что произошло ab origine. Но едва ли нужно оговаривать, что нам следует помнить, что это не история в нашем смысле этого слова — то, что единожды случилось и больше не повторится, — но образцовая история, которая может повторяться (регулярно или нет) и смысл и ценность которой как раз и состоит в этом повторении. История, имевшая место в начале, должна повторяться потому, что начальное откровение было предельно богатым, иначе говоря, оно не может быть исчерпано однократной манифестацией. И миф тоже богат содержанием, ибо он парадигматичен и потому имеет смысл, создает нечто, говорит нам нечто…
Функция мифов как образцовой истории дополнительно подтверждается присущей архаичному человеку потребностью предъявлять «доказательства» события, о котором повествует миф. Допустим, это хорошо известный мифологический сюжет: то‑то и то‑то произошло, люди стали смертными, или тюлени лишились пальцев, или на Луне появились пятна. Миф, рассказывающий о том, как остров Тонга выудили со дна моря, подтверждается тем, что вы все еще можете увидеть лесу, с помощью которой его вытянули, и ту скалу, за которую зацепился крючок[1663]. Эта потребность доказать правдивость мифа помогает нам также понять, что значили для архаичного сознания история и «исторические свидетельства». Она показывает, какое значение архаичный человек придает тому, что подлинно имело место, событиям, которые действительно произошли в его окружении; она показывает, как его ум жаждет того, что «реально», того, что есть в максимально полном смысле этого слова. Но в то же время архетипическая функция, которой наделены эта события illud tempus, дает нам представление об интересе, который испытывают архаичные люди к реальностям значимым, творческим, парадигматическим. Этот интерес еще сохранялся у первых историков древнего мира, ибо для них «прошлое» имело смысл лишь в той мере, в какой оно было примером, достойным подражания, и, следовательно, образовывало педагогическую сумму для всего человечества[1664]. Эта миссия «образцовой истории», выпавшая на долю мифа, должна, чтобы быть правильно понятой, рассматриваться в связи со стремлением архаичного человека добиваться конкретного осуществления идеального архетипа, «опытно» переживать вечность здесь и теперь — стремлением, которое мы обсуждали в рамках нашего анализа священного Времени (§ 155).
165. ДЕГРАДАЦИЯ МИФОВ
Миф может выродиться в эпическую легенду, в балладу или роман либо выжить лишь в ослабленной форме «предрассудков», обычаев, ностальгии и т. д.; при всем том он не теряет ни своей сущности, ни своего значения. Вспомним, как миф о Космическом дереве сохранился в легендах и обычаях, связанных со сбором лекарственных трав (§ 111). «Испытания», страдания и странствия проходящего инициацию воспроизводятся в повествованиях о страданиях и трудностях, претерпеваемых героями эпоса или драмы, прежде чем они достигают своей цели (Одиссей, Эней, Парсифаль, некоторые шекспировские персонажи, Фауст и т. д.). Все эти «испытания» и «страдания», составляющие содержание эпоса, драмы или романа, отчетливым образом связаны с ритуальными страданиями и препятствиями на «пути к Центру» (§ 146). Без сомнения, «путь» уже не разворачивается в той же инициационной плоскости, но с типологической точки зрения странствия Одиссея или поиск св. Грааля находят отражение в великих романах XIX века, не говоря уже о развлекательном чтении, архаическое происхождение сюжетов которого нетрудно проследить[1665]. Если сегодня детективы рассказывают о поединке преступника и сыщика (доброго гения и злого гения, дракона и прекрасного принца старых историй), тогда как несколько поколений тому назад предпочитали изображать принца–сироту или невинную деву в лапах «злодея», а лет сто пятьдесят тому назад была мода на «черные» и «безумные» романы с «черными монахами», «итальянцами», «злодеями», «похищенными девушками», «заступниками в масках» и т. п., то эти вариации в деталях отражают лишь колорит времени и смены общественных вкусов; тема же остается неизменной.
Разумеется, каждый следующий шаг приносит с собой некоторое огрубление конфликта и образов, утрату изначальной прозрачности, равно как и умножение черт, связанных с «местным колоритом». Но модели, пришедшие из далекого прошлого, никогда не исчезают; они не утрачивают способности к реактуализации. Они остаются значимыми для «современного» сознания. Взять лишь один из тысячи примеров: Ахилл и Серен Кьеркегор. Ахилл, как и многие другие герои, не женился, хотя ему и предсказывали счастливую и плодотворную жизнь, если бы он сделал это; но в этом случае он бы отказался от возможности стать героем, не реализовал бы свой «уникальный шанс», не обрел бы бессмертия. Кьеркегор прошел в точности через такую же экзистенциальную драму в отношении Регины Ольсен; он отказался от женитьбы, чтобы остаться самим собой, «уникальным», чтобы иметь надежду на вечность в обмен на отказ от модальности счастливой жизни в «общем». Он совершенно недвусмысленно говорит это в следующем отрывке из личного дневника: «Я был бы счастливее, в конечном смысле, сумей я избавиться от той занозы, которую я ощущаю в моей плоти; но в бесконечном смысле я был бы кончен». Таким образом, мифологическая парадигма может реализовываться и действительно реализуется в плане экзистенциального опыта; разумеется, в этом случае — в отсутствии какой‑либо мысли о мифе или его влияния.
Даже опускаясь на все более низкие уровни, миф сохраняет свою творческую силу. Так, например, мифы об «островах блаженства» или о «земном рае» захватывали воображение не только обывателей, но и представителей науки мореплавания вплоть до эпохи великих морских открытий. Почти все мореплаватели, не исключая и тех, кто преследовал отчетливые экономические цели (вроде открытия пути в Индию), помимо этого надеялись обнаружить «острова блаженных» или «земной рай». И мы знаем, что было немало таких, кто думал, что он и в самом деле нашел райский остров. От финикийских до португальских — все знаменитые географические открытия были вдохновлены мифом об Эдеме. И лишь эти путешествия, эти поиски, эти открытия обретали духовный смысл, лишь ими творилась культура. Если из памяти людей не изгладится поход Александра в Индию, то это потому, что, будучи отождествленным с мифологической парадигмой, он удовлетворял потребность в «мифической географии» — единственной, без которой человек не может обойтись[1666]. Коммерческие базы генуэзцев в Крыму и на Каспийском море и венецианцев в Сирии и Египте являются, вероятно, свидетельствами очень высокого уровня мореплавательского искусства, и все же эти торговые пути «не оставили никаких следов в истории географических открытий»[1667]. С другой стороны, экспедиции с целью открытия мифических земель не только оставляли после себя легенды — они также умножали географическое знание.
Эти острова и эти новые земли сохраняли свой мифический характер долгое время после того, как география стала научной. «Острова блаженных» дожили до Камоэнса, прошли сквозь век Просвещения и эпоху романтизма и находят себе место даже в наши дни. Но мифический остров больше не имеет смысла Эдемского сада: это Остров любви Камоэнса, остров «доброго дикаря» у Даниэля Дефо, остров Эвтаназиус у Эминеску, «экзотический» остров, остров сновидений с тайными красотами или остров свободы, джаза, прекрасного отдыха, идеальных каникул, круиза на роскошном лайнере, который стремится отыскать современный человек в миражах, предлагаемых ему книгами, фильмами или собственным воображением. Функция райской земли совершенной свободы остается неизменной; это лишь представления о ней человека претерпели множество изменений — от рая в библейском смысле до экзотического рая в мечтах наших современников. Это, разумеется, упадок — но урожайный. На всех уровнях человеческого опыта, даже самых заурядных, архетипы продолжают придавать смысл жизни и творить «культурные ценности»: рай современных романов и остров Камоэнса столь же значимы в культурном отношении, как и любой из островов средневековой литературы.
Другими словами, человек, от чего бы он ни был свободен, всегда остается пленником своих архетипических интуиций, образовавшихся в тот момент, когда он впервые осознал свое место в Космосе. Тоску по раю можно различить даже в самых обыденных действиях современного человека. Идея абсолюта не может быть выкорчевана; она может лишь подвергаться деградации. И архаическая духовность остается на свой лад живой, не в качестве акта, не в качестве того, что человек может реально осуществить, но в качестве творческой ностальгии — ностальгии, творящей автономные ценности: искусство, науки, социальную мистику и т. д.
БИБЛИОГРАФИЯ
Krappe А. Н. Mythologie universelle. P., 1930; Krappe A. H. La Genèse des mythes. P., 1938; Gray L. H., Moore G. F. (ed.) The Mythology of All Races. Boston, 1916 1932. 13 vols.; illus.; Guirand F. (ed.) Mythologie générale. P., 1935; Cinti G. Dizionario mitologico. Milan, 1935; Pettazzoni R. Miti e Leggende. I: Afrika e Australia. Turin, 1947; III: America Settentrionale. 1953.
Muller M. Comparative Mythology. Oxford, 1856 (reproduced in vol. II of Chips from a German Workshop); Muller M. Contributions to the Study of Mythology. L., 1896; Cox W. An Introduction to the Science of Comparative Mythology. L., 1881–1883; Kuhn Α. Mythologische Studien. Vol. I. Gütersloh, 1886; De Gubernatis A. Zoological Mythology. L., 1872; De Gubernatis A. La Mythologie des plantes ou des legendes du regne vegetal. P., 1878–1882. 2 vols.
Stucken E. Astralmythen der Hebräer, Babylonier und Ägypter. Leipzig, 1896–1907; Siecke E. Liebesgeschichte des Himmels. Strasbourg, 1892; Siecke E. Mythologische Briefe. В., 1901; Lesmann. Aufgaben und Ziele der vergleichenden Mythenforschung (Mythologische Bibliothek, I). Leipzig, 1908; Boklen E. Adam und Qain im Lichte der vergleichenden Mythenforschung. Leipzig, 1907; Boklen E. Die Enstehung der Sprache im Lichte des Mythos. В., 1922; Spiess K. von. Prähistorie und Mythos. Wiener Neustadt, 1910; Langer F. Intellektual‑Mythologie, Betrachtungen über das Wesen des Mythus und der mythologischen Mediode. Leipzig; В., 1917.
Lang А. Modern Mythology. L., 1897; Lang A. Myth, Ritual and Religion. L., 1901. 2 vols.; Lang A. Custom and Myth. New ed. L., 1904; Lang A. The Making of Religion. 3rd ed. L., 1909; Steinthal Η. Allgemeine Einleitung in der Mydiologie // AFRW. 1900. Vol. III. S. 249–273, 297–323; Ehrenreich P. Die Mythen und Legenden der Südamerikanischen Urvölker und ihre Beziehungen zu denen Nordamerikas und der alten Welt // ZFE. 1905. Suppl.; Ehrenreich P. Die allgemeine Mythologie und ihre ethnologischen Grunlagen (Mythologische Bibliothek. Vol. IV. №1). Leipzig, 1910; Jensen A. E. Das religiöse Weltbild einer frühen Kultur. Stuttgart, 1948; Jensen Α.Ε. Mythos und Kult bei Naturvölkern. Wiesbaden, 1951.
Lukas F. Die Grundbegriffe im dem Kosmogonien der alten Völker. Leipzig, 1893; Lukas F. Das Ei als kosmogonische Vorstellung // F. Zeit Verein für Volkskunde. 1894. Vol. IV. S. 227–243; Gunkel H. Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit. Eine religionsgescichtliche Untersuchung über Gen. I und Ap. Joh. 12. Göttingen, 1895; Baumann H. Schöpfung und Urzeit des Menschen im Mythus der afrikanischen Völker. В., 1936; Numazawa F. K. Die Weltanfänge in der japanischen Mythologie. Lucerne; P., 1946.
Gushing F. N. Outlines of Zuni Creation Myths // Bulletin of the Bureau of Ethnology. Washington, 1896. Vol. XIII; Boas F Tsimshian Mythology // Bulletin of the Bureau of Ethnology. Washington, 1916. Vol. XXXI; Jensen A. E. Hainuwele. Frankfurt a. M., 1939; Macdonell A. A. Vedic Mythology. Strasbourg, 1897; Hopkins E. W. Epic Mythology. Strasbourg, 1915; Frazer J. Myths of the Origin of Fire. L., 1930; см. также: Frazer J. The Mythology of All Races.
Gruppe О. Griechische Mythologie und Religionsgeschichte. Münich, 1906. 2 vols. Gruppe O. Geschichte der Klassischen Mythologie und Religionsgeschichte. Leipzig 1921; Rose H. J. A Handbook of Greek Mythology, Including its Extention to Rome. L. 1928; Nilsson M. P. The Mycenian Origin of Greek Mymology. Cambridge, 1932; Dornsieff F. Die archaische Mythenerzählung. В., 1933; Schuhl P. M. Essai sur la formation de la pensee grecque. Stuttgart, 1940; Fehr K. Die Mythen bei Pindar. Zürich, 1936; Frutiger P. Les Mythes de Platon. P., 1930; Untersteiner M. La Fisiologia del mito. Milan, 1946; Rose H. J. Modern Methods in Classical Mythology. St. Andrews, 1930; Jung С.G., Kerenyi К. Introduction to the Science of Mythology. L., 1951; Kerenyi K. Mythologie und Gnosis // EJ. 1940–1941. Leipzig, 1942. S. 157–229; Kerenyi K. Die Geburt der Helena. Zürich, 1945; Kerenyi К. Prometheus. Das griechische Mythologem von der menschlichen Existenz. Zürich, 1946.
Hooke S.Н. (ed.) Myth and Ritual. L., 1934; Hooke S. H. The Labyrinth. L., 1935, особ.: Hooke S. H. The Myth and the Ritual Pattern. P. 213–233; Hocart A. N. The Life‑giving Myth. L., 1952. P. 263–281; Kluckhohn С Myths and Rituals, a General Theory // Harvard Theological Review. 1942. Vol. XXXV. P. 45–79.
Malinowski В. Myth in Primitive Psychology. L., 1926; Preuss К. Т. Der religiöse Gehalt der Mythen. Tübingen, 1933; Leeuw G. van der. Religion in Essence and Manifestation. L., 1938, особ. P. 413 и сл.; Leeuw G. van der. L’Homme primitif et la religion. P., 1930 — по всей работе; Levy‑Bruhl L. La Mythologie primitive. Le monde mythique des Australiens et des Papous. P., 1936; Caillots R. Le Mythe et l’homme. P., 1938; Ehnmark E. Anthropomorphism and Miracle. Uppsala; Leipzig, 1939; Leenhardt M. Do Kamo, La Personne et le mythe dans le monde mélanésien. P., 1947, особ. p. 220 и сл.; Cassirer E. Die Begriffsform im mythischen Denken. Leipzig, 1922 (Studien der Bibliothek Wartburg. Vol. I); Cassirer E. Sprache und Mythos. Ein Beitrag zum Problem der Göttemamen. Leipzig, 1925 (id. Vol. VI); Coomaraswamy A. K. Angel and Titan. An Essay in Vedic Ontology // JAOS. 1935. Vol. LV. P. 373–419; Coomaraswamy A. K. The Darker Side of the Dawn (Smithsonian Miscellaneous Collections. Vol XCTV. N.1). Washington, 1935; Coomaraswamy A. K. Sir Gawain and the Green Knight; Indra and Namuci // Speculum. 1944. Vol. XIX. P. 2–23; Coomaraswamy A. K. On the Loathly Bride // Speculum. 1945. Vol. XX. P. 391–404; Coomaraswamy A. K. Symplegades. Homage to George Sarton. N. Y., 1947. P. 463–488; Eliade M. Les Livres populaires dans la litterature roumaine // CL. 1939. Vol. II, published 1941. P. 63–75; Eliade M. Mitul Reintegrării. Buchareşt, 1942; Eliade M. Le Dieu lier et le symbolisme des noeds // RHR July — Dec. Vol CXXXTV; Eliade M. The Myth of the Eternal Return. L., 1955; Eliade M. Images et Symboles. Essais sur le symbolisme magico‑religieux. P., 1952.
Steinthal H. Allgemeine Einleitung in die Mythologie // AFRW. 1900. Vol. III. P. 249–273, 297–323; Farneil L. R. The Value and the Methods of Mythologie Study // Proceedings of the British Academy. 1919. Vol. IX. P. 37–51; Nilsson M. P. Moderne mythologische Forschung // Scientia. 1932. Vol. LI; Rose J. H. Mythology and Pseudo‑Mythology // FRE. 1935. Vol. XLVI. P. 9–36.
Глава XIII
СТРУКТУРА СИМВОЛОВ
166. СИМВОЛИЧЕСКИЕ КАМНИ
Магико–религиозные феномены редко обходятся без той или иной формы символизма, чему материал предыдущих глав дает массу подтверждений. Это не отменяет, конечно, того факта, что каждый магико–религиозный предмет или каждое магико–религиозное событие представляют собой кратофанию, иерофанию или теофанию. Но часто мы встречаемся с промежуточными кратофаниями, иерофаниями или теофаниями, составляющими часть какой‑либо магико–религиозной системы, каковая всегда есть система символическая, есть символизм. Всего один пример: мы видели, как некоторые камни стали священными либо потому, что они олицетворяют души умерших («предков»), либо потому, что через них проявляет себя священная сила или божество, либо потому, что вблизи от них произошло религиозное событие или торжественное заключение Завета. Но есть множество камней, которые приобретают магико–религиозный характер вследствие промежуточной иерофании или кратофании, другими словами, благодаря символизму, наделяющему их магической или религиозной значимостью.
Камень, на котором спал Иаков, когда ему приснилась лестница ангелов, стал священным, потому что был свидетелем иерофании. Молельни или омфалы священны, потому что находятся в Центре мира, а значит, в точке соединения трех космических зон. Ясно, что сам Центр — священная зона, и все, что его представляет или олицетворяет, тоже становится священным и может, следовательно, считаться иерофанией. В то же время не будет ошибкой сказать, что молельня или омфал есть «символ» Центра, поскольку она заключает в себе супра–пространственную реальность (Центр) и помещает ее в профанном пространстве. В этом случае «иерофанизация» осуществляется прямым обнажением символизма реальной «формой» камня («форма» в данном случае — это, конечно, то, что воспринимается магическим или религиозным опытом, а не эмпирически и рационально). Но другие магические камни — «драгоценные» или целебные — не всегда черпают свою значимость в столь прозрачном символизме. Я приведу несколько примеров, чтобы показать, как развивается, все более и более усложняясь, символизм, какого еще нет у рассмотренных нами камней.
Нефрит — драгоценный камень, игравший важную роль в древнем китайском символизме[1668]. В сфере социального порядка он воплощал суверенитет и власть, в медицине его считали панацеей и принимал» внутрь для регенерации тела;[1669] думали также, что он служит пищей духам, а приверженцы дао верили, что он гарантирует бессмертие;[1670] отсюда важное место, которое нефрит занимал в алхимии и в погребальных верованиях и обрядах. Вот что писал алхимик Гэ–Хун: «Если у трупа в девяти естественных отверстиях есть золото и нефрит, это убережет тело от разложения»[1671]. А в трактате «Tao Хунцзин» (V в.) разъясняется: «Если при открытии старой могилы труп выглядит как живой, значит, внутри тела или снаружи есть много золота и нефрита. По законам времен династии Хань особ царской крови и знать хоронили в одежде, украшенной жемчугом и коробочками из нефрита, чтобы предотвратить гниение тела»[1672]. Недавние археологические изыскания подтвердили то, что поведали нам эти тексты о погребальном нефрите[1673].
Но нефрит обладает такой силой только потому, что воплощает космологическое начало ян и, следовательно, наделен целым рядом солярных — царственных и неразрушимых — качеств. Т. к. нефрит, подобно золоту, содержит ян, он становится Центром, наполненным космической энергией. Тот факт, что он находит такое широкое применение, логически следует из многосторонности самого ян. И если бы мы захотели докопаться до истории космологической формулы ян — инь, мы встретили бы еще один символизм, который объяснял использование нефрита[1674].
Что касается жемчуга, то историю его первобытного символизма мы можем проследить далеко вглубь времен, — этому я посвятил одно из своих исследований[1675]. Жемчужины и раковины находили в доисторических захоронениях, их применяли в магии и медицине, приносили в дар речным и другим божествам; женщины носили их в надежде на удачу в любви и плодовитость. Одно время жемчужины и раковины повсюду считались магико–религиозными предметами; постепенно сфера их применения сужалась до колдовства и медицины[1676], а затем жемчуг стал иметь лишь эстетическую и экономическую ценность у представителей некоторых социальных слоев. Это снижение метафизической значимости от «космологической» до «эстетической» — само по себе любопытный феномен, к которому мы еще будем иметь случай обратиться, но сначала мы должны попытаться ответить на вопрос: почему жемчуг вообще имел какое‑либо магическое, медицинское или погребальное применение? Ответ ясен: потому что он был «рожден от воды», потому что он был «рожден от Луны», потому что он представлял начало инь, потому что он был найден в раковине, символизирующей животворящую женственность. Все служит превращению жемчужины в «космологический Центр», соединяющий в себе могущество Луны, женщины, плодовитости и рождения. Жемчужины полны порождающей силы воды, в которой они образовались; «рожденные от Луны»[1677], они обладают долей ее магической силы и поэтому любимы женщинами; сексуальный символизм раковин передает им мощь соответствующих сил; наконец, сходство по форме с зародышем наделяет жемчужины способностью к родовспоможению (мидия pang, «беременная жемчужиной, подобна женщине с зародышем в утробе», гласит один китайский текст[1678]). Все качества жемчуга, которым находят применение магия, целительство, гинекология и погребальная обрядность, обусловлены тройственным символизмом этого минерала — символизмом воды, Луны и женщины.
В Индии жемчуг — панацея от всех болезней: им лечат кровотечения, желтуху, безумие, отравления, глазные болезни, туберкулез и другие недуги[1679]. В европейской медицине он применялся в основном против меланхолии, эпилепсии и сумасшествия;[1680] как видим, большая часть этих болезней — «лунные» (меланхолия, эпилепсия, кровотечения и т. д.). Антитоксические свойства жемчуга не имеют иного объяснения; Луна излечивала любые отравления[1681]. Но ценность, которую жемчугу придавали на Востоке, исходит главным образом от его способности возбуждать любовь, поднимать плодовитость и оберегать, как талисман. Положенный в могилы рядом с покойниками, он объединял их с космологическими силами, содержащимися в нем самом, — Луной, водой, женщиной. Другими словами, он возвращал мертвых к жизни помещением их в сферу космического ритма, в высшей степени циклического, включающего (наподобие фаз луны) рождение, жизнь, смерть, новое рождение. Когда мертвеца покрывают жемчугом[1682], он вступает на «лунную» стезю; у него есть надежда вернуться в космический круговорот, потому что он наделен всем могуществом Луны, рождающей живые формы.
167. ДЕГРАДАЦИЯ СИМВОЛОВ
Нетрудно видеть, что то, что делает жемчуг столь многозначным, есть в первую очередь структура связанного с ним символизма. Подчеркиваем ли мы в своем толковании сексуальный аспект этого символизма или предпочитаем выводить его смысл из доисторической ритуальной модели, одно остается неизменным в любом случае — его космологическая природа. Во всех первобытных обществах отличительные особенности и функции жемчуга неизменно сохраняют космологическую ценность. Мы не можем с точностью сказать, в какой момент доисторической эпохи жемчуг приобрел те качества, о которых я говорил. Но наверняка жемчуг не мог стать магическим камнем до того, как человек осознал космологическую природу Воды, Луны и изменений, пока он не обнаружил управляемые Луной природные ритмы. Таким образом, «истоки» символизма жемчуга не в эмпирии, а в своеобразной интуитивной теории. Только потом этот символизм стали объяснять, и он начал «жить» в разных формах, которые к сегодняшнему дню выродились в связанные с жемчугом суеверия и экономико–эстетическую ценность.
Завершим нашу историю рассмотрением некоторых магико–религиозных камней. Первым из них будет lapis lazuli, голубой камень, весьма почитавшийся в Месопотамии как священный благодаря своей космологической значимости — он символизировал звездную ночь и Бога Луны Сина. Греки заимствовали у вавилонян медицинское применение некоторых камней, считавшихся в Вавилоне целебными для женщин. Один из этих камней, «камень беременности» (abane‑ri‑e), Богон определил как lithos samios (самосский камень — лат.)[1683]Диаскорида. Еще один, abanrami, «камень любви», «плодовитости», — возможно, то же, что lithos selenites (лунный камень — лат.) Диаскорида. Такие камни черпают способность облегчать роды из своей связи с Луной. Акушерские качества яшмы, abanashup, определяются тем, что, если ее разбить, из ее «утробы» появится несколько камней — здесь символизм прозрачен. От вавилонян вера в гинекологические свойства яшмы перешла к греко–романскому миру, сохранившему ее вплоть до средних веков. Аналогичный символизм объясняет любовь античного мира к aetites, или «орлиному камню». Плиний говорил: «Utilis est, mulicribus praegnantibus» («полезен для беременных»);[1684] при встряхивании этот камень производил некий шум, как будто внутри, «в утробе» его, скрывался еще один камень. Гинекологические и акушерские свойства этих камней проистекали либо из их связи с лунным началом, либо из какой‑нибудь странности в их форме, указывающей на особое происхождение. Магическая сила этих камней шла от их «жизни», ибо они «живут», имеют пол, беременеют. Причем они не представляют исключения в этом плане — все другие камни и металлы тоже «живут» и имеют пол[1685], только их жизнь спокойнее, сексуальность не так отчетливо выражена; они «растут» в лоне земли, повинуясь своему сонливому ритму; очень немногие из них «достигают зрелости» (индийцы считают, что алмаз — pakka (зрелый), а хрусталь — kaccha (незрелый))[1686].
На примере «змеиного камня» хорошо видно, как символизм может перемещаться с объекта на объект и изменяться. Во многих местах считалось, что драгоценные камни падают с голов змей или драконов. Отсюда представление о ядовитости алмаза и недопустимости его прикосновения к губам из‑за того, что когда‑то он находился в горле змеи (из Индии, где оно возникло, это верование проникло в эллинский и арабский мир)[1687]. Представление о том, что в драгоценные камни превратились змеиные плевки, было распространено очень широко — от Китая до Англии[1688]. В Индии полагали, что наги[1689] носили в горле и в голове некоторые определенные сверкающие магические камни. Заявление Плиния, что dracontia, или дракониты, — это камни, образующиеся в мозгу (cerebro) драконов[1690], было лишь рациональным объяснением пришедших с Востока верований. Еще отчетливей рациональность проступает у Филострата[1691], который говорит, что глаза у некоторых драконов — это «ослепительно сверкающие» камни, обладающие магической силой; колдуны, добавляет он, совершив обряды поклонения змеям, отрезают у них головы и достают оттуда драгоценные камни[1692].
Происхождение этих и многих других легенд и лежащую в их основе теорию определить не столь уж сложно: это древний миф о «чудовищах» (змеях, драконах), стерегущих Древо Жизни, или какое‑либо священное место, или священное вещество, или какую‑то абсолютную ценность (бессмертие, вечную юность, знание добра и зла и т. д.). Вспомним, что на страже всех символов этой абсолютной реальности всегда стоят чудовища, позволяющие пройти только избранным. Дерево Жизни, золотые яблоки или золотое руно, любые «сокровища» (жемчуг на дне морском, золото в недрах земли и т. д.) стережет дракон, и тот, кто хочет завладеть этими символами бессмертия, должен доказать свой «героизм» или свою «мудрость» преодолением всех опасностей и напоследок убить чудовищного стража. Эта древняя мифологема дала, видоизменяясь и находя рациональные объяснения, начало всякой вере в сокровища, магические камни и драгоценности. Дерево Жизни, дерево с золотыми яблоками, золотое руно — символы состояния абсолютности (золото означало «славу», бессмертие и т. д.) — трансформировались в золотые «сокровища», спрятанные в земле и охраняемые драконами или змеями.
Метафизические эмблемы, охранявшиеся змеями, превратились в конкретные предметы, которые находили во лбах, глазах или глотках сторожей. Что прежде ценилось как знак абсолютного, позднее приобрело — в результате вырождения первоначального значения — разную для различных социальных слоев магическую, медицинскую или эстетическую ценность. Например, в Индии алмазы были символом абсолютной реальности; слово алмаз, vajra, обозначало также молнию знак Индры, символ нетленного[1693]. Неся такое сочетание идей — могущество, неподверженность порче, свойства молнии, космическое выражение мужественности, — алмаз впоследствии оставался священным в той степени, в какой он «минералогически» воплощал все эти вещи. В иной, «популярной», системе идей — абсолютная реальность, охраняемая чудищем, — алмаз ценился за свое связанное с рептилией происхождение. Это же происхождение (только на все более низком уровне) наделило алмаз его магическим и целительным свойством — защищать от укусов змеи, подобно многим другим змеиным камням (карбункулу, буре, безоару и др.). Некоторые из них действительно были извлечены в виде твердой камнеподобной массы из змеиных голов; но находили их там, только если ожидали этого. Вера в змеиные камни бытовала на огромном пространстве, но только совсем недавно и лишь в отдельных местностях на теле змей были обнаружены камневидные наросты. Очень редко змеиный камень — это в самом деле камень, извлеченный из головы змеи; громадное большинство магических и лечебных камней, независимо от наличия в их названии змеиного элемента, ассоциируется со змеями из‑за связи с первоначальным мифом, который, как мы видели, может быть сведен к метафизической теме «чудовища, стерегущего символы бессмертия». Нет сомнения в том, что многие из этих легенд и поверий происходят не из самой изначальной мифологической формулы, а из порожденных ею неисчислимых побочных или «искаженных» вариантов.
168. ИНФАНТИЛИЗАЦИЯ
Я намеренно ограничил себя примерами лишь из одной области, чтобы показать, с одной стороны, многочисленные «разветвления» символа, а с другой — этапы вырождения, рационализации и инфантилизации, которые проходит любой символизм по мере того, как интерпретация его опускается на все более и более низкие уровни. Как мы увидели, часто именно в «популярных» на вид, но «ученых» по происхождению вариантах символизм можно легко распознать (как в случае со змеиными камнями) и увидеть в нем следы процесса инфантилизации. Этот процесс может происходить и другими путями, самые обычные из которых — вырождение смысла «ученого» символизма при бытовании его в низших социальных слоях или же восприятие символа чересчур конкретно, по–детски, в отрыве от целостной смысловой системы. Примеры первого пути уже приводились (змеиные камни, жемчуг и т. д.); вот еще один не менее яркий образчик. Румынские крестьяне следовали следующему старинному предписанию: «Если человек или животное страдает от запора, напиши на чистой тарелке слова: Физон, Геон, Тигр, Евфрат — и ополосни ее свежей водой; дай больному выпить ее, и он поправится; животному влей ее через нос»[1694]. Названия четырех библейских рек, омывавших райский сад, по понятиям магической религии были способны очистить любой «Космос», а значит, и микрокосм человеческого или животного организма. В данном случае инфантилизация заключается в простом, конкретном представлении о символизме очищения райскими водами: человек должен впитать в себя воду, соприкоснувшуюся с написанными четырьмя словами…
Примеров второго пути инфантилизации символов (где не обязательны какая‑либо «история» или нисхождение с научного на популярный уровень) много в прекрасной книге Леви–Брюля «Мистический опыт и символы у первобытных народов»[1695]. В материале, приводимом французским ученым, символ предстает либо в качестве замены священного объекта, либо как средство установления связи с этим объектом; замена же такая неизбежно влечет за собой процесс инфантилизации символов, причем не только у «примитивных», но и у более развитых народов. Приведу для иллюстрации одну цитату из Леви–Брюля: «В Экваториальной Африке, на высоком Огуэ антилопа ocibi, как пояснил вождь бамба, пасется только ночью. Днем она имеет обыкновение спать или, стоя неподвижно, жевать жвачку. Эта ее привычка стала для туземцев символом неподвижности, неизменности. Они верят, что те, кто вместе ел ее мясо во время строительства новой деревни, никогда не переедут жить ни в какое другое место»[1696]. Туземцы убеждены, что символ передается непосредственно от одного участника события к другому, подобно тому, как четыре слова, написанные на тарелке в предыдущем примере инфантилизованной магии, «очищают» больного запором. Но эти варианты интерпретации не исчерпывают первоначального символа, ими не ограничивается и способность первобытного человека создавать и стройные символические системы. Повторю, что это только один пример инфантилизации, а их великое множество в религиозном опыте любого цивилизованного народа. У первобытных народов также могут быть целостные системы символов, т. е. символические системы, построенные на космологических и теологических принципах, что показал материал предыдущих глав (символизм Центра у сибирских, хамитских и финно–угорских народов; сообщение между тремя космическими зонами у пигмеев Малакки: символизм радуги, горы, ползучих космических растений и т. д. у австралийцев, жителей Океании и др.). Но мы еще вернемся к способности первобытных народов и их отдельных представителей создавать теории.
Сейчас же давайте просто отметим факт сосуществования цельных и инфантилизованных символических систем как в первобытных, так и в развитых обществах. Отложим в сторону вопросы о том, что вызывает инфантилизацию, и о том, может ли она быть неотъемлемым свойством самой «бытности человеком». Нам нужно ясно осознать, что символ, цельный или даже ущербный, играет важную роль во всех обществах. Его функция остается неизменной: трансформировать предмет или действие во «что‑то иное», что предстает профанному взору. Возвращаясь еще раз к приведенным примерам, повторим: omphalos, или символ Центра, драгоценный камень вроде нефрита или жемчуга, магический камень, подобный «змеевику», — все они настолько значимы для магико–религиозного опыта человека, насколько в них проявляется тот или иной символический смысл.
169. СИМВОЛЫ И ИЕРОФАНИИ
При таком понимании символы расширяют диалектику иерофании: нечто, не освященное иерофанией впрямую, становится сакральным благодаря своей принадлежности к символу. Большая часть первобытных символов, о которых говорит Леви–Брюль, либо замещает собой отношения человека с сакральными предметами, либо служит способом войти в эти отношения. Стоит только взглянуть, например, на перечень в книге Э. Дугласа ван Бурена «Символы богов в искусстве Месопотамии», как становится очевидно, что целый ряд знаков или предметов обязаны своей сакральной значимостью и функцией соответствием «форме» или эпифании какого‑либо божества (украшения, одежда, эмблемы богов; вещи, которые они несут, и т. д.). Но это еще не все символы, есть еще и те, что появились раньше исторической «формы» божества: растительные символы, Луна, Солнце, молния, некоторые геометрические фигуры (кресты, пятиугольники, ромбы, свастики и др.). Многие из них были просто присвоены божествами, доминировавшими в религиозной истории Месопотамии: Син, Бог Луны, взял знак полумесяца, Шамаш — солнечный диск и т. д. Хотя остались более или менее независимые символы (некоторые виды оружия, например, или архитектурные фигуры, или какие‑нибудь знаки вроде «трех точек»), но большая их часть была «разобрана» другими многочисленными божествами, что говорит в пользу существования этих знаков еще до появления различных пантеонов Месопотамии. К тому же переход символов от одного божества к другому — довольно обычное дело в истории религии. Так, в Индии vajra, «молния» и «алмаз» одновременно (символизировавшие вселенскую власть, неподверженность порче, абсолютную реальность и т. п.) перешел от Агни к Индре, а позднее к Будде, и подобных случаев немало.
Из этих наблюдений можно сделать вывод, что большинство иерофаний легко превращается в символы. Но важная роль символизма в магико–религиозном опыте человечества определяется не этим. Важность символа не только в том, что в нем продолжается или им замещается иерофания; главное значение символа — в его способности осуществлять процесс иерофанизации и особенно быть иногда самому иерофанией: он обнажает сакральную или космологическую реальность, которую ничто другое раскрыть не в состоянии. Например, все амулеты и «знаки», в которых присутствует луна (полумесяц, половина луны, полная луна), черпают свою действенность именно из этого присутствия, каким‑то образом получая долю сакрального могущества Луны, — так с помощью символа иерофания расширяет сферу действия. Могут сказать, что это незначительные эпифании Луны; но ведь и не они, «сниженные» и подчас неузнаваемые (вроде приблизительного изображения полумесяца на маленьких жертвенных хлебах)[1697], определяют значение амулетов и талисманов; суть мы должны искать в самом символе. Это хорошо видно в орнаментах на керамике, отражающих раннюю китайскую и евразийскую историю: фазы луны там символизируются различными сочетаниями белого и черного цветов (означающих свет и тьму)[1698]. Изображения и рисунки на керамике имеют магико–религиозные функции и значение[1699]. Но вряд ли в них можно увидеть эпифанию Луны: лунарный символизм — вот что придает им это значение.
Далее. Если иерофания предполагает некий разрыв в религиозном опыте (ибо всегда так или иначе есть брешь между сакральным и профанным и переход от одного к другому, и именно существование разрыва и перехода лежит в основе религиозной жизни), то символизм поддерживает постоянное единство человека со священным (хотя это не всегда очевидно и осознается человеком лишь в отдельные моменты). Талисман, нефрит, жемчуг обеспечивают постоянство связи того, кто носит их, с зоной священного, представленной (т. е. символизируемой) соответствующим украшением; это постоянство поддерживается благодаря магико–религиозному опыту, предполагающему преодоление разрыва между профанным и сакральным. Мы видели (§ 146), что «простые заместители» Космического дерева, Оси Вселенной, храма и т. д. всегда представляют собой символы Центра (центральный столб, очаг или что‑то подобное). Каждое жилище есть Центр мира, потому что его символизм так или иначе совпадает с символизмом Центра[1700]. Однако, как мы уже имели случай заметить, Центра не так легко достичь, и тот факт, что он все же как бы доступен каждому, говорит о «ностальгии по раю», как я называю желание постоянно, без усилий и даже в каком‑то смысле бессознательно пребывать в зоне высочайшей священности. Точно так же мы можем сказать, что существование символизма — это показатель потребности человека расширить иерофанизацию мира ad infinitum (до бесконечности), необходимости находить способы приобщаться к данной иерофании, искать ей дубликаты и замены и, более того, — отождествлять данную иерофанию со всей Вселенной. В конце главы мы еще вернемся к этой основной функции символов.
170. СОГЛАСОВАННОСТЬ СИМВОЛОВ
Строго говоря, термин «символ» следовало бы применять только к тому, что либо развивает иерофанию, либо само является «Откровением», выражая то, что не под силу выразить никаким другим магико–религиозным формам (обряду, мифу, гаданию и т. д.). Однако в более широком смысле быть символом или выступать в его роли может что угодно, от самой незначительной кратофании («символизирующей» магико–религиозную силу, заключенную в предмете) до самого Христа, который (отвлекаясь от вопроса реальности его собственных притязаний) может, по крайней мере, считаться «символом» чуда воплощения божества в человеке.
Современные этнология, история религии и философии допускают употребление слова «символ» в обоих указанных расширительных значениях, и мы видели, что за каждым из них стоит магико–религиозный опыт всего человечества. В то же время аутентичная природа и функция символов может быть лучше всего прояснится при тщательном изучении их именно как продолжения иерофаний и автономной формы откровения. Выше мы рассмотрели лунный символизм в доисторическом и протоисторическом искусстве. Такие рисунки действительно развивают иерофанию Луны, и, если смотреть на них в целом, они раскрывают больше, чем любые другие лунные эпифании. Они помогают нам среди этих эпифаний различить символизм Луны, который несет большее откровение, чем все другие лунарные эпифании вместе взятые, причем он показывает одновременно и целиком то, что другие эпифании показывают частями, следующими одна за другой. Символизм Луны обнажает действительную структуру лунных эпифаний; знак лунного животного (t’ao‑t’ie, медведь и т. д.) или же черно–белый рисунок, изображающий лицо «предка», с одинаковой силой раскрывают все прерогативы Луны, а также судьбу Человека и Вселенной в ее непрерывном ритмическом изменении[1701].
Аналогичным образом сакральное могущество воды и природа водных космологии и апокалипсисов могут обнаружиться целиком лишь посредством водного символизма, который есть единственная «система», способная вобрать в себя отдельные Откровения бесчисленных иерофаний. Конечно, этот водный символизм нигде не находит конкретного выражения, у него нет центральной темы, потому что он представляет собой переплетение взаимосвязанных, складывающихся в систему символов. Но из‑за этого он не становится менее реальным. Достаточно вспомнить (§ 73) символическое содержание погружения в воду (крещение, потоп, исчезновение Атлантиды под водой), очищения водой (крещение, обмывание покойника) или времени, предшествовавшего Творению (воды, «лотос» или «остров» и т. д.), чтобы увидеть, что во всем этом есть хорошо организованная «система». Она скрыто присутствует в каждой водной иерофании, какой бы незначительной та ни была, но она гораздо отчетливее проступает в символе (например, во «всемирном потопе» или в «крещении»); полностью же она раскрывается в символизме воды, представленном во всех иерофаниях.
Из краткого обзора предыдущих глав становится ясно, что мы имели дело с символикой Неба, с символикой Земли, растительности, Солнца, пространства, времени и т. д. У нас есть все основания рассматривать их все как автономные «системы», поскольку они более полно, более отчетливо и более связно выражают то, что несут отдельные, локальные и изолированные иерофании. И чтобы как можно глубже проникнуть в смысл каждой иерофании, я старался, когда позволял материал, интерпретировать ее в свете ее истинной символики. Вряд ли мне надо говорить, что это не вопрос простого «выведения» символического смысла из элементарной иерофании; речь также не идет о рационализации символизма для придания ему большей ясности и последовательности, что произошло с солнечной символикой в конце античной эпохи (§ 46). Первобытный разум действительно умел видеть каждую иерофанию в рамках свойственного ей символизма и действительно видел символическую систему в каждом составлявшем ее фрагменте. И тот факт, что кто‑то переставал видеть ее или же воспринимал только инфантилизованный символизм, нисколько не умаляет действенности самой структуры. Ибо символизму не надо, чтобы его понимали; он остается целостным, несмотря ни на какие искажения его содержания, и сохраняет свою структуру даже вопреки кажущемуся забвению — это видно на тех доисторических символах, чей смысл был на тысячелетия утерян, но потом вернулся к ним.
Не имеет ни малейшего значения, осознают ли нынешние первобытные народы, что погружение в воду тождественно и всемирному потопу, и исчезновению под водой целого континента и что и то и другое символизирует приход «новой формы» на смену «изношенной форме». В истории религии важно единственное: что погружение в воду — человека ли, континента ли — вместе с космологическим и эсхатологическим значением этого погружения присутствует в мифе и ритуале; что все эти мифы и ритуалы «пригнаны» друг к другу, другими словами, составляют символическую систему, которая в некотором смысле существовала еще до них. Поэтому мы вполне вправе, как мы увидим ниже, говорить о «логике символов», о логике, присутствующей не только в магико–религиозном символизме, но и в символизме, отраженном в суб- и транссознательной деятельности человека.
Одной из особенностей символа является его способность раскрывать сразу множество смыслов. Водный или лунный символ «работает» на всех уровнях реальности, и все они представлены в нем одновременно. Двуединство света и тьмы, например, символизирует день и ночь в природе, появление и исчезновение любой формы, смерть и воскрешение, творение и распад Космоса, потенциальное и реальное и т. д. Это многообразие значений, заключенных в одном символе, будет таким же и на самой периферии религиозной жизни.
Как мы указывали (§ 166), нефрит в Китае выполнял или представлял магико–религиозную функцию, но эта функция не составляла всей полноты символики нефрита: он еще был элементом символического языка, в котором число, цвет и расположение камешков нефрита не только связывали носившую их женщину со Вселенной или с определенным сезоном, но и «обличали» ее: говорили, была ли она девицей или замужней, а может быть, вдовой, к какой семье или какому социальному слою принадлежала, из каких краев приехала, в отъезде ли ее муж или жених и многое другое. Точно так же на Яве символизм узоров или сочетания цветов на батике указывал пол и социальное положение носившего ткань, сезон или «оказию» для ношения и т. д.;[1702] такие же примеры встречаются по всей Полинезии[1703].
С этой точки зрения символизм представляется «языком», понимаемым всеми членами данной общины и бессмысленным для посторонних, но все же «языком», ясно говорящим одновременно о социальном, «историческом» и психологическом состоянии носителя символа, о его отношениях с обществом и с Космосом (какие‑то виды нефрита или батика носятся весной, другие — непосредственно перед началом сельскохозяйственных работ, третьи — в день солнцестояния и т. п.). Коротко говоря, символизм одежды связывал человека воедино и с Космосом[1704], и с общиной, к которой он принадлежал, и при этом ясно говорил соплеменникам, кто перед ними. Здесь выражено сразу несколько смыслов (единство с Космосом, обозначение места человека в обществе) и выполняется множество функций, имеющих один источник и одну цель. Все они сводятся к тому, чтобы уничтожить границы того «фрагмента», каким человек является в обществе, в Космосе и, обнажая его глубинную сущность и социальный статус, соединяя его с ритмами природы, сделать человека частью более крупного единства — общества, Вселенной.
171. ФУНКЦИЯ СИМВОЛОВ
Эта синтезирующая функция действительно очень важна для человека с точки зрения не только его магико–религиозного опыта, но и опыта вообще. В любом контексте символ всегда раскрывает единство нескольких зон реального. Стоит только вспомнить совершаемые символами воды или Луны колоссальные «объединения», посредством которых столько биологических, антропологических и космических зон и уровней идентифицируются по различным признакам. Во–первых, символизм развивает диалектику иерофаний тем, что трансформирует предметы во что‑то иное, чем то, что представляется профанному восприятию: камень, например, становится символом Центра мира и т. п., — и затем эти предметы самим превращением в символы, в знаки трансцендентной реальности упраздняют свои материальные границы и вместо изолированных фрагментов делаются частью целостной системы; или, лучше сказать, вопреки своей неустойчивой и фрагментарной природе они воплощают собой целостную систему.
В любом случае вещь, становящаяся символом, стремится к единению с Целым, подобно тому, как иерофания стремится воплотить все сакральное, вобрать в себя все проявления священной силы. Каждый камень в ведическом алтаре, превращаясь в Праджапати, тяготеет к отождествлению со всей Вселенной, и каждая рядовая местная богиня стремится стать Великой богиней и в конце концов забрать себе все возможное сакральное могущество. Этому «империализму» религиозных «форм» будет уделено больше внимания в дополнении к данному тому, который я собираюсь посвятить именно «формам». Пока же отметим, что эта тенденция к аннексии наблюдается и в диалектике символа. Причина здесь не только в том, что каждая символическая система тяготеет к интегрированию и объединению в себе как можно большего числа зон и областей человеческого и космического опыта, но и в том, что каждый символ стремится идентифицировать с собой и объединить как можно больше вещей, ситуаций и способов существования. Символика воды или Луны забирает себе все, что имеет отношение к жизни и смерти, т. е. все изменения и все «формы». Жемчуг символизирует обе эти системы (Луны и воды) одновременно, воплощая в себе почти все проявления жизни, женственности, фертильности и всего остального. Объединять ни в коем случае не значит смешивать: символизм дает возможность перемешаться с одного уровня на другой, от одного способа существования к другому, связывая их все воедино, но никогда не допуская их слияния. Мы должны осознать, что тяготение отдельного к превращению в Целое есть на самом деле тенденция «вмонтировать» целое в единую систему, уменьшить многообразие вещей, свести его к единой «ситуации», но так, чтобы все же сделать ее как можно более осмысленной.
В других работах я изучал символизм связей, узлов и сетей[1705]. Там я рассматривал космологическую значимость «связывания» воды Вритры и космократическую значимость «связей» Варуны; «связывание» врагов магическим образом или настоящими веревками, «лишение свободы» мертвецов, мифы, в которых боги подземного царства улавливают в свои сети людей с душами мертвецов; символику «связанного» или «закованного в цепи» человека (Индия, Платон), распутывания клубка нитей и решения проблемы существования. И я показал, что мы всегда имеем дело с одной и той же моделью символизма, более или менее полно выраженной на различных уровнях магико–религиозной жизни (космология, миф о грозном царе, магия нападения и защиты, мифология подземного мира, инициационные действа и т. д.). В каждом случае есть архетип, имеющий выражения на всех уровнях магико–религиозного опыта. Но, что еще важнее, этот символизм «связывания» и «потери» раскрывает особое положение человека во Вселенной, положение, которое никакая другая иерофания в отдельности раскрыть не в состоянии; можно даже сказать, что только этот символизм связи полностью открывает самому человеку и позволяет понятно выразить конечную суть его положения. И более того, видимые проявления этой символической системы показывают, насколько идентичны ситуации всех, перед кем поставлены «условия» («пленник», «заколдованный» или просто человек перед лицом своей собственной судьбы), и с какой неизбежностью они находят свою символику.
172. ЛОГИКА СИМВОЛОВ
Таким образом, у нас есть все основания говорить о «логике символов» в том смысле, что символы — любые символы и на любом уровне — отличаются последовательностью и систематичностью. Эта логика выходит за рамки религиозной истории и встает в ряд философских проблем. В самом деле (и я говорил об этом при исследовании символизма «вознесения»), плоды работы того, что мы называем подсознательным (сны, фантазии, воображение), творчество людей с психопатическими состояниями и прочее имеют структуру и смысл, прекрасно гармонирующие с мифами и ритуалами вознесения и с метафизикой восхождения[1706]. Вообще в действительности нет никакого качественного различия между спонтанными проявлениями подсознательного (например, снами о вознесении) и теориями, выработанными в сознательном состоянии (такими как метафизика духовного восхождения и возвышения). Это ставит перед нами две проблемы: первая — можем ли мы говорить только о подсознательном, — может быть, будет правильно предположить еще существование «транссознательного»? И вторая — правы ли мы, считая, что творения подсознательного имеют иную структуру, чем плоды сознательной умственной деятельности. Но данные проблемы можно обсуждать лишь в их собственном контексте — контексте философии.
Я тем не менее хотел бы подчеркнуть один момент: многие проявления подсознательного, похоже, имеют свойство как бы копировать или имитировать архетипы, которые вовсе не исходят исключительно из сферы подсознания. Нередко случается, что сон или психоз принимают ту же форму, что и акт духовный, сам по себе вполне доступный пониманию, лишенный неразрешимых противоречий, «логичный», а значит, являющийся результатом сознательной (или транссознательной) деятельности. Это наблюдение может пролить некоторый свет на проблему иерофаний вообще и символов в частности. Почти повсеместно в истории религии мы встречаемся с феноменом «простоты» имитации архетипа, которую я назвал инфантилизацией. Но мы также видели, как через инфантилизацию иерофании продолжаются ad infinitum; другими словами, инфантилизация есть способ вложить священное в наинезначительнейшую вещь, — в конечном счете, вложить Целое в каждую из мельчайших частиц. Стремление к этому не является какой‑то аберрацией, потому что священное на самом деле стремится отождествиться с профанной реальностью, преобразить и освятить все Творение. Но для процесса инфантилизации почти всегда характерны легкость, автоматизм и нередко даже искусственность. Можно поэтому увидеть общие черты в тяготении подсознательного к имитации в своих творениях форм сознательного или транссознательного и в способности инфантилизации продолжать иерофании ad infinitum, повторять их на любом возможном уровне и часто весьма механистически и грубо — параллелизм заключается в легкости и автоматизме осуществления указанного действия в рамках обеих тенденций. Но есть и еще кое‑что — желание слить воедино все Творение и покончить с многообразием. Такое желание — в своем роде тоже имитация рассудочной деятельности, ибо рассудок также стремится унифицировать реальность; доведенная до крайности, эта тенденция упразднила бы Творение. Все же порождения подсознания и инфантилизация иерофаний представляют собой скорее движение жизни к покою, возвращению к первоначальному состоянию материи — инерции. В другом плане жизнь, составляющая необходимую часть иного диалектического единства, в своей тенденции к покою, устойчивости и неразрывности всего следует по тому же пути, что и разум, жаждущий все унифицировать и привести к равновесию.
Для обоснования вышесказанного нужно было бы сделать целый ряд комментариев, на что здесь я не могу рассчитывать. Я попытался кратко рассмотреть эти положения только потому, что они помогают нам в общем понять тенденцию с легкостью находить замещения иерофаниям, а также для уяснения исключительно важной роли символизма в магико–религиозной жизни. Так называемое символическое мышление позволяет человеку свободно перемещаться с одного уровня реальности на другой. В действительности выражение «свободно перемещаться» говорит не все: символы, как мы видели, объединяют, уподобляют друг другу и отождествляют различные уровни и реальности, по всем признакам кажущиеся несовместимыми. И более того, магико–религиозный опыт позволяет самому человеку трансформироваться в символ. Только в той мере, в какой сам человек становится символом, и возможны его антропокосмический опыт и участие во всякого рода системах, но и жизнь его в этом случае делается богаче и значительней. Человек перестает быть закрытой со всех сторон и непроницаемой крупицей, а ощущает себя живым Космосом, обращенным ко всем другим окружающим его живым космосам. Все, что происходит в мире, больше не есть нечто заведомо чуждое и внешнее по отношению к нему; прожитое не отгораживает человека от себя самого, но, наоборот, ведет его к самому себе, открывая ему его собственную судьбу и его экзистенцию. Космические мифы и весь мир ритуалов, таким образом, выступают как экзистенциальный опыт для первобытного человека: он не теряет себя, он не забывает о своем существовании, когда исполняет миф или принимает участие в ритуале; как раз наоборот — он находит себя, начинает понимать себя, потому что эти мифы и ритуалы представляют космические реальности, которые он в конечном итоге осознает как реальности своего собственного бытия. Перед первобытным человеком любой уровень реальности был открыт настолько полно, что чувства, которые он испытывал, даже просто видя нечто величественное, как, например, звездное небо, были ничуть не слабее наиглубочайшего личного переживания современного человека. Потому что благодаря символам реальное бытие первобытного человека не было фрагментарным и отстраненным существованием сегодняшнего цивилизованного человека.
БИБЛИОГРАФИЯ
Andree R. Ethnographische Parallelen, Neue Folge. Lpz., 1889. S. 31–41; Kunz G. F. The Magic of Jewels and Charms. Philadelphia; L., 1915. P. 108 и сл.; Skeat W. W. Snakestones and Stone Thunderbolts as a Subject for Systematic Investigation // FRE, 1912. Vol. ХХХШ. P. 45–80, особенно p. 60 и сл.; Blinkenberg С. The Thunderweapon in Religion and Folklore. Cambridge, 1911; Perry W. J. Children of the Sun. 2nd ed. L., 1927. P. 384 и сл.; Saintyves P. Pierres magiques: bétyles, haches‑amulettes et pierres de foudre // Corpus de folklore préhistorique. Vol. II, P., 1934. P. 7–276.
Laufer В. Jade. A Study of Chinese Archaeology and Religion. Chicago, 1912; Karlgren B. Some Fecundity Symbols in Ancient China // BMAS. Stockholm, 1930. №2. P. 1–54, особенно p. 23 и сл.; Giesler G. Les Symboles de jade dans le taoisme // RHR, 1932. Vol. CV. P. 158–181.
Kunz G. F., Stevenson С. The Book of the Pearl. L., 1908; Jachson J. W. Shells as Evidence of the Migration of Early Culture. Manchester, 1917; Zykan J. Drache und Perle // Arnbus Asiae, 1936. Vol. VI. S. 1, 2; Eliade M. Notes sur le symbolisme acquatique // CZ, 1939. Vol. II P. 131–152; перепечатано в: Images et Symboles. P. 164–198.
Darmstadter E. Der babylonisch‑assyrische Lasurstein // Studien zur Geschichte der Chemie. Festgabe Ed. von Lippmann. В., 1937. S. 1–8; Eliade M. Cosmologie si alchimie babiloniana. Bucharest, 1936. P. 51–58.
Laufer B. The Diamond. A Study in Chinese and Hellenistic Folk‑Lore. Field Museum, Chicago, 1915; Penzer N. The Ocean of Story. L., 1929. 4 vols.: Vol. II. P. 299; Thorndike L. A History of Magic and Experimental Science. N. Y., 1923. Vol. I. P. 496; Vol. II. P. 262, 263.
Boson G. I. Metalli e le pietre nelle iscrizioni sumero‑assiro‑babyljnesi // Rivista degli Studi orientali. 1916. Vol. II. P. 279–420, особенно р. 412–413; Kunz G. F. The Magic of Jewels. P. 173–178; B. Laufer. The Diamond… P. 9. №1; Bidez J., Cumont F. Les Mages Hellenises. P., 1938. Vol. II. P. 201.
Skeat W. W. Snakestones and Stone: Tnunderbolts. — По всей работе; Kunz G. F. The Magic of Jewels. P. 201–240; Halliday W. R. Of Snake‑stones // Folklore Studies Ancient and Modern. L., 1924. P. 132–155; Seligman S. Die magische Heil- und Schutzmittel. Stuttgart, 1927. S. 282 и сл.; Vogel J. P. Indian Serpent Lore. L., 1926. P. 25 и сл., 218 и сл.; Shepard О. Lore of the Unicorn. L., 1931. P. 128, 131, 290, 291 и т. д.; Eliade M. Piatra Sarpelui. — Mesterului Manole. Bucharest, 1939. P. 1–12.
см. библиографию к гл. X; кроме того: Combaz G. L’évolution du stupa en Asie: les symbolismes du Stupa // Mélanges chinois et bouddhiques. Vol. IV. Brussels, 1936. P. 1–125; Mus P. Barabudur. — По всей работе; Andrae W. Die ionische; Säule, Bauform oder Symbol? В., 1930.
Garte W. Die symbolische Verwendung des Schachbrettmusters im Altertum // MB. 1914. Vol. VI. S. 349 и сл.; Wilke G. Mystische Vorstellungen und symbolische Zeichen aus Indoeuropaischer Urzeit // MB. 1914. Vol. VI; Rydh H. Symbolism in Mortuary Ceramics // BMAS. Stockholm, 1929. Vol. I. P. 71–120; Karlgren B. Some Fecundity Symbols in Ancient China // BMAS. Stockholm, 1930. Vol. II P. 1–54; Hentze С. Mythes et symboles lunaires. Antwerpen, 1932; Williams С.A. Outlines of Chinese Symbolism and Art Motives. Shanghai, 1932; Salmony A. The Magic Ball and the Golden Fruit in Ancient Chinese Art // Act and Thought. L., 1947. P. 105–109. Cammann Sch. Cosmic Symbolism of the Dragon Robes of the Ch’ing Dynasty // Art and Thought P. 125–129; Simpson W. The Buddhist Praying Wheel. A Collection of Material Bearing upon the Symbolism of the Wheel and Circular Movements in Custom and Religious Ritual. L., 1896.
Sayce A. H., March H. C. Polynesian Ornament and Mythography: or, a Symbolism of Origin and Descent // JRAI, 1893. Vol. ХХП. P. 314 и сл.; Greiner R. H. Polynesian Decorative Design // BMB. Honolulu, 1922. №7.
Danzel T. W. Symbole, Dämonen und Heiligen Turme. Hamburg, 1930; Van Buren E. D. Symbols of the Gods in Mesopotamian Art // Analecta Orientalia. Rome, 1945. Vol. ХХIII; Cumont F. Recherches sur le symbolisme funéraires des Romains. P., 1942; см. также библиографию к гл. VIII.
Thumwald R. Das Symbol im Lichte der Volkerkunde // Zeitschrift f. Aesthetik und allgem. Kunstwiss. Vol. XXI. S. 322–337; Deona W. Quelque réflexions sur le symbolisme // RHR 1924. Vol. LXXXLX. P. 1–66; Guenon R. Le Symbolisme de la croix. P., 1932; Caillet E. Symbolisme et âmes primitives. P., 1936; Levy‑Bruhl L. L’Experience mystique et les symboles chez les primitifs. P., 1938; Coomaraswamy A. Elements of Buddhist Iconography. Harvard University Press, 1935; Levy‑Bruhl L. The Inverted Tree // The Quarterly Journal of the Mythic Society. Bangalore, 1938. Vol. XXIX. №2. P. 1–56; Levy‑Bruhl L. The Iconography of Durer’s Knots and Leonardo’s Concatenation // The Art Quarterly. 1944. Vol. VII. P. 109–128; Levy‑Bruhl L. Figures of Speech and Figures of Thought L., 1946; Eliade M. Secret Languages — на румынском языке в: Revista Fundatiilor Regale. Bucharest Jan. — March, 1938; Eliade M. Durahana and the Waking Dream // Art and Thought L., 1947. P. 209–213; Eliade M. Le Dieu lieur et le symbolisme des noeds // RHR. 1947–1949; перепечатано в: Images et Symboles. P. 120–163.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если справедливо то, что было нами сказано в начале этой книги (§ 1), а именно, что простейшим определением сакрального остается «противоположное профанному», то из последующих глав становится ясно, что диалектике иерофаний присуща тенденция к непрерывному сокращению областей профанного и в конечном счете — их упразднения. В некоторых видах высшего религиозного опыта сакральное отождествляется с универсумом в целом. Для многих мистиков целостность Космоса сама по себе есть иерофания. «Вся Вселенная, от Брахмы до травинки, есть та или иная Его форма», — возглашает «Маханирвана–Тантра»[1707], тиражируя очень древнюю и широко известную индийскую формулу. Этот «Он», Атман–Брахман, явлен повсюду; «Троном ему служит чистое [небо], блистательный [Бог], он восседает в эфире, священнодействующий, он восседает на алтаре, хозяин, он восседает в своем жилище. Он восседает в человеке, в каждом заклинании, в Законе, в небесном своде»[1708]. Тому, что это нечто иное, чем просто концепция, квалифицируемая, справедливо или нет, как пантеистическая, можно найти подтверждение в словах Леона Блуа о «…тайне жизни, которая есть Христос: Ego sum Vita. В ком бы ни была Жизнь, в людях, животных или растениях, она всегда Жизнь, и когда приходит мгновение, неуловимое мгновение, именуемое смертью, удаляется всегда Христос, будь то от дерева или от человека»[1709].
Ясно, что это не «пантеизм» в нашем понимании, а то, что можно было бы назвать «панонтизм». Христос Леона Блуа, как и Атман–Брахман индийской традиции, присутствует во всем, что есть, то есть во всем, что существует абсолютно. А как я уже неоднократно показывал, реальное в архаической онтологии в первую очередь отождествляется с «силой», «жизнью», плодородием, изобилием, но также со всем, что странно или особенно, — другими словами, со всем, что существует максимально полным образом или обнаруживает некий исключительный способ существования. Священное — это прежде всего реальное. Чем религиознее человек, тем он более реален и тем более он удаляется от нереальности бессмысленного изменения. Отсюда тенденция человека к «освящению» всей его жизни. Иерофании освящают мир; ритуалы освящают жизнь. Это освящение может также осуществляться более кардинально — преобразованием самой жизни в ритуал. «Голод, жажда, воздержание суть в человеке [то же, что] освящение [через жертву], дикша. Пища, питье, удовольствие соответствуют ритуалу, именуемому упасада; смех, веселье и любовь соответствуют песнопениям и рецитациям [стута–шастра]. Умерщвление плоти [тапас], милостыня, честность, уважение к жизни [ахимса] и правдивость суть в нем дары [приносимые священнослужителям]»[1710]. Когда мы сможем, в другой работе, рассмотреть развитие и функции ритуалов, мы покажем механизм, посредством которого физиологическая, психологическая и духовная деятельность преобразуется в ритуальные действия. Идеал религиозного человека состоит, очевидно, в том, чтобы все, что он делает, делалось ритуально, имело, другими словами, характер жертвоприношения. Во всяком архаичном обществе или обществе, живущем согласно традициям, любое дело, к которому привлекается всякий человек, составляет такого рода жертвоприношение. С этой точки зрения всякий акт имеет тенденцию превратиться в религиозный акт, равно как и всякий природный объект имеет тенденцию стать иерофанией. Другими словами, всякое мгновение может быть включено в Великое Время и таким образом проецировать человека в вечность. Человеческое существование поэтому проходит одновременно в двух плоскостях: в плоскости временного, изменения и иллюзии, и в плоскости вечности, субстанции, реальности.
С другой стороны, мы наблюдали существование и противоположной тенденции — сопротивления сакральному, сопротивления, которое возникает в самой сердцевине религиозного опыта. Свойственная человеку амбивалентная установка в отношении сакрального, которое одновременно и притягивает его, и отталкивает, представляется и благотворным, и опасным, может быть объяснена не только амбивалентной природой самого сакрального, но и естественной реакцией человека на эту трансцендентную реальность, которая с равной силой притягивает и пугает его. Сопротивление бывает особенно ярко выраженным, когда человек сталкивается с тотальным притязанием на него со стороны сакрального, когда он призван сделать решающий выбор — либо полностью и безвозвратно предать себя сакральному, либо же продолжать оставаться в неопределенном к нему отношении.
Это сопротивление сакральному несет с собой, в перспективе экзистенциальной метафизики, бегство от аутентичности. В той же перспективе «общее» соответствует профанному, иллюзорному, бессмысленному. Символ «путешествия к Центру» следует переводить на язык современной метафизики как путешествие к центру своего собственного существа и уход от неаутентичности. Случается, что это сопротивление полному поглощению жизни сакральным возникает и в недрах Церквей; не так уж необычна ситуация, когда последним приходится защищать человека от крайностей религиозного, особенно мистического, опыта, и от риска полного упразднения мирской жизни. Эти примеры сопротивления, которые мы намерены анализировать в следующей книге, до некоторой степени демонстрируют нам растущее осознание той существенной роли, которую играет «история», растущее значение, которое склонны обретать — особенно в более развитых религиях — ценности человеческой жизни, главной из которых является свойство этой жизни обладать бытием в истории и творить историю. Мы видели, какое большое значение придавалось витальным ценностям даже в самых ранних формах религии; вспомним, что на первый план всегда выдвигаются динамические, организующие, плодотворящие божества (§ 26 и далее). Со временем притягательность витальных ценностей продолжала расти, во многом в форме все более живого интереса к человеческим ценностям как таковым и, наконец, к истории. Человеческое бытие как историческое бытие приобрело значение если не религиозное, то, во всяком случае, выходящее за пределы чисто человеческого. В следующей книге мы рассмотрим вопрос о том, насколько возможно видеть «историю» как часть сакрального процесса и в какой мере религиозные ценности творились или развивались в ходе исторического процесса. Но уже сейчас можно сказать, что «ностальгия по раю» и «облегченные заменители» основных видов религиозного опыта и основных религиозных символов указывают то направление, в котором следует искать решения этой проблемы. Ибо эта «ностальгия» и эти «облегченные заменители» показывают свойственное историческому человеку глубинное неприятие перспективы полностью отдаться опыту сакрального — показывают столь же отчетливо, как они показывают его неспособность полностью отказаться от этого опыта.
Мы занимались исследованием религиозных феноменов не в их историческом контексте, но лишь в качестве иерофаний. Вот почему для того, чтобы высветить природу водных иерофаний, мы, не смущаясь, рассматривали христианское крещение бок о бок с мифами и ритуалами Океании, Америки и греко–ориентальной античности, пренебрегая различиями между ними — или, другими словами, историей. Поскольку наше внимание было направлено непосредственно на религиозное значение этих феноменов для верующего, постольку наше пренебрежение исторической перспективой было вполне оправданно. Разумеется, как мы уже отмечали вначале (§ 1), нет иерофании, которая бы с момента своей первой манифестации не была «исторической». В силу самого факта осознания человеком манифестации сакрального эта манифестация, в какой бы плоскости она ни имела место, становится исторической. История появляется в тот самый момент, когда человек, движимый своими потребностями, переживает сакральное. Манипулирование иерофаниями и их трансляция также усиливают «историзацию». Однако их структура несмотря на это остается неизменной, и именно эта неизменность структуры дает возможность идентифицировать их. Боги Неба могли претерпевать бесчисленные трансформации, но их небесная структура остается при этом неизменным элементом, константой их личности. Бесчисленное множество раз могут сливаться какие‑то детали в облике божества плодородия или добавляться новые черты, но его хтоническая структура или связь с земледелием остаются не затронутыми этими изменениями. Мы можем сказать даже нечто большее: не существует религиозной формы, которая бы не стремилась к возможно большему приближению к своему подлинному архетипу, другими словами, очищению от «исторических» добавлений и наслоений. Всякая богиня стремится стать Великой богиней, усваивая все атрибуты и функции, которые присущи архетипической Великой богине. Это в такой степени верно, что мы можем выделить в целостной истории религиозных явлений двоякую закономерность, с одной стороны, беспрестанное, «вспышкообразное» возникновение иерофаний, имеющее своим результатом то, что манифестация сакрального в мире становится все более фрагментарной; с другой стороны, унификация этих иерофаний, обусловленная присущей им внутренней тягой к возможно более совершенному воплощению своих архетипов и тем самым — к реализации своей сущности.
Было бы ошибкой считать синкретизм всего лишь позднейшим религиозным феноменом, который возник лишь в результате контактов между несколькими высокоразвитыми религиями. То, что мы называем синкретизмом, можно встретить повсюду на протяжении существования религиозной жизни. Всякий земледельческий демон, всякий племенной божок представляют собой завершение долгого процесса ассимиляций и отождествлений со смежными религиозными формами. При этом следует подчеркнуть, что эти ассимиляции и слияния не являются следствием исключительно исторических обстоятельств (смешивание двух соседних племен, завоевание территории и т. п.); этот процесс обусловлен самой природой иерофаний; независимо от того, приходит ли иерофания в соприкосновение с другой религиозной формой, похожей на нее или не похожей, в религиозном сознании тех, кто воспринимает ее как таковую, будет существовать тенденция к максимально полному и целостному ее выражению. Этим и объясняется то явление, с которым мы сталкиваемся на всем протяжении истории религий: способность всякой религиозной окормы к возвышению, к очищению, к облагораживанию — способность, например, превращения племенного бога посредством новой манифестации в бога монотеистической религии или второстепенной сельской богини в Матерь Мира.
Все эти по видимости противоречивые тенденции — унификации и фрагментации, отождествления и разделения, притяжения и сопротивления или отталкивания — станут более доступными пониманию, когда, рассмотрев различные варианты подхода к сакральному и обращения с ним, мы сможем подступить к проблеме истории религиозных явлений. Это исследование — предмет нашей следующей книги. Здесь же, в заключение сказанного, нам хотелось бы лишь подчеркнуть, что почти все религиозные позиции человека усвоены им уже в древнейшие времена. С некоторой точки зрения не было никакого перерыва в преемственности от «примитивной» архаики до христианства. Диалектика иерофании остается единой и в австралийской чуринга, и в воплощении Логоса. В обоих случаях мы имеем дело с манифестацией, с очевидностью, пусть и очень разной, сакрального в одном из фрагментов Космоса; в обоих неявно стоит проблема «личного» или «безличного» характера манифестации. Мы видели (§ 8), что в случае элементарных иерофаний (таких как мана) мы не всегда располагаем средством различить, дана ли нам манифестация сакрального в личных или безличных структурах; обычно присутствует и то и другое, ибо архаический человек много менее озабочен различием между личным и безличным, нежели между реальным (могущественным и т. д.) и нереальным. Но эту полярность мы в бесчисленных формулировках обнаружим в большинстве наиболее развитых форм религии и мистицизма.
То, что основные религиозные понятия и представления существуют с того момента, когда человек впервые осознал свое место во Вселенной, не означает, что «история» не оказывает никакого влияния на сам религиозный опыт. Совсем наоборот. Все в человеческой жизни, даже ее материальная сторона, находит отражение в религиозном опыте. Открытие способов охоты, обработки земли, выплавки металлов и т. д. не только изменило материальные условия человеческой жизни; влияние оказалось более значительным и распространилось на духовность человека, причем здесь оно, возможно, было даже более плодотворным. Так, земледелие открыло путь для многих видов Откровения, которые были невозможны в доземледельческом мире. Нет нужды оговаривать, что экономические и социальные изменения и даже исторические события сами по себе недостаточно объясняют собственно религиозные явления, но преобразования, которые претерпел материальный мир (земледелие, металлургия и т. д.), открыли человеческому духу не только возможность понимания старого опыта, но и новые пути осмысления реальности. И мы можем сказать, что если история имела какое‑то влияние на религиозный опыт, то это было влияние в следующем смысле: исторические события открывали человеку новые и разные способы существования, самораскрытия, наделения мира магическим и религиозным значением.
Мы приведем лишь один пример: одним из наиболее существенных элементов религиозной революции, предпринятой Заратустрой, была его оппозиция принесению в жертву животных[1711]. Очевидно, что одним из источников этой оппозиции, наряду с другими, были экономические интересы общества, переходящего от скотоводческого образа жизни к земледельческому[1712]. Но Заратустра придал этому историческому событию религиозные смысл и значение: упразднение кровавых жертвоприношений стало благодаря ему средством духовной дисциплины и облагораживания; отказ от этого рода ритуалов открыл новые перспективы для умозрения; короче говоря, историческое событие сделало возможными новый религиозный опыт и открытие новых духовных ценностей. Само собой разумеется, что эволюция может легко принять и противоположное направление; такое, что в результате принесенных «историей» изменений будет все труднее обретать религиозный опыт в тех его благородных формах, которые были свойственны архаическим обществам. В некоторых случаях не будет преувеличением говорить об абсолютных духовных катастрофах (таких, например, как поглощение древних обществ экономическими структурами полуиндустриальных колониалистских обществ).
Но хотя история в состоянии и помочь рождению нового религиозного опыта, и парализовать его, она никогда не может уничтожить потребность в религиозном опыте. Мы можем даже пойти дальше и сказать, что диалектика иерофаний допускает перманентное спонтанное и интегральное открытие вновь всех религиозных ценностей, каковы бы они ни были и на какой бы исторической стадии ни находились открывающие их вновь индивид или общество[1713]. История религии может, таким образом, быть в конечном счете представлена как драма утраты этих ценностей и обретения их вновь, утраты и обретения, которые никогда не бывают — и не могут быть — окончательными.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Мирча Элиаде считал книгу, предлагаемую читателю под названием «Очерки сравнительного религиоведения», своим основным научным трудом — основным в том смысле, что в позднейших работах он опирался на материал, систематизированный в этой книге, и постоянно отсылал к ней читателя (см. Предисловие Элиаде к его «Мифу о вечном возвращении», рус. издание — Элиаде М. Космос и история Μ., 1987. С. 28 и др.) И действительно, эта книга основывалась на том курсе истории религий, который читал Элиаде еще в Бухарестском университете до Второй мировой войны (см. биографический очерк, предпосылаемый первому тому трудов Элиаде), изданная в Париже под названием «Трактат по истории религий» в 1949 г. (и неоднократно переиздававшаяся в США (1958, 1965, 1971, 1976 и т. д.) уже под названием «Очерки сравнительного религиоведения»), она получила немедленное продолжение в книге «Миф о вечном возвращении» (1949). Здесь концепция Элиаде о непреходящей «ностальгии по раю» и стремлению к сакрализации Космоса, сформулированная в «Очерках», получает свое полное воплощение (об этом пишет Элиаде в Заключении к своим «Очеркам»)[1714].
Элиаде отмечал в Предисловии к «Мифу о вечном возвращении», имевшем подзаголовок «Архетипы и повторение»: «Если бы я не боялся показаться слишком нескромным, я дал бы этой книге другой подзаголовок: «Введение в философию истории»» (с. 27) Дело здесь не только в авторской «скромности» — не случайно в немецком издании «Мифа» сохранилось его первоначальное и вполне «историософское» название: «Космос и история» (оно воспроизведено и в первом русском собрании трудов Элиаде). Дело также и в «профессиональном» подходе к историософским проблемам: сам Элиаде считал себя прежде всего историком религий. Этот профессиональный подход нашел отражение, в частности, и в истории, связанной с названием «Очерков сравнительного религиоведения»: Элиаде предполагал назвать книгу либо «Пролегомены в историю религий», либо «Морфология сакрального» и лишь по настоянию издателя назвал ее «Трактатом» (предлагаемое для русского издания название восходит к англоязычному). Между тем «морфология» действительно во многом определяет структуру и содержание книги (недаром вводная I глава имеет заголовок «Структура и морфология сакрального»), поскольку речь в ней идет о формах религиозного культа, мифов и символов.
Этот морфологический подход к классификации самых разных явлений природы и культуры был свойствен науке XIX — первой половины XX в., в том числе и сравнительному изучению мифов и культов, начиная с Якоба Гримма. Действительно, культы Неба, светил, воды, Земли, плодородия и т. д. и т. п. стали традиционными рубриками подобных исследований. Эти «формы» множились по мере того, как исследователям открывалось богатство эмпирического опыта, и при попытках установить некую структуру или иерархию форм, равно как и при стремлении обнаружить исходные или исторически вторичные формы, возникали непреодолимые сложности. (Ср. упомянутые в книге (§ 7 и прим. 44) теории анимизма как минимума для формирования религиозных верований у Э. Б. Тайлора и преанимизма у Дж. Фрэзера — Маррета, гипертрофированные представления о культе Солнца у Перри (см. § 36 в гл. III и прим. 466) и т. п.) Кроме того, сам сравнительный метод, позволявший, с одной стороны, классифицировать огромный материал по разным традициям, с другой — не избавлял от того, что любая произвольно выбранная «форма» — будь то культ Солнца или культ некоего Высшего существа — могла быть рассмотрена как универсально доминирующая или исходная. Естественно, Элиаде в своих «Очерках» не мог избавиться от роли наследника этой «морфологической» традиции и не избежал влияния таких столпов культурной антропологии первой половины XX в., как Джеймс Фрэзер и особенно Вильгельм Шмидт. Влияние последнего показательно прежде всего, ибо его подход к культу Верховного существа, обнаруживаемому в разных обществах (во многом благодаря усилиям и методам описания этнографов–миссионеров — см. прим. 61), как к «архетипической» основе монотеизма близок к подходу самого Элиаде, утверждающего, что «не существует религиозной формы, которая бы не стремилась к возможно большему приближению к своему подлинному архетипу…» (Заключение)[1715].
Однако эти влияния нельзя признать решающими ни для Элиаде, ни для всей науки первой половины — середины XX в. Безусловно, центральными для этой книги Элиаде и его творчества в целом стали категории французской социологической школы Э. Дюркгейма, видевшей за «многообразием религиозного опыта» социальный механизм различения «сакрального и профанного». Чаще всего Элиаде ссылается на материалы, обобщенные и интерпретированные знаменитым последователем этой школы Л. Леви–Брюлем. В противовес позитивистскому образу «дикаря–философа», стремящегося по–своему объяснить мир и создающего для этого религию, Леви–Брюль создал представление о первобытном человеке как о существе, постоянно ожидающем воздействия неведомых сил, исходящих из потенциально враждебного окружающего мира: события, происходящие в этом мире, воспринимались им как знамения обнаруживающей себя «аффективной категории сверхъестественного» (см. рус. издание: Леви–Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1937). Элиаде использует для обозначения таких знамений термин «иерофания» — «проявление сакрального», предпочитая понятие «сакральное» «сверхъестественному» у Леви–Брюля.
Поскольку сакральное проявляло себя в разнообразных формах (см. § 3, 4) и воспринималось как таковое в «ментальном мире», то для обозначения мыслительного образа (или понятия) сакрального Элиаде употребляет еще один чрезвычайно распространенный в культурологии с середины XX в. термин — «архетип». И хотя сам Элиаде (уже в работе «Миф о вечном возвращении», рус изд. С. 30) с достаточной решимостью отмежевывается от юнгианского значения этого термина как смутного образа коллективного бессознательного и настаивает на августинианском значении архетипа как исходного образца, проблема внедрения в «ментальный мир» этих образцов остается открытой, как и вопрос о сфере формирования архетипов в «Очерках». В более поздней книге («Мифы, сновидения, мистерии», 1956, рус. перевод — 1996) Элиаде стремится разъяснить «связь между динамикой бессознательного — того, как оно проявляется в сновидениях и воображении, — и структурами религиозного Космоса» (с. 13, 14). Ныне большая часть юнгианских архетипов и мотивов убедительно трактуется как элементы символического языка, описывающего социальные отношения в архаичном коллективе и способы его включения в структурированный Космос (Мелетинский Е. М. О литературных архетипах. М., 1994). В исторической перспективе «структуры религиозного Космоса» сами становятся архетипами — модулями организации реального жизненного пространства, мезокосма, города с храмом в центре и т. п., наконец, — основой для построения научной картины мира (ср.: Кереньи К., Юнг К. Г. Введение в сущность мифологии // Душа и миф. Шесть архетипов. Киев, 1996. С. 21 и сл.; Вернан Ж. — П. Происхождение древнегреческой мысли. М., 1988. С. 14–16). Более того, в современных дискуссиях о содержании понятия «ментальность», во многом продолжающих споры об «архетипическом», утверждается, что ментальная «картина мира владеет человеком и тем полнее, чем меньше подконтрольна она его сознанию» (Гуревич А. Я. От истории ментальности к историческому синтезу // Споры о главном. М., 1993. С. 26). Это напоминает об установке структурной антропологии К. Леви–Строса на исследование того, как «мифы мыслят в людях», и т. д. Что же касается происхождения архетипического, то, как пишет об истоках представлений о сакральном в своем предисловии к «Очеркам» Жорж Дюмезиль, выдающийся исследователь мифа, оказавший непосредственное влияние на Элиаде, «наука о религиях предоставила философам решать вопрос о происхождении…»
Каково бы ни было происхождение этих образцов, явлений сакрального, иерофаний, главным в сознательной деятельности человека архаической культуры было следование этим образцам: любое профаническое действие — от произведения потомства до производства орудий и сбора урожая — воспроизводило действия культурных героев и богов; в этом смысле ритуал действительно воспринимался как не менее существенная и «практическая» деятельность, чем собственно трудовой процесс (ср.: Дьяконов И. М. Архаические мифы Востока и Запада. М., 1990. С. 29). В конструировании этого идеального мифологического образца можно даже усматривать коренное отличие формирующегося человеческого общества от сообществ животных, которые также могут заниматься довольно сложной «производственной» деятельностью, будь то устройство гнезд или строительство муравейника. Более того, этот воображаемый (ментальный) сакральный мир и был истинно реальным, ибо именно он был до конца осмыслен и содержателен, наделялся онтологическим статусом (см. § 9; ср из новых философских работ по онтологии мифа, учитывающих концепцию Элиаде: Хюбнер К. Истина мифа. М., 1996). Таким образом, суть не в самих «формах» иерофаний, а в той высшей реальности, которую она представляет, в интерпретации ее знамений: положение «архаического человека» в этом отношении сходно с позицией исследователя — говоря современным языком, перед ними стоят задачи герменевтики, понимания взаимосвязи этих «форм», «морфологии и структуры иерофаний» (подходам к этому пониманию и посвящена первая глава книги), поиска центра и начала всех событий — «пупа Земли», Мировой оси или мирового древа, воплощающего все связи мифологического Космоса.
К такому пониманию своих задач, отчетливо сформулированных Элиаде, в первой половине XX в. пришла гуманитарная наука: состояние западноевропейской науки к середине этого столетия блестяще характеризует в своем Предисловии Дюмезиль — осмысления требуют в первую очередь «структуры, механизмы, равнодействующие, конституирующие всякую религию и различимые во всякой теологии, во всякой мифологии, во всякой литургии». То же понимание сформировалось в отечественной науке: ср. знаменитую «Морфологию сказки» В. Я.Проппа (1929), где за множественностью образов героев волшебной сказки обнаруживается ограниченный набор главных функций, к каковым и сводятся действия всех многочисленных персонажей (см. из последних работ, посвященных «Морфологии сказки», статьи Б. Н. Путилова, С. Ю.Неклюдова и др. в журнале «Живая старина», №3 (7), 1995) Отечественный этнограф, создавший морфологическую классификацию ранних религий, С. А.Токарев не только свел к минимуму число «ранних форм религий» (см. 2–е изд. его книги: Ранние формы религии. М., 1990), но и заключал, что в основе всего разнообразия религиозных верований лежат социальные связи людей, объединенных или разделяемых по принципам их отношения к сверхъестественному (см. о морфологической классификации Токарева в кн.: Историко–этнографические исследования по фольклору. Сборник статей памяти С. А. Токарева. М., 1994. Предисловие и статью: Новик Е. С. Архаические верования в свете межличностной коммуникации)
Элиаде в своих штудиях не занимается специально проблемой социальной основы религии: социальное — в смысле конкретных общественных связей — относится у него к сфере профанного, «исторического» и, стало быть, преходящего, не–сущего. Даже собственно религиозные феномены он стремится рассматривать вне исторического контекста, чисто «морфологически», о чем прямо заявляет во вводной главе, отказываясь заниматься «историей» такого феномена, как вера в высшее существо, предшествует ли эта вера «иерофаниям экстраординарного (сверхъестественного. — В. П.) или наоборот» (§ 9. С. 41), и повторяет в Заключении, что «не смущаясь» рассматривает «христианское крещение бок о бок с мифами и ритуалами Океании…» Для Элиаде, знавшего архаический фольклор румынских крестьян и изучавшего йогу в Индии, в этом нет ничего парадоксального. Более того, в этом сопоставлении разностадиальных иерофаний — представлений о священном, в новом открытии всех религиозных ценностей Элиаде видит особую значимость для современного общества (см. Заключение к книге). Этот подход вызывает упреки в «активном неприятии истории» у М. Элиаде (ср. «Очерк жизни и творчества Мирчи Элиаде». написанный Н. Я. Дараган к первому русскому изданию его трудов: Космос и история. С. 20), упреки отчасти справедливые, особенно если понимать историю как «общественный прогресс», «однолинейное» развитие. Однако история постоянно присутствует в книгах Элиаде, и не только в смысле «преходящего–профанического», событийного потока, ведущего в никуда.
Сама проблема «исторического» вполне осознана и даже сформулирована Элиаде в отношении его собственной концепции иерофании: «В силу самого факта осознания человеком манифестации сакрального, эта манифестация, в какой бы плоскости она ни имела место, становится исторической. История появляется в тот самый момент, когда человек, движимый своими потребностями, переживает сакральное» (Заключение). Проблема, которой как раз и не занимается Элиаде, заключается в том, когда наступает это осознание. Можно предполагать (и это не противоречит концепции Элиаде), что категория сверхъестественного действительно была присуща всем первобытным религиям, причем, судя по лексическим данным, была скорее осознанной, чем аффективной (ср. — Петрухин В. Я., Полинская М. С. О категории «сверхъестественного» в первобытной культуре // Историко–этнографические исследования по фольклору. С. 164–179); А. М. Пятигорский относит представления о превращениях (трансформациях, метаморфозах — универсальный сюжет первобытных мифов) к «сверхъестественному» в самом простом смысле слова, в мифологическом же повествовании странные, необыкновенные действия персонажей указывают на смешение естественного и сверхъестественного [Пятигорский А. М. Мифологические размышления. Лекции по феноменологии мифа. М. 1996. С. 74 и сл.). Под эту категорию сверхъестественного подходят не только такие понятия, как табу и мана (см. § 7–8), но и вводимые Элиаде понятия иерофании, кратофании и т. п. — манифестации божественного и сверхъестественного в природных объектах окружающего мира, будь то горящий куст — неопалимая купина или «преображение» человека в божественный образ. Эти понятия не просто прилагались к объектам и явлениям, которым приписывались сверхъестественные черты; манифестации сверхъестественного напряженно ожидали или специально моделировали в ритуалах в моменты кризисов или важных событий — будь то смерть сородича или возрастная инициация. Эти моменты, требующие напряжения всех жизненных сил, приводили к «экстериоризации» кризисной ситуации в «мыслимых» категориях, в сверхъестественном, которое выносилось не только «за пределы повседневности» (ср: Вебер М. Избранное. Образ общества. М., 1994. С. 78, 79), но и за пределы архаичного сообщества.
Наиболее распространенный и характерный для архаичных обществ пример — обряды инициации у австралийцев, когда взрослые мужчины совершали в зарослях вне стоянки пугающие женщин и не посвященных в тайны взрослых ритуалы, приписывавшиеся духам первопредков (религии австралийцев посвящена специальная книга Элиаде). Уже этот пример обнаруживает всю неоднозначность «манифестации» сакрального, равно как и моделируемые внутри общества границы сакрального и профанного, ибо для непосвященных действия мужчин носили однозначно сакральный и пугающий характер, для самих же отправителей ритуала его пугающие женщин черты были профаническими. Конечно, сами мужчины верили, что они воспроизводят действия первопредков и времена Первотворения, и осознавали, что для нормальной жизнедеятельности группы необходимо не только ее социальное переустройство (переход подростков в группу взрослых) и, стало быть, заповеданное первопредками возобновление социальных связей, но и включение (в терминах Элиаде) в «автохтонный Космос», в территорию, границы которой также были отмечены первопредками. Более того, ими осознавалось и то обстоятельство, что время Первотворения («времена сновидений» и т. п.) давно завершилось, возвращение первопредков — это ритуал с масками, имитацией событий Первотворения и т. п. Таким образом, здесь можно видеть не только осознание границы сверхъестественного, но и начало рефлексии, осмысления собственных действий. Пожалуй, здесь нельзя усмотреть только «ностальгию по раю», ибо времена Первотворения не воспринимаются как «райские времена». Но этой «ностальгией» склонен объяснять Элиаде ритуальные усилия, призванные «вернуть» мифические времена (ср. § 146).
Сюжет «вечного возвращения» — один из лейтмотивов первобытной культуры и творчества Элиаде — сформулирован им в предлагаемой книге: ему специально посвящена глава XI, повествующая о сакральном времени. В названии главы он употребляет, пожалуй, более точное слово — не «вечное возвращение», а «вечное возобновление» (renewal). Элиаде обнаруживает здесь механизм включения человека и коллектива в регулярно обновляющуюся жизнь природы и Космоса. Главный ритуал — это то действо, в котором совмещаются обновление Космоса и обновление социальных связей архаичного коллектива: у австралийцев проведение инициации приурочивается к сезону, изобилующему пищей, в земледельческих цивилизациях Старого Света — к Новому году, когда происходит ритуал рецитации космогонического мифа и обновления царской власти. Как инициация, так и «карнавальное» развенчание царя сопровождаются общим празднеством (на периферии обрядовых действ в празднестве инициации участвовали и женщины, и непосвященные); в разных традициях праздник предполагал разную степень социальной (в том числе сексуальной — вплоть до оргии, см. § 138) свободы (см. о первобытном празднике: Абрамян Л. А. Первобытный праздник и мифология. Ереван, 1983). Таким образом, наиболее сакральное действо не только не устраняло Хаоса, но моделировало вторжение его сил (ср. вторжение ряженых, нечистой силой на святки), не только не устраняло профанического, но предполагало профанацию главных святынь: социальная дифференциация и сегрегация, запреты (табу) противопоставлялись единству человечества и Космоса (природы). Собственно ритуализованный космический порядок устанавливался — точнее, восстанавливался по завершении праздника (ср. концепцию M. M.Бахтина), но, естественно, не этот порядок можно считать предметом «ностальгии». Скорее, праздник, чем первобытный миф, моделирует райское изобилие и райскую жизнь (ср. противопоставление мифа и ритуала в недавних работах К. Леви–Строса и В. Н. Топорова, где ритуал объединяет дискретное, а миф расчленяет и «космизует» непрерывное профаническое бытие: Топоров В. Н. О ритуале. Введение в проблематику // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. Μ., 1988. С. 7–60).
И вместе с тем выделение Элиаде завершенной эпохи мифического Первотворения, космогонического периода как эпохи, отделяющей во времени сакральное и профанное, действительно стало этапом в понимании «исторического», в формировании чувства истории и исторической науки. Конечно, в мифе нельзя усматривать «историю» с некими хронологическими вехами (ср.: Дьяконов И. М. Архаические мифы Востока и Запада. С. 107), но события, описываемые в мифе, особенно в мифе космогоническом, даже если они регулярно воспроизводятся в ритуале, «вечно возвращаются», все же являются уникальными и в этом смысле «историческими». Как бы тщательно ни маскировались под богов или первопредков отправители ритуала, они оставались «ряжеными». Мифологическая эпоха Первотворения именно в силу своей завершенности была прообразом Истории (тем мыслительным прообразом, который так занимает Элиаде): недаром «ранние исторические описания» (равно как и героический эпос) в разных традициях, включая и библейскую, начинают человеческую историю с космогонического мифа (см. во многом перекликающуюся с концепцией Элиаде статью: Топоров В. Н. О космологических источниках раннеисторических описаний // Труды по знаковым системам. Тарту, 1973. Вып. VI. С. 106–150). Более того, само изложение Элиаде последовательности «иерофаний» так, как их описывает мифология, свидетельствует о неизбежности формирования этого чувства истории (и судьбы) именно в силу того, что мифологическая эпоха в позднейших мифах о смене поколений богов может изображаться как «золотой век». Здесь, возможно, намечается та грань между «первобытностью» и «цивилизацией», которая рождает подлинную историю — описание деяний людей, ответственных за свои поступки не только перед божествами и предками, но и перед потомками, для которых пишется история.
Конечно, и первобытные мифологии знают смену поколений богов: Элиаде специально рассматривает образ «праздного», бездеятельного бога (deus otiosus, § 15), удаляющегося на покой по совершении акта Творения; ему на смену приходят деятельные боги, распределяющие между собой конкретные функции громовержца, солнечного божества, бога вод, ветров и т. д. В еще более архаичном варианте мифов посредниками между людьми и миром сверхъестественного оказываются культурные герои, устраивающие племенную территорию (мезокосм) и социальный порядок: племенное разделение и т. п. (см. о них: Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. С. 178 и сл.), т. е. создают основу «профанической» истории. Но ни культурные герои, ни даже боги (например, боги германо–скандинавского или обско–угорского пантеона) не отделены от людей непроницаемой границей сакрального времени: они не только действуют в настоящем, но и являются предками людей, их кланов и племен, фратрий и т. п. (ср.: Золотарев Α.Μ. Родовой строй и первобытная мифология. М., 1964). Настоящее разделение наступает тогда, когда обрываются кровнородственные связи со сверхъестественным: герои, царские или жреческие династии еще могут претендовать на родство с богами, но «народ» уже отделен от них жесткими рамками социальной иерархии. Замена кровнородственных связей на социально–иерархические, замена объединяющей всех устной мифологической традиции диктуемым сверху писаным законом, драматическое переживание распада традиционных связей как конца света, когда «братья начнут биться друг с другом, родичи близкие в распрях погибнут» (Прорицание Вёльвы: 45 // Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М., 1975. С. 188) — сами эти исторические события диктовали чувство истории и даже эсхатологии, преходящести исторического бытия. Циклическое время «вечных возвращений» оказалось разорванным, что сулило человечеству постоянные катастрофы, сменялось линейным (см. об этом: Кнабе Г. С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. М., 1993. С. 113, 114) — историческим и эсхатологическим — временем, отсчитывающим дни и годы от сотворения мира до конца света. Тогда, на пороге цивилизации, формировались и чувство «потерянного рая»[1716], и отношение к познанию добра и зла как к потере бессмертия, недостижимого уже даже для героев божественного происхождения (ср. § 146), каким был Гильгамеш. Этот герой первым в истории мировой литературы испытывает ужас Истории — тот ужас, который Элиаде готов приписать всей традиционной культуре. Но этому посвящена уже следующая его книга — «Миф о вечном возвращении», или «Космос и история».
В «Очерках», касаясь проблемы космических циклов гибели и возрождения мира, представления о которых возводятся Элиаде к биокосмическим ритмам (солярным, лунарным и т. п.), автор приходит к более оптимистическому пониманию истории и даже «положительной ценности […] времен большого упадка и разложения; они приобретают сверхисторическое значение, хотя фактически как раз в такие времена история совершается наиболее полным образом, ибо тогда равновесие неустойчиво, условия жизни людей бесконечно разнообразны, распад законов и всей старой структуры ведет к новым событиям. Подобные темные периоды — своего рода тьма Всеобщей Ночи. И в качестве таковых они сами по себе представляют положительную ценность, как положительную ценность представляет собою смерть; это тот же символизм, что символизм личинок в темноте, зимней спячки, семян, лопающихся в земле, чтобы могла появиться новая форма» (§ 59).
В комментариях к этой книге составитель стремился ориентироваться на ту дополняющую (или уточняющую положения Элиаде) информацию, которая может быть доступна широкому читателю и содержится в русских изданиях текстов и книг по религиоведению и мифологии. Большинству мифологических персонажей, упоминаемых в «Очерках», посвящены специальные статьи в неоднократно переизданной энциклопедии «Мифы народов мира» (изд. 1–е: М., 1980–1982) и многочисленных изданиях Мифологического словаря, к которым может обратиться читатель[1717].
В. Я. Петрухин
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АОА Acta Orientalia
АА American Anthropologist
AJSL American Journal of the Semitic Languages and Literatures
AASF Annales Academiœ Scientiarum Fennica
AS Année sociologique
APS Anthropos
AOR Das alte Orient
AFRP Archiv für Religionspsychologie
AFRW Archiv für Religionswissenschaft
AFV Archiven für Völkerkunde
AOI Archiv Orientálni
AI Ars Islamica
AB Art Bulletin
ASA Asiatica
AV Atharva Veda
BMB Bemice P. Bishop Museum Bulletin
BSFP Bulletin de la société française de philosophie
BMAS Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities, Stockholm
BSOAS Bulletin of the School of Oriental Studies
CIG Corpus Inscriptionum Grœcarum
DF Deutsche Forschungen
FJ Eranos Jahrbuch
ES Ethnos
EA Etudes asiatiques
FRE Folklore
FFC Folklore Fellowship Communications
GBA Gazette des beaux‑arts
GRM Germanisch‑Romanische Monatsschrift
GBS Globus
GLA Glotta
HJAS Harvard Journal of Asiatic Studies
HE Hermes
IHQ Indian Historical Quarterly
IGF Indogermanische Forschungen
IAFE Internationales Archiv für Ethnologie
JDAI Jahrbuch des deutschen archäologischen Instituts
JKDAI Jahrbuch des kaiserlichen deutschen archäologischen Instituts
JA Journal asiatique
JSA Journal de la société des africanistes
JAF Journal of American Folklore
JAOS Journal of the American Oriental Society
JASS Journal of the American Society for Semitic Languages
JEA Journal of Egyptian Archœology
JISOA Journal of the Indian Society of Oriental Art
JPS Journal of the Polynesian Society
JRAI Journal of the Royal Anthropological Institute
JRAS Journal of the Royal Asiatic Society
MN Man
MA Mana
MB Mannus‑Bibliothek
MAGW Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien
MIOG Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschungen
ME Mnemosyne
MO Le Monde oriental
NV Nova et Vetera
OA Oceania
ORA Orientaba
ÖZK Österreichische Zeitschrift für Pflege religiöser Kunst
PL Patrologia Latina
PS Philologue
РНЕ Préhistoire
RAN Revue anthropologique
RAR Revue archéologique
RC Revue celtique
REG Revue des études grecques
RES Revue des études slaves
RETP Revue d’ethnographie et des traditions populaires
RHA Revue de l’histoire ancienne
RV Rig Veda
RHR Revue d’histoire des religions
RSR Revue des sciences religieuses
RH Revue hispanique
RIASA Rivista del reale istituto d’archeologia e storia dell’ arte
RSO Rivista di studi orientali
SA Studia Ægyptica
SO Studio Orientalia
SMSR Studi e materiali di storia delle religione
TAAP Transactions of the American Association of Philosophy
TP Toung Poo
WBKL Wiener Beiträge zur Kulturgeschichte und Linguistik
WZKM Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes
WS Wörter und Sachen
ZCZ Zalmoxis (Cahiers de Zalmoxis)
ZDMG Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft
ZFE Zeitschrift für Ethnologie
ZNW Zeitschrift für neutestamentlischeWissenschaft
ZFS Zeitschrift für Sozialwissenschaft
ZVS Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft