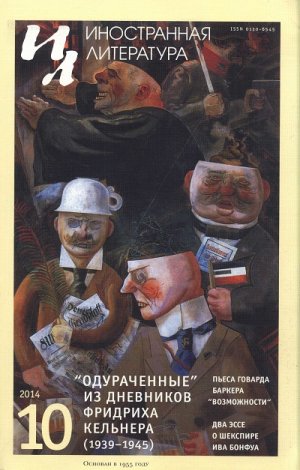
Вступление Елизаветы Аль-Фарадж
Предлагаемая читателям статья была написана в 1865 году и тогда же опубликована в трех выпусках журнала «Л’Ар». Ее автор был еще малоизвестным литератором — ему исполнился 21 год — и до эссе о Бодлере успел опубликовать только два стихотворения. То, что он делает первые шаги в литературном мире с именем Бодлера на устах, — отнюдь не случайность: молодой поэт был давним почитателем автора «Цветов зла». Как пишет сам Верлен, в возрасте четырнадцати лет он проглотил первое издание «Цветов зла», не поняв в этих стихах ничего, кроме того, что в них говорится о чем-то запретном и извращенном, да и само название сборника Верлен — в силу ли невнимательности или свойственной возрасту наивности — принял за «Цветы мая» («Fleursdu mai»). Многое запомнилось тогда Верлену наизусть, Бодлер стал для него примером для подражания, и это влияние, как позднее признает Верлен в «Исповеди», с течением времени становилось только отчетливее и осмысленнее. В заглавие своего первого поэтического сборника «Сатурнические стихи» (1866) Верлен ввел эпитет, которым сам Бодлер охарактеризовал «Цветы зла»: «эта… сатурническая, оргиастическая и меланхоличная книга». Да и сами «Сатурнические стихи» были восприняты современниками как вариации на бодлеровские мотивы (Барбе д’Оревильи даже назвал Верлена «Бодлером-пуританином, лишенным бодлеровского таланта»). 2 сентября 1867 года Верлен присутствует на похоронах Бодлера и пишет об умершем поэте небольшую заметку, где в свойственных жанру выражениях характеризует его как «выдающегося писателя и великого поэта», отмечает «исключительную чистоту его стиля, блистательность и <…> легкость его стиха», «силу и изысканность его воображения» и помещает Бодлера среди самых славных поэтов эпохи.
Не только Верлен вел свою литературную генеалогию от Бодлера. Автор «Цветов зла» и сам был осведомлен о поколении молодых поэтов, для которых его поэзия стала знамением новой литературной эпохи. Знал Бодлер и о заметке Верлена из «Л’Ар»; своими впечатлениями о ней он делится в письме матери:
Этим молодым людям не отказать в даровании, но сколько же глупости! Какие преувеличения и какое юношеское самодовольство! Уже несколько лет я замечал то здесь, то там подражания, и это меня тревожило. Я не знаю ничего более компрометирующего, чем подражатели; больше всего я люблю быть один. Но это невозможно; кажется, что школа Бодлера существует.
Как бы там ни было, статья Верлена — важная веха в его собственной поэтической биографии, но также и этап в восприятии бодлеровского наследия. На момент ее выхода в свет критические реплики на «Цветы зла» были немногочисленными. Однако в начале 1860-х годов появляется сразу несколько существенных публикаций: Леконт де Лиль в 1861-м, Готье в 1862-м, Суинберн в 1864-м и Верлен в 1865-м посмотрели на поэзию Бодлера другими, более внимательными к поэтической форме и смыслу, глазами. В этой плеяде Верлен был самым младшим. Отмечая у Бодлера черты, близкие ему самому, он оказался своего рода глашатаем новой поросли поэтов, выходящих в тот момент на литературную сцену под знаком симпатии к поэтике «Цветов зла».
I
Заговорите о Бодлере с кем-нибудь из круга тех ста пятидесяти парижан-любителей, которые по наивности своей все еще читают поэзию, и вы, несомненно, услышите в ответ избитое: «Шарль Бодлер? Постойте-ка. Ах, да, это тот самый, который воспевал падаль!». Не смейтесь. Мне так сказал один «художник», а другой — очень может быть, что и вы, читатель…
Вот так создается репутация поэта в беспримерно духовной стране, имя которой — Франция. История известная. Впрочем, то же приключилось с «Желтыми лучами», безусловно, лучшим из стихотворений в замечательном сборнике «Жозеф Делорм», которое по глубине меланхолии и силе экспрессии я ставлю несравненно выше стенаний Ламартина и прочих. Тогда публика и критика отпускали весьма тонкие шутки по поводу бедного Вертера, студента-медика, — здесь я позволил себе воспользоваться ошеломляюще-метким выражением нашего поэтичного мсье Гизо[1].
Публика одинакова во все времена. Критики — признаем это — лучше осознают свой долг, состоящий не в том, чтобы подвывать, угождая вкусам публики, а чтобы привести эту враждебную или безразличную толпу к подлинным ценностям искусства и поэзии, хочет она того или нет. Публика подобна дурно воспитанному ребенку, которого необходимо исправлять.
II
Глубочайшая оригинальность Шарля Бодлера кроется, на мой взгляд, в его манере представлять современного человека; под этим понятием — современный человек, — по причине, которая вскоре будет выяснена, я не подразумеваю человека морального, политического и общественного. Речь здесь идет о современном человеке из плоти и крови, который был создан изысками нашей цивилизации, о современном человеке с его обостренными и вибрирующими чувствами, с его изощренным умом, с его мозгом, напитанным табаком, с его кровью, воспламененной алкоголем, одним словом, об истинном bilio-nerveux[2], как сказал бы И. Тэн. Эту, так сказать, индивидуальность чувств Шарль Бодлер, я повторяю, представляет в типическом аспекте, выводя, если угодно, героя века. В некоторых строках «Цветов зла» эта индивидуальность получила столь яркое проявление, что ничего подобного вы не найдете нигде, даже у Г. Гейне. Поэтому я считаю, что историк нашего времени, дабы не оказаться поверхностным, должен внимательно и благоговейно пролистать эту книгу, квинтэссенцию нашей эпохи, воплощение ее наиболее характерных черт. В доказательство возьмем для начала любовные стихотворения в «Цветах зла». Каким же образом автор выражает любовное чувство, это восхитительнейшее из общих мест, которое облекалось во все возможные поэтические формы? Подобно язычнику, как Гёте, христианину, как Петрарка, или ребенку, как Мюссе? Ничего подобного у него нет, и в этом его великая заслуга. Рассуждать о вечных темах, будь то идеи или чувства, не повторяя того, что было сказано ранее, — вот в чем, наверное, будущее поэзии и, уж во всяком случае безусловно, именно это отличает истинных поэтов от второстепенных. Любовь в стихах Ш. Бодлера — это любовь парижанина XIX века, нечто лихорадочное и вместе с тем рассудочное; страсть здесь перемежается размышлениями, и если временами нервы одерживают верх над разумением, усиливая воздействие чувств, то знаменитое nescio quid amarum[3] Лукреция, которое есть не что иное, как непреодолимая тяга души к вечно ускользающему идеалу, без устали нашептывает на ухо одержимому свой беспощадный призыв к порядку. Но сумел ли я четко выразить свою мысль? Быть может, несколько цитат сделают ее яснее:
И, наконец, в этом знаменитом и столь плохо понятом стихотворении «Падаль», автор, ужасающе и вместе с тем блистательно описав «гордый остов», обращается к своей возлюбленной и заканчивает тремя поразительными строфами, в которых любовь в своем поиске идеала оказывается сильнее смерти. Прочтите лучше эти изысканные строки:
Здесь в нашем поэте предстает спиритуалистическая сторона любви. Притом чувственная и даже животная ее сторона описана не менее талантливо; однако по причинам, понятным всем моим читательницам, «желающим, чтобы к ним относились почтительно», следует воздержаться от цитирования других стихотворений этого цикла, вопреки требованиям справедливости и симметрии; я ограничусь ссылкой на стихотворения XXII, XXIII, XXIV, XXVIII, XXXII, и XLIX из второго издания «Цветов зла» и, в особенности, на сонет LXIV, в котором вы найдете следующие великолепные стихи о гордости и разочаровании:
А теперь не желаете ли узнать, как наш поэт постигает и выражает упоение вином, еще одно общее место, воспетое на все лады, начиная с Анакреонта и заканчивая Шольё[8]? Великий Гёте, который нынче у всех на устах, включил в «Западно-восточный диван» книгу чашника, истинный шедевр, хотя идеи его скорее ближе Горацию, чем Хафизу или Низами. Жорж Санд в своих «Записках путешественника», Теодор де Банвиль[9] в «Сталактитах» исполнили, каждый на свой манер, он — лирически, она — с точки зрения философии и морали, великолепные вариации на тему этой всем известной арии. Совершенно иначе прославил вино Шарль Бодлер. Прежде всего, он посвятил ему отдельную часть сборника своих стихотворений, в которой, рассматривая различные поэтические ситуации, связанные с опьянением, он перевоплощается в нескольких персонажей и заставляет каждого из них говорить своим торжественным и суровым языком. Таким образом, взору нашему предстает все многообразие вин, если так можно выразиться, от «Вина любовников» до «Вина убийцы», а помимо них — «Вино тряпичников» и «Душа вина».
Так же и о Смерти, третьей извечной теме, увы, самой банальной из всех! Так же и о Париже, ставшем общим местом со времен Бальзака, правда, чуть менее разработанном поэтами, чем романистами. Однако же какая поэтичная тема, какой мир сравнений, образов и соответствий! Какой неиссякаемый источник мечтаний, какое обилие материала! Вот что постиг Бодлер, парижский гений, пусть это и удалось ему вопреки живущей в нем безутешной тоске по идеалу. А какие фантазии в духе Рембрандта — «Сумерки», «Маленькие старушки», «Семь стариков», — и в то же время, какой волнующий трепет вызывают в вас эти великолепные офорты, в которых столько общего с работами амстердамского мастера. Вот образец, стихотворение, которым открываются «Парижские картины»:
Что же касается крайностей мэтьюриновского сатанизма[12], которыми Бодлеру нравилось расцвечивать свои «Цветы зла» и из-за которого отдельные заурядные господа-моралисты обвиняли его в оскорблении рационализма, то я вижу в этом сумрачном сатанизме лишь безобидный и живописный каприз художника; по поводу подобного рода капризов я могу сослаться на следующий отрывок из «Восточных мотивов»: «Пространство и время принадлежат здесь поэту. Пусть же он идет куда хочет и делает что угодно; таков закон. Пусть верит он в единого бога, или во многих богов, или ни во что не верит; пусть платит за перевоз через Стикс, пусть ходит на шабаш ведьм; пусть пишет прозой или стихами и т. д. Поэт свободен. Встанем на его точку зрения и будем исходить из нее»[13].
Теперь же пришло время поговорить о Шарле Бодлере как о художнике.
III
Поэтика Шарля Бодлера, даже если бы он не постарался выразить ее основные принципы несколькими довольно четкими фразами, проявляется с достаточной ясностью в самих его стихах, а вкратце может быть изложена в этих строках, взятых из двух предисловий к его превосходному переводу Эдгара По, а также из других лежащих передо мной сочинений:
«Тьмы людей воображают, что цель поэзии — обучение чему-либо, что она должна либо укрепить совесть, либо предъявить хоть что-нибудь полезное… Поэзия, если только захочешь углубиться в себя, вопросить свою душу, припомнить свои былые восторги, не имеет иной цели, кроме себя самой; она не может иметь никакой иной цели, и ни одно поэтическое творение не будет столь великим, столь благородным, поистине столь достойным называться поэзией, как то, что пишется единственно ради удовольствия написать стихи…»[14] — «…он окончательно установил условие, при котором может появиться произведение искусства, каковое условие есть исключительная любовь к Прекрасному — Навязчивая идея»[15].
Нужно быть господином д’Антрагом, чтобы не приветствовать эти здравые идеи, изложенные столь чеканным, ясным и простым слогом, чистейшим образцом прозы и подлинной прозой поэта. Несомненно, Искусство не зависит от Морали, так же как и от Политики, Философии и Науки, и Поэт впредь не обязан отчитываться перед Моралистом, Трибуном, Философом или Ученым, равным образом и они не ответственны перед Поэтом. Несомненно, цель поэзии — Прекрасное, только Прекрасное, Прекрасное в своей чистоте, без примеси Пользы, Истины или Справедливости. Тем лучше для всех нас, если вдруг окажется, что произведение Поэта — случайным образом! — содействует справедливости или правде. Если же нет, тем хуже для господина Прудона. Что же касается пользы, этой неудачной шутки, мне кажется, не стоит впредь относиться к ней серьезно.
Другая выдумка, которую давно пора отправить в архив, выдумка не менее вздорная, но куда более опасная, ведь стоит только примешаться ребяческому тщеславию, как она способна оставить в дураках самих поэтов, — это Вдохновение. Вдохновение — экий балаган! Вдохновенные пииты — экие шарлатаны! Вот что об этом говорит Бодлер, и поэтам останется только поблагодарить его за справедливость суждения:
«…Насколько иные поэты притворяются, что они пребывают во власти самозабвения, и думают, зажмурясь, попасть в цель, насколько они веруют в хаос и надеются, что наугад подброшенные к потолку строки свалятся им на голову готовыми стихами… любители случая, фаталисты вдохновения… фанатики белого стиха»[16].
О лютни, арфы, туманные дали и треножники, всего несколько пренебрежительных и резких слов, и каково мщение, не правда ли? Сколь приятны для слуха эти звонкие удары, словно хлыстом по пояснице, так справедливо доставшиеся тем одержимым со всей их бутафорией, что шатаются по городу и возглашают Deus, ecce Deus! [17]под самым носом опешившего буржуа, уверовавшего, будто настали последние времена! Ну и что с того, что теория, которую они волокут за собой, так высоко возносит поэта, чье предназначение столь долго и столь абсурдно сводилось к роли инструмента в руках Музы, простой клавиатуры, которую открывают, закрывают и даже покупают, или того пуще — шарманки, губной гармошки или бог весть еще чего!(Непристойные идеи порождают столь же непристойные сравнения, простите!) О Муза! Не будем же больше профанировать это августейшее имя, так же как и имя Аполлона, — два самых великолепных символа, которые нам завещала греческая античность. Но ведь Муза — это не что иное, как воображение, которое вспоминает, сравнивает и воспринимает, тогда как Аполлон — воля, которая выражает, определяет и сияет, и ничего более. И, сдается мне, этого довольно.
«Страстотерпцам» точно так же досталось от Шарля Бодлера, как и их пособникам Утилитаристам и Вдохновенным:
«Итак, принцип поэзии выражен неукоснительно и просто в человеческом стремлении к высшей красоте, и проявляется этот принцип в восторге, в душевном возбуждении, — в восторге, ни в коей мере не зависящем от страсти, то есть сердечного опьянения, и от истины, то есть пищи для разума. Ибо страсть — естественна, даже слишком естественна, а потому способна привнести оскорбительный, нестройный тон в сферу чистой красоты, и слишком привычна, слишком несдержанна, то есть угрожает смутить чистые желания, изящную печаль и благородную разочарованность, что населяют потусторонние пространства поэзии»[18].
В конечном счете, не правда ли, это все, что могут ожидать наши жалкие ересиархи от правоверных поэтов?
IV
К чему же стремится сам Бодлер? Об этом несложно было догадаться по тому, что он отвергает и что привечает в поэте. Самое важное для него — Воображение, «царица способностей», тонкое и одновременно ясное определение которому Бодлер дал в «Салоне 1859 года». То малое пространство, которым я сегодня располагаю, увы, не позволяет процитировать этот исключительный отрывок целиком. Тем не менее вот некоторые его фрагменты:
«Воображение соединяет в себе и анализ и синтез; между тем есть умелые аналитики, способные кратко резюмировать свои выводы и при этом начисто лишенные воображения. Однако оно не исчерпывается анализом и синтезом. Воображение как будто можно приравнять к чувствительности, и тем не менее встречаются люди, весьма и даже слишком чувствительные, но обделенные воображением. Именно благодаря воображению мы постигли духовную суть цвета, контура, звука и запаха. На заре человеческой истории оно создало аналогию и метафору… Оно воссоздает новый мир, вызывая ощущение новизны… Без него любые способности, какими бы основательными или изощренными они ни были, обращаются в ничто, и в то же время мы снисходительны к слабости отдельных второстепенных качеств, если они одушевлены мощным воображением…» [19].
Кроме воображения, Бодлер требует от поэта всепоглощающей любви к своему ремеслу. Нужно отдать должное художнику, который в сей меркантильный век открыто проповедует о том, что у древних — о люди! — имело силу закона, тогда как некоторые сегодняшние Исавы продали бы поэзию за чечевичную похлебку!
Не слишком доверяя Вдохновению, Бодлер советует поэту работать. Он из тех, кто не считает пустой тратой времени шлифовку и без того красивой рифмы, прилаживание ясного образа к четко сформулированной мысли, поиск и обнаружение занимательных аналогий и неожиданных цезур — всего того, что заставляет наших безобидных Прогрессистов пожимать плечами. Но в этом Бодлер непримирим, ведь когда-то он сказал: «Оригинальность — вопрос мастерства, но это еще не означает, что оригинальности можно научиться»[20].
Хорошенько поразмыслите над этим парадоксом и имейте в виду, что в нем заключена прекрасная и глубокая истина.
В предыдущей главе мы пытались очертить характер, человеческую сторону поэзии Бодлера. Сегодня мы изложили основные принципы его эстетики.
В дальнейшем мы увидим эту эстетику в действии.
V
Едва ступив в поэтическую мастерскую Бодлера, мы тотчас же отметим, что в стихах его среди живейшего воодушевления, в сердцевине глубочайшего страдания возникает чувство великого спокойствия, доходящее порой до холодности или даже леденящего равнодушия: это и будоражащий источник очарования и неопровержимое свидетельство, что поэт владеет собой и не намерен это скрывать. (Рецепт: не в том ли состоит поэзия, чтобы никогда не быть простодушным, но иногда им казаться?) Чтобы убедиться в этом, откройте наугад «Цветы зла», быть может, вам попадутся «Старушки», самое проникновенное, самое трогательное стихотворение сборника. Рано радуетесь, страстотерпцы! Быть может, вы отметили, что в этом произведении живость интонации не препятствует полнозвучности рифм? И, несмотря на замысловатую структуру стиха, эти строки волнуют вас до глубины души, не так ли? Странно-пронзительный образ маленьких старушек, семенящих по грязи, впечатлил вас, заставил вздрогнуть, и безупречность строя, и чистота выражений не были тому преградой, не правда ли? И с первых же строф, столь искусно движимых несчастьем, вы испытываете невыразимую тоску, растущую с каждой новой строкой?
Признайтесь, что из всего этого вы заключите, что поэт и сам растроган и что эти поразительные стихи подсказаны, внушены (не будем бояться этого слова — «вдохновлены»!) испытанным переживанием.
Но продолжите чтение:
Что скажете об этом небольшом отрывке? Мне он кажется особенно пленительным. Я безумно люблю нашего поэта за то, что он внезапно прерывает одновременно умилительное и умильное описание, чтобы обратиться к ошеломленному читателю с вопросом: «Не кажется ли вам и т. д.» — исключительный пример бесцеремонности и хладнокровия, который вызвал бы восторг у Эдгара По и мог бы снискать одобрение великого Гёте. А строфа «И, на глазок сравнив размеры душ бесплотных…» и т. д. не кажется ли вам столь ироничной, столь резкой, столь жестокой — и столь возвышенной, в конце концов?
Здесь я слышу возгласы страстотерпцев, вечно чем-то раздосадованных: «Будь проклят тот дерзкий поэт, что портит нам все удовольствие, высмеивает слезы, которые сам исторгнул, растаптывает переживания, вызванные его собственными стихами!» И вот они уже совершенно разъярены. (Второй рецепт: вывести из себя страстотерпцев, или, откровенно говоря, простофиль, — не в этом ли один из моментов искусства?) Что же вдохновенные? Я даже не осмеливаюсь представить, что они думают по этому поводу.
VI
Можно было бы привести множество подобных примеров. Удовольствуемся же этим, из «Старушек», и признаем, что поэт, столь властный и свободный, чтобы позволить себе так решительно играть на контрастах интонации, должен быть знатоком всех тонкостей своего ремесла. Итак, я взял на себя смелость рассмотреть одно-единственное стихотворение из всего сборника «Цветов зла»; его конструкция может показаться странной, а обороты нервными — я выбрал его наугад. И здесь нельзя не вспомнить об одной журнальной статье, прочитанной, по правде сказать, в Бельгии (вот уж воистину — «Бедная Бельгия!»[23]), в которой с изумительно-легковесной грацией высмеивался этот перенос с одной строфы на другую из стихотворения, приведенного выше:
Судя по всему, бельгийский критик не знает, что такое ономатопея, «длинное слово, которое он принимает за термин из химии». Увы! Сколько же французских критиков, и из самых «значительных», оказываются бельгийцами в этих материях!
Ни один из великих поэтов, ни один из них больше, чем Бодлер, не разбирается в бесконечных хитросплетениях стихосложения. Только Бодлер умеет придать величественному гекзаметру гибкость и тем самым спасти от монотонности, только он перебирает строки сонета с таким мастерством, что катрены сменяются самым неожиданным образом. Только Бодлер владеет приемом, простота которого обманчива и который состоит в постоянном вращении одного и того же стиха вокруг обновляющейся с каждым витком идеи, и, наоборот, одним словом — в изображении наваждений. Прочитайте «Балкон», в романтическом жанре, или «Неотвратимое», в более мрачных тонах.
Но в чем Бодлеру нет равных, так это в стихе, в котором явлен целый мир, который тотчас же запечатлевается в памяти и больше никогда ее не покидает, чтобы искриться в ее недрах (не путать со стихом-поговоркой, этим ужасом!). Из современных поэтов здесь с ним мог бы состязаться Альфред де Виньи, но я, в конечном счете, сомневаюсь, не предпочесть ли знаменитым:
…Ведь если вы прекрасны, вы, без сомнения, добры…[25]
…Земля в своем цветенье первом ласкала взор… [26]
…Мир нескончаемый пред нами распахнется… [27]
эти строки Бодлера, взятые наугад из «Цветов зла», за их поразительную точность и живость:
…Мгновенный женский взгляд, обвороживший нас… [28]
…Столько помню я, словно мне тысяча лет…[29]
…В бутылках в поздний час душа вина запела…[30]
Кажется, Бодлер был первым французским поэтом, который отважился на подобное:
…Да послушать оркестр, громыхавший металлом…[31]
…Как пьяница, в глазах которого двоится… [32]
Боюсь, что мой бельгийский критик примется сейчас кричать о погрешностях, допущенных Бодлером, не замечая по невинности своей, что именно в этом состоят игры настоящих художников: неожиданно придать стиху стремительность, или, напротив, дать отдых усталому слуху с помощью внезапной цезуры, или же просто-напросто немного досадить читателю, что всегда кажется весьма заманчивым.
VII
На этом можно завершить мой очерк. Осознавая его принципиальную неполноту, я все же надеюсь, что мне удалось разрушить некоторые предубеждения относительно блестящего поэта, которые были бы немыслимы в другие эпохи, кроме нашей, филистерской и обывательской по определению. Еще, кажется, не отзвучал свист, которым — к вящему увеселению галерки — встретили смелое и отточенное произведение двух литераторов; тогда критики рекомендовали авторам прочитать двадцать книг, некоторые из которых являются шедеврами, но кто же столь строгие судьи? Тридцать наивных провинциалов и столько же деревенщин, которым показали красную тряпку[33].