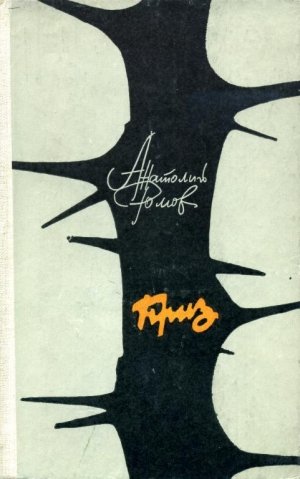
ПОСВЯЩАЕТСЯ ОТЦУ
«Есть страдание, есть освобождение от страданий, можно освободиться от страданий, есть правильный путь к освобождению от страданий» — одно из положений буддийской религии.
Отслоившаяся дранка фанерной спинки кресла на веранде. Взрывы. Сладко-мучнистый вкус компота, мысль о крошеном навозе для манежа. Чушь какая-то. Снова взрывы, он должен бежать. Ощущения были обычными, такими обычными, что рядом с возникшими звуками, то ли взрывами петард, то ли громом лопавшихся подряд баллонов, они становились несколько странными. Но это были бомбы, просто бомбы. И потом — это чувство, чувство неудобства, будто он оплошал, не понял сразу того, что скрывалось за этими звуками. Он должен бежать, скрываться, так же, как все, как будто эти взрывы петард, возникшие сейчас, слухи, что самолеты напали на президентский дворец, были самым обычным делом, и обычным был истошный женский крик, гул проходящих мимо машин… Странно — они застали Кронго на веранде, когда он пил компот, в перерыве, который он устраивал себе каждый день. Все остальное должно было происходить двояко. Внутри остается мешанина из смятения, страха, отчаяния, но он не должен показывать это самому себе. Но все это он даже не знал, это на какую-то долю секунды мелькнуло в нем и исчезло, может быть, чтобы возникнуть потом. Но сейчас, пока он еще не понимал, что это переворот, осталась только лужица компота на столе, отслоившаяся фанера, палисадник, бегущие мимо коттеджа солдаты.
— Если вы бауса, спасайтесь, они расстреливают всех, кто попадает им в руки…
Как хорошо было в Берне. Чисто, спокойно, радостно.
Солдаты бежали от президентского дворца. Там, в торговых кварталах и у небоскребов на набережной Республики, слышалась стрельба. Филаб, жена Кронго, подхватила детей и села в первый попавшийся «джип». Кронго не успел удержать ее. Ему пришлось кинуться вслед за «джипом», он какое-то время хорошо видел его. Потом совсем близко взорвался снаряд, Кронго втащили в первое парадное. Он вырвался, но «джип» уже затерялся в общем потоке… Он побежал на автобусную станцию, но там все было разбито, плакали дети, растрепанный человек что-то кричал в громкоговоритель. Филаб здесь не было. Кронго кинулся к порту.
Лежа на берегу океана, он еще не мог понять, что все кончено, перевернуто. Лица людей, которых он только что видел, позы солдат на «джипах», деловитые движения женщин, укрывающих детей, — во всем этом не было удивления, люди принимали и взрывы, и панику как должное. И это коснулось его — в нем возникло ощущение неловкости и от этого ощущение испуга, но испуга лишь за то, что он не знал, что все это должно произойти, за то, что он удивился. Только сейчас страх какой-то странной воображаемой окружностью по-настоящему расплывается в животе. Кронго хорошо слышит, как пули щелкают о камни обрыва. Он сейчас думает об Альпаке. Но если правда то, что кричали солдаты, если всех бауса действительно расстреливают, то ведь почти все конюхи на ипподроме бауса… Мелькнуло: в Берне, чистом, солнечном, ясном, этого не могло быть. Но ведь за девять лет он почти забыл Берн. Кронго на секунду будто ощутил шершавый круп Альпака, дергавшийся под ладонью. Кронго хорошо слышал одиночные выстрелы и очереди, которые ритмично шипели внизу, над ленивым водным пространством, над прибоем у пляжей и отгороженным от них рейдом. Звук автоматов, почти бесшумных, вскоре заглушил орудийный залп. Еще один. Возле кургузого обшарпанного парохода, стоящего перед волноломом, распустился белый фонтан. До приезда сюда, там, в Европе, и в первые редкие наезды Маврикий Кронго привык называть бесконечность, которая уходила от берега, по-европейски — море, океан. Но сейчас он называл эту бесконечность на языке матери — «вода». Рядом, в кустах, треснула очередь автомата. Еще одна. Несколько человек в незнакомой серой форме, стреляя, выбежали из зарослей. Они гнались за двумя — худым молодым африканцем и стариком, который с ожесточением петлял в кустах, отстреливаясь на ходу. Кронго почувствовал — что-то натянулось внутри. Наконец молодой вздрогнул, продолжая бежать, согнулся, — наверное, очередь настигла его. Потом согнулся старик. Кронго зажмурился. Он слышал падающее, хрипящее, корчащееся под деревом. Он боялся крови. На секунду он вспомнил ту встречу с Филаб — самую первую. Но перед ним опять возникли утренние бегущие солдаты:
— Если вы бауса, спасайтесь, они расстреливают всех, кто попадает им в руки…
Тогда здесь еще была «заморская территория» и он ненадолго приехал из Европы. Филаб было шестнадцать. Кронго должен был участвовать в розыгрыше Большого приза Африки. Он думал, что приедет только на несколько дней — опробовать дорожку, выступить, победить и уехать. Под ним тогда шел отец Альпака, бесподобный, непобедимый Пейрак-Аппикс. Реальными фаворитами, кроме Кронго, считались француз Ги Флавен на Монтане и злой маленький американец Доналд Дин. Дин привез Стейт-Боя, жеребца, о котором писали все газеты и который не знал поражений в западном полушарии.
Кронго прислушался. На, листе перед его глазами медленно ползла тропическая божья коровка. Она оставляет за собой след. Кронго удивился — до чего ровно расположены на лиловых надкрыльях синие круги. Он вгляделся в прозрачно-зеленые куски воды. Только не смотреть туда, на убитых. Опять тишина. Огромные, будто застывшие, куски воды громоздились до самого горизонта — как будто глыбы хрусталя долго сваливали с огромного обрыва, а теперь оставили пылиться и сверкать под солнцем. Оттуда сейчас тянуло, как обычно, прохладой. Земля под ним дрогнула, у кормы парохода снова возник пышный фонтан. Должна же быть какая-то разница между морем и океаном. Язык белых, простой, ясный, четкий, давал множество оттенков и градаций — океан, залив, лагуна, бухта. Тут же Кронго услышал шум машины и лихорадочно отполз в кусты. Ноги и руки его двигались сами, независимо от сознания. Если бы не утренняя стрельба, не переворот, не возвращение белых, он бы посмеялся над собой. Он, главный тренер рысистой и скаковой конюшен, директор ипподрома, с самого утра действует и живет, как насекомое. Как навозный жук, почувствовавший, что над ним занесли ногу. Но ведь он не имеет никакого отношения ни к политике, ни к партиям, ни к Фронту освобождения… Он чувствует, что его тело само ощущает опасность и само защищается. Он успел скинуть джеллябию. Его костюм для тренинга и шорты просвечивают сквозь кусты. В конце концов он только специалист, он только… В этом месте мысль оборвалась, по Кронго дали очередь. Из зарослей выполз ядовито-зеленый «лендровер». Кронго вжался лицом в траву, ему показалось, что пуля ударила в руку, а потом короткий щелчок в затылок, земля качнулась, вкус тошноты… Вот и все… Он убит… Он вспомнил, как первый раз у него мелькнула мысль, что он может остаться в этой стране. Кронго был уверен, что Пейрак-Аппикс обойдет всех. Каждый день Кронго примерял с Пейраком дистанцию. И каждый раз рядом он видел светло-гнедую, с необычно длинными задними ногами Монтану. Кобылица скакала легко, видно было, что Ги Флавен нарочно пускает ее вполсилы. Дин, наоборот, пускал вороного Стейт-Боя так — правда, на короткие отрезки, — что летели комья. Потом, медленно проезжая перед трибунами, Кронго увидел Филаб у барьера. Он обратил внимание на цвет лица — светлый, почти желтый, как у мулатки, — и на длинные стройные ноги. Это заняло какие-то секунды — и все. Снова бросающаяся на него под шеей Пейрака дорожка.
— Вставай, сволочь…
Над ним стоит молодой африканец в незнакомой военной форме, с автоматом в руке. Нет, он, Маврикий Кронго, жив. Он потрогал ладонью щеку — кровь… Значит, всего лишь контузия… Но почему он должен и сейчас принимать все как должное?
— Вставай!
Кронго встал.
— Не поворачивайся, — сказал спокойный голос.
Кронго видел краем глаза зеленый «лендровер». На радиаторе сидели двое белых, остальные были африканцы.
— Руки на затылок… Повернись…
Руки сами собой прилипают к затылку. Что же теперь? Ноги сами собой поворачиваются. То, о чем он слышал, сейчас рядом, вплотную.
— Белый?
Только сейчас Кронго смог различить того, кто это спрашивал. Перед ним плыли, качаясь, серые спокойные глаза. Загорелое обветренное лицо. Человек сидит на радиаторе, свесив ноги и направив на Кронго автомат. Улыбается.
— Я ведь спрашиваю — вы белый?
В этих серых глазах мелькает желание спасти жизнь Маврикия Кронго. Как будто даже добрая сочувственная улыбка.
Тогда, после проездки перед трибунами, он принял душ. В одной из открытых машин, стоящих у ипподрома, увидел девушку, лицо которой показалось ему знакомым.
— Африка? — сказал он.
Это слово пришло само собой, он произнес его с полуулыбкой, но оно оказалось для них паролем. Он пожалел, что в этих скачках не будет борьбы, что он идет голым фаворитом, без соперников.
— Африка, — улыбнулась Филаб.
У нее были гладкие черные волосы, падающие вниз, — у местных проволоковолосых жителей такие встречаются редко. Он вспомнил — барьер, длинные ноги. Доверчивый поворот шеи. Она бывала в Европе.
— Я вас уже видел.
— И я вас, — сказала она. Голос глубокий, грудной. Ровный нос, удивленные негритянские глаза под желтыми веками.
Ну да, о нем же пишут газеты. Вот почему она знает его лицо. Тогда он уже начал приходить в себя. Да, именно — тогда уже начал… В нем уже не было боли — только тупое чувство утраты. Чувство утраты — и больше ничего. Ему уже не казалось странным, что он думает о женщинах. Не казалось странным и безразличным, что в поездках, в Берне и в Женеве, он теперь замечает — замечает, что женщины обращают на него внимание. И он уже отмечал про себя, что среди них были и красивые женщины. Но эта была необыкновенно молодой, необыкновенно красивой. Необыкновенно уверенной — и в то же время в глазах у нее был страх, страх, что он не решится говорить с ней дальше.
— Вы ждете мужа?
— Отца.
Сейчас должно снова прийти то, что появляется само собой.
— Покажите мне город.
Он сознательно соврал ей — он знал этот город до последнего переулка, потому что часто бывал здесь раньше. Еще — юношей. Часто… Он старался скрыть удивление. Скрыть недоуменный вопрос к самому себе — почему он обратил внимание на эту девушку. Он еще не верил, что все будет так легко. Но он обратил внимание, именно — обратил. И каждый ее взгляд сейчас уговаривал его продолжать разговор.
— Хорошо, — со стороны казалось, будто она с ним не разговаривает. — Только вы сейчас отойдите, потому что, если отец увидит…
— Хорошо. Где?
— Вы знаете набережную? Это очень просто. Центр, памятник Русалки. А теперь отходите. Всего доброго. В семь часов.
Он отошел довольно далеко и увидел ее отца, — судя по костюму, крупного чиновника из африканцев.
— Н-нет… — через силу выдавил Кронго.
Серые спокойные глаза продолжали с удивлением смотреть на него. Странно — как только Кронго сказал «нет», липкий страх, окутывавший его, пропал. Он даже почувствовал облегчение. Как легко было бы сказать «да». Но оттого, что сейчас он сказал «нет», Кронго почувствовал облегчение.
— Лоренцо… — загорелый обернулся, и африканец с баками, стрелявший по кустам, вылез из машины. Сунул автомат под мышку, подошел к Кронго. Осторожно прощупал карманы, оттянул рубашку, заглянул за пазуху.
— Бауса?
Это был африканец из племени ньоно. Почему Кронго все тем же шестым чувством понимал, что бауса, составлявшие большинство Фронта освобождения, должны быть объявлены вне закона? Сам Кронго был по матери ньоно. Ну вот, он должен ответить.
— Ньоно… — сказал Кронго.
— Зовут? Где живешь?
— Маврикий Кронго. Местный житель.
Губы его отвечают сами, как будто не являются частью его тела.
— Что делаешь здесь?
— Искал жену и детей.
Ньонец оглянулся на белого.
— Сочувствуешь националистам? — белый перешел на «ты».
— Сочувствуешь «Красным братьям»? — заорал ньонец. — Эй, скот? Или, как вы его называете, Фронту?
— Я далек от политики, — Кронго закрыл глаза, пытаясь успокоиться.
Ничего страшного. Он секунду вглядывался в плывущие в темноте оранжевые круги, снова открыл глаза. Серый спокойный взгляд белого был теперь не дружелюбным, а просто внимательным. Да, это конец, подумал Кронго. Как это будет? Они просто выстрелят в него. Он вспомнил — потом была бешеная скачка. Две тысячи четыреста метров. Пейрак пристроился за Стейт-Боем, чуть сзади с поля их пыталась обойти Монтана. «Пейрак, подожди», — шептал Кронго, припав к шее жеребца. Он понимал, что еще несколько столбов — и он уже почти проиграл Монтане. У лошади с такими задними ногами должен быть страшный финиш. «Пейрак, подожди… Пейрак, подожди…» Кронго слышал бешеный стук распластанного перед ним над бровкой Стейт-Боя. «А теперь, Пейрак, пошел… Пейрак, я никогда тебя так не просил… Пейрак, пошел…» Нет никакой уверенности, что в гладких скачках Пейраку нет равных. И, не надеясь уже ни на что, Кронго увидел, как расстояние между ним и Стейт-Боем медленно сокращается. Подтянулась и стала вровень с ним спина, а потом сам припавший к шее жеребца белобрысый оскаленный Дин. Он почувствовал запах конского пота, увидел падающую пену. Сзади выплыло ровное дыхание Монтаны. Она обходит его с поля. «Пейрак, мы проиграли… Пейрак, милый, пошел… Пошел… Пошел…» Монтана настигала сзади. Уже перед самым финишем Кронго подумал — надо было бояться только Монтаны. Но уже никого нет сбоку, и они одни…
А потом — рев, вопли, выстрелы… «Пей-рак! Пей-рак! Пей-рак!» Кто-то стаскивал его с лошади, не давал пройти на взвешивание, тряс за плечи, кто-то цеплял на шею огромный венок… А потом была темнота.
— Ты не жалеешь? — тихо сказал он.
— Нет, — Филаб повернулась, и он подложил ей под голову руку.
Здесь, в бунгало, ключи от которого дал ему приятель, было пусто и тихо. Из темноты, совсем рядом, будто в двух шагах, доносился шум океана.
— Филаб… — тихо сказал он. — Филаб…
— Когда ты уезжаешь? — спросила она.
— Послезавтра.
— Я приду на скачки…
И тут же он опять ощутил серый спокойный взгляд белого с капота «лендровера».
— Я директор ипподрома, — сказал Кронго. — Занимаюсь лошадьми. Я тренер скаковой и рысистой конюшен. Я приехал сюда из Европы.
— Кончить его здесь? — тихо спросил Лоренцо.
Белый неторопливо закурил. Спрятал пачку в карман гимнастерки. Он все время будто спрашивал одобрения, косился на второго белого — незаметного, щуплого, с лицом хорька.
— Хорошо, посмотрим, какой ты директор ипподрома…
Сероглазый кивнул, Кронго усадили рядом с водителем, «лендровер» тронулся.
— Наверное, последняя поездка, — ласково усмехнулся шофер.
Крейсс — с лицом хорька.
— Маврик… Ах ты, Мавричек мой… Маврянчик…
Только мать могла звать его так — Мавричек… Маврянчик… Она странно переделывает, переиначивает его имя, и это приятно ему. Он помнит — это «Маврянчик» успокаивало его так, будто было залогом, говорило — все будет хорошо, хорошо.
Мать была ньоно, а отец — белый. Когда он был маленьким, он не думал об этом. Они жили в Париже, у них была своя квартира — в центре, в двух шагах от Елисейских полей. Только сейчас он понимает, что в этом браке мать «снизошла». Было именно так: его мать, «негритянка», «дикарка», Нгала Кронго, снизошла.
Когда они проезжали по городу, Кронго видел брошенные на улицах машины, воронки в мостовой, выбитые окна. У одного из домов на набережной Республики стояли люди с поднятыми руками. Промелькнул патруль белых, автоматы поднялись в приветствии вслед «лендроверу». Знакомая улица. Коттедж Кронго, палисадник пуст. Еще квартал — и ипподром.
«Лендровер» медленно завернул, остановился у ворот. Тишина. Казалось, сюда выстрелы не доносились. Шофер заглушил мотор, подтолкнул Кронго локтем. Мелькнуло — большинство конюхов бауса… Может быть, их уже нет в живых. Этого не может быть. Второй белый подбежал к конюшне. Скрипнули ворота. Потом раздался отчаянный крик, белый выволок за руку извивающегося старика. Это был полудурачок Ассоло, постоянно живущий на конюшне. Денег он не получал, его только кормили.
Кронго помнит, как однажды мать в разговоре об отце — они сидели с приятельницей в гостиной, был тихий день — сказала: «Милый, добрый Эрнест». Маленький Кронго услышал это случайно — он сидел спиной, делая вид, что читает. Задолго до этого он прислушивался, потому что разговор шел об отце, о том, кто такой его отец. Ему было лет десять, но он сразу понял, что вот в этом, в этой фразе, сказанной матерью как будто мимоходом, тихо, с каким-то странным чувством, то ли с сожалением, то ли с насмешкой, было что-то унизительное. «Милый, добрый Эрнест». Снисходительность этих слов была ему тогда обидна. Но он вдруг понял, что мать права, что его отец и должен быть для нее совсем не тем, чем для него. Не «тем самым», не знаменитым тренером, не третьим наездником страны, много раз бравшим лучшие призы сезона. Его отец для нее — не Дюбуа-Принц, а именно — «милый, добрый Эрнест». Эрнест, к которому мать снизошла, именно — снизошла. Позже он стал понимать, почему этот брак был неравным для матери. Для блестящей выпускницы Сорбонны, «настоящей писательницы», молодой, красивой, для которой были открыты многие двери, которая была знакома с художниками, писателями и артистами.
— Мбвана, мбвана, я здесь ни при чем, — пытаясь рукой ухватиться за белого, кричал Ассоло. Ноги старика смешно переступали по земле. — Мбвана, мбвана, я ни при чем… Месси, не трогайте меня, я ни при чем… Господин директор, скажите им, что я ни при чем! — завопил он, увидев Кронго. — Месси Кронго, я еще не задавал корм… У меня был отдых…
— Тише! — сероглазый отпустил старика. Второй, который явно был старшим, чуть заметно улыбнулся.
— Знаешь этого человека?
Голос был тихим. Нет, он уже не кажется Кронго похожим на хорька. Крейсс, это — Крейсс… Тот самый… тот Крейсс.
Но мать была несчастна. Она была глубоко несчастна, и он больше других понимал это. Он помнит, как однажды спросил ее: «Мама, что такое жизнь?» И она ответила: «Маврик, запомни, жизнь — это удар». Он хорошо помнит, как она сказала это. Не с решимостью, не со злобой. А с каким-то безразличием — хотя в то время она была еще сильна и молода. «Маврик, запомни, жизнь — это удар».
Мир отца был другим. Он пах навозом, вкусным лошадиным потом, в нем звучала музыка над трибунами, в нем каждый день слышался никогда не надоедавший ему стук лошадиных копыт. Раз-два-три-четыре… Раз-два-три-четыре… Казалось — он весь день может не вылезать из качалки. Он помнит качалку чуть ли не с пяти лет. «Маврик… Три круга тротом, два шагом». — «Хорошо, папа». — «Потом будем смазывать Галилея». — «Хорошо, папа». — «Два круга тротом, круг шагом, круг размашка». — «Хорошо». Раз-два-три-четыре… Раз-два-три-четыре…
— Господин директор, что они хотят от меня? — шепотом спросил Ассоло.
— Успокойся, Ассоло…
Что же он должен сделать сейчас, если конюхов и жокеев нет.
— Извините, господин директор, — улыбнулся второй белый, Крейсс. — Еще раз извините.
Да, теперь они должны убедиться, что он, Кронго, им не врал.
В этой улыбке, в улыбке этого белого, есть что-то особенное. Какая-то неожиданная симпатия, а может быть, не симпатия, что-то, что ускользает от Кронго, оставаясь на дне золотисто-карих глаз. Губы Крейсса странно приближены к мягко закругленному носу, иногда кажется, что вместе с подбородком они становятся зеркальным повторением верхней части лица.
— Он будет радоваться, господин комиссар… — ньоно с баками плюхнулся рядом с шофером. — Тебя, собака, отпустил сам комиссар Крейсс. Молись…
— Власть узурпаторов кончилась, — сероглазый улыбнулся, щелкнул пальцами. Значит — это помощник Крейсса. — В стране наведен порядок. Собственность будет возвращена народу. Местному населению, как белому, так и черному, возвращаются отнятые права. Запомните это. Деятельность националистических и коммунистических агитаторов раздавим без всякой пощады, — он прыгнул на капот.
— Набережная… — Крейсс поправил автомат.
— Господин директор, утром никто не пришел…
Они с Ассоло шли по проходу центральной конюшни. Никого нет. Но лошадей не тронули. Хруст овса.
— Я сам себе говорю — Ассоло, убери центральную, — Ассоло весь дрожал. Остановился у денника с табличкой: «Альпак». — Месси Кронго будет сердиться… Конюхи в конюшне молодняка… Гулонга не пришел, жокеи не пришли, Камбора и Ндола не пришли, месси Гусман тоже не пришли, старший конюх Мулельге не пришел. А Вилбу белые — чик… А потом на центральной дорожке — тах-тах-тах-тах… — Ассоло закатил глаза, замычал, видно было, что слова, которые он с натужным мычанием произносит, рождаются сами, без его участия, в эту же секунду. Но Кронго вспомнил, что уже раньше слышал нечто подобное от Ассоло. — Агуигу калугу ммын-галу… — мычал Ассоло. — Альгыба кандра ммантт… Ычч-ычч… Ауглы… Солдат, белый солдат, месси… Ай, как все попадали… Вы можете посмотреть, они там лежат, все бауса, которых они чик… Ндола-лихач, Вилба, брат Вилбы… Конюхи… Корм задавать некому, гулять некому…
— Альпак… — сказал Кронго. — Не ешь быстро.
Жеребец повернул голову. Моргнул. Последние месяцы Кронго хотел снова сесть в качалку. Ведь вес у него прежний. «Как человек. Совсем как человек». Альпак понимал все его слова, и Кронго говорил с ним только как с равным. Но если никого на ипподроме нет, значит, все пропало. Все, что он сделал за девять лет. Не задан корм, не выведен молодняк, выбиты из ритма жеребята первого года.
— Сегодня не будет прогулки, Альпак, — Кронго отвел глаза, так как жеребец понимал взгляд. — Мне нужно домой.
Ассоло, дрожа от страха, встал на колени. Лошади слушались его, но так разговаривать с ними он не мог. Каждый раз он вставал на колени. Он считал Альпака оборотнем.
— Я вечером приду, ты меня понял?.. Мне надо домой. Вечером приду… Ешь.
Альпак моргнул, тряхнул головой. Повернулся к кормушке. Захрустел. В темноте денника его ровная мышастая масть отдавала в темно-саврасую. Тонкие высокие ноги, сливаясь с мышцами, подтянутыми к длинной холке, мелко вздрагивали. На ходу, с качалкой, Альпак выглядел невзрачным, разглядеть в нем резвость мог только знаток. Альпак снова повернулся, по-своему взглянул, воткнув в Кронго свои все понимающие, страшные и добрые глаза. Постоянная неуверенность в себе, излишняя нервность и горячность — эти свойства Альпака, которые считаются у рысаков пороками, Кронго так и не смог исправить. Теперь, когда Альпак вошел в силу и должен все больше проявлять себя, Кронго боится ими заниматься. Это могло совсем испортить лошадь, настолько резвую к пяти годам, что по этой резвости, он знал, ей не должно быть равных ни в Европе, ни в Америке.
— Сегодня особый день, мой мальчик, потерпи, — дождавшись, пока Альпак отвернется, Кронго прикрыл дверь денника.
— Месси Кронго, я буду убирать все конюшни… — Ассоло семенил рядом. — Я уберу все, вы не беспокойтесь… Я корм задам всем, я проворный…
— Хорошо, Ассоло…
Выйдя из конюшни, он мельком, помимо своей воли, посмотрел на дорожку у центральной трибуны. Там была демонстрационная доска и финишный створ. Еще не успев посмотреть, Кронго уже постарался отвернуться. Но даже этого мгновенного взгляда оказалось достаточно, чтобы увидеть несколько неподвижных предметов на дорожке. Это трупы убитых. Странно: он увидел чью-то голову отдельно и туловище отдельно — но никаких следов крови. Голова лежала — нет, она была поставлена стоймя, — и ему даже показалось, что он видит раскрытый рот и зубы. Он знал всех наездников и жокеев, все они были бауса, всего их было не больше двадцати, но взгляд Кронго сейчас был так мгновенен, что он не мог определить, чья же это была голова. Наверное, его сознание, его организм протестовали против того, чтобы он видел убитых. Когда он поворачивался к выходу, взгляд его захватил пустые трибуны, наискось перечеркнутые тенью от козырька. Но почему он боится этой головы… Чтобы уйти от этого, Кронго постарался придумать что-то, что заняло бы сейчас мысли, увело от этого жаркого и ясного финишного створа. Он вспомнил, как давно, в университете, они били ремнями своего товарища, пойманного на воровстве. «Наверное, кровь уже побурела, поэтому ее и не видно». Что за нелепая мысль? Кронго попытался отогнать врезавшуюся в память голову, торчащую стоймя. И, словно приходя ему на помощь, звякнул радостный жеребячий крик из денников бегового молодняка. Здесь, в конюшне жеребят первого и второго года, стоял шум, топот копыт. Кормушки были пусты. На жеребятах болтались надетые на ночь для приучки и так и не снятые обротки, на некоторых уздечки.
— Черти! — в ярости крикнул Кронго. — Есть кто-нибудь? Вы что, с ума сошли?
Весь молодняк, поступающий из единственного конного завода в Лалбасси, сейчас пропадал. Он не мог ничего сделать, потому что не знал точного режима для каждого жеребенка, особенно для молодняка первого года.
— Это я, директор! — он прислушался. — Я, Кронго! Отзовитесь, если кто-нибудь есть!
В топоте жеребят ему послышалось слабое движение, чей-то шепот. Он бросился по проходу, распахнул денник. Трое… Фаик, Амайо, Седу. Значит, не все пропало. Не все… Кронго вытер пот ладонью. Конюхи тревожно смотрели на него, будто не верили, что это он.
— Почему не задан корм? — стараясь говорить спокойно, Кронго погладил жеребенка по крупу. Конюхи осторожно выбрались в проход. — Фаик, Седу? Вы что? Амайо? Почему не сняты уздечки?
Губы старшего, Фаика, мелко дрожали.
— Хорошо, успокойтесь. На ипподром никто больше не придет. Задайте корм, снимите уздечки… Работа в манеже отменяется, сделайте всем жеребятам проводку. Придите в себя… Да придите же в себя, никто вас не тронет!
На улице стояла жара, убийственная в эту пору. Кронго казалось, что он все видит во сне. И все-таки в нем есть силы, потому что он думает о том, чтобы спасти лошадей любой ценой. Любой ценой… А оно — то чувство собственного достоинства, чувство долга, которое возникло и тут же пропало? Чувство страха, то чувство естественного страха, которое трясет сейчас его всего? Но оно сейчас сливается с чувством долга. Спасти лошадей. Это самые ценные лошади во всей Африке. Других таких нет. Спасти… Он привез их сюда из Европы не для того, чтобы они пропали.
— Документы!
Кронго тупо смотрел на ствол автомата, приставленный к груди. Вот его дом — рядом, за этими машинами, перегородившими улицу.
— Я директор. Директор ипподрома. Тренер, — Кронго попытался вспомнить фамилию белого, который так вежливо извинялся перед ним. Вспомнил. — Мне нужно позвонить комиссару Крейссу. Вы можете меня связать с комиссаром Крейссом?
Но ему не нужно звонить комиссару Крейссу.
— Крейсса знает, — один из патрульных обернулся к машине: — Мой капитан?
— Давай его сюда, — белый в одном из «джипов» следил за индикатором, неторопливо наговаривая в микрофон.
— Внимание… Подведи, подведи сюда этого типа… Внимание… — белый откашлялся и щелкнул переключателем. — Внимание! Граждане свободного государства! Режим узурпатора Лиоре свергнут… Вся власть в столице и районах находится в руках народа… Собственность возвращается ее законным владельцам… Всем гражданам страны, кто бы они ни были — белые, ньоно, манданке или бауса, — гарантируется полная неприкосновенность… Просьба к населению сообщать о местах хранения оружия, а также о местонахождении главарей антинародного режима, коммунистах, националистах и так называемых «Красных братьях». Для поддержания необходимого порядка в столице вводится комендантский час… — Белый отключил рацию и повернулся к Кронго: — Ну, и что ты за птица?
— Двухэтажное здание за вашей машиной — мой дом, — Кронго старался говорить как можно спокойней. — Я специалист, тренер, директор ипподрома. Это может подтвердить комиссар Крейсс. Я хотел обратиться к вам за помощью. В опасности ценные лошади, прекратился завоз фуража, нет рабочей силы…
— Сумасшедший, — белый не спеша закурил. Усмехнулся. — Надо пустить тебя в расход как провокатора… Чтоб другим неповадно было.
Африканец-патрульный щелкнул затвором автомата.
— Подожди, — белый переключил связь. — Алло, штаб? У вас там нет Крейсса? — он затянулся. — Крейсс, ну как у вас? Хорошо, я буду передавать сообщение каждые полчаса… Подождите! Тут какой-то тип говорит, что он директор ипподрома… Хочу пришить его для верности… Вы не шутите? — Он повернулся к Кронго: — Ладно. Можешь идти.
Кронго молча смотрел на него.
— Что ж ты стоишь? Иди.
Он хорошо помнит тот первый день, самый первый, — это был день его пятнадцатилетия, — когда мать привезла его под Лалбасси, в маленькую деревушку в джунглях. Они вышли из автобуса, прошли подлесок и увидели озеро. Над озером тянулись мостки, и по мосткам кто-то шел. Этот кто-то был для него пока всего лишь седым негром, которому мать махнула рукой. Негр тут же остановился и прислонил ладонь к глазам. Кронго еще не знал, что этот седой человек, невысокий, худой, с удивительно детскими глазами, с голосом, который как будто постоянно был простужен, человек, сразу же напомнивший ему скуластым лицом, и настороженностью глаз, и манерой смотреть искоса лошадь, — этот человек и есть Омегву Бангу.
Может быть, в первый свой приезд он и не запомнил, каким был Омегву Бангу. Сближение с Омегву началось через два года, во второй приезд. Но тогда, в первый раз, он помнит спокойствие, которое испытал, войдя в эту деревню. Может быть, это спокойствие было как-то связано с Омегву. Это было именно — ощущение абсолютного спокойствия, ощущение, которое охватывало его всего, до самой последней клетки. Он с удивлением понял, что еще ни разу в жизни не испытывал такого чувства. Чувства свободы, неприкосновенности, позволения быть любым — каким бы он ни захотел. Каждое дерево, и озеро, и мостки над ним, и тихий ветер, шелестевший кустарником, и тишина, которую он встретил на единственной улице, — все говорило о неприкосновенности его желания быть любым, все позволяло ему быть таким, каким он хотел.
Для него не было разницы — белый или черный. Никогда не было. Дело было даже не во внешности, не в том, что в детстве, до пятнадцати лет, кожа его была светлой и негроидные признаки почти не проявлялись. Сейчас он понимал — ощущением, отсутствием этого различия в самом себе он обязан матери. Если он говорил хоть что-то об этом — он помнит, как однажды он спросил: «Мама, негры — хорошие?» — лицо ее сразу менялось. Красивые и всегда мягкие глаза становились чужими, в них появлялось что-то затаенно-враждебное. Так, будто он сделал какую-то гадость. Она тихо и, как ему казалось, со скрытой злостью на то, что он не понимает этого, говорила, глядя ему прямо в глаза: «Маврик… Что бы то ни было, запомни — ты белый. Белый! Понимаешь? Белый».
Он боялся ее глаз в такие минуты. Но молчал, потому что знал — она обманывает его. Он пытался понять — зачем? Зачем его мама, такая красивая, такая умная, такая добрая, обманывает его? Пусть все вокруг в его детстве — товарищи по играм, люди, окружавшие отца на ипподроме, прохожие на улицах, даже большинство приятельниц матери — были белыми. Но ведь были и черные. Ведь он должен был замечать, и знать, и ощущать, например, что мать — не белая?
«Мама, но ведь ты?» Это был самый запретный вопрос. Она закрывала глаза, и он уже боялся не ее глаз, а этого молчания. Наконец она говорила — с такой горечью, что он действительно пугался: «Маврик, опять ты расстраиваешь маму». — «Мама, но ведь я…» — «Наверное, ты хочешь меня убить». — «Мамочка, нет». Но он все-таки ждал, и она говорила, и он уже не пугался, потому что при этом глаза ее опять становились добрыми: «Маврик, я совсем другое дело. Ты меня понимаешь?» — «Да, мама». Он улыбался — это была выдуманная ими шутка. «Я — белая ворона. Ты ведь знаешь, что это такое?» — «Да, ты белая ворона. Только ты — черная ворона? Да, мама?» Она прижимала его к себе, осторожно целовала в глаза. «Ты белая черная ворона?» — «Ну вот, умник. Умник ты у меня».
Потом, в Париже, когда ему исполнилось семнадцать и когда была в разгаре война отца с Генералом, он совершенно случайно взял номер газеты и прочел на первой полосе: «Омегву Бангу отказался от Нобелевской премии». Сначала он подумал, что ошибся. Но под огромной газетной шапкой он увидел фотографию — седой негр в белом полотняном костюме стоит, опираясь о перила. Кронго сразу узнал, кто это. Это был тот самый седой негр и те самые перила тех самых мостков! Омегву Бангу присудили Нобелевскую премию? Но мать ничего не говорила ему. Мать ни словом не обмолвилась о том, что Омегву Бангу, тому самому седому человеку с косящим взглядом, могут за что-то присудить Нобелевскую премию. Кронго — тогда он еще был Морис Дюбуа — накупил газет и стал просматривать заголовки. «Шведская академия искусств присудила Нобелевскую премию Омегву Бангу — выдающемуся мыслителю и поэту современности», «Омегву Бангу заявил, что его отказ от Нобелевской премии не вызван политическими мотивами», «Подоплека решения Омегву Бангу — нежелание выезжать в Европу?», «Клод Шарье убежден, что отказ Омегву Бангу написан под диктовку», «Демонстративный отказ Омегву Бангу? Может быть — протест против расовой дискриминации?»
Только в палисаднике своего коттеджа Кронго остановился и вытер платком пот. Странно — он думает сейчас о том, почему они не держали прислугу. Ему, Филаб и мальчикам, когда они приезжали от бабки, матери Филаб, хватало этих двух этажей. Но почему он думает о бабке? Тихо. Никого нет… Кронго вошел в холл. Большое фото Альпака. Это лучшая лошадь, которую ему когда-либо удавалось вырастить. Но сейчас все пошло прахом, все. Фото висит на центральной стене. У двери тихое движение. Послышалось? Он перевел взгляд на лестницу. Вздрогнул. Масса, похожая на большой черный гриб, шевельнулась и застыла у двери.
— Кто это?
Черное покрывало отодвинулось. Блеснули глаза.
— Месси Кронго… месси Кронго, не выгоняйте меня… Они убивают всех бауса… Пощадите…
— Фелиция?.. — Кронго узнал кассиршу ипподрома. — Как вы очутились здесь?
— Мадам Филаб… Я помогла ей… Месси Кронго, вы не выгоните меня? Я могу ухаживать за мадам Филаб… Месси Кронго! — Фелиция, будто убеждая его в чем-то, показала сморщенные розовые ладони.
— Ну что вы, что вы… — Кронго поднял кассиршу. — Где она?
— Филаб… — глаза Фелиции заплыли под веки. — Филаб… Мадам Филаб…
— Где она? Где мальчики?
Фелиция перевела взгляд на гостиную, и Кронго увидел желтую руку на диване. Ему стало страшно. Он кинулся туда.
Филаб лежала, вытянув ноги, укрытая халатом. Веки ее дрогнули, она открыла глаза.
— Что с тобой? — Кронго сжал ее руку и услышал слабое ответное пожатие. — Что с тобой, Фа? Ну, не молчи, Фа… Ты ранена?
— Я подобрала ее на улице, — Фелиция прошелестела покрывалом. — Месси Кронго, она не ранена, цела… Не волнуйтесь… Только говорить ничего не может…
— Это правда, Фа?
Филаб закрыла глаза.
«Милым, добрым Эрнестом» отец был только для матери. На ипподроме, в конюшне, на дорожке — то есть там, где проходила вся его жизнь — отец был другим. Он был безжалостным игроком, «железным Дюбуа» по кличке «Принц». Отец был ему одновременно близким, своим — и чужим. Отец был для Кронго кем угодно — другом, тренером, товарищем по заговору против Генерала, — но не отцом. Но Кронго любил отца — хотя совсем не так, как мать. Все знали, что Принца не купишь. Все знали, что только один Принц — если, конечно, захочет — может победить Генерала. Только Принц может не испугаться «коробочки» в заезде, не испугаться людей Тасма и — если захочет — взять Приз. Кронго хорошо помнит, как они начали готовить Гугенотку. Они получили ее двухлеткой, удивительную, неповторимую, рожденную рекордсменкой, — и с тех пор стали затемнять. Это была неслыханная смелость. А если бы Генерал узнал об этом — даже не узнал, а просто догадался, — почти верное самоубийство. Только отец мог решиться на это. Для того чтобы был какой-то шанс обойти Корвета, надо было затемниться от всех. Если бы надо было — отец затемнился бы и от него самого. Да, отец затемнился бы и от собственного сына, от него, Кронго, Кро — который уже тогда, несмотря на молодость, был наездником класса «А» Морисом Дюбуа. Ведь решили же они ничего не открывать даже владельцу конюшни, милейшему мсье Линеману.
— А где дети?
Он увидел, как глаза Филаб медленно наполняются слезами. Она плачет. Но он почти спокоен, он думает только о лошадях, о конюшне молодняка. Странно…
— Филаб, я буду тебя спрашивать, — поспешно сказал он. — Если «да», ты закроешь глаза. Если «нет», смотри на меня. Ты поняла?
Она моргнула.
— Дети живы?
Филаб лежала неподвижно.
— Их увезли люди Фронта, — подсказала Фелиция.
Филаб закрыла глаза.
— Слава богу… — Кронго вздохнул, чувствуя ложь в своем вздохе. — Тебе больно?
Филаб не пошевелилась.
— Хорошо, отдыхай, — Кронго проглотил комок. — Не волнуйся. Все будет хорошо.
Он заметил вопрос в ее глазах. Он вдруг поймал себя на мысли, что совсем не хочет оставаться с ней, сидеть рядом.
— Я пойду на ипподром. Там никого нет. Лошади пропадают. Фелиция посмотрит за тобой. Хорошо?
Филаб закрыла глаза.
— Осторожней… месси Кронго… Я звонила ее родителям… Никто не отвечает… — Фелиция закивала, тихо и ловко вытерла слезы у глаз Филаб. О родителях Филаб — потому что они присылали за ним машину.
Он почти не знал их, они, кажется, не понимали того, чем он был всегда занят. Кронго помнил лишь металлически-дружелюбный голос ее отца.
— Пойду… — он кивнул. Сошел вниз.
Только в переулке понял, что к горлу подступила прозрачная ночь с огромными звездами наверху. Переулок такой же, как всегда, ветки чинары у мавританской кофейни застыли в тишине. Поворот на набережную. Легкий шорох волн слева, справа — черные силуэты домов. Ни одного огня. Шаги. Кронго остановился. Показалось… конечно, показалось. Он опять думает о том падающем, хрипящем, задыхающемся — у дерева. Но эти огромные куски воздуха на мостовой перед ним заставляют все забыть, все, кроме пути на ипподром. Он должен уговорить себя, что ему не страшно сейчас идти. Он ведь знает все на этой набережной. Гостиница, пусть она темна, пусть выбиты нижние окна, но ведь он знает эту гостиницу, он много раз ходил мимо. Конечно, вот складные стульчики, пусть они разбросаны в темноте, но он их узнал. Вот рваный шезлонг… Зачем он? Ну да, в него чистильщик обуви усаживает клиентов. Опять шаги. Нет, это ему кажется. Кронго остановился. Тишина, только легкий шум волн, покряхтывание ночной птицы. Немые кубы блочных домов. В них живут рабочие пищевого комбината. Кронго быстро двинулся вперед. Надо пройти эти дома, потом будет католический собор… Нет, теперь он ясно слышит топот бегущих ног. Это за домами. Стихло… Надо идти, не оборачиваясь. Скорее дойти до поворота к ипподрому, там он все знает, там страх пройдет… Но кого он боится? Если бы кто-нибудь захотел убить его, то давно бы это сделал. Мало ли кто может бежать ночью… Пустяки. Вот собор, сейчас пойдут магазины, почта… Кажется, он понимает, что внушает ему страх. Разбитые стекла и неподвижные куски воздуха, висящие над мостовой, почти лежащие на ней. В них таится неясность, они непонятны ему. Сейчас он повернет к ипподрому, и все станет проще. Вот и ипподром. Кронго остановился. Ипподром был построен еще при правительстве метрополии. Европейское современное здание с застекленным фасадом, а над ним — нелепо изогнутая крыша в мавританском стиле, с причудливыми жестяными углами. Кронго прислушался. Сейчас крыша неясно светлела в темноте. Он вздрогнул — на угол медленно опустилась чайка-плакальщица. Потопталась, складывая крылья, затихла. У рабочего входа начинались конюшни молодняка. За глинобитными стенами с подслеповатыми окошками вдоль крыш сейчас стоит тишина. Кронго тронул дверь первой конюшни. Постучал, но никто не отозвался. Он снова дернул дверь.
— Кто? Кто это?
Кронго показалось, что голос раздался прямо у него под ухом.
— Откройте… Это Кронго… Это я, директор…
Никто не отозвался.
Кронго помнит, как мсье Линеман впервые догадался, что они решили восстать и идти на Приз. Мсье Линеман впервые что-то понял об их заговоре, когда зашел в конюшню, чтобы посмотреть на Гугенотку. Они растянули Гугенотку на ремнях в проходе и смазывали ей задние ноги пчелиной мазью — от простуды. Графитно-вороная, распятая на ремнях, униженная, Гугенотка приседала на сухие, мощные задние ноги, вырывалась, хрипела. Когда же боль становилась нестерпимой, кобыла жалобно кричала. Гугенотка не понимала, зачем ей причиняют сейчас такие страдания, за что ее так безжалостно мучают. Ведь она ничем не провинилась. Отец, набрав полную ладонь мази, стоял чуть сзади и приговаривал:
— Ну — последнюю пригоршню? Гугошка… Гугошка, Гугошенька, потерпи… Глупая. Простудишься, миозит заработаешь. А мазь — как баня. Ну? Гуга… Гуга, стоять! Обещаю — последнюю пригоршню. Ну? Вот дура. Последнюю пригоршню — и все. Ну? Не заставляй меня выходить из себя.
— Слушайте, Эрнест, — мсье Линеман был явно обеспокоен. — Вы, конечно, имеете полное право темнить. Но все-таки — посоветуйтесь раньше со мной.
Отец молча продолжал втирать мазь. Конечно, ему не нравилось, что мсье Линеман лезет не в свои дела. Еще больше ему не нравилось, что мсье Линеман о чем-то догадывается. Это значит — могут догадаться и другие. Конечно, мсье Линеман не выдаст, — в конце концов, это его конюшня, а Гугенотка — его лошадь. Но с Генералом нельзя было допускать ни одного промаха, ни одной слабины. Ни одной.
Это было время, когда он чуть ли не всерьез решал — быть ли ему наездником, оставаться ли на ипподроме или заняться литературной работой, как этого хотела мать.
Во второй приезд в деревню он ждал уже встречи с Омегву, Он был уже студентом и помнит — он записал вопросы, которые задаст при встрече великому Бангу. Он помнит даже, до чего странны, надуманны, неуместны были эти вопросы. Должен ли человек только возвышаться или ему позволено падать? Правда ли, что роды существ составляют лестницу, по которой жизнь, сознающая себя в целом, идет к самосознанию в неделимых? Можно ли рассматривать целесообразность сознания в отрыве от пространственно-временного?
Тогда ему казалось, что эти вопросы были вершиной мысли, вскрывали суть вещей — так, как учили книги. Но, приехав в деревню, он понял, как глупо было бы задавать эти вопросы Бангу. И глупо было бы вообще — только ради этих вопросов встречаться с ним. Но, хотя этому мешала застенчивость, которая охватывала его, и злость на эту застенчивость — потому что преодолеть ее он не мог, — он все-таки хотел и мечтал встретиться с Бангу. Он, до своих семнадцати лет всегда считавший себя европейцем и гордившийся своим европейским сознанием, здесь, в деревне Бангу, почувствовал себя негром — черным, настоящим черным, до корней волос — и испытал легкость от этого. Странно — хотя он не был похож на негра, все в деревушке считали его своим. Да, его считали своим, и ему было приятно, что его считают своим, что он ощущает это по жестам, взглядам, по словам на языке ньоно, который он так легко понимал.
И во второй приезд они остановились в том же самом домике, у знакомой матери, Ндубы Бангу, простой женщины, которая весь день или готовила еду, или плела циновки, или укачивала ребенка, которого тогда ей приносили родственники. Из домика открывался вид на озеро, трава и кусты спускались к самой воде, иногда по озеру шли круги. Кронго пытался понять, что это — всплескивает рыба или просто верхние концы водорослей задевают о поверхность воды? По мосткам очень редко кто-то проходил. Жители деревни ими почти не пользовались. На них можно было увидеть или жителей соседнего поселения, или учеников Бангу, которых в те дни приезжало довольно много. И совсем редко можно было увидеть идущего по ним самого Бангу. Это случалось каждый день в четыре часа дня, когда он шел к ним обедать, седой, маленький, изредка по привычке прислонявший к глазам тыльную сторону ладони.
Почему Омегву отказался от Нобелевской премии? Кронго иногда казалось, что Омегву и не отказывался от нее никогда. Омегву не мог «отказаться» от чего-то, он по духу своему не мог вот так, в соответствии с законами мира, от чего-то «отказаться» или с чем-то «согласиться». Конечно же отказ Омегву от премии был написан кем-то за него, — может быть, его по чьему-то наущению написали родственники Омегву, из которых состояла почти вся деревня. Или — кто-то из департамента культуры. А может быть — даже мать.
То, что мать приезжает к Омегву, а не просто «подышать воздухом», как она говорила, — было тайной для всех в Париже. Для отца и даже для него. Кронго так ни разу и не видел мать и Омегву отдельно, разговаривающими или просто сидящими. Но он знал — мать приезжает сюда только для встреч с Омегву, и Омегву нетерпеливо ждет каждого ее приезда, и их отдельные встречи где-то происходят — пока сам он, Кронго, Кро, купается, пока лежит на берегу, пока смотрит вверх, бездумно растворяясь в воздухе, ощущая это растворение, уплывая к верхушкам деревьев.
В детстве, когда ему было лет десять, он любил засыпать на диване в комнате, где работала мать. Каждый раз он завоевывал это право после нескольких настойчивых попыток отца и домработницы перенести его в детскую. Диван стоял в углу, на него падала тень от настольной лампы. Наискосок от дивана, у самого окна, стоял письменный стол, и Кронго, прижавшись щекой к подушке, хорошо видел очерченный лучами лампы профиль матери, склонившейся над машинкой. Когда стук машинки прекращался, мать что-то непрерывно шептала себе под нос. Он лежал, почти уже засыпая, убаюканный стуком машинки, и пытался понять, что же шепчет мать в эти минуты, почему так яростно это бормотанье. Мать не замечала его, он понимал, что в эти минуты она совсем забывает о том, что он здесь. В движении материнских губ был целый мир, таинственный, недоступный ему, иногда он угадывал в них гнев, иногда — страх, иногда — растерянность. Он старался терпеть и не мешать матери, но иногда не выдерживал, любопытство пересиливало, и он спрашивал: «Мама, ты что?» Она вздрагивала, будто очнувшись, оборачивалась в его сторону, все еще шевеля губами, и каждый раз отвечала что-то незначащее, что-то вроде: «Маврик, ты же обещал спать» или «Маврик, давай я тебя укрою». Но иногда, даже не дожидаясь его вопросов, она говорила что-то всерьез, что-то, что выходило за пределы его понимания. Он помнит, как однажды она сказала с поразившей его, врезавшейся в память ненавистью: «Проклятье!.. Это — литературное донорство…» И он понимал, «литературное донорство» — это то, чем занимается сейчас мать. В этой ненависти жило многое, что он сразу понял, но прежде всего — отчаяние и жалоба. Он в тот момент засыпал, но переспросил сквозь сон: «Мама, что это такое?» — «Ты о чем?» — «Что такое — литературное донорство?» Мать обернулась, вглядываясь в него, потом засмеялась: «Спи».
Сейчас, вспоминая эти слова, он подумал — сам он не знал никакого донорства, ни литературного, ни какого-нибудь другого. Он был благополучен — почти во всем. Да, пожалуй. Может быть, потому, что в нем жило неприятие того, что преследовало мать в ее судьбе, — ее неудач, излишней горячности, даже — исступленности в пристрастиях. Он всегда отличался спокойствием, уравновешенностью. Ему везло — какими бы, как он думал, неудачниками ни были его отец и мать. А может быть — именно поэтому они и принесли ему вот эту уверенность. Может быть, судьба решила в нем возместить то, что не было отпущено предыдущему поколению. И он, совсем не желавший преуспеть, преуспел, профессия отца стала делом его жизни. И ко всему прочему — в ней он получил от природы то, чего не хватало отцу. Неудачи же матери, ее несчастья возместил в себе тем, что ни разу и никому не позволил отобрать у себя то, что завоевал.
Сейчас, вспоминая детство и юность, он понимает — детство его было радостным, отрочество спокойным, а юность удачливой.
Нет — сейчас он не упрекает себя в том, что был таким, что не ждал слишком многого, редко что принимал близко к сердцу, всегда чувствовал данную ему от природы уверенность.
Потом возникало воспоминание, которое было совсем не важным, но помогало что-то прояснить в этом странном ощущении — кем же был его отец. Упрямцем? Если говорить о том, что он затеял, — почти безумцем? Или действительно в борьбе отца с Генералом им двигала странная, в своем отчаянном упрямстве казавшаяся бессмысленной потребность в справедливости? Ведь отец отлично знал, что потери — в том случае, если Гугенотка обойдет Корвета, — будут гораздо большими, чем приобретения. Все знали, что значил в те дни Генерал. Бороться с ним, да еще пытаться обхитрить, — было бессмысленно. И это понимали все — кроме отца. «Сынок, пойми, я хочу получить Приз. Я имею полное право на Приз. Не меньшее, чем кто-то другой».
Кронго хорошо помнит, как Генерал приезжал на ипподром. У стоянки его машины обычно дежурил кто-то из журналистов, а чуть в стороне, стараясь держаться незаметно, всегда торчали несколько холуев — наездников, добровольно или вынужденно запродавшихся «великому маэстро». При виде темно-синего «ройса», медленно подкатывающего к священному месту, лица холуев менялись, они переставали болтать, незаметно затаптывали сигареты, застывали в преувеличенно вежливых, напряженно-выжидательных позах. «Великий наездник современности» почти всегда выходил сам, без помощи шофера — маленький, сухой, легкий в свои пятьдесят лет, элегантно и просто одетый. Стараясь не упустить момент, кто-то из холуев услужливо бросался к нему. Генерал останавливал его легким движением руки и проходил к служебному входу, улыбаясь хорошо поставленной простецкой улыбкой. Ответы его всегда были одни и те же. «Мсье Тасма, скажите что-нибудь о последнем дерби?» — «По-моему, ничего выдающегося». — «Правда ли, что вы разводитесь?» — «Кто вам сказал такую чушь?» — «Ваше мнение о состоянии Корвета?» — «У меня есть правило — на подобные вопросы не отвечать». Эта извиняющаяся отработанная улыбка должна была сказать всем, и прежде всего читателям, которые увидят вскоре лицо великого наездника современности Жан-Клода Тасма на первых полосах газет: «Вы уж извините, мне ведь и самому неудобно за свою популярность, я ведь человек простой — но что поделаешь».
Кронго готов был признать, что Тасма неплохой наездник. Он — был готов; но только не отец, лицо которого при одном только упоминании имени Генерала перекашивалось от ненависти, а губы презрительно шептали: «Бездарность… Вонючая бездарность…»
Вся цепочка так и тянулась через служебный вход — Генерал, за ним журналисты, потом холуи, которые спешили сейчас уладить какие-то свои дела и про себя наверняка ругали журналистов, мешающих подойти к Генералу. Здесь, на коротком пути к конюшне, должно было решиться то, что составляет жизнь ипподрома, — кто получит только что прибывшего и пока еще свободного жеребенка, кому достанется лишний грузовик специального сена, к кому переведут кузнеца из «генеральской» конюшни. Для всего этого Генералу достаточно было шевельнуть мизинцем — но он нарочно не поощрял холуев, и часто им приходилось весь путь до конюшни «самого» проделывать впустую.
При приближении к входу в «великую конюшню» журналисты останавливались. Взгляды двух телохранителей-«конюхов», постоянно дежуривших у въезда в ангар, не предвещали ничего хорошего. «Там», в темноте ангара, было царство Генерала; даже попытаться войти туда без предварительной договоренности было безумием. Кронго, несколько раз бывавший там, знал, что вдоль денников всегда медленно прохаживаются вооруженные «конюхи»; еще несколько телохранителей, не скрывая оружия, сидят в дежурке.
Но зато — какие лошади стояли у Генерала в денниках! Удивительной, сказочной красоты. Какие крупы, холки, линии шеи, какие спины… И всегда трое-четверо принадлежали к суперэлите класса «один пятьдесят». Тогда это были Исмаилит, Секретарь и Корвет.
— Да откройте же наконец… — Кронго стало не по себе. — Кто там? Фаик? Амайо? Откройте…
Стукнула щеколда, дверь отворилась. Две руки нащупали его гимнастерку. Втащили в узкую дверь, щеколда тут же захлопнулась.
— Месси Кронго… — старший конюх молодняка Фаик упал на колени. — Месси Кронго, не сердитесь… Там нехорошо…
Круглые глаза Фаика блуждали, серые губы трясла дрожь. Он то и дело оглядывался. Незаметно ощупал ногу Кронго, и Кронго понял, чего он боится.
— О чем ты, Фаик?
— Там нехорошо, месси Кронго, — Фаик говорил одними губами. — Там оборотень ходит. У финишного створа.
— Успокойся, Фаик, — Кронго пытался стряхнуть озноб, прошедший по затылку. — Успокойся, там никого нет. Как жеребята?
— Слышите? — Фаик прислонился к деннику, тело его затряслось, рот открылся. — Слышите, месси! Он без головы, вы же знаете… он давно ходит! Вот он! Вот!
Два конюха, Амайо и Седу, стояли рядом и тоже тряслись. По очереди потрогали ногу Кронго, чтобы убедиться, что это он.
— Месси Кронго, месси Кронго… — Фаик слабо постукивал ладонью по груди, отгоняя духов. — Вы ведь ньоно, вы должны понять… это безголовый ходит, Ндола-лихач… Слышите?
— Может быть, он вас ищет, месси Кронго?
За дверью было тихо.
— Перестань, Фаик, там никого нет, я видел… Незачем ему меня искать…
— Его убивали последним, месси… Вы же знаете Ндолу-лихача, он на себе рубашку порвал, нате, кричит, бейте… У него злоба в глазах… Семерых солдаты сразу застрелили, а он еще стоял… Там была большая толпа, в серой форме… У него пена изо рта пошла, он кричит, сволочи длинноносые, кончайте меня, что ж вы смотрите… Потом они ему, уже мертвому… Голову… Я сам видел… Тесаком…
— Месси, если он вас ищет, плохо, — Фаик застучал ладонью по груди. — Если у вас хоть капля вины, покайтесь… Покайтесь, месси, даже если вины нет… У вас на лице нехорошо…
— Акуйу-кикуба, — Седу закрыл глаза. — Амкуйу-манга… Акуйу-кикуба…
— Глупости, — через силу выдавил Кронго.
— Ушел, — вздохнув, сказал Фаик. Проглотил слюну. Прислушался. — Он еще раза два придет, я знаю.
— Ну, встань, Фаик, — Кронго постарался вложить в голос уверенность. — Встань. Как жеребята?
— Теперь он надолго ушел, — Фаик встал, держась за стенку денника. Потряс головой. — Теперь до утра… Пойдемте, месси, пойдемте, я вам покажу… Все накормлены, всех гулять водили, на первогодках надеты обротки, все как положено… Жеребята не сбились, ноги у всех нормальные, один слабый, лежит, но он и был слабый, как его из Лалбасси привезли… Вот, смотрите, месси, видите, все в порядке… Вот он, слабый…
— А скаковая конюшня?
— И скаковая, тоже все накормлены, всему первому году надевали уздечки…
— Почему все здесь? Почему в скаковой никого нет?
Фаик опасливо оглянулся на окошко под потолком.
— Одному там нельзя, месси… Поверьте, одному там нельзя… А втроем сразу легче… Но там все в порядке… Поверьте мне…
— В главных конюшнях?
— Так там Ассоло… Ассоло за пятерых работает, вы его знаете. Он не боится, у него отец блаженный, и он блаженный… Это защитить может…
— Хорошо… Я буду утром…
Они подошли к двери. Фаик быстро выпустил его. Кронго услышал, как стукнула, закрываясь, щеколда. Над полем стояла тишина. Наверху ясно светились звезды. В темноте он пошел наугад к главной конюшне. Он хорошо знал этот путь — мимо манежа, мимо рабочего двора, сразу за прогулочным кругом. Пахло навозом, под ногами шуршал песок. Финишный створ оставайся на другой стороне поля, у трибун. Значит, убитые и сейчас лежат там. Все местные… Кронго быстро свернул с дорожки. Опять заныл затылок. Сдавило сердце. У стены отчетливо виднелась тень. Вот две ноги, плечи. Но головы нет. Кронго прислушался, но ничего не услышал. На том месте, где была тень, пустота. Никакой тени, стена пуста. Мерещится. Он вошел в дверь. Здесь было светлее, чем в конюшне молодняка. Но почему тень была без головы? По звукам Кронго отметил, что Ассоло сделал все, что необходимо и с чем обычно справлялись несколько конюхов. Слышался хруст, ровное спокойное похрапыванье, изредка вскрикивал в стойле жеребец. Ассоло лежал на попоне в углу.
— Спасибо, Ассоло…
Ассоло виновато улыбнулся.
— Кто-нибудь приходил?
— Ассоло мертвый… — слабоумный закрыл глаза.
— Хорошо, хорошо… Лежи…
Кронго прошел в стойло к Альпаку. Многие на ипподроме считали Альпака оборотнем. Жеребец положил голову на плечо Кронго. Он медленно и беззвучно шевелил губами, обнажая крепкие зубы и нежную десну… Кронго хорошо знал десны Альпака, темно-розовые, с острыми краями… Такие десны, очень чувствительные к удилу, ездоки зовут «строгими».
Соскучился… — Кронго обнял теплую вздрагивающую шею. — Ничего, Альпак, все будет хорошо. Я тебе обещаю. Вот увидишь. Будет хорошо, будут бега, будет хорошо… Альпак, мой мальчик.
У ног жеребца лежал скомканный лист бумаги. Кронго нагнулся. Нет, это не мусор. Развернул. В тусклом свете с трудом разобрал буквы:
«Если ты африканец — страдай. Если ты африканец — молчи и действуй. Если ты африканец — сделай так, чтобы слова этой листовки знал каждый. Белые наемники и их прихвостни подло, из-за угла напали на нашу страну…»
Кронго расправил листок. Буквы различались слабо, текст был отпечатан на гектографе.
«…Они захватили столицу, а также города Бурт, Кобосс, Лунгу и Гаркорт. Войскам правительства и народному ополчению пришлось временно отступить в глубь страны. Враги не щадят ни женщин, ни детей, ни больных, ни стариков. Они объявили нам тактику выжженной земли. Ответим им тем же. Если ты африканец — бери с собой винтовку, топор, нож. Уходи в джунгли. У нас только один выход — мы или они. Ответим оккупантам оком за око, кровью за кровь, смертью за смерть!»
Кронго осторожно высвободился из-под шеи Альпака. В углу бумажки чернел знак — «ФО». Жеребец мягко тронул его губами в щеку. В конюшне по-прежнему спокойно хрустели лошади. Кронго явственно показалось, как рядом, за перегородкой, кто-то стоит. Ерунда. Альпак бы почувствовал… Но он должен быть спокоен. Он спасает лошадей. Он обязан их спасти.
Сейчас, в этой призрачной полутьме, он сам не мог бы признаться себе, почему он рвет листовку. Какое чувство заставляет его медленно, тщательно затаптывать клочки в навоз. Животный страх сдавил горло, грудь. Нет, он не может сейчас идти домой. Не может. Он останется здесь, в каморке конюхов. Они почти все пустые…
Может быть, не было ничего плохого в спокойствии, которое всегда помогало ему, может быть, ему была нужна врожденная защитная бесчувственность, инстинктивное отстранение от всего, что могло хоть как-то ему помешать? Да, он знает — он понимал страдания Омегву, они были неприятны ему, огорчали — но не задевали, ничуть не мешали продолжать вкушать счастье, продолжать растворяться в блаженной оглушительной пустоте деревни, сливаться с водой ее озера, слушать крики птиц, следить за расходящимися по воде ленивыми темно-зелеными кругами, чувствовать себя бесконечно молодым, бесконечно всесильным и думать, что он выбрал, выбрал — и так удачно выбрал, выбрал то, для чего был рожден. Он чувствовал в себе тогда бесконечную силу, которой ничто не сможет противостоять — именно в этом, в том, что он выбрал. Он понимал и страдания матери, запутанность ее жизни, даже — крест рождения, предопределенный заранее, который она была осуждена нести. Да, он любил мать. Но как часто с безжалостным эгоизмом, все с той же уверенной остраненностью он отвергал эти страдания, обвинял в них мать, ее слабость, ее доброту, даже — позволял издеваться над ними, обрушивался на них с всемогущей иронией. Иронией бога, которой ничто не могло противостоять. И конечно, страдания отца, близкого и одновременно чуждого ему человека, уязвленного честолюбца, поставившего перед собой навязчивую цель, — эти страдания также были далеки от него. И вот сейчас, сейчас, лежа в пустоте своей комнаты и глядя в потолок, он вдруг понимает — дело было совсем не в желании отца самоутвердиться. Отец знал, на что идет. Да, конечно. Удивительно, как он об этом не подумал раньше. Отец стал просто первым, кто показал, что преграда, которой все боялись и которая казалась непреодолимой, может быть легко взята.
В отцовской конюшне всегда было просторно, половина денников пустовала. Приходить туда надо было рано, с семи, а то и с шести утра, но как бы рано Кронго ни приходил, конюшня всегда уже жила, в ней уже что-то происходило, несколько дверей было открыто, лошадям задавали корм, чистились денники. Отец в грязной робе ходил по проходу, кто-то в углу кричал на недавно поступившего из завода жеребца: «Тоже, моду взял — в денник не заходить! Пошел! Пошел, черт, а то как дам!» Конюхи пытались втащить жеребца в денник, жеребец приседал, упирался, незаметно подгибал заднюю ногу, норовя ударить обидчика. Но все это оставалось где-то сзади, в стороне, проходило мимо, потому что главным тогда было не это, не жизнь конюшни, не жеребята-полуторки, не молодняк, не остальные лошади — а Гугенотка.
Не сговариваясь, они с отцом шли в угол конюшни, к отделенным невысокой перегородкой от остального помещения денникам элиты. Тогда здесь стояли всего три лошади — старый, давно ожидающий отправки на завод Пилат, четырехлеток Престиж, как оказалось, совершенно зря приобретенный мсье Линеманом за большие деньги, и Гугенотка. Вороная, невысокая, с прекрасной головой, короткой прямой спиной, она при появлении людей оборачивалась, внимательно смотрела, бесшумно задерживая дыхание, — будто ждала, что они скажут. Отец доставал морковку, долго вытирал ее рукавом робы. Гугенотка не торопилась, смотрела настороженно, будто даже сторонясь лакомства. Наконец, с деланным безразличием прянув ушами, дрожащим упругим хоботком вытягивала губы, трогала морковку, всасывала ее и только после этого осторожно перебирала зубами. Накинув полууздок, они с отцом вели Гугенотку во двор, проваживали, проверяя ход. Гугенотка пользовалась случаем, фыркала, играла, задирала голову. Потом они возвращались в конюшню к приготовленной в проходе качалке. Гугенотка, пока дело не доходило до тренировок, всегда шла расслабленно, вяло. Ее копыта со специальной мягкой ковкой, стоившей отцу нескольких бессонных ночей, глухо стучали по деревянному настилу. Закладывая Гугенотку, отец высовывал язык, его пушистые неряшливые светлые брови хмурились, глаза закатывались под лоб. Хотя сбруя у Гугенотки давно уже была подогнана, отец каждый раз придирчиво проверял, не натирает ли налобником и дольником уши, не мешает ли нижняя часть хомута, не теснит ли сверху хомутина, долго трогал уязвимые места, прежде чем закрепить седелку. «Ты все помнишь?» — «Да, па». — «Ну, пошел». — «Я помню, па». — «Пошел, пошел…»
Кронго помнит ощущение всесильности, уверенности, когда он выезжал с Гугеноткой из конюшни и, чуть подобрав вожжи, пускал ее на круг, где уже ехали шагом, тротом или рысью около трех десятков лошадей. Кронго отлично чувствовал Гугенотку, и она прекрасно слушалась его и, как ему казалось, в конце концов уже отлично знала, почему ее не пускают на контрольных размашках в полную силу. Так, будто понимала, что они хотят скрыть ее настоящую резвость. Ход у Гугенотки был легкий, ровный, пружинный, задние ноги Шли чуть вразброс, в их движениях даже на слабом троте угадывалась стальная скрытая сила. Прислушиваясь к ровному, как метроном, стуку ее копыт, вдыхая запах ее тела — запах хорошо вымытой молодой здоровой лошади, — Кронго старался отвечать на ее понимание тем же: посылы делал только голосом, принимал на вожжи как можно ровней, свободней и мягче, при первой возможности сдавал вожжи. Он старался не обращать внимания на то, что происходило рядом, на дорожке, на двигающихся мимо, отстающих или обгоняющих его лошадей, на мелькавшие лица знакомых наездников. Иногда, по появившимся у бровки фоторепортерам и по двум-трем охранникам, садящимся обычно на скамейке у выезда на круг, он угадывал, что на дорожку выехал Генерал. «Великий наездник современности» работал только с двумя лошадьми — Корветом и Исмаилитом, объехавшими в последнем дерби двух американцев, в том числе — знаменитую Петицию. Генерала на дорожке можно было легко узнать по посадке — Тасма сидел в качалке сгорбившись, по-птичьи подавшись вперед над упершимися в передок ногами. Конечно, главным соперником Гугенотки мог быть только Корвет, и было ясно, что на Приз Генерал заявит именно Корвета.
Корвет был мощным рыжим исполином с высокими ногами и длинным, за счет большого крупа, корпусом. Выезжен жеребец был прекрасно и так же прекрасно сложен, — но он удивлял не конституцией, не этим несколько картинно выраженным строением фаворита, не идеальным порядком. Потрясал его ход — ровный, безостановочный и всегда с огромным запасом. Казалось — резвость Корвета, машинная бесстрастность его хода безграничны, все зависит только от посыла.
Но если Генерал и был в чем-то силен — то именно в посыле.
Первая ласточка появилась в начале сезона, задолго до розыгрыша Приза. Они с отцом сидели в жокейской, заполняя недельный график, когда заглянул старший конюх Диомель:
— Шеф, там Зиго вас спрашивает. Пустить?
Зиго был профессиональным «жучком», из тех, кто живет за счет игры. Из тех, кто постоянно ошивается около конюшен, вынюхивает все, что касается заявленных лошадей, и всегда готов — за одно только посвящение — участвовать в подставной игре. Конечно, Зиго был богат. По их кодексу Зиго был обыкновенным подонком — из тех, кого отец, неподкупный Принц Дюбуа, особенно ненавидел.
— Слушай, Диомель, ты что — не видишь?
— Шеф, я бы не обращался, но…
— Гони в шею.
— Хорошо, — Диомель сплюнул. — Но он говорит — важное дело.
— Ладно, черт с ним. Только — сам понимаешь.
— Конечно, шеф.
Это означало: впуская, надо закрыть все денники и провести Зиго по боковому проходу.
Зиго вошел — сорокалетний блондин небольшого роста, одетый с иголочки, плотный, узколицый, голубоглазый, с профессиональным выражением лица. Это было выражение неподкупной честности, которое Зиго каким-то образом носил постоянно, как маску. Когда Зиго вошел в жокейскую, первым, на что обратил внимание Кронго, было однообразно, непрерывно повторяющееся движение его шеи — он дергал ею вверх и вперед.
— Здравствуйте, — движение шеи вверх и вперед. — Здравствуйте, мсье Дюбуа, — вверх и вперед. — Привет, Морис.
Казалось, ворот идеально отглаженной рубашки мешает Зиго — и именно поэтому он сейчас так часто дергает шеей. Шея будто хотела освободиться от рубашки.
— Добрый день, — отец прищурил глаза и оскалился; казалось, каждое слово приносит ему мучение. — Что… надо?
— Видите ли, я хотел очень серьезно поговорить, — шея Диго двинулась вверх и вперед. — У меня очень серьезный разговор.
Отец неподвижно смотрел на Зиго, и тот перестал дергать шеей. На Зиго был новейший, очень дорогой летний костюм, безукоризненно подобранные ему в тон носки и туфли. В левой руке, на среднем пальце которой красовался перстень, Зиго держал небольшую кожаную сумку, ремешок которой был обмотан вокруг запястья.
— Ну — говори.
— У меня очень серьезный разговор.
— Ты что — имеешь в виду Мориса?
— Ну… понимаете, Дюбуа…
— Он останется. У меня от него секретов нет.
— Ну, как хотите.
— Впрочем, даже если бы и были, он все равно бы остался.
— Хорошо, — Зиго оглянулся, посмотрел на стул и, решив по взгляду отца, что его никто не пригласит, сел сам. — Черт, жизнь сумасшедшая, — Зиго улыбнулся, дернув шеей. — Носишься, как ковбой, из седла в седло. Только, Дюбуа, давайте сразу — меня попросили, мне в общем все равно.
Странно — Кронго тогда почувствовал какую-то плотность воздуха, возникшую в жокейской.
— Что все равно?
Зиго освободил от ремешка запястье, положил сумку на стол и медленно открыл застежку-молнию.
— У вас нет ничего выпить?
В углу жокейской стоял бар, но отец не шевельнулся.
— Это — зачем?
— Когда передаешь такую сумму, надо выпить.
— Какую сумму? — отец привстал. — Если это деньги…
— Подождите, Дюбуа, — Зиго дернул шеей. — Вы же не знаете, какие это деньги. — Он вытащил одну за другой четыре толстые пачки. — Здесь двадцать тысяч долларов. По пять тысяч в каждой пачке.
Зиго был из окружения Генерала. То, что пачки десятидолларовых бумажек лежали сейчас на столе, могло означать только одно — Генерал что-то пронюхал и боится. Во всяком случае, если даже не пронюхал, потому что пронюхать было почти невозможно, — он что-то почувствовал.
— За что?
— Ну, так сказать, видите, Дюбуа… — Зиго несколько раз дернул шеей. Кронго показалось — Зиго сейчас покраснеет.
— Так — за что?
— Ни за что.
— Ни за что не дают. Вы что — хотите, чтобы я в каком-то заезде не поехал?
Зиго смотрел в стол, и было ясно, что эта пауза рассчитана, но одновременно — что в этом есть какая-то растерянность. Но какая?
— Я должен знать, в каком. Скажите честно.
— Нет, Дюбуа. Я же вам сказал, что деньги не мои.
— Тогда — на каких условиях?
— Ни на каких.
— Что же — просто так? Без расписки?
— Это просто подарок.
Теперь они оба понимали, что это деньги от Генерала.
— Подарок, — отец поднял и опустил одну из пачек. Если эти деньги действительно от Генерала, то еще неизвестно, что будет хуже — взять их или отказаться.
Кронго почувствовал почти ощутимую плотность того, что происходит. Он остро помнит — в горле у него тогда все пересохло. Он никогда не видел сразу такой суммы. И конечно, не видел, как от нее отказываются. Снова — вот эти слова отца, которые тот часто повторял: «Будь честным, Фис. Будь честным, а то потеряешь чувство лошади».
— Жизнь сумасшедшая, сам себе не принадлежишь. — Зиго решил уходить и незаметно протянул руку к сумке.
Но отец опередил его, взял сумку, вложил туда одну за другой четыре пачки и закрыл молнию.
— Не пойдет, — отец помедлил, потом легким движением ладони придвинул сумку к Зиго. — Подарок не берется.
Кронго хорошо помнит вот это ощущение плотности — почти болезненной плотности воздуха в жокейской. Шея Зиго пришла в непрерывное движение.
— Нет, это неважно, вы только возьмите, а остальное уже не имеет значения…
— Не берется, Зиго. Вы поняли? Не берется.
За окнами кабинета сверкал океан. Отсюда, с восемнадцатого этажа, утренняя зеленая ширь распахивалась бесконечно. Рене Геккер, за один день ставший из мелкого заводчика военным комендантом столицы, сидел в кресле и слушал Крейсса.
— Геккер, вы тут родились? — тихо спросил Крейсс.
— Да, — Геккер попытался понять, почему Крейсс говорит так тихо. В руках Крейсса разведка, а это значит — истинная власть. Но он, Геккер, должен как-то поставить себя перед этим тихим человечком. — Они будут окружать нас непониманием и тем, что непонятно европейцу, — Геккер с облегчением вздохнул, подобрав нужные слова. — Не злобой, Крейсс, нет. Они просто не будут считать вас живым существом. Они будут бросать бомбы в автобусы, в детей и женщин, и убегать. Они будут покушаться на вашу жизнь. И на мою тоже. И будут делать это с ожесточением, бесконечно.
— А белые? — спросил Крейсс.
— Крейсс, честно говоря, я знаю и эту столицу, и этот народ. — Геккер, тучный, с большими залысинами и гладко прилизанными седыми волосами, подошел к окну. — Белых здесь мало, около десяти процентов. Главное, чтобы все утихомирилось и вошло в колею. Поверьте мне. Нам нужен нормальный город.
Крейсс улыбнулся:
— Дорогой Рене, я тихий и незаметный человек. Но уж поверьте в меня, ради бога.
Геккер почувствовал, что не может сопротивляться Крейссу. Он стал подбирать слова, которые смог бы сказать, если бы это было разрешено. «Крейсс, я восхищен вами…» Нет, нет… «Крейсс, вы действительно умный и нужный всем нам человек…» Лучше, но слишком высокопарно. А если просто сказать — простите меня, Крейсс, я вас очень уважаю, вы можете меня арестовать, можете следить за мной, но я ваш, вы видите меня, видите мои глаза, и вам ясно, что я готов… Я готов… Сказав это, он, Геккер, почувствовал бы, как войдет спокойствие, полное спокойствие. И тогда он мог бы уже думать о другом. О свежести утра, о ясности, которая наконец наступила.
— Но почему вас интересует именно ипподром? — вместо всего этого спросил Геккер с интонацией, которая показала, что он целиком подчиняется Крейссу.
— Декорация. Национальная гордость. Хотя… При чем тут национальная гордость?.. — Крейсс пожал плечами. Но и это пожимание плечами он, Геккер, может оправдать, назвать умным, мудрым. — Хорошо, — Крейсс закурил. — Вы не специалист, Геккер, и не обязаны знать все тонкости, с которыми нам приходится сталкиваться в условиях партизанской войны. Вы ведь только что сами говорили — так просто черные власть не отдадут. Они будут устраивать диверсии, будут нападать из-за угла. Придется из неудобств извлекать выгоду.
Крейсс раздвинул веером на столе фотографии лошадей. За стеной раздался низкий и хриплый крик. Крик раздавался примерно секунд десять и возникал через несколько комнат от кабинета. Он был хорошо слышен — монотонный, звериный, сильный, с долгими передышками. Крик оборвался на одной ноте. Крейсс покосился на телефон. Они обменялись взглядами.
— Извините, Геккер.
— Хороши, — Геккер вгляделся в фото и облегченно улыбнулся в душе тому, что он не заметил крика и выражения лица Крейсса.
— Альпак. Жеребец пяти лет. За рубежом включен во все списки элиты… Международные каталоги оценивают его от двух до пяти миллионов. А второй, Бвана, подтягивается к миллиону.
— Забавно, — Геккер тронул фотокарточку. Крейсс шевельнул бровями. Что означает это шевеление бровями?
— Думаете, черные позволят нам увезти эти миллионы? Как бы уже этим утром мы не нашли лошадей отравленными. Но если этого не случится, нам сама судьба велела открыть ипподром. Этим будут сразу соблюдены и ваши интересы, и мои.
Но ведь и он, Геккер, мог бы так разговаривать, так сидеть, так поглядывать со своего кресла.
— Геккер, я люблю мелочи, оттенки. Это будет одно из мест, специально созданных для ловли. Вроде подсадного садка. На ипподроме будет случайная публика… Естественно, там будут люди Фронта. Их зашлют, не волнуйтесь. Но будут и мои, — Крейсс улыбнулся. — Вы понимаете меня.
— Мы должны быть уверены в каждом человеке… — Геккер наконец почувствовал спокойствие и долгожданное ощущение свежести утра.
— Это вас волнует? — Крейсс потер сухие тонкие ладони, улыбнулся. — Геккер, если Кронго поставит под угрозу свою жизнь, что будет с его бесценными воспитанниками? С Альпаком, с Бваной? Без него они либо погибнут, либо мы вынуждены будем их продать, И потом, я уже знаком с ним, — Крейсс сел в кресло. — Он жил в Европе. Значит, на него можно хоть как-то надеяться. По натуре это, знаете… таких мы в детстве называли лопушками. Вы понимаете? Он непременно не от мира сего. Но он белый.
Геккер пригладил волосы. Сказал тихо:
— Я все понял, Крейсс.
Ему самому понравилось, как он это произнес.
Крейсс нажал кнопку, сказал в микрофон:
— Давайте, мы ждем.
Кронго хорошо помнит ощущение этого дня, когда он еще спал, но в то же время чувствовал розовую и голубую нежность утра, ветви и воздух в дверном проеме, и не хотелось вставать. Сквозь сон, сквозь удивительную легкость молодости он уловил тогда в этом дверном проеме чей-то взгляд и понял, что в двери стоит Омегву. Бангу пришел за ним, они договаривались идти купаться. Омегву молча поднял палец к губам, чтобы не разбудить мать, и улыбнулся. Кронго бесшумно поднялся, выскользнул в проем. Они шли к озеру. Вот это ощущение теплой земли на подошвах, качающихся ветвей, которые задевает идущий впереди Омегву, теплого солнца, которое играет с телом, пытается обжечь его, вырывается из-за ветвей, ласково бьет по глазам, но ветви снова отгоняют его, накидывают прохладную и темную повязку. Сейчас, ступая вслед за Омегву по теплой земле, ощущая ласковость солнца, тепло земли, игру ветвей, ощущая беззащитную легкость своего тела, по походке, по каждому движению Бангу чувствуя и его состояние, чувствуя, что тот испытывает сейчас то же самое, Кронго вдруг понял, как смешны были затеянные им поиски причин, поиски смысла собственной жизни. Он знал теперь, зачем живет, и зачем будет жить, и зачем приезжает сюда, и зачем Омегву вернулся сюда, в Бангу, оставив все, оставив известность, и положение, которые были у него там, в Европе. Ради этой легкости, ради прозрачности воздуха, ради тепла земли, ради этого утра.
На берегу озера Бангу остановился, застыл на секунду, вгляделся в еще не нагретую солнцем поверхность. Потом поднял руки, развел их в стороны, обратил смеющееся лицо к восходу.
— Подхватим?
— Подхватим, Омегву.
Они заговорили речитативом, дергаясь и притоптывая, как заправские колдуны:
— О светило… О светило… О светило… О великолепное… О великолепное… Не сжига-ай… Не сжига-ай… Пощади… О светило… Не надо так сердиться… О светило… Не сжигай нас!
Это была ритуальная песня ньоно, и она у них получилась. Они разделись, прыгнули в озеро и долго, до изнеможения плавали, отфыркиваясь, уходя в глубину, выскакивая на поверхность и снова ныряя, пытаясь разглядеть водоросли сквозь зеленую толщу воды, опять выскакивая, останавливаясь, переворачиваясь на спину, лежа на воде, жмурясь от солнца и снова повторяя все. Потом оба лежали на берегу, уставшие, счастливые, легкие от тепла земли и оттого, что кожа постепенно обсыхает.
— Омегву, вы знаете все?
Омегву повернулся. Сколько ему лет? Наверное, шестьдесят. Он уже привык к Омегву. Этот человек для него давно уже не «великий Бангу», не столп эмиграции, не «основатель национальной поэзии и мыслитель», а — просто товарищ.
— Я долго думал, зачем вы приехали сюда.
Омегву смотрел прямо перед собой, и в этом взгляде было что-то, что Кронго не понимал.
— Может быть, мне переехать сюда? И жить здесь?
Омегву снова лег на спину. Медленно поднял руки, раскинул их, опустил. Пальцы его осторожно трогали траву, чуть прихватывая и тут же отпуская.
— Где — здесь? Здесь, в Бангу?
Кронго подумал — жить в Бангу. Нет, его, наверное, не хватит на то, чтобы жить в Бангу. Прежде всего он не мог бы оставить лошадей. Но тогда это была для него игра, иногда ему казалось, он считал, что сейчас, когда ему давно уже исполнилось двадцать лет, надо жить здесь, на родине предков. Хорошо. Если Омегву скажет ему — он переедет, но будет жить в столице.
— Ну… не обязательно. В столице.
Руки Омегву застыли, оставив траву в покое.
— А зачем?
Кронго подумал — действительно, а зачем? Мелькнуло что-то из газетных заголовков. Из разговоров у них дома.
— Ну… вернуться на круги своя. К истокам.
Омегву неподвижно смотрел вверх, и Кронго показалось, что он не хочет отвечать.
— На круги своя… К истокам. Эти слова ничего не говорят, мальчик, они пусты. — Омегву застыл, и Кронго опять уловил то, что всегда присутствовало в их разговоре. — Разве ты не слышишь? Что значит — на круги своя? На какие круги? Объясни? Нет никаких кругов. Никаких, мальчик, ты же знаешь, никаких. И — к каким истокам? Вообще, что это значит — истоки? Истечение реки? Истоки чего? Человек не возвращается к истокам, он не река.
Омегву замолчал, и Кронго понял — Бангу прав. Больше того — Кронго знал уже этот ответ Омегву. Смысл этого ответа еще до вопроса был в нем самом, Омегву только напомнил ему об этом. Надо избегать пустых слов. Избегать — и это хотел ему сейчас сказать Бангу.
— Ты что… услышал это от матери? Насчет истоков?
— Нет… Мать наоборот…
Он замолчал, чувствуя, что Омегву понял, что значит «мать наоборот».
— А что говорит мать?
— Мать… Мать, конечно, хочет, чтобы я жил в Европе.
Он вспомнил, как мать говорила ему, улыбаясь: «Маврик, ты у меня теперь наездник. Ты у меня великий человек».
— Она права. А ты знаешь, зачем я приехал сюда?
Омегву повернулся. Лицо его еще было мокрым, высох только плоский коричневый нос, и этот нос, сухой, с раздувающимися нервными ноздрями, сейчас морщился, будто Омегву готовился отмочить какую-то шутку.
— Нет.
— Я приехал, чтобы забыть о смерти.
Тогда, в упоении молодости, во всесилии собственного тела, в бесконечном слиянии с воздухом, землей, солнцем, Кронго не понял этих слов, они были для него тогда пустым звуком. Но он понимал — для Омегву только эти слова что-то значат, даже — значат очень много, он неспроста сказал ему это, он ждет сейчас ответа, ждет, чтобы Кронго что-то спросил.
— И… вы забыли?
— Забыл, мальчик. Ты представляешь — забыл. И вы помогли мне забыть. Помог мне забыть ты. И…
Омегву замолчал.
Это «и…» было настолько ясным, что Кронго сказал:
— И… мать?
— Да… — Омегву вздохнул. — И Нгала. Я благодарен тебе. И ей. За то, что вы есть. Нгала — великая женщина.
— Да, — не зная, что ответить, сказал Кронго.
Он любил мать. Любил, но ее существование, то, что она всегда была рядом, вся она была настолько привычна ему, настолько близка, что он никак не мог сказать о ней так, как сказал Омегву: великая женщина. Кронго знал мать всякой — в его глазах она была и жалкой, и униженной, и заблуждающейся, — хотя была и великой, и гордой, и всезнающей.
— Ты извини, но я буду говорить о твоей матери так, будто это не твоя мать.
— Хорошо, — сказал Кронго.
— Ты знаешь, одно время она хотела написать книгу. Она вынашивала ее и готовилась к ней. Она даже рассказывала мне план этой книги. Эта книга должна была стать криком и болью. Все несправедливости, все унижения, все незаслуженные горести, все последствия предрассудков, все, что выносит на себе с рождения человек с иным образом лица или другим цветом кожного покрова, с иным оттенком белков, иным рисунком носа и губ, короче — все, что вынужден перенести какой-то человек, почему-то отличающийся от каких-то других людей, в силу не зависящих от него причин, должно было стать этой книгой. Впрочем, это уже было книгой, но не было написано. Все это было рассказано ею, рассказано со всей страстью, на какую она способна, со всей болью — но самой себе.
— И — что же? — спросил Кронго.
Он помнит, что испытал тогда. Нужно ли было ему объяснять, почему мать не написала эту книгу. Нужно ли было что-то говорить. Когда он все понимал и так. Как понимал он тогда давно знакомые ему, но возникшие уже в новом значении эти слова матери: «белая черная ворона».
— Ну, видишь ли… Мне ли тебе объяснять. Твоя мать — особенный человек.
— Да, — сказал Кронго.
— Она… в хорошем смысле слова стоит, выше нас. Она действительно сумела подняться. Над предрассудками. Над вековой ненавистью. Над общими обидами, которые, множась сами по себе, порождают одна другую.
Подняться, подумал Кронго. Подняться в своем унижении, в своей беззащитности, в своей растерянности.
— А книга эта… Книга эта, хоть была бы и справедливой, и честной, и искренней, поневоле разжигала бы ненависть. И мать поняла это. Но ты же знаешь — для твоей матери нет ничего более ненавистного, чем ненависть. Ты понимаешь?
Понимал ли это Кронго. Да, он понимал это. То, о чем говорил тогда Омегву, вот это «возвышение» его матери было источником ее страданий и несчастий… И она хотела уберечь его от них.
Волны океана поднимаются, дрожат, не доходя до края лодки; здесь, в прибрежной полосе, они особенно светлы, особенно наполнены солнечным светом.
— Тише… Умоляю тебя, тише… — Омегву оборачивается, испуганно осматривается, прикладывает палец к губам. — Это природа… Природа, мальчик мой.
Сквозь тонкий пласт воды хорошо виден дрожащий, колеблющийся, перекликающийся мир, беззвучные цветные колокольчики… Тени рыб, медузы, висящие и скользящие над песком, серые и голубые камни на дне, красные, розовые, оранжевые губки, черно-зеленые водоросли.
— Обращаясь к своим предкам, вознося дань существам, предшествовавшим им, люди посещают склепы и кладбища… Какое горькое заблуждение… Наверное, поэтому людей и охватывает тоска при мысли о смерти… Но разве предшественники не те, кого ты сейчас видишь? Не эти звезды с мерцающими золотистыми лучами? Не эти оранжевые бокалы на длинном пучке игл, с помощью которых они укрепляются в грунте? И не лучше ли, чтобы поклониться предшественникам, идти не к склепам и могилам, а приплыть сюда?
Они наклоняются, разглядывая дно.
— Человек отделил себя от природы совсем не так, как он думает. Не тем, что он построил города, добровольно замкнулся в бетонных коробках, спрятался в комфортабельных железных кабинах, перекрыл небо и землю. Его отделение от природы происходит в другом — в мыслях, в словах, в газетных статьях, в книгах, в философских трактатах. Там, где он, вольно или невольно, противопоставляет себя природе… Человек забыл, что, если бы не было времени, он тут же превратился бы вот в эту медузу. И поплыл бы, шевеля щупальцами… И все бы превратилось… Ты понимаешь — все…
Кронго вгляделся. Медуза плыла на метровой глубине под самой лодкой, бледно-пурпурная, хрупкая, сливаясь с потоком, переливаясь и в то же время оставаясь неподвижной, потому что сама была частью этого потока.
Омегву смотрел на него, улыбаясь. Кронго вдруг подумал — сейчас, когда Омегву говорит с ним об этом, о непреходящем значении жизни, о вечности, он кажется отрешенным, почти святым. Но ведь Омегву тоже существует в мелочах, в суетности, так хорошо знакомой Кронго. Он позволяет ученикам, которые приезжают сюда, работать на него и почти половину из всего, что они делают, выпускает под своим именем. От одного его слова часто зависят их судьбы, даже — жизни. Но нельзя сейчас думать об этом. Сейчас, когда Омегву говорит о медузе, он прав.
— Если бы не было времени?
— Конечно. Посмотри на нее. Она сейчас занята сложнейшими расчетами. Сейчас в ее студенистом теле роятся мысли об удивительных закономерностях, она вся занята математическим анализом… Ты понимаешь?
— Но ведь оно есть. Время.
Интересно, что ответит ему Омегву.
— Для нас — да.
Вот оно, он его почти чувствует — ощущение собственной всесильности, с которым он жил тогда. Ощущение бесконечной победы. Теперь он понимает — именно это ощущение стало причиной глухоты, безразличия ко всему остальному. Но разве он мог отказаться от него? Разве он мог отказаться от того, что понял, отчетливо понял, что стал избранным? Что в двадцать с небольшим лет он нашел себя, что лошади — дело его жизни, что он уже не может жить без приветственных криков трибун, без отдельных слов, фраз, без шепота, который всюду настигает его: «Смотрите, Дюбуа…», «Это — тот самый Дюбуа?», «Нет, сын… Морис…», «Совсем мальчишка…», «Говорят, ездит лучше отца…», «Верная ставка…», «Перестань… Старик не хуже», «Смотри, смотри, ноги подпустил… Значит, поедет…», «Поль, поставь на меня…», «Да нет, ты не туда смотришь… Это младший Дюбуа… Смотри, коротко сел, на руках пойдет…» Он уже не мог отказаться от этого сладостного чувства — во время торжественных проездок перед трибунами, когда победившая под ним лошадь, увитая цветными лентами, легко несет качалку, когда из-за изгороди, навстречу и вслед, несутся приветствия и проклятья, когда тысячи лиц жадно пытаются рассмотреть тебя, твою посадку, твою поднятую руку, твое лицо, закрытое шлемом и очками.
И то, что происходило в доме матери, было ему неинтересно. Сейчас он понимает: даже в те редкие минуты, когда он выходил к гостям, когда, подталкиваемый рукой матери, вежливо улыбался и кланялся — уже юноша, щеголевато одетый, с идеальной прической, за которой он в то время очень следил, даже тогда, среди «знаменитых», он не мог отделаться от ощущения собственной исключительности, собственного всесилия.
Но ведь значит — он был чужд реальной жизни.
Да, он был чужд реальной жизни, уже подростком он был оторван от нее. Да, конечно. Он был погружен в обособленный мир конюшен, в мир лошадей, беговых дорожек, минут и секунд, в узкий мир ипподромных интриг. И если бывало, что он выходил из этого мира, выходил хотя бы на час, хотя бы на день — он чувствовал себя чуждым ему. Двигался, говорил, стоял, как одинокий актер, вышедший на страшные подмостки, ослепленный прожекторами и гулом толпы, остро ощущающий в этот миг свою чужесть непонятному миру, мечтающий только об одном — скорей вернуться назад, в уютную простоту кулис, где все легко и понятно.
Слово «народ», которое так часто говорили люди, собирающиеся в их парижской квартире у матери, было просто словом и ничего не значило для него. Ни — «народ», ни — «нация». Он не понимал, что это значит.
Поэтому мир деревни, «Монд дю Бангу», который сначала, в первые приезды, так успокаивал его, потом вдруг, когда он понял, что это и есть «народ», е г о народ, его «истоки» и «корни», — стал ему странен и чужд. И хотя это была е г о деревня, и именно здесь жил когда-то его дед, Ситоко Акронго, настоящий шаман, колдун, с ожерельем из когтей льва на шее, непонятный и даже страшный ему в этом образе, и здесь наверняка жили многие его родственники — он ловил себя на том, что жители деревни ему чужды, даже — пугают его. И прежде всего — его пугает покушение на его избранность, их любопытство, когда они встречают его, любопытство, которое сквозит в их взглядах, одновременно приветливых и настороженных. Это любопытство всегда мешало ему, но потом уже просто бесило, выводило из себя. Поэтому, когда он шел по деревне с матерью, когда она останавливалась, не обращая на него внимания, когда непринужденно болтала со знакомыми на ньоно, — ему становилось не по себе. Он вдруг ощущал свою лишнесть, чужесть. То, как ведет себя мать, было ему непонятно. И все-таки это было лучше, чем ходить по деревне одному, — он был как-то огражден матерью, которую здесь все знали.
Первым среди местных жителей для него выделился парень лет двадцати. Он был очень высок, в его фигуре, в мышцах, подрагивающих на плечах и груди, чувствовалась мощь, редкая даже для негра. Кронго казалось, что при их встречах этот детина нарочно красуется своей мощью, изгибаясь, пружинисто поворачиваясь, что-то напевая, пристукивая ладонями, подергивая шеей.
Однажды, переходя через озеро, Кронго столкнулся с ним на самой середине мостков. Парень стоял у перил, упершись в них локтями, и рассматривал воду. На нем были только рваные, затертые и выжженные солнцем до белизны брюки, и, остановившись, Кронго увидел темно-коричневый, почти черный торс, огромные руки, спокойно лежащие на перилах, мощную, без единой морщинки шею — все это блестело, смазанное потом. Кронго отчетливо ощутил запах парня, ощутил его неприязнь и настороженность, и вместе с тем — любопытство. Парень, почувствовав, что кто-то стоит сзади, не отрывая рук от перил, медленно повернул голову. В его глазах, в блестящих белках, в коричневых зрачках ничего не отражалось — они были спокойны. Хотя одновременно настороженно смотрели на Кронго, будто спрашивая: «Кто ты такой?» Потом, выждав несколько секунд, он равнодушно выпрямился, посторонился, пропуская Кронго.
Да, он был чужим для этой деревни. Потом он понял — это почему-то в конце концов стало раздражать его, стало ему неприятно. Вот это — возникшее отчуждение. Но он не мог перешагнуть его. Он ничего не мог сделать. Он не мог сблизиться с деревней, не знал, как это может произойти. Ведь он был чужд ей. Здесь он был чужд всему — кроме того, что это была деревня, где встречались мать и Омегву.
Он наконец понял, в чем было дело. Ему было неприятно то, что обычное ощущение успокоенности, которое он испытывал в деревне, исчезло. Да — именно после этого он все чаще стал думать, что бы он мог сделать, чтобы исчезла эта отчужденность. Он уже хотел сближения с деревней — и не мог сблизиться.
Странно, постепенно он заметил — мать и Омегву тоже хотели этого сближения. Они никогда прямо не говорили ему об этом, но иногда это проскальзывало в отдельных фразах: «Сегодня сходка» или «Сегодня на площади танцы». И он понимал — они подталкивают его к сближению. Это значило — он должен куда-то пойти. Он должен увидеть деревенское собрание, сходку, состязания танцоров. Но он долго не понимал, как сможет это сделать, — ведь он чужд всему. Он — избранный. Он знал, что, если пойдет на одну из сходок, это и станет «сближением», чем-то вроде племенных смотрин.
Но это было непонятно ему — ему, «избранному». Как сможет он отдать себя им на смотрины?
Наверное, и Омегву, и мать отлично понимали его состояние. Наверняка им было понятно вот это ощущение и з б р а н н о с т и, собственной исключительности, ощущение, с которым он был давно уже слит…
Сейчас Крейсс был совсем другим. Он гладко выбрит, его плечи и шею облепила белая фланелевая рубашка, он причесан. Он улыбается, и от этой улыбки губы все время кажутся слишком приближенными к округлому аккуратному носу. Золотисто-карие глаза почти явственно приносят Кронго чувство облегчения. Второй — комендант. У него здесь завод пищевых концентратов, Кронго встречал это имя и лицо несколько раз. Двойной подбородок, складки на шее.
— Садитесь, господин Кронго, — Геккер показал на стул.
— Вы вчера искали меня? — Крейсс смотрит открыто, искренне. Неужели Кронго становится легче от этого взгляда?
— Д-да, — Кронго попытался привести в порядок мысли, чтобы ясно изложить основное. Главное — чтобы они поняли, что он только просит, но не собирается сотрудничать. — Я остался без обслуживающего персонала. На моих руках — породистые лошади. Им нужен уход, квалифицированное обслуживание, иначе они погибнут.
— Хорошо, — Крейсс взял блокнот. Движения его были уверенными, успокаивали. — Мы напишем объявление. Ведь вы согласны? Вечером это уже будет в газетах.
Дружелюбный взгляд.
— Люди, которых… — Кронго снова встретился с глазами Крейсса. — Которые погибли… были единственными специалистами.
Почему он это говорит?
— Слушайте, Кронго, — Геккер постучал пальцами по столу. — Я не сторонник ипподрома и бегов, как уважаемый мсье Крейсс. Лично я просто продал бы всех этих лошадей. Мне кажется, так будет лучше для экономики. Но я понимаю, Крейсс убедил меня, что это наша национальная гордость. Давайте говорить, как земляки.
Крейсс все это время смотрел на Кронго так, будто говорил: «Не очень слушайте этого тупицу, дайте ему высказаться, но мы-то ведь понимаем, чего стоят его слова».
— Диктуйте, — Крейсс взял ручку. — Набросаем примерный текст. Наверное, так — государственный ипподром… Нет, лучше — государственный народный ипподром… Так ведь лучше? Объявляет прием на работу… Кого? Как лучше написать?
Кронго постарался не отводить глаза от его твердого взгляда.
— Помогите же мне, — сказал Крейсс. — Людей, знакомых с уходом… Так?
— Да, — выдавил Кронго. Что бы ни случилось, он должен быть честен. Он ведь не собирается сотрудничать с Крейссом. Нет. Но почему ему легко с ним?
— А дальше?
Кронго вспомнил — Альпак. Альпак должен быть спасен. Все остальное можно отбросить.
— Повторите, пожалуйста, — попросил Кронго.
— Государственный народный ипподром объявляет прием на работу людей, знакомых с уходом за лошадьми, а также… что — «а также»? — Крейсс постучал ручкой.
— А также имеющих навыки верховой и колясочной езды. — Кронго следил, как быстро бегает ручка. Ну вот и все. Больше он ничего не скажет.
— Спасибо, — Крейсс отложил блокнот. — Мсье Кронго, запомните — новая власть не давит на вас, не требует ни сотрудничества, ни политических гарантий. Не требую этого и я. Вы, мсье Кронго, наполовину белый, и этого достаточно. Даже колеблясь, вы придете… к осознанию необходимости того, что случилось в стране. Хочу только предупредить — работа ваша должна быть честной и лояльной.
Кронго показалось, что в интонации Крейсса сквозит просьба: «я вынужден говорить так, потому что мы не одни, вынужден употреблять официальные слова». Кронго встал.
— Вот вам вечерний и ночной пропуск, — Геккер протянул листок с поперечной черной полосой. — В случае любых затруднений немедленно звоните мне.
Жара ударила в лицо, обожгла шею. Сейчас, выйдя из кабинета Крейсса, Кронго захотелось расслабиться, забыть обо всем. Просто пройтись по каменным плитам. Сесть в один из шезлонгов на пляже и сидеть, глядя в океан. Он не мог отделаться от того, что там, в кабинете, было что-то особое, что сейчас стояло в горле, как шелуха.
— Мсье, не желаете ли цветы?
Белые. Молодые. Старшему не больше двадцати лет. Он протягивает ему цветы. Вот он улыбнулся, и волнистые светлые волосы вздрогнули на плечах. Щеки и нос усыпаны веснушками. Синие глаза, на голое тело надета женская рваная кофта.
— Любовь, — парень протянул Кронго цветок.
Девушка с ним рядом обняла парня за шею, осторожно провела языком по его веснушчатой щеке. На ее груди болтается медальон. На красном фоне — черный силуэт негритянки.
— Мсье, это мои друзья, — парень, поднял руку, и Кронго заметил на ней металлическую цепочку, несколько раз обмотанную вокруг запястья. — Это Фред… Фред, поклонись… Это Генри… Это Памела, самая красивая… Это Роман… А вот это…
Он провел своей девушке по губам, и она ласково укусила его за палец. Лицо ее было некрасивым, с маленьким, чуть загнутым книзу носом, мелким ртом. Но выделялись глаза — огромные, янтарно-желтые, матово ускользающие из-под удивленно вскинутых ресниц. За ней, медленно ударившись о гранитную набережную, встала волна, на мгновение застыла в брызгах, грязных от песка.
— Ее зовут Дана, меня Стив, — парень погладил Дану по затылку, она поклонилась.
Худые ноги Даны были по-детски чуть утолщены в коленях, вокруг бедер туго обмотана чисто выстиранная желтая тряпка, светлые волосы собраны на затылке в жгут.
— Мсье, возьмите этот цветок… — губы Стива иногда как-то странно подпрыгивали, съеживались, распрямляясь между каждым словом. Будто его кто-то начинал гладить по пяткам, щекотать, и он испытывал удовольствие — но продолжал говорить. — А как зовут вас? О, мсье…
— Меня? — Кронго помедлил. — Меня — мсье Маврикий.
— О, мсье… Простите, мсье… Можете не говорить…
— А… что вы хотите?
Кронго не понимал, почему этот странный разговор не удивляет его — как будто так и должно быть.
— О… что мы хотим… — Стив посмотрел на подошедшего негра-патрульного, высоко поднял обе руки. Солдат улыбнулся, перекинул с плеча на плечо автомат. — Дружба! — Стив улыбнулся. — Привет, друг!
Солдат спокоен. Он принимает все как должное.
— Любовь! — Стив повернулся к Кронго. — Мсье Маврикий, учтите, я всегда буду теперь называться… — губы его вытянулись трубочкой, будто его сейчас пощекотали особенно приятно и он предвкушал слово, которое скажет. — Я всегда буду называться Карел. И зовите меня, пожалуйста, Карел. Кей, эй, ар и эль. Это в честь моей девушки. Дана!
Блондинка улыбнулась.
— Она славянка, и Карел — имя ее деда. Отец ее миллионер, но она сделала усилие и отреклась от него. Правда, у нее теперь нет денег, зато у нее целый мир. Возьмите же цветок.
Кронго пришлось взять красную растрепанную гвоздику.
— Простите, мсье, — Стив встряхнул головой, убирая со лба волосы. — Вы верующий?
Дана снова тронула языком его щеку.
— Не знаете, — Стив улыбнулся. — И я не знаю. Вернее всего, я неверующий. По крайней мере… как… как остальные. Но я верю в освобождение от страданий. Это моя вера, которой я поклоняюсь благочестиво и свято.
— Дукха, — сказала Дана. — Дукха-самудая… Дукха-ниродха… Дукха-ниродха-марга…[1]
За ее плечами снова встала волна.
— Что она? — спросил Кронго. — Это что-нибудь значит?
— Примерно то же, что сказал я, — Стив прищурил глаза. Отставшие от общего потока завитки волос за плечами Стива прыгали на ветру.
Кронго заметил, что одна из девушек, смуглая, хорошенькая, в упор смотрит на него.
— А если страдание есть, от него нужно бежать, — Стив кивнул Дане, взял у нее сигарету, жадно затянулся. — Уезжать, улетать. Чур нас, чур от страданий. Нужно освобождаться от них, мсье, всеми способами. И не искать это освобождение, где искали раньше, — в женщинах, карьере, деньгах. Если деньги — причина страданий, нужно освобождаться от денег. Если женщина — причина страданий, нужно отказаться от женщины. Если суета — причина страданий, нужно избегать суеты. Мы приехали сюда в трюме, без денег, без билета. Мы не голодали, не мерзли, были спокойны и счастливы. А здесь нашли страдание. Страдание, суету, желание утвердиться. Вам не скучно меня слушать?
— Нет, — машинально сказал Кронго.
— Памела смотрит на вас, — Стив улыбнулся.
Памела — хорошенькая. Памела — это хорошенькая.
— Извините, что я с вами так откровенен. Памела недавно с нами. Она еще не привыкла. Она хочет стать гитанисткой. Может быть, мы сможем ей помочь. Но это очень трудно. У нее не хватает чистоты.
— Гитанисткой? — Кронго вдруг вспомнил об Альпаке. Почему?
— От слова г и т а н а… Надо быть свободной в любви… Дана… Вот, Дана… Она — гитанистка. У нее могут быть сразу два любовника. Но только при этом надо остаться чистой, искренней. Грязь ведет к страданию.
— Стив, значит, ты решил? — спросила Дана.
— Конечно, — Стив обнял ее за плечи. — Дана, ты любишь Генри?
— Люблю, — Дана покраснела, стараясь уйти от взгляда Кронго.
— Ну вот, Дана, будь искренней. Будь всегда искренней. Скажи, к чему ведет грязь?
— Надо искренне любить, — Дана улыбнулась, и краска сошла. — И тогда не будет грязи. Я искренне люблю. Искренне. Я люблю и Генри, и тебя. Двоих.
— Ладно, хватит об этом, — Стив потрепал Дану по голове, и ее завязанные узлом волосы рассыпались по плечам. — Мсье, наверное, нужно спешить. Мы тоже скоро уезжаем. Как только будет пароход. Здесь слишком тяжело.
Глаза Даны грустно посмеивались. Кронго заметил, что, когда она смотрит на него, возле ее губ собираются чуть заметные морщинки-точечки, сверху и снизу, но они становятся видны только тогда, когда она поворачивается затылком к солнцу. Она, заметив его взгляд, осторожно приложила свою ладонь к его ладони, печально улыбнулась. Что-то шевельнулось и защемило в груди вместе с ее прикосновением. Морщинки-точечки, волосы, рассыпанные по плечам, холодная слабая рука, лежащая на его кисти. Она готова отдаться ему, он это чувствует. Кронго никогда ничего подобного не ощущал. Похоть, пытался оборвать он сам себя, конечно, похоть. Обычная похоть, слепое влечение. Лицо Даны рядом с лицом Стива на фоне океана было добела освещено солнцем. Дана казалась ему сейчас скачущим легким телом, ощущением всесильности, охватывающим все существо, — когда дорожка мягко и отчаянно бросается в лицо, а потом уплывает вниз, и так бесконечно — уплывающие назад противники, мелькающие ноги их лошадей, уплывающие от твоей силы, большей, чем их, от того, что ты слился с этим легким телом, безоглядно несущим тебя вперед.
— Любовь, — тихо сказал Стив, глядя на патрульного.
— Что, месси? — негр положил автомат на колени. Посмотрел на Кронго. Улыбнулся. Он сидел на парапете.
— Любовь, — обняв Генри за шею, сказала Памела.
— Простите, месси, я человек прямой, — патрульный медленно зацепил ремень автомата за плечо. — Ведь на вас стыдно смотреть.
— А вы не смотрите, — сказал Стив.
— Вы как цыгане, — негр улыбнулся. — Ведь если честно говорить, это грязь, грязь, месси. Посмотрите на себя.
— И все равно я вас люблю, — сказал Генри.
— Тьфу, — патрульный сплюнул. — Расходитесь потихоньку. Смотреть стыдно.
— И все равно любовь, — улыбнулся Генри.
— Вы на себя посмотрите, — патрульный мотнул головой, хохотнул, но теперь уже зло. — Ты, оборванец… У меня у самого девчонке пятнадцать, что, если она к такому попадет… У тебя же грива, не волосы… Обрить надо…
— Любовь, — улыбнулась Дана.
— Месси, я их знаю, — негр, пытаясь сдержаться, ласково погладил автомат. — Я вижу, вы местный… Они и своруют, недорого возьмут… Моя бы власть, я бы их всех в санпропускник, а потом… потом…
— На прощанье — еще раз любовь! — Стив церемонно поклонился Кронго.
Кронго заметил, как Дана, уже отойдя, обернулась и помахала рукой — обращаясь только к нему.
— Ладно, — рука на прикладе автомата дрожала, щеки негра стали свинцовыми. — Посмотрим, любовь… Вывели из себя… Дерьмо волосатое… Если бы вы знали, как… Как…
Он нервно усмехнулся, привычно выхватил зубами из-за отворота рукава сигарету, закурил.
— Простите, месси…
С детства, сколько он себя помнит, в парижской квартире матери собирались люди. Он привык к тому, что они приходят, он как-то по-особому привык к ним, не придавал значения тому, что это за люди, зачем они каждый вечер едят, пьют, разговаривают в их квартире. Потом, взрослея, он постепенно понял — многие из этих людей были очень близки матери, это были не только ее друзья, но и те, кто давали матери работу, среди них были редакторы, издатели… Но то, что они давали работу, происходило как-то само собой, не считалось главным; многие приходили просто из-за того, что им нравилось бывать здесь, просто — из-за того, что здесь можно было вести себя как угодно, оттого, что здесь все были равны.
Как-то сразу, внутренне, Кронго понял, что эти приходы гостей нужны матери. Больше того: в том, как мать их ожидала, как отвечала на звонки, как бросала все дела ради них, как перед приходом гостей вместе с домработницей бегала по магазинам и потом вместе с ней разбирала на кухне коробки, полные еды и бутылок, — во всем этом он чувствовал, что эти частые сборища для матери что-то очень важное, чуть ли не главное в жизни. Он знал, что отцу эти приходы гостей не нравятся, отец всегда находил предлог, чтобы уйти из дома или лечь спать, даже не показавшись.
Сколько раз маленький Кронго был свидетелем ссор отца и матери из-за этого; и важность приходов гостей, того, что они значили для матери, он понял именно из-за этих стычек, в которых мать всегда была непримирима.
— Нгала…
— Что? — мать, обычно помогавшая в эти минуты домработнице или делавшая что-то по дому, при этих словах отца поворачивалась.
Она делала вид, что пытается понять, что же сейчас хочет сказать отец, хотя Кронго видел — на самом деле она все отлично понимает. Ее маленький нос морщился, красивые, резко очерченные губы поджимались, глаза становились злыми. Уже по одному этому «Нгала», не очень уверенно сказанному отцом, она понимала и чувствовала, что именно было причиной разговора, что вызывает его неудовольствие. Кронго помнит — мать поступала в таких случаях всегда одинаково. Она срывала передник и тихо, будто боясь, что с передником что-то случится, опускала его на первый попавшийся предмет. Если же мать стояла посреди комнаты, она тихо бросала передник на пол. После этого, раскачиваясь, пружинясь на каждом шаге, будто собираясь прыгнуть, подходила к отцу и останавливалась вплотную к нему, нос к носу.
— Что тебе не нравится?
Отец, как казалось Кронго, сначала хотел ей объяснить что-то очень сложное, что-то очень важное для него. Но, по привычке сморщившись, не выдерживал и говорил обычно одно и то же:
— Нгала, мне… не нравится эта орава. Не нравится гора окурков после них. Не нравится, что они жрут, будто приехали из голодного края…
— Слушай, — мать говорила это громким шепотом; казалось, она выдавливает слова, как шелуху, случайно попавшую ей в рот.
В эти минуты Кронго остро чувствовал, как они далеки, как не понимают друг друга. Отец сокрушенно закрывал глаза, лицо его становилось неподвижным, несчастным, странно глухим.
— Не закрывай глаза, — по-прежнему это был шепот, и по-прежнему мать его выдавливала. — Я тебе сколько раз говорила — не лезь в мой мир, — после этого она повторяла слова, выделяя каждую букву и мыча: — В-в м-мой-й м-мир-р-р. Ты меня понимаешь?
Отец обычно молчал. Иногда он тихо говорил:
— Прошу тебя, Нгала… Не при ребенке…
— Нет, давай при ребенке. У меня есть свой мир. Я не виновата, что тебе его не понять, — мать говорила тихо, с ненавистью, но так, что эта ненависть звучала почти ласково. — Прости — не понять. И не корчи из себя глухого. Не корчи. Я не лезу в твоих лошадей. Это твое дело. Занимайся ими сколько хочешь. Но и ты не лезь в мои дела. Ты понимаешь меня, милый?
Кронго помнит — ему нравилась мать в эти минуты, нравилась ее ярость. Отец не мог долго сопротивляться.
— Ну, ладно, ладно, Нгала. Хорошо.
— Нет, подожди, — глаза матери все еще ненавидели отца.
— Нгала, ну хорошо, закончим.
— А сколько они съедят — не твоя забота. Ты понимаешь — не твоя забота? Н-н-е-е! т-т-воя-а! з-з-забота!
— Ладно, Нгала, ладно. Я ведь не об этом.
— А я об этом.
Мать несколько секунд молча и ненавидяще смотрела отцу в глаза, и отец всегда не выдерживал, сдавался. Обычно после этого он пытался обнять ее или тронуть за плечи. Но мать, уже ожидавшая этого жеста, увертывалась гибким, пружинистым движением. Лицо ее при этом становилось спокойно-непроницаемым, так, будто все вокруг уже переставало существовать для нее, — и она шла искать передник.
Вспоминая сейчас это время, Кронго не помнит всех, кто собирался тогда у них. Бесконечное число лиц, всех оттенков и рас, белых, коричневых, иссиня-черных, был даже один полинезиец, — громкие имена, среди которых многие встречались в газетах. И — Жильбер.
Да, конечно, прежде всего Жильбер. Конечно, Жильбер стоял среди них особняком. Жильбер был совершенно непохож на всех. Они понимали друг друга — все эти годы. Больше того — Жильбер, единственный из всех, пристрастился к бегам и ходил туда всегда, если выступал Кронго.
Жильбера Кронго впервые увидел, когда ему самому было двенадцать. Жильбер был на десять лет старше, — значит, тогда ему было двадцать два. Кронго помнит, как в тот вечер Жильбер, впервые пришедший к ним, сидел, исподтишка рассматривая мать и изредка вставая. Было видно, что мать нравится Жильберу, но впервые Кронго не испытал при этом, как обычно, ни ревности, ни досады. Еще — он ясно помнит, что Жильбер был тогда голоден и скрывал это. Мать отрывалась время от времени от общего разговора и, как-то нарочно интимно глядя на Жильбера, говорила:
— Жильбер… «Велосипеды»…
Жильбер кусал губы, корчился, как будто его пытали. Гости смотрели на него, стараясь поддержать, — но Кронго видел, что Жильбер голоден, видел, что ему не до гостей, и остро понимал, как это унизительно — слышать вот это «Жильбер… «Велосипеды»…» — среди шумного стола, среди гостей, которые абсолютно чужды этому гордому и странному негру. Гостей, которые, совершенно не желая слушать «Велосипеды», с фальшивой поддержкой сейчас смотрят на Жильбера.
— Жильбер, ну пожалуйста… — мать улыбалась. — Ну, Жильбер.
— Хорошо, — Жильбер вставал, делая это явно через силу, казалось — он сейчас упадет от стыда. — Но… «Велосипеды» — это плохо. Я что-нибудь другое.
Кронго видел, как прекрасно сложен Жильбер, видел странную гордость его лица, красивого необычной, дикой, красотой, с выпяченными губами, приплюснутым носом, каждый поворот, каждое движение которого, каждое вздрагивание кожи были вызовом и одновременно наполнялись какой-то неясной горечью.
— Я что-нибудь другое… — Жильбер медлил, не зная, как назвать мать, трогал, будто проверяя на прочность, свою рваную куртку и наконец говорил на ньоно: — Пожалуйста, Нгала.
— Нет-нет, — мать поднимала руку, делая вид, что не слышала призыва, и приглашая остальных поддержать ее. — У Жильбера масса талантливых стихов, но это лучшее… Жильбер?.. Ну? Как это… «Велосипеды — мир цепей…»
Здесь были редакторы, писатели, здесь были те, кто знал Омегву, и наверняка мать тогда неспроста призывала Жильбера читать стихи. Наверное, тогда все шло в ход, чтобы получить хоть одну рецензию для него — начинающего и никому не известного поэта. Кронго хорошо помнит эту первую строчку из стихотворения Жильбера: «Велосипеды — мир цепей…»
— Ну, хорошо, — Жильбер, все еще мучаясь, вытягивал руку, будто что-то откидывал от себя. Подбородок Жильбера медленно поднимался, и Жильбер тихо говорил, глядя в пространство, ненавидя кого-то и чему-то радуясь: — Велосипеды… Мир цепей…
Тогда Жильбер казался Кронго не студентом, не начинающим поэтом, а каким-то таинственным бродягой, то ли матросом, то ли боксером. Да, он был похож на боксера — именно этим своим лицом, вздрагивающим, ненавидящим, вечно готовым к вызову.
Прочитав «Велосипеды», Жильбер с несчастным видом выслушивал похвалы, потом читал еще.
Потом, когда его наконец оставили в покое, Жильбер вышел на кухню. Увидел, что Кронго стоит у окна и молча показывает на тарелку с ветчиной. Жильбер все понял — и, все так же несчастно улыбнувшись, толкнул его локтем в бок:
— Слушай… Давай… Я сейчас поем — и прошвырнемся… А то я тут задыхаюсь…
Кронго давно уже чувствовал себя взрослым. Но его поразило тогда это отношение Жильбера к нему — совершенно как к равному.
С детства ему были ненавистны слова «мир искусства», «писатели», «художники», то, как их произносят, какой многозначительностью наполняют — те, кто не знает, что это значит. В гостях у матери существовал именно этот «мир искусства», и Кронго поневоле с детства выслушивал чуждые ему, живущему ипподромом, долгие разговоры, резкости, столкновения, споры, не удивляясь, если гости вдруг начинали кричать друг на друга, а иногда даже — кто-то уходил, хлопнув дверью. О, как хорошо с самого детства Кронго понимал значение этих переглядываний, полушепотом сказанных намеков — «при нем нельзя» или «это абсолютно свой человек», «не трепись», «а что?», «а вот потом узнаешь», «это дерьмо» или «он все прекрасно понимает». Именно тогда, от гостей, от разговоров, которые он поневоле слышал, Кронго узнал и принял как должное слова, которые, будучи только произнесены, уже вызывали крики и споры: «истоки», «корни», «негритюд», «национальное самосознание», «народ». Иногда кто-то включал музыку, кричал: «Давайте потанцуем!» И все танцевали. И маленькому Кронго, тайком подглядывавшему в дверную щелку, было стыдно, когда кто-то приглашал его мать и танцевал с ней, кто-то смел это делать, тесно обняв ее, прижавшись к гибкому, красивому материнскому телу. Мать танцевала удивительно легко и хорошо, она прекрасно чувствовала ритм, музыку. Но Кронго всегда особенно удивляло и поражало ее лицо во время танца — отрешенно-бесстрастное и в то же время беспечное, счастливое… сухо-спокойное и одновременно — живущее танцем, становящееся воплощением танца. Иногда гости начинали кричать, шутливо переглядываясь: «Нгала, просим!», «В круг талантливую писательницу!», «Нгала, Нгала!». Мать всегда притворно возмущалась, ахала, смешно закатывала глаза: «Ах, опять эти танчики-шманчики!» Но все знали, что мать согласится, и Кронго, мальчиком всегда стеснявшийся смотреть, как мать танцует, одно время даже не любивший этих минут — то ли из-за детской ревности, то ли оттого, что в этом ему виделось что-то постыдное, — потом, подростком и юношей, больше всего любил смотреть именно это — именно то, когда мать танцует одна. В те годы, когда он стал юношей, мать в свои сорок лет была особенно худа и особенно красива. Он помнит — все восхищались этим, никто ей тогда не давал даже тридцати. Уступая крикам, делая при этом вид, что стесняется, закрываясь руками, смешно хихикая, показывая всем, что она «деревенщина», а никакая не писательница, мать выходила на середину комнаты — и одним только этим выходом вызывала тишину. Разговоры замолкали, оставалась только музыка… Он хорошо помнит — все смолкало тогда, абсолютно все… Кронго чувствовал, как тонкий и пронзительный холодок обнимает шею, волнением схватывает горло. Сейчас в мире живет только ритм, его неумолимые яростные удары… Лицо матери, отрешенное, просветлевшее, вдруг оказывается окруженным странным миром движений — бесконечным, несмолкающим ритмом — подрагиванием плеч, перестуком пяток, вращением рук, вздрагиванием бедер, живота, колен. В этом мире движений все вдруг приобретает особый смысл и все что-то значит… Даже — глаза… Вот эти — напряженные, как будто уже не подчиняющиеся матери — сверкания белков, выкатывания глазниц, повороты зрачков… И снова он слышал только удары… Удары… Все живет только ритмом… Кронго чувствовал — мир в эти секунды замирает, замирает… Остается только танец, только он один — и ничего больше.
Движениями колен, подрагиванием бедер, поворотами рук, негритянским неистовством ритма мать сейчас что-то объясняет, что-то рассказывает всем — гостям, ему, всему миру… Что-то бесконечно веселое и бесконечно печальное, и это так понятно, так понятно…
Сближение с деревней, вот это понимание всего, что было в ней чужим, произошло неожиданно, когда он меньше всего ожидал этого. Пришел Омегву и попросил найти мать. Он ушел в деревню, стал искать мать и зашел в хижину, которая была чем-то вроде деревенского клуба. Готовилось какое-то сельское представление. В хижине было несколько комнат, отделенных друг от друга плетеными перегородками. За одной из перегородок он услышал сдержанные, подавленные возбуждением женские голоса, смех, подшучивания. «Значит, будут танцы», — подумал он и решил, что останется смотреть танцы. Он сидел в пустой комнате, не решаясь пройти за перегородку. Потом вошла старая седая негритянка, дружелюбно посмотрела на него. Он помнит — старуха, выждав, обернулась и сказала на ньоно кому-то, кто стоял за дверью:
— Ксата, сюда нельзя, здесь мужчина.
Молодой голос — в этом голосе было что-то, что заставило его сразу подобраться, он помнит, нотки этого голоса создали в нем какое-то напряжение, уже тогда, в первый раз, в нем звучало для него какое-то странное ожидание — сказал:
— Подумаешь. Ничего, потерпит.
Вошла та, которую старуха назвала Ксатой. Первое, что он почувствовал, было ощущение удивления. Удивления, что в мире — в любом, в черном, в белом, в красном, в каком угодно — может быть такая красота. Такая ослепительная, спокойная, ясная, простая.
— Вы уж извините… — Ксата, улыбнувшись, тут же отвернулась.
Он понял, что значит эта улыбка: по обычаю женщин ньоно девушка должна прятать глаза от незнакомого мужчины. Странно: он так отчетливо помнит Ксату именно в тот момент и отчетливо помнит, как она вошла, небрежно, наспех придерживая рукой спадающую с плеч накидку и досадливо соблюдая этот обычай. И хорошо помнит, что уже тогда заметил ее дефект, заметил, что у нее было оттопыренное ухо. Именно одно — как у какого-то настороженного зверька. Но теперь он понимает — этот дефект, это маленькое беззащитное ухо, чуть отодвинутое, было частью ее красоты.
— Да, пожалуйста, я сейчас уйду, — он еще не понимал, что произошло. Он был так потрясен красотой Ксаты, что чувствовал, будто его ударили. И в момент удара, в момент, когда Ксата села и стала гримироваться для танца, он лихорадочно искал защиты от этого удара. И вот, как защиту, как спасение от этой свалившейся на него красоты — что же он искал тогда в Ксате? В ней, которая, подводя глаза, настороженно закусив губу, отлично сознавала, как эта красота действует на него? Что же он искал? В эти секунды он пытался найти в ней хоть какой-то дефект, какой-то изъян… Да — он стал искать что-то, что было бы несовершенным в ее внешности, в этой красоте. И увидел, сразу же заметил это оттопыренное ухо… И — уцепился за него… Так, будто этот дефект что-то обещал ему… Так, как падающий в пропасть хватается за траву. Странно — именно из-за этого уха он на секунду почувствовал облегчение.
А там, за стеной хижины, все в это время было как обычно. Он слышал глухой звук барабанов. Должны были начаться танцы.
Но Ксата заметила эту его попытку. Она почувствовала — не видя ничего, — что он смотрит на ее ухо, и с какой-то полунасмешкой еще больше закусила губу, будто давая ему понять, что все впустую. И он понял, что он наверняка не первый, что в поисках спасения от красоты Ксаты многие пытались найти защиту от этого удара, и искали изъян в ее красоте, и видели это ухо, и пробовали зацепиться за него, и это не помогало — потому что Ксата была совершенна и это ухо было неотъемлемой частью ее красоты.
— Вы мне не мешаете.
Он не заметил, как старуха ушла и они остались одни. Это «вы мне не мешаете» было сказано спокойно, без всякого выражения, и было спасением для него, потому что он не хотел уходить. Ксата по-прежнему, склонившись над зеркалом, осторожно раскрашивала лицо — так, будто Кронго здесь не было. Ей было около семнадцати лет, и он, вглядываясь тогда в ее лицо, в пухлые, нежные, доверчиво беззащитные губы, в маленький, с легкой горбинкой нос, в коричнево-матовые, гладкие, сильно скуластые щеки, в огромные глаза, в которых странно уживались, жили одновременно испуг и уверенность, — он пытался понять, что же является главным в этой невозможной, раздавившей его, пугающей красоте. Но ведь ничего же нет, просто это негритянская девушка, девочка, почти ребенок. Но нет — в Ксате был какой-то секрет. Но тогда он так и не мог найти этого секрета. Потом, вспоминая эту первую встречу, он помнил, ему казалось, что секрет этой красоты был в ее глазах. В удивительной силе, которая жила в этих темных и одновременно прозрачных глазах, силе, которой Ксата была награждена от рождения.
Ксата продолжала гримироваться — так, будто его и не было. Поймав взгляд Ксаты, он вдруг с удивительной ясностью понял, что эта сила беззащитна. Когда Ксата, отрываясь от зеркала, изредка смотрела на него, его удивляла бессознательная, не осознанная самой Ксатой сила ее глаз и беззащитность этой силы, беззащитность, которая, как он вдруг понял, могла владеть всем миром. Казалось, Ксата просто не знала, что она красива. Не понимала, в чем секрет этой красоты.
— Я сейчас уйду, — сказал Кронго.
— Да, пожалуйста, сидите, — Ксата, короткими мелкими движениями поднося к щекам древесный кармин, выводила мелкие круги на щеках, и он понял, что она будет танцевать «священный танец». — Вы, наверное, смеетесь над нашей деревней.
— Нет, почему же… Ну что вы… — он вдруг понял, что слова путаются, он говорит не то, что хотел бы.
Он был растерян, подавлен, язык не слушался его. Но ведь он понимал: для того чтобы понравиться Ксате, он должен вести себя не так. Этот не слушающийся его, заплетающийся язык, это несвязное «ну что вы» — гибельны. Он должен вести себя по-другому, по крайней мере — должен хотя бы казаться спокойным. Ксата, как всякая женщина, увидит его растерянность — и все будет кончено.
Но сейчас, глядя на тонкую, хрупкую руку Ксаты, глядя, как эта рука движется мелкими шажками, легкими поворотами кисти от губ к щекам, нанося грим, он понял, что Ксата в ы ш е. Ксата увлечена гримом и не замечает его взгляда, но он тут же понял это и сказал себе — Ксата и ее красота в ы ш е. Выше всего, и прежде всего — выше того, о чем он сейчас думает. Он не может прикинуться или показаться спокойным — если он не спокоен. Он должен быть таким, какой есть — до последнего движения, до последней мысли. Красота Ксаты не терпит лжи.
Наверное чувствуя его состояние, но думая о чем-то другом, Ксата нахмурилась. Ему показалось, что Ксату испугало что-то, и он тут же попытался понять — что могло ее испугать.
— Вы… — обе ее руки делали теперь плавные движения, нанося последние мазки. — Недавно приехали?..
Она наверняка все знает о нем, знает, сколько раз он сюда приезжал, знает все — в том числе и о матери, и об Омегву. Тогда — зачем она спрашивает об этом? Кронго сейчас страстно хотелось, чтобы она проявила к нему интерес. Ему хотелось рассказать ей обо всем, что с ним связано. Об отце, об ипподроме, о бегах, о Гугенотке. Но Ксата посмотрела на него — и он испугался прозрачной темноты ее глаз, спрятался от нее, вдруг понял, что она и так, без рассказа, все о нем знает. Знает — хотя далека, бесконечно далека от Парижа, от отца, от Гугенотки, от его мира. Он хотел ей ответить — но не мог. Язык не слушался его, просто не слушался. Но это не было трусостью или робостью, это было какое-то странное, непонятное ему состояние. Кажется, она поняла и это — и приняла как должное. Через несколько секунд за дверью чей-то молодой голос сказал: «Ксату не видели?» Уже давно над площадью за хижиной глухой рокот барабанов превратился в нарастающий призывный гром.
— Ну, все… — Ксата встала, закутавшись в накидку.
Сейчас он лихорадочно искал в ее глазах, в неторопливых жестах, в любом ее движении ответ — хотя бы намек, что она хоть что-то хочет ему сказать, хоть как-то проявит свой интерес к нему. Но она ничего не сказала, отвернулась, выскользнула в дверь.
Отец всегда работал с ним старательно, на совесть, и уже с девяти лет приучал не только к качалке, но и к верховой езде.
Отец в воспоминаниях детства был совсем другим, чем потом, когда Кронго вырос и они вели и скаковую, и рысистую конюшни на равных, вдвоем, как два товарища. По сравнению с тем, каким отец казался ему в детстве, он стал потом как будто ниже ростом, его светлые волосы поредели, хрящеватый большой нос покрылся сетью прожилок. Но глаза, которые Кронго запомнил еще пятилетним мальчиком, голубые, прищуренные, по-прежнему, как и в его детстве, со спокойным упрямством смотрели на мир. Глаза отца оставались неизменными. Эти глаза всегда как будто высматривали что-то в Кронго. В детстве, когда отец сажал его в качалку, эти глаза будто пронизывали все насквозь.
— Запомни, фис, все наши предки были лошадниками, — отец говорил это, стоя у качалки, держа ладонь на крупе.
Десятилетний Кронго, считавший себя уже опытным наездником, следил, как вздрагивает на крупе кожа, как дергается в стороны репица хвоста. Он разбирал вожжи, усаживался пониже, чтобы дотянуться ногами до передних упоров.
— И дед твой был лошадником, и прадед был лошадником.
— Да, па, — Кронго не терпелось скорей выехать. — Наш прадед был по матери шотландец. Да?
— Верно. Поэтому, говорят, нам и передается по мужской линии упрямство. Я ведь тебе рассказывал о «порошке Дюбуа»?
— Да, па.
— Ну вот. Если будешь сейчас молодцом и хорошо проведешь размашку, я тебе разрешу последний круг маховые.
— Ой, па! — Кронго от счастья прыгал на качалке, тянул за вожжи, и отец еле успевал задержать рванувшуюся лошадь. — Ой, па! — и тут же, нахмурившись, сердито кричал, натягивая вожжи и подражая отцу: — Тпрр-ру, чудо гороховое! Тпрр-ру! Стой-й! Пу-у-угало!
— Ну вот. И расскажу тебе о «телефоне Дюбуа». Эту историю знает весь ипподром. Старики, конечно.
Отец подмигивал, и у Кронго по спине шел холодок.
— Хорошо, папа. Я постараюсь.
Отец отходил. Кронго привычным движением опускал на глаза очки, чмокал, уже запомнив золотое правило, что лишние жесты и слова на посыле ни к чему, — и выезжал на круг.
— Понимаешь, фис… «Телефон Дюбуа» — это только твой прадед мог додуматься… Ты ведь знаешь — твой прадед умер в качалке.
— Знаю.
— Твой прадед взял Приз.
— Разве прадед взял Приз? Не Кубок, не Мемориал, а П р и з?
Отец морщится, и Кронго отлично понимает, что это значит.
— Твой прадед взял Приз, но пересек черту уже мертвым… Поэтому заезд был пересмотрен. После медицинской экспертизы первое место присудили другому.
— Пап, а мне говорили, что это вранье.
— Дураки говорили.
— Не-ет, па-ап. Ну ведь правда… Такая легенда, насчет того, что умер в качалке… И пересек линию мертвым — она ходит про каждого десятого наездника.
— Ну хорошо — легенда. И про «телефон Дюбуа» — легенда?
— Нет, па, про «телефон Дюбуа» — не легенда. Я знаю, что это было. Он обошел самого Томсона, да, па? На Базальте на Кубок Арденн? И как-то схитрил?
— Во-первых, не на Базальте. Если бы на Базальте, Базальт был абсолютно нормальной лошадью. Без всяких припадков. Твой прадед шел на Глобусе. Ну, а Томсон…
— Но Томсона же в то время нельзя было обойти. Да, па? У Томсона же не было лошади классом ниже «один-пять-пять». Ты же знаешь, ну, па? Вот, вот, вот, да, я вспомнил. На Айседоре-Два. Она брала два дерби подряд, я помню, па. Я читал. Только нигде не записано, что это был «телефон Дюбуа».
— Сам же говоришь — ты что-то слышал? Слышал?
— Слышал. Мне контролеры говорили. Старый Поль, который программки дуракам отмечает. Ну — так что было? Па?
— Томсон шел как голый фаворит. Никто ставок не брал. Кубок Арденн, шутишь? Всякая мухлевка, подсадки или прочее исключено. А прадед твой сидит себе в качалке и молчит. Помалкивает.
— Даже ф о н а р я не подал?..
— Никакого фонаря. Только когда разворачивались на парад, увидел какого-то знакомого, тот кричит: «Дюбуа, поедешь?», а прадед твой в ответ, будто в шутку: «Будешь ставить — поставь на меня. И покруче заряжай. Слышишь — покруче». Все так и подумали — шутка. Ведь все знали, что погода отличная, дорожка на редкость, ну и ждали — Томсон поедет на рекорд.
— А тот?
— Кто — тот?
— Ну — знакомый?
— А тот, представь себе, подумал, подумал — и поставил. На себя и на прадеда. И как ему прадед сказал — покруче. По сто билетов.
— Ну!!!
— Что — ну? Народу было — не пробиться. Все пришли посмотреть на Томсона. И конечно — на Айседору-Два. Томсон выезжает, форма обычная, синий камзол, черный шлем, само собой — крики. В заезде двенадцать лошадей, прадед по третьей дорожке, Томсон — по девятой. Ну, кроме Томсона там еще ехали два шведа. Да, по-моему, два. Ну и, как всегда на Арденны, две или три американские лошади, В общем — заезд собрался довольно приличный.
— Ну… Ну, па же…
— Ну, выезжают, подравниваются за машиной. Все, конечно, выгадывают по метру, по сантиметру. Первое место решено… Но ведь там же — за призовые идут куши, сам понимаешь. Кубок Арденн. Дед своего не уступает, идет вровень. Глобус — лошадка была приличная. Но — обычная история. Беда многих лошадей. Первые две трети он мог пройти очень неплохо. А на последней четверти встает — просто дыхалки нет, сил не хватает. Подходят лошади к старту, машина уезжает, и все вроде не включают пейс, ждут, уступают бровку. Смысл простой — пусть первым по бровке едет Томсон, ему так и так первое место. А мы пойдем сзади, ну там, с поля, под шумок, глядишь, третье отхватим, а повезет — так и второе. Смотрю, прадед, не долго думая, раз — и занимает первым бровку. Томсон сразу же за ним, впритык. Томсон тоже не дурак, он свое понимает. Видит — впереди Дюбуа на Глобусе, Глобус не фаворит, класс известен. Томсон если кого и опасался, то только американцев. Идут себе, но пейс с самого начала страшный. Трибуны начинают гудеть. Первая четверть — двадцать восемь секунд. Чувствуешь? Из первого поворота выходят все в том же порядке — впереди, ну, ты знаешь, во всем белом, наша форма, прадед на Глобусе, за ним впритык Томсон на Айседоре, чуть позади остальная группа. Пока всё в норме — все знали, что Томсон поедет на рекорд. А то, что Глобус повел бег — так это, все тогда думали, Дюбуа сам дурак. Сейчас, на второй четверти, в лучшем случае на третьей, Дюбуа со своим Глобусом сдохнет, встанет и отвалится в хвост. Томсон же, как всегда, придет к финишу легкой кровью, на чужих костях. Проходят вторую четверть — ничего подобного, пейс все тот же, двадцать девять секунд! Впереди — Глобус, за ним Айседора. На трибунах — что-то невообразимое! Стонут, просто криком кричат. А дед — прадед, прости, я этот заезд видел с трибун — только чуть подался в качалке, вожжи даже чуть сдал… Глобус молотит — как заведенный. Комья летят… Ну, Айседора тоже лошадь что надо. Идет сразу за дедом в затылок, тютелька в тютельку. Не отпускает ни на сантиметр. По ниточке, ноги только мелькают. Остальная группа отпала… Столба три сзади. Томсон спокоен — финиш у Айседоры страшный, тут не то что Глобус, никакая лошадь не устоит. Рядом со мной, на трибунах, безумство какое-то — ревут, стонут, шум, гвалт, ничего не разберешь. Входят в последний поворот, третья четверть — опять двадцать семь! Такого еще не было, я, знаешь, честно тебе говорю — такого ни разу не было… Диктора уже не слышно, только так — отдельные слова. Я только и понял, третья четверть — двадцать семь, на секунду лучше, чем первая. На последней прямой Глобус и Айседора далеко впереди. Выходят на прямую, ну и — Томсон тут же отворачивает — и в посыл. Ну, тут все ясно — сделает Айседора сейчас деда, как ребенка. Не шутка, «один пятьдесят». Механизм, а не лошадь. И тут, представляешь себе… Айседора его начинает делать… Четко так, без напряжения. А по Глобусу, и по его пейсу, и по всему, даже по морде, я вижу — сейчас жеребец встанет. Выдохся, силы на исходе. Идут уже нос к носу, Айседора чуть выходит вперед… Я даже отвернулся, смотреть не хочется…
— Ну и что?
— И вдруг, когда до финиша осталось метров двадцать пять… Ну, тридцать, крохи совсем, — чудо какое-то просто происходит… Знаешь — будто Айседора остановилась.
— Ой, здорово как…
— Знаешь — будто лошадь не на рыси вовсе, а стоит. Ноги мелькают, а сама стоит. Смотрю — откуда силы взялись, Глобус, как бешеный, заработал — первым к финишу. Айседора за ним, Томсон встал, хлещет ее… Куда там. Вторая… В полкорпуса.
— Ну-у-у! Па-а-а!
— Веришь — все обезумели. Что там на трибунах творилось — кто кричит, кто плачет, а кто вообще стоит, будто столбняк напал. Подошли остальные лошади… А Томсон, сразу за финишем, что-то там дергается в качалке, машет рукой, что-то кричит. Я, конечно, вниз и бегом к падку. Мне было тогда, вот как тебе, лет десять… Пробрался через дорожку — и к судейской. А там — столпотворение… Жокеи, наездники, конюхи. Айседору водят в стороне. Томсон ругается, слез с качалки, что-то орет. На прадеда показывает, кричит — «жулик!». И еще что-то. А прадед ногу свесил, лицо невозмутимое. Мне только подмигнул. Так ты знаешь, что тогда Томсон орал?
— Что?
— «Телефон! Я тебе покажу телефон! Сволочь, телефон придумал! Господа судьи, он жулик! Он придумал телефон! Проверьте упряжку! Жулик! Я тебе покажу телефон!»
— Что это значит — телефон?
— Понимаешь… Прадед, зная, что Глобус боится шума, туго-туго забил ему перед заездом уши. Ватными заглушками. А к заглушкам прикрепил ниточки. И пропустил их, протянул — прямо по вожжам. Ниточки-то тонкие, их незаметно. Пока шли дистанцию, прадед ниточки не трогал. Ну вот. А когда остались те самые тридцать метров и прадед почувствовал, что Глобус вот-вот встанет, — он и дернул за ниточки. Заглушки, конечно, вывалились. Ну, а ипподром… Я же тебе говорил — ипподром к концу дистанции гремел. Будто землетрясение началось. Ну, у Глобуса, естественно… все загрохотало в ушах. Он и обезумел. Для такой лошади это — все равно если бы вдруг за спиной зарычал тигр. Глобус услышал шум, крик, испугался, рванулся, как бешеный. Сам посуди, последняя четверть — двадцать шесть секунд. А общее время — повторение рекорда, минута пятьдесят. Можешь посмотреть хроники.
— Ой, па-а… Ой, как здо-о-орово… И ему ничего не было? Прадеду?
— А за что?
— Ну — за ниточки? Томсон же кричал?
— Ну и пусть кричит. Ниточки… Судьи проверили упряжь — все в порядке. Сбруя правилам не противоречит. Хотя — это уже мне отец потом говорил — твой прадед эти ниточки и заглушки на всякий случай незаметно смотал и выкинул в урну. А в общем — ему было все равно. В тот момент он уже думал только о том, как он перед Глобусом за этот «телефон» ответит. Говорят, потом, уже после того, как прадеду вручили Кубок Арденн, все бросились искать эти ниточки и заглушки. Не знаю, насколько верить, обшарили будто бы все урны на ипподроме.
— Ну и что?
— Не нашли. Считают, что их сразу же взял и унес какой-то любитель сувениров. Короче, от этого заезда только вот это и осталось — «телефон Дюбуа». Это ведь Томсон кричал: «Телефон! Я ему покажу телефон!» Ну и — все подхватили. А Глобус… — отец замолчал. — Знаешь что…
— Что? Ну, пап? Что-о?
— Что с ним было потом? С Глобусом?
— Что?
— Веришь или нет — он обиделся.
— Обиделся? Глобус? Разве так бывает?
— Еще как бывает. Не понял Глобус этой шутки… ну и вот… сначала не хотел твоего прадеда прощать. Ну, знаешь — обычные штучки. Отворачивался. Норовил лягнуть. И главное — ездить перестал. Знаешь, что это значит — когда лошадь перестает ездить? На любом посыле — секунд пять минус…
— Зна-аю… А почему он — не хотел? Ну — простить?
— А ты как думаешь?
— Наверное, Глобус считал, что это — подлость.
— Точно.
— А потом… простил? А, пап?
— Да. Еще бы не простить. Прадед у него после этого каждый день торчал в деннике.
— Но он должен же был понять. Глобус.
— Он и понял. Прадед твой умел с лошадьми объясняться, понимаешь. Он смог Глобусу как-то объяснить, зачем он это сделал.
Кронго медленно шел домой. Что бы там ни было, ипподром будет работать. Дома он поднялся наверх, сел рядом с кроватью. Филаб была хорошо укрыта, на окнах стояли цветы. Сквозь распахнутую фрамугу врывался приторно-горький запах морской воды.
— Как ты, Фа?
Она закрыла на секунду глаза. Он почувствовал неслышные шаги, уловил движение — рядом остановилась Фелиция.
— Ипподром будет работать, Фелиция, — Кронго взял горячую и сухую руку жены. Она красива — даже сейчас, в мелких морщинках, с опухшими глазами. — Фелиция, я хотел вас попросить снова работать на ипподроме. На старом месте…
— О, месси… Вы добрый, добрый.
— Все в порядке, Фа, — Кронго вглядывался в глаза Филаб. Она отвечала на этот его взгляд, ей хотелось отвечать. — Ты понимаешь, я должен спасти лошадей. Ты ведь понимаешь?
Желтые веки медленно опустились.
— С мальчиками… лишь бы ничего… С мальчиками.
Он сказал это тихо, сам себе. Филаб болезненно растянула губы, и он понял, что она пытается улыбнуться.
— Мне придется снова пойти на ипподром. Надо набрать людей. Ты потерпишь?
Она пожала его руку. Он осторожно поцеловал губы. Они были жаркими, неподвижными.
В ту ночь он не мог спать. Он сидел на веранде и смотрел на озеро. Он не мог освободиться от воспоминания о том, как движутся губы Ксаты, как руки осторожно наносят грим на скуластые щеки, как морщится маленький нос. Но главное: прислушиваясь к тишине ночи, он не мог понять, почему так неожиданно, так просто оживает ее красота, легкий, спокойный ритм ее красоты в этой странной, все понимающей улыбке.
Он видел, как она танцует. Видел издали, через головы стоящих на площади жителей. Она вошла в круг — и отпустила покрывало. Покрывало сползло, легло на землю — а она уже танцевала. Теперь она уже не жила, не говорила, не двигалась, не думала. Она танцевала, как танцуют африканки в этих краях, совершенно обнаженная. Да, все тело ее было открыто. Ее тело было раскрашено яркими, резкими красками, ритуальными тонами ньоно, которые для каждого жителя звучат как табу. Пронзительно оранжевым. Белым как мел. Ярко-голубым. Кронго, затаившись, видел Ксату, видел каждый ее жест, каждое движение. Он наблюдал этот танец, будто сливаясь с ним — и в то же время отстраненно. В нем не было ревности к тому, как она танцует. Вот так — открыто для всех. Ему казалось, что он понимает до конца язык ее резких и одновременно плавно текущих поз, значение ее танца, понимает язык ее тела, язык жалоб и приказов, которые Ксата посылала, танцуя, тем, кто на нее смотрел. И Кронго вдруг понял, что не только он, но и вся деревня в этот момент понимает то, что говорит Ксата.
Потом стала танцевать вся деревня, и он ушел, углубился в заросли, незаметно скрылся. Он шел куда-то, не помня себя, не понимая, куда идет, благодаря судьбу за то, что хотя бы знает, что ритуальные танцовщицы в деревнях ньоно дают обет безбрачия. Это значило — Ксата чиста, целомудренна и неприкосновенна.
Он помнит, он сделал тогда все, чтобы отговорить себя. Отговорить себя от того, что Ксата хоть чем-то может его привлекать, что она может нравиться ему, что она, эта девушка, ритуальная танцовщица деревни Бангу, может хоть что-то для него значить. В том числе — что ему может нравиться вот эта обнаженная и в то же время целомудренная наглость ее тела. Он говорил себе, что Ксата — африканка из африканской деревни, чуждая ему, далекая от него, далекая от его воспитания, привычек, взглядов, образа жизни. Ксата бесконечно далека от него и от того, что составляет его сущность, она первобытна, она, наконец, не поймет многое из того, что ему понятно — как воздух, что составляет часть его существования.
Но, глядя на молчащую поверхность озера, он понял, как смешно и жалко все это звучит. Нет понимания выше, чем то, которое он ощутил несколько часов назад, увидев глаза Ксаты. Услышав это: «Вы мне не мешаете». Да, он знал женщин. Он был уже привычен к их ласкам. Он даже был увлечен многими. Он считал, что понимает, что такое — «любовь». Но сейчас он понимает, что нет «любви». Нет того, что для всех, и для него в том числе, означало раньше это слово. Есть Ксата. Есть ее тело, глаза, волосы, взгляд. Есть только Ксата и то, что он чувствует, думая о ней. Ему сейчас двадцать четыре года, он молод, он бесконечно силен. Но он ничего не знает. И ничего не знал до этого. Потому что — не знал Ксаты. И прежде всего не знал, что значит это слово, вот это слово — «лю-бовь». Это значит — «смерть». Потому что сейчас он раздавлен, смят. И в то же время — возвышен. Это случилось. Он не может врать себе, он знает, чувствует, что это — нет, не любовь, понятие «любовь» слишком плоско для его чувств, а «это», то, что случилось, случилось только потому, что он встретил Ксату. Как бы потом ни изменилась его жизнь, вот это, суть этой девушки, суть Ксаты, запрещающая ему лицемерить и врать, движение ее рук, вздрагивание губ, беспомощность взгляда, все, до конца вошедшее в него, ставшее его сутью, даже — детская первобытная наглость ее обнаженного тела, ее откровенный и целомудренный танец — все это стало теперь и его сутью, сутью, которую понимает только он. Это стало его смыслом, его мучением, его радостью и печалью. Все это стало его жизнью. Да, он уже тогда воспринял Ксату радостной и бесконечной мукой, которая навсегда вошла в него. И от которой он никогда не сможет избавиться. Уже тогда в нем не было сожаления об этом. Не было — была только боязнь, что хотя бы часть этого он может утратить.
Теперь он понимает, теперь он до конца понимает, в чем была особенность Ксаты.
Первое, о чем он подумал наутро, проснувшись, — была Ксата. Увидев слабую тень и солнечный свет в проеме хижины, он вспомнил все о ней — и ощутил тревогу. Тревогу, боязнь — потому что он мучительно хотел сейчас ее увидеть. Желание это было почти бредовым, несбыточным. Увидев реальность солнечного света, и тени, и того, что он знает о Ксате, он думал — не может быть, чтобы это могло случиться. Но ведь она же здесь, в деревне. Он видел ее вчера, он знает, что она живет, что существует.
Потом он вспомнил, как она танцевала, и застонал — это было невыносимо.
Но ведь Ксата не знает ничего о нем. Она даже не знает, что он хочет ее увидеть. И этот припадок мучительной ревности при воспоминании о ее танце — он ни на чем не основан. Она ведь н е з н а е т.
Он лежал и смотрел в проем. По звукам, по особой хрупкой тишине он наконец понял, что один в доме, хозяйки и матери нет. Неужели осуществимо его мучительное несбыточное желание увидеть Ксату? Где же он ее увидит… На берегу. Конечно, на берегу. Жители деревни ходят на берег озера. Туда должна прийти и Ксата.
Он встал, оделся и пошел на озеро. Он шел сквозь давно проснувшиеся заросли, сквозь шум обсохших и начинающих прогреваться камышей, сквозь треск раздвигаемых листьев. Пришел на обычное место, туда, где всегда купался. Разделся и вошел в озеро — но не испытал привычного облегчения. Сделав несколько гребков, почти не чувствуя ласковых прикосновений воды, он повернул назад, вышел на берег и оделся. Он должен был разыскать Ксату, он не мог сейчас что-то делать, о чем-то думать, пока не увидит ее. Он стал обходить озеро — медленно, крадучись, скрываясь в деревьях и кустах, долго наблюдая за каждым, кого встречал у воды. И каждый раз, замечая людей, думал, что это Ксата, — и ошибался. Вот полосатая накидка… Какое было бы счастье, если бы это оказалась Ксата. Он подошел бы к ней и просто рассказал бы ей все, что с ним происходит. Женщина, присев на корточки, что-то делает, вытянув руку. Нет, это не Ксата. Он прошел еще — и увидел над водой коричневую спину. Не Ксата. Это купаются мальчишки. Озеро было большим — и все-таки он обошел почти весь берег, сейчас, пока еще не кончилось утро, довольно часто встречая людей.
Потом наступил день, озеро окутала жара, берега стали пустынными.
Нет, пойти в деревню, спрашивать у кого-то о Ксате он не мог. Он должен был увидеть ее наедине. Так, чтобы об этом никто не знал. Он понимал — только тогда он сможет избавиться от того, что сжигает его внутри, сказать, что он не может без нее, что он задыхается. Да, сказать это было бы избавлением, освобождением. Да, он задыхался — оттого, что возможность увидеть ее была слишком реальной, слишком достижимой. Вдруг он понял — ему именно нужна сейчас даже не любовь Ксаты, не призрачная возможность взаимности. Есть просто потребность — сказать ей о том, как ему необходимо ее видеть. Да, Ксата просто должна понять важность этого, важность того, что он должен увидеть ее. Она должна понять то, что он понял о ней. То, что он понял все — понял наглость ее обнаженного танцующего тела, понял целомудренность каждого ее движения, понял силу, беспомощность и бесконечное понимание ее взгляда. Кроме того, он должен увидеть ее. Увидеть ее нос, щеки, губы, глаза. Увидеть молча, ничего не объясняя ей. Увидеть — и, если возможно, смотреть бесконечно. Смотреть ничего не объясняя. Смотреть — столько, сколько возможно. Смотреть, только смотреть — больше ему сейчас ничего от нее не нужно.
Но этот мираж не сбылся. Он понял, что нужно возвращаться. Он пришел в хижину, мать уже ждала его.
— Что с тобой? — она заглянула ему в глаза, и он через силу улыбнулся:
— Ничего, ма.
О том, что с ним происходит, он не мог сказать никому. Даже — матери. Даже — Омегву.
— Печально, Маврик… — мать улыбнулась. — Но нам скоро уезжать.
Он вдруг вспомнил — да, действительно, они должны скоро уезжать. Но как же Ксата? Он должен увидеть ее до отъезда. Вдруг он понял — теперь отъезд, Париж, ипподром, дела, которые его там ждали, лошади, заговор против Генерала, отец — все потеряет смысл, если он сегодня, в крайнем случае завтра не увидит Ксату.
— Накупался? — мать потрепала его по голове. Он постарался скрыть от нее свое состояние, постарался обмануть ее — и это ему удалось.
— Да. Вода отличная, ма.
— Отдыхай. Приедем в Париж, в это пекло… О-о… Там уже не подышишь.
Наблюдая, как мать расставляет на веранде стулья, как раскладывает еду, он говорил ей что-то незначащее, смеялся, шутил. Он будто пытался отвести мысли матери от своего состояния. И мать, как ему показалось, встревоженная сначала чем-то — чем-то неясным, что она ощутила в нем, успокоилась. Он увидел, что она опять почти счастлива — тем счастьем, которое она ощущает только здесь, когда бывает вместе с ним и Омегву. Они сидели за столом, ели, наблюдая за застывшим внизу озером, и он не замечал, что повторяет про себя: Ксата.
— Ма… — он задержал ложку у рта, делая вид, что мысль эта пришла ему в голову случайно. — Ритуальные танцовщицы… Ну, у ньоно… Они что — дают обет безбрачия?
— Маврик, ты же знаешь, что дают.
— Но ведь они не безбрачны. И не безгрешны.
Он надеялся, что мать возразит ему, но она спокойно сказала:
— Нет. Конечно, нет.
Мать сказала это таким бесстрастным тоном, что у него все обожгло внутри. Он еле удержался, чтобы не застонать, не замычать от ярости. Но пересилил себя — и выдавил, мучительно чувствуя безразличие этого вопроса:
— И — это в самом деле?
— Ради бога, Маврик… — мать по своей привычке отломила хлеб. — Кого сейчас интересуют ритуальные танцовщицы? И вообще — ты что, веришь, что обеты выполняются?
— Ммм… — он что-то промямлил.
— Ешь. Вкусно?
— Вкусно. А что — Омегву сегодня не придет?
— Нет. Он устал. Работал с утра. Хочешь, пойдем к нему? Вечером?
— Спасибо… — он попытался придумать какую-то причину, чтобы не идти к Омегву. — Хочется побродить. Напоследок.
— Ну, как знаешь.
— Мам… — он опять старался скрыть свой интерес. — Ну, все-таки… Ты ведь должна знать… все эти обычаи.
— Ты о чем?
— О ритуальных танцах.
— Я так же далека от этого, как и ты.
— Ты не хочешь рассказывать?
— Ну что ты пристал? — мать протянула руку, ласково погладила его по затылку, будто пробуя на ощупь волосы. — Маврик… Это в твоей манере — пристанешь, так уж не отвяжешься. Пока все не выяснишь.
— Ладно, ма. Я просто так.
— Люди давно уже не живут по обычаям.
Вечером он пошел в деревню. Он искал ее. Он даже сидел на одной из скамеек на площади — но Ксату не встретил.
У ипподрома на «джипах» сидели белые и черные в серой форме, без знаков отличия.
— Мсье Кронго? — европеец соскочил с «джипа». Ему не больше двадцати, на гладкой коже впалых щек, под острым носом свалялся юношеский пушок. — Лейтенант Душ Сантуш, командир патрульной роты. — Душ Сантуш, улыбаясь, махнул рукой, и к нему подошли еще двое. — Мсье Кронго, мы приданы вам для охраны объекта. Попутно выполняем задачу конвоирования военнопленных.
Вдоль стены ипподрома сидела длинная вереница оборванных африканцев. Все они держали руки за головами.
— Будут какие-нибудь указания? — в глазах Душ Сантуша сквозила собранность.
Почти на каждом военнопленном Кронго видел следы побоев. Чья-то рассеченная скула. Красный наплыв на лиловом.
— Не смотрите так, мсье Кронго, — лицо Душ Сантуша искривилось. От этого он сразу стал старше лет на пять. — Отца… Подвесили его на двух сучьях… Вырезали ему…
Лейтенант до крови закусил губу. Ближний к ним военнопленный отвернулся, будто боялся, что его начнут бить. Душ Сантуш жалко, по-детски сдерживался, чтобы не заплакать.
— Вы понимаете, что?
На его усиках висел пот. Военнопленный — тот, что отвернулся — теперь неподвижно смотрел на Кронго. Все лицо военнопленного было разбито, губы превратились в месиво, но Кронго узнал эти глаза, эти застывшие изогнутые брови. Да, его забрали в армию — совсем недавно. Нос, похожий на крышу пагоды, с вислыми краями.
— Мулельге?
Военнопленный не шевельнулся. Один из конвойных поднял автомат.
— Господин Душ Сантуш, — Кронго попытался вспомнить. — Господин Душ Сантуш, это мой старший конюх, Клод Мулельге. Он мне нужен.
— Поднять! — рявкнул Душ Сантуш.
Конвойный махнул автоматом. Мулельге встал. Странно — почему Кронго думает сейчас не о том, что тело Мулельге иссечено, а о том, что лошади спасены? Теперь есть на кого оставить конюшни.
— Вы можете взять его, если ручаетесь, — Душ Сантуш отвернулся: желвак у его скулы двинулся. Конвойный вопросительно посмотрел на него. Поднял одну бровь. — Отдай, Поль!
Мулельге тупо смотрел на Кронго. Уловив кивок, двинулся за ним. Они шли по центральному проходу главной конюшни. По звукам Кронго чувствовал, что конюшня неспокойна, слышался частый стук копыт, шарканье. Лошади застоялись.
— Здесь.
Мулельге заученно остановился. Не глядя на Кронго, открыл дверь под табличкой «Альпак». Кронго видел, что Мулельге весь дрожит, его недавно били.
— Мулельге, поможете мне… набрать людей… Завтра…
Мулельге кивнул.
— Как вы себя чувствуете? Вам плохо?
Кронго показалось — звякнуло где-то, стукнуло. И пропало. Лоснящаяся коричневая шея Мулельге напряглась. На ключице неторопливо бьется толстая набухшая жила. Это понятно только африканцу. Ньоно привязывают провинившихся к муравейнику. Они находят преступников везде, в любом городе, заматывают синим бинтом рот и бегом несут в джунгли. Тело преступника и срубленное дерево составляют одно целое. Сухой стук ствола, непонятный белому.
Альпак, повернувшись, смотрел на Кронго. В темных глазах стояла доброта. Черные подтеки под глазами рябели капельками слизи. Альпак дернулся, когда Мулельге попытался накинуть уздечку. Волна гладкой шеи дрогнула, движение мышц возникло — и уплыло к широкой груди.
— Все хорошо, — сказал Кронго.
Альпак чуть присел на задние ноги, дрогнув длинными черными пястями… У него идеальная спина — короткая, прямая, с отличными почками. Круп с еле заметной вислинкой.
— Мулельге, вы понимаете, что иначе нельзя? Мы должны спасти лошадей.
Нос Мулельге, похожий на крышу пагоды, был покрыт засохшей кровью.
— Можно выводить? — Увидев, что Кронго ждет ответа, Мулельге добавил: — Месси Кронго, я понимаю.
— Хорошо, веди.
Копыта Альпака зацокали в проходе. Культ лошадей, скачки, бега привезли в Африку белые. Черному непонятна любовь к лошади европейца — любовь к любой лошади. К любой собаке, кошке. Черные не понимают такой любви. Можно любить какую-то лошадь, но не всех лошадей.
Мулельге, чмокая, оттягивал уздечку в сторону. Солдаты Душ Сантуша сидели и лежали в центре ипподрома, около дорожки. Военнопленные сгрудились понурой толпой у трибун; рядом курили два белых автоматчика.
— Конек, а? — сказал веснушчатый солдат с облезлым носом.
Альпак дернул головой, Мулельге повис на уздечке. Кронго казалось, что черные изможденные лица ненавидят его. Они пропускают его сквозь строй. Глаза навыкат… Лиловые губы в трещинах…
Пятилетний Кронго висел на руках матери. Только что кончился заезд. «Можешь потрогать». Губы матери улыбаются. Перед ним потный шершавый круп. Он бьется под ладонью, дышит, колется, живет. «Ты не боишься лошадки?» Он не ответил матери. Он вцепился в круп, как в волшебный подарок. Уже тогда он понимал в лошади больше, чем мать, и видел то, что для нее было скрыто. Отец — с кривой улыбкой, пляшущий в седле, добрый чужой человек в жокейской шапочке. Молодой, белозубый… Все это промелькнуло — и исчезло.
Да, сейчас, когда Мулельге выводит Альпака, когда лежат и сидят вокруг солдаты, снова возникла мысль — тягостная, ненужная. Кронго подумал о том, что он все-таки не должен был ехать сюда. Что его просто потянуло… Надо было остаться в Европе. Но зачем он об этом думает. Он ведь может придумать тысячу оправданий тому, что случилось.
Через день он снова отправился к озеру. Ему вдруг показалось, что желание увидеть Ксату стало другим, переменилось, стало уже не мучительным, болезненно-непреодолимым, а легким, почти — будоражащим, почти придающим силы. Сначала ему казалось, что он уже устал от этого желания, даже — оно причиняет ему тупую боль. Теперь он понимал, что это желание нужно ему, необходимо. Он уже решил преодолеть себя, пойти в деревню и просто спросить, где живет Ксата. Просто — найти ее.
Поэтому, пробираясь сквозь заросли, почти забыв о возможности встретить Ксату именно здесь, наедине, как он хотел, — он, увидев у самой воды ее темно-голубую накидку, не сразу поверил, что это она. Но Ксата повернула голову — и он оказался рядом.
Ксата смотрела на него со странным, легким напряжением — и одновременно с насмешкой. В этом напряжении, в этой насмешке он почувствовал какое-то обещание, ожидание чего-то, что может случиться, — обещание, о котором он даже не смел подумать.
— Здравствуйте, сударь, — еле заметно поклонившись, сказала она. — Как спали?
Вдруг он понял, не веря еще себе: в этом шутливом поклоне, в этом кривлянье как раз и было обещание. С трудом понимаемый им намек — именно в этом кривлянье, в этом насмешливом и одновременно пытающемся что-то скрыть: «Здравствуйте, сударь».
Он вдруг понял — все его опасения, все страхи, что он ее не встретит, были напрасны. Но она уже отбросила свой шутовской тон, она стояла, держа у горла накидку, внимательно изучая его. Нахмурившись, будто пытаясь что-то разглядеть в нем, в его глазах, в движениях его лица. Он понял: в этом взгляде живет сейчас напряженная, мучительная искренность — но ведь искренность и есть обещание. Но этого не может быть, подумал он. Но это сейчас не удивляет его, он воспринимает это как должное. Он видит сейчас красоту Ксаты — удивительную, неповторимую. Видит соразмерность ее лица, ту же прозрачную глубину глаз. Эта глубина и эта соразмерность остались такими же, какими были тогда, когда Ксата сидела в хижине. И снова он ощутил сладостное чувство, что-то обещающее ему, за которым обычно должен был следовать испуг, — и понял, что в нем уже нет испуга.
Но все это он ощутил в доли секунды — и это как будто ощутил кто-то другой, который одновременно жил в нем отдельно, — сам же он как будто продолжал игру, которую она предложила. И продолжал с удивившей его легкостью… Беззаботно, просто — так, будто он всю жизнь был готов именно к этой игре и именно к этим словам.
— Здравствуй… те, сударыня.
Она засмеялась. Сняла накидку и оказалась в купальнике — два лоскутка материи, которые почти не прикрывали ее тела.
— Я видела, как вы ходили здесь вчера… сударь. И позавчера.
Он помедлил — его по-прежнему удивляла возникшая в нем сейчас легкость, собственная готовность бесконечно продолжать этот разговор.
— Ходил — сударь.
— Хорошо. Ходил, сударь, — она подстелила накидку и села.
Подумав, подвинулась. Полувопросительно повернулась к нему — и он с нежностью и одновременно с болью и раздражением увидел, как прекрасно, как по-детски доверчиво раскрылись ее губы, прежде чем она сказала:
— Садись?.. Я подвинусь.
Ему казалось — в своих мечтах, в желании встретиться с ней он преувеличивал ее красоту. Но сейчас он увидел — мечты его были жалкой копией. Она была прекрасней, чем он думал. Намного прекрасней. Он сел рядом с ней и ощутил — только на мгновение, на секунду, — как кожа ее руки прикоснулась к его коже. Ему показалось — это прикосновение было прохладным. Будто он случайно дотронулся до поверхности озера. Или — до холодной утренней листвы.
— Ты… долго еще будешь здесь?
— Нет… Наверное, дней через пять уедем. Самое большее — через неделю.
Она вздохнула. Он искоса наблюдал за ней — и опять в нем возникла боль. Боль — потому что он видел сейчас совершенство, бесконечное совершенство ее тела. Сильного, стройного и хрупкого — таким и должно быть тело танцовщицы.
— А ты знаешь — я была в Париже.
— Да? — он помедлил. — И… что?
— Ой… Там было прекрасно.
Он задохнулся — его опять мучила ревность. Она была в Париже — и, конечно, не одна. Но ведь нет никаких оснований для ревности… Нет — есть… ее повез туда какой-то мерзавец. Конечно… Появиться с такой девочкой в Париже… Сидеть с ней в кафе, с гордостью показывать знакомым… Сенсация. Да, она была там с каким-то подонком. Это — обычная история. Типа Зиго. Наверное, с каким-нибудь профессиональным обольстителем… Или — еще хуже — с каким-нибудь лысым дураком из департамента культуры. С идиотом… С которым не пойдет даже приличная проститутка. Конечно — он таскал Ксату по барам. Обещал ей «показать Париж». Она же — н а ц и о н а л ь н ы й к а д р. А потом они возвращались в гостиницу.
— Прекрасно?
Ксата покосилась на него. Ее губы дернулись — каждое их движение было сейчас искренне, они не могли врать, не могли обманывать.
— Да. Ну — хорошо… Но…
— Что — но? — он сказал это со злостью.
Она вздохнула. Стала искать что-то на земле. Нашла камешек, аккуратно очистила, сдула песок, положила между ступнями. Потом надавила пяткой — и камешек вошел в землю.
— Мне… не понравилось.
Какое облегчение он испытал.
— Не понравилось?
— Мне… то есть понравилось. Но только, ты знаешь, все… Какое-то чужое. Нет — я понимаю, это все красиво. И… все хорошо. Но вот — я же ничего не могу поделать?
— Да.
— Ну вот.
Он снова задохнулся — но теперь уже от возникшей в нем странной смеси чувств. От грусти, любви, необузданной радости, нежности. Как смешна его ревность. И вообще — как смешно все, что он думает о Ксате. Но он не выдержит сейчас — именно потому, что она прекрасней, чем все его представления о ней. Чем все, что он думал — пока снова ее не встретил.
— Ну, что мы собираемся делать? Сударь? Будем купаться?
Уже услышав это, он снова будто вслушался в то, как она это сказала. Этим ироническим вопросом она будто стряхнула, отогнала хрупкую, невесомую ткань откровения. Это вызвало у него досаду — но не больше.
— Купайся. Я посмотрю.
— Хорошо.
Она посмотрела на свой купальник — и улыбнулась. И он понял, что она хотела бы снять два этих лоскутка.
— Отвернешься?
Его раздражение вдруг перешло в злость. Он видел уже ее обнаженной — тогда, во время танца. Почему же сейчас он должен отворачиваться? И она поняла это. Она прочитала эту злость в его взгляде — и улыбнулась. Она не знала, что сказать ему. Наконец, как ребенка, тронула за плечо:
— Отвернись. Так надо. Ну? Досчитай до трех.
Он молчал.
— Хорошо, — она опустила руку. — Я буду в купальнике. Ты не пойдешь?
— Н-нет, — в горле у него пересохло. Он с трудом выдавил это слово.
Она была прекрасна — и чиста. Он видел сейчас ее тело, оно было таким же, как тогда, два дня назад, когда она танцевала на площади. Только сейчас это тело было без краски — просто оно было закрыто двумя лоскутками. И он не понимал еще, не мог себе представить, как совершенно она сложена.
— Ну? — она улыбнулась. — Подожди. Я быстро.
Да — в этих ее словах была только чистота. Одна чистота — и ничего больше. Но как же могут совмещаться — первобытная торжествующая наглость ее тела — и чистота? Она прыгнула в воду и поплыла к середине озера. Он вдруг ощутил горечь и муку — только оттого, что отказался сейчас прыгнуть в воду, отказался плавать с ней рядом. Как было бы хорошо, извиваясь, плыть с ней рядом в чистой воде. Вдруг он понял, остро почувствовал — он рад оттого, что она сейчас не разделась, это и было той чистотой, которую он от нее ждал.
Сначала он думал о близости с Ксатой как о чем-то несбыточном, недостижимом, немыслимом. Но странно: думая так, он одновременно понимал, что это должно случиться, что они станут близки. Так, будто в этом для него уже не было никакого сомнения — и это уже не удивляло его. Каким-то образом он понимал, что это произойдет. Но — каким? Странно, почему в нем не было удивления? Ведь он страстно желал близости с Ксатой. Он желал этого так, как не мог желать ничего на свете. Но одновременно с этим знал, что преграда, которая стоит между ними и которую они сами воздвигли, упадет не сразу. И захочет ли она — но он ведь чувствовал, что она хотела этого?
Он помнит, когда первый раз почувствовал, что это случится. Это было на четвертый день их знакомства, после того, как они купались. Они долго, до изнеможения плавали в озере, замерзли и лежали теперь рядом, завернувшись в ее накидку. Он почувствовал, как ей холодно, и обнял ее. Теперь ладонями, и кожей рук, и всем существом он ощущал холодную легкость, упругую силу ее тела. Но тело это было сейчас ему чужим. Она лежала на спине, и губы Ксаты выражали странное удивление. Будто она удивлялась сейчас чему-то в себе. Он почувствовал, как весь дрожит от возбуждения — так, что у него стучат зубы. Пересиливая себя, пересиливая это возбуждение, он спросил, заикаясь и стуча зубами:
— Ты ч-ч-что?
— Не знаю, — Ксата казалась испуганной. — Я… не хочу.
— Не хочешь? — спросил он.
Он вдруг прекрасно понял, чего именно она не хочет. Она не хочет близости, не хочет сейчас физического слияния с ним. Она говорит об этом открыто, не стесняясь его. Вот она лежит, прислушиваясь к себе, — и удивлена сейчас этим. Тем, что — не хочет.
— Почему? — спросил он, не осознавая всей нелепости этого вопроса.
— Не знаю, — в ее улыбке опять появилось извинение. Улыбка скоро стала гримасой. — Я не хочу… Просто — не хочу.
Его вдруг охватила радость. Потом радость сменилась испугом, потому что он понял — сейчас ее отказ и недоумение наполнены особым смыслом. Она допускает мысль, она совсем не возражает против того, что они будут близки. Просто сейчас она отказывается от этого. Но отказывается не потому, что он неприятен ей. Наоборот, только потому, что сама она, вернее, ее тело сейчас не хочет близости. Она же сама, о н а — хочет близости и отказывается от нее сейчас потому, что что-то мешает ей. Потому, что она не может на это пойти. Потому, что близостью с ним перейдет какую-то границу, нарушит традиционный обет. Значит — потому, что, отдав ему себя, изменит кому-то, изменит, по понятиям ньоно, целому племени. Конечно, этот отказ и эта традиция давно уже ничего не значат… Но все-таки она решилась что-то н а р у ш и т ь — ради него. Пусть даже что-то незначащее — но именно это вызывает в нем сейчас счастье, нежность, бесконечную, бескрайнюю радость. И в то же время — он чувствует испуг, он боится, что эти прекрасные мгновения пропадут.
— И… не нужно, — сказал он, прижимаясь губами к ее холодному плечу. Он чувствовал, ощущал, как плечо постепенно согревается от его прикосновения.
Ксата посмотрела на него — в ее глазах сейчас было сожаление, мучительное сожаление.
— Но… — она беспомощно пожала плечами. — Поцелуй меня.
Он прижался губами к ее губам. Они были прекрасны, нежны, пахли свежестью и поддались ему — но сейчас он ощутил в них только холод.
— Что же происходит? — она высвободилась.
Она смотрела на него сейчас с недоумением, с упреком. Он же, обнимая ее, чувствовал, как, высвобождаясь, она все-таки доверяет себя его руке. И вдруг понял — что так до конца и не оценил ее красоту, не ощутил бесконечность этой красоты. Почему же эта красота, будучи осознанной, вызывает то странное мучение, которое живет сейчас в нем?
— Я ничего не понимаю… — она легла на спину, почти отстраняясь.
— Ничего… Лежи.
— Но почему? — почти плача, сказала она.
— Это… Так и должно быть. Лежи. Просто — лежи. Хорошо?
— Хорошо, — она успокоилась, прижалась к нему.
Странно — он сейчас куда-то плыл, плыл вместе с ней. И, ощущая, что плывет, уплывает в бесконечность, почувствовал, как она беззвучно плачет.
Он шевельнул рукой, на которой она лежала, как бы говоря ей этим: «не надо». Она сказала, по-детски дыша ему в плечо:
— Когда это случается, исчезает все. Остается только земля. Земля, вода и воздух.
Странно: услышав это, он не испытал ревности.
— У тебя уже было это?
Она промолчала, и он сказал:
— Прости.
— У меня это может быть только с одним мужчиной — и больше ни с кем.
Она лежала молча. Он прислушался к себе — и по-прежнему почувствовал, что плывет куда-то. Он не удивился, когда она спросила:
— Что ты сейчас чувствуешь?
— А ты?
— Знаешь — я куда-то плыву.
— И я.
Это случилось — но он еще не мог осознать до конца значение всего, что произошло.
Он сидел на веранде, смотрел на озеро и пытался понять, что же скрывается за словами — «безумие любви». Если считать, что он сейчас влюблен, что он любит, бесконечно любит, и к тому же знает, чувствует, видит, что его любит Ксата, — значит, он и испытывает сейчас именно безумие? Безумие любви? Особенно — после того, что случилось там, у озера. Да — он испытывает безумие любви. Сумасшествие. Но ведь он не безумен? Наоборот — сейчас все переменилось в нем и вокруг. Все наполнилось особым скрытым смыслом, особой радостью и даже — особой печалью, которых он раньше не видел, не замечал. И это отличается от того, что было раньше, — резко, несопоставимо, так, как отличается небо от земли. Так когда же он был безумен? Не раньше ли, когда он не замечал всего этого? Когда не замечал скрытого смысла вещей? Не замечал особого значения каждой песчинки, каждого кустика? Ведь раньше он был слеп. Какой досадой сейчас наполняет его этот бесцельно прожитый отрезок жизни… Он был абсолютно слеп. И все, что открылось сейчас ему, — ведь все это открылось только потому, что он знает, что Ксата его любит. Любит… Как же он понял, что она его любит? Никак. Он просто ощущает это сейчас — каждой клеткой, всем своим существом. Он знает — она где-то рядом, где-то в деревне. Она ходит, что-то делает, что-то говорит, что-то напевает. Но все, что она делает, не главное для нее. Так же, как для него теперь не главное все, что он делает или — будет делать. Главным — всегда, вот именно, всегда — будет для него то, что она его любит. И для нее главным также будет лишь то, что он любит ее. Какой же он был слепец, пока не понимал — что это состояние и есть главное состояние человека. Как он не мог догадаться или — представить, что оно, это состояние, просто, как сама земля, естественно? Ведь сейчас, вот сейчас, в это мгновение, он видит это. Теперь он знает, что это состояние присуще миру. Как он не мог понять особенностей этого состояния, к которому совершенно неприменимо слово «безумие». Наоборот — безумием было не знать раньше этого состояния. Безумием было не понимать, что, когда это наступит, все изменится.
Поздно ночью он лежал на кровати у распахнутого окна. В темноте слышался шорох цветочных тараканов. Заснуть невозможно. Тишина была долгой, тянулась бесконечно. Кто-то идет по палисаднику. Нет, ему это кажется… Смысл этого шороха, этого запаха, этой пустоты… Как сдавливает грудь пустота… Бессильно, бесцельно. Он считал еще год назад, что нашел себя. На самом деле он человек со странной, непонятной профессией, вечный неудачник… Безусловно, кто-то идет. Стук. Кронго сел, нащупал шлепанцы. Осторожно подошел к двери, взял халат, натянул. Он не может зарабатывать деньги… А он должен был это делать, должен был давно уже жить, ни о чем не думая, жить, чтобы жить, жить для себя… Жить в любой стране, свободно, легко, независимо. Снова стукнули. Один раз, второй, третий. Кто это может быть? Родственники Филаб?
— Кто там?
Как странно окружает ночной воздух его самого, его халат, его руки. Вплотную к двери раздалось неразборчивое. Казалось, что сказали: «Свои».
— Кто? — Кронго услышал щелчок выключателя.
— Честные африканцы, — тихо сказали за дверью.
— Месси Кронго… — Фелиция мелко тряслась в глубине гостиной. — Месси Кронго, это наши. Месси Кронго, лучше открыть, это наши. Они пропадают.
— Мы не сделаем вам ничего плохого, Кронго, — сказал тот же голос. — Откройте. Только не зажигайте свет.
Кронго прислушался. Почему он молчит?
— Вы слышите, Кронго?
— Хорошо, сейчас открою, — Кронго нащупал щеколду.
Тихо звякнул запор. Он не успел даже приоткрыть дверь. Двое бесшумно проскользнули и прижались к стене. Высокий бауса в тропическом европейском костюме махнул рукой.
— Добрый вечер, — бауса криво усмехнулся. У него были широкие плечи, от всей его фигуры исходила мощь. И в то же время — впалые щеки, большой подбородок с ямочкой, резкие рубцы морщин. — Извините, закройте, пожалуйста, дверь. Мы ненадолго.
Кронго задвинул щеколду.
— Нам надо поговорить с вами, — второй, низкорослый, коренастый, с ритуальными шрамами на щеках, махнул Фелиции, и она, пятясь, ушла. — Вы не узнаете меня? Я председатель районного совета Фронта, моя фамилия Оджинга.
— А-а… — Кронго протянул руку. Оджинга крепко сжал ее. Да, Кронго уже видел это лицо.
— Меня можете звать Фердинанд, — высокий бауса опять улыбнулся — одним углом рта. Эта его привычка улыбаться одним углом рта сразу бросалась в глаза. Кривая улыбка, будто он смеялся сам над собой. — Некоторые зовут товарищ Фердинанд.
— Садитесь, — Кронго кивнул на кресла. — Я зажгу свет.
— Ни в коем случае, — Фердинанд сел и вытянул ноги. Оджинга подошел к окну, выглянул.
— Океан, — не оборачиваясь, сказал Фердинанд.
Кронго прислушался. Все те же цветочные тараканы мягко шуршали в темноте. Ему казалось, что неясный свет ночника мешает этим двум рассмотреть его лицо, увидеть, что он честен, что он не собирался никого предавать, что он хочет только спасти лошадей.
— Скажите, Кронго, — Оджинга будто утонул в кресле. — Разве правительство не предоставило вам все условия? Когда мы пригласили вас, разве мы не заплатили из казны за всех лошадей? Скажите, хоть чем-нибудь мы обидели вас?
— Мы не сомневаемся, Кронго, в вашей честности, — Фердинанд провел рукой по лбу, потом полез в карман рубахи и вытащил скомканную газету. — Вы добросовестно, работали эти девять лет. Но это объявление…
Кронго попытался собраться с мыслями. Он должен сказать этим двум только суть. Остальное уже будет зависеть не от него.
— А что мне было делать? На моих плечах лошади. Я не могу их никуда отправить. Я остался один, со мной только два конюха. Корма на одни сутки.
Оджинга неподвижно смотрел на него, будто изучал. Фердинанд, наоборот, устало моргал.
— Да, ваши лошади стоят миллионы. Они принадлежат государству. И поэтому мы должны их спасти. Но все встало с ног на голову, Кронго. И успех общего дела, и ваш личный успех. Все теперь будет зависеть от вашей совести, от вашей политической сознательности.
Кронго молчал. Фердинанд усмехнулся своей кривой улыбкой, будто издеваясь и над самим собой, и над Кронго.
— Я знаю все, что вы хотели бы мне сказать. Я много раз слышал этот стандартный пароль безразличных. Вот он — «я далек от политики». Так ведь, Кронго, вы это подумали? Отвечу вам — и я был далек от политики. Я был очень далек от политики.
Наступила тишина. Фердинанд аккуратно сложил и спрятал газету. Оджинга закрыл глаза, будто прислушиваясь к какой-то мелодии, разобрать которую мог только он один.
— До тех пор, пока я не почувствовал одного, — тихо сказал Фердинанд. — Пока я не почувствовал, что это вопрос воздуха, которым мы дышим. Это очень глубоко, под сердцем. Это вопрос жизни и смерти.
Тепло плеч Филаб — тогда, когда он лежал в бунгало, — вот что вдруг вспомнилось Кронго. И мерный шум океана.
— Вы были у Крейсса?
— Да, — Кронго вернулся из воспоминания.
— Слушайте меня внимательно… — Фердинанд склонил голову набок, его кривая улыбка пропала. — Товарищ Кронго… Мсье Кронго… Вы были в логове дьявола. Трудно поверить, что он не пытался вас завербовать. Его агенты всюду. Они работали в штабе армии, в государственном аппарате. Были выданы почти все активисты Фронта… Большинство членов центрального комитета… Только благодаря этому им удалось осуществить переворот…
Оджинга поднял руку, Фердинанд застыл. Что-то неясно прошуршало в кустах, стихло.
— Запомните, среди людей, которых вы наберете на ипподром, будет агент этого дьявола. Вам понятно? Не пытайтесь узнать его, не суйтесь в это пекло. Там будет и наш человек. Предупреждаем вас об этом только для того, чтобы вы знали: любая попытка вывезти лошадей из страны будет пресечена. Вы понимаете, как мы с вами откровенны.
Оджинга вытащил пистолет, Кронго услышал треск окна на кухне. Рука Оджинги застыла, придерживая пистолет, губы улыбались.
— Бауса?
— Эта женщина живет у нас… — пояснил Кронго.
Оджинга кивнул, пистолет исчез.
— Но если… — Кронго попытался убрать желтые и зеленые круги, которые плыли перед глазами. — Если так…. Если будет так, как вы говорите… я ведь увижу?
Оджинга поднял руку, они с Фердинандом тихо встали. Послышался слабый шум мотора, усилился.
— Кого? — Фердинанд понял, о чем говорит Кронго. — Нет, ни нашего, ни человека Крейсса вы не узнаете. Даже я на вашем месте и то вряд ли узнал бы оборотня.
Звук мотора затих.
— Мы уходим, — Фердинанд легко пожал локоть Кронго. — Вы больше нас не увидите. Вам нужно спасти лошадей. Ни секунды времени, поймите. Помните, что я сказал. Все до мелочи.
— Но подождите… — Кронго вдруг понял, что Фердинанд с его кривой улыбкой, с его фланелевой гимнастеркой, выглядывающей из-под щегольского пиджака, с его провалами морщин — единственно реальное в его жизни, за что он может сейчас уцепиться. — Но ваш человек… Может быть, вы скажете… Если…
А Крейсс? Крейсс, с которым ему легко? Фердинанд приоткрыл дверь.
— Нельзя. Если что-нибудь случится, он сам вам скажет.
Первым проскользнул Оджинга, за ним Фердинанд. Они исчезли в дверной щели беззвучно, так, будто были бесплотны. Кронго некоторое время стоял, пытаясь по звуку определить, куда они пошли. Он ничего не слышал — ни справа, где был лестничный спуск к океану, ни впереди. Может быть, слева, где сквозь палисадник вела дорожка к переулку? Потом он услышал звук — так шуршит бумага. Но это были лишь шаги Фелиции. Веки старухи шевельнулись, зрачки совершили оборот. Это был ответ — Филаб не спит. Семь лет эта полная старая кассирша просидела за длинным стеклом в кассовом зале тотализатора. Иногда она приходила к нему в кабинет и, опустив глаза, осторожно протягивала бумаги. Что в этой старухе есть еще, он не знал.
Поднявшись наверх, он увидел, что Филаб плакала. Это было видно по глазам. Ему сейчас хотелось уйти от неизбежности того, что сказал Фердинанд. Тонкая слабая кисть жены напоминала об ощущении той Филаб, шестнадцатилетней, тогда, в бунгало. Того ощущения он уже не может вернуть. Ему сейчас просто жаль этот закинутый подбородок, эти высохшие слезы на желтых щеках, натянутую кожу горла.
— Тебе что-нибудь нужно?
Глаза неподвижно смотрели вверх. Это означало «нет», но он понимал, что ей нужно. При всей нелепости ей сейчас нужна его любовь. С робостью, с беспредельной надеждой и эгоизмом любви ее слабая рука напоминает ему об этом. Рука не ждет его верности и жалости, а ждет любви.
— Спи. Хорошо?
Глаза закрылись и открылись.
— Спи, — он отчетливо представил себе, как завтра утром проснется и пойдет к ипподрому.
Тишина. Тишина озера. Тишина раннего утра. Тишина Ксаты.
— Ты сегодня уезжаешь?
Тишина. Пронзительная тишина. Что же это за тишина. И больше ничего. Какая же тишина вокруг.
— Да. Я сегодня уезжаю.
Он понимает сейчас молчание Ксаты. Понимает — до мельчайшего, самого последнего его смысла. Какая легкость, какая необыкновенная легкость.
— Но я приеду.
Какой огромный смысл. И — как ему легко оттого, что она и он — оба понимают сейчас этот смысл.
— И потом — я не смогу от тебя уехать. Никогда. Ты слышишь?
— Слышу.
— Я никогда уже — слышишь, Ксата, — не смогу от тебя уехать. Ты понимаешь?
— Да, я все понимаю.
— Все?
— Все. Только — приезжай скорей.
— Слушай… Слушай, девочка. Может быть — ты уедешь со мной? Прямо сейчас? Со мной и с мамой?
Она улыбается. Вот поцеловала его.
— Ну что ты. Меня не пустят. Родители. И вообще — все.
— Кто — все?
— Ну… — он почувствовал, как она на секунду съежилась. — Неважно.
— Да?
— Не сердись. Я могу с тобой поехать потом. Если ты хочешь.
Какая же тишина. И — может ли быть большее счастье? Нет, он сейчас умрет.
— Ты еще спрашиваешь?
Он почувствовал — именно почувствовал, а не увидел, — как она улыбается. Он хотел было, спросить ее: «Что ты?» — но передумал. Улыбаясь, он ждал, что она скажет — почти понимая, что она должна сейчас сказать.
— А ты… захочешь взять такую? Смешную?
— Смешную?
— Да — такую смешную обезьянку, как я? Да еще — с оттопыренным ухом?
Как прекрасно, что она это говорит. И — какой удивительный смысл в этом. Какая в нем сейчас нежность.
— Ведь я ничего не умею. Я умею только танцевать.
— Ты считаешь — этого мало?
Вот ее рука. Вот прикосновение кожи. Вот она сама.
— Конечно.
— Тогда и я ничего не умею. Я умею только работать с лошадьми.
Она медленно повернулась, и он почувствовал каждое ее движение — только почувствовал, но не увидел.
— Это очень много. Это — все.
И вот они уплыли — уплыли в бесконечность. И снова вернулись на землю. И, вспоминая, как они уплывали, лежа рядом с ней, вернувшейся вместе с ним из этого сладостного безвременья, он вдруг подумал — я медуза. Я медуза, о которой говорил Омегву. Нет, я не только медуза. Я — это озеро. И эти кусты. И земля. Обе его руки и обе ее руки были сейчас сцеплены — и он остро чувствовал, ощущал себя слившимся с ее руками, так, будто их руки срослись, перестали быть разнородной плотью, навсегда соединились, продолжая их обоих.
— Ты знаешь — раньше я больше всего на свете любила океан. Я любила выходить к нему. Сидеть на берегу. Долго-долго. Или — могла бесконечно плыть в нем. Чувствуя, как он меня держит.
Как важно все, что она говорит сейчас. Все — до последнего слова.
— Да?
— Да. Ты — мой океан. Сейчас, когда я чувствую, что я с тобой… я понимаю, что иногда может быть счастье… И человеку дается океан. Ты понимаешь?
— Понимаю.
— Ты — мой океан. Я… растворяюсь в тебе. Ты даже больше, чем океан. Ты понимаешь?
Какая тишина. Какая бесконечная тишина. Бесконечная. Тишина — это и есть Ксата. Это высшее счастье — бесконечность. И можно уплыть в эту бесконечность — вместе с ней.
Лица, жадно ищущие его одобрения, освеженные серым воздухом раннего утра, выравнивались в шеренгу — желтые, совсем светлые, черные, коричневые. Среди лиц было два, Кронго все время возвращался к ним взглядом. Молоденькая африканка, выбившаяся в первый ряд, за ней еще одна. Эта, вторая, — стройная, одетая в новый сарафан. Заметив его внимание, стройная засмеялась и незаметно кивнула подруге. Она была зажата плечами двух барбров.
— Люди, прошу два шага назад… — Мулельге поднял ладони, отодвигая этим жестом ждущих. — Сегодня всех не сможем просмотреть… Примем назад, люди… Осадите назад, немножко осадите назад…
Первая линия чуть качнулась. Ассоло, изгибаясь и семеня, провел по внутреннему двору сивую кобылу Бету — одну из самых смирных лошадей. В облике неподвижной конюшни, внутреннего двора, на котором жокеи обычно прогуливали лошадей перед скачками, произошли изменения. Это было похоже на лагерь. Раздавались выкрики. Худой африканец в лохмотьях называл по списку номера. У ворот стояла очередь.
— Люди! — Мулельге сложил руки над головой, крест-накрест. — Люди, тише!
Ноздри молоденькой африканки раздувались. Ей около шестнадцати. На беговой дорожке «джип». Душ Сантуш откинул назад фуражку — легким движением локтя. Помахал Кронго рукой.
— Люди! — Мулельге развел крест. — Прежде всего, если есть те, кто уже работал и был уволен… Заният, я вижу тебя, выйди… Отойди влево… Вот сюда, встань сюда… И ты, Мулонга… Зульфикар… Выходите, выходите, встаньте в стороне… Вы останьтесь… Люди, спокойней!
— Как тебя зовут? — спросил Кронго.
— Амалия, — африканка улыбнулась, будто ждала этого вопроса.
Глаза ее поплыли вбок, застыли, вернулись к Кронго. Зрачки блестели. В ней была просыпающаяся женственность — свежая, чувственная, и она сейчас не скрывала это. Да, ее лицо, по-детски широкое, каждая линия которого казалась закругленной, было красиво.
— Зачем ты пришла? Ты что-нибудь умеешь?
Он сразу оценил легкость и сухость ее фигуры.
— Я хочу быть жокеем.
— Сидела когда-нибудь на лошади?
— Три года, месси, — зубы ее, когда она открывала рот, чуть поблескивали от обильной слюны. — Я работала уборщицей. В цирке. Сидела на пони, лошадях.
— И все?
— Я могу показать… А потом… Знаете, как в цирке говорят… Училась прыгать на сетке. Батут.
Кронго медлил, прежде чем что-то сказать. Цирк, пони, лошади. Откуда только не пришли сюда все они! Она легкая, не больше пятидесяти килограммов. Какая разница, женщина или мужчина. Все-таки сидела. Из старых наберется не больше десяти. На две конюшни, беговую и скаковую. Но ему нужно десять наездников… И десять жокеев… По крайней мере, десять человек — очень легких, пусть даже не умеющих сидеть. Там, у демонстрационной доски, у финишного створа, все чисто. Значит, кто-то уже убрал тех, убитых. Но кто именно убрал? Солдаты?
— Хорошо, отойди в сторону.
Амалия улыбнулась. Покосилась на барбров, закрыла глаза.
— Месси, я работал на ферме, — сказал пожилой барбр.
Мулельге отодвинул слишком выступивших, пошел вдоль строя.
— Каждый, кто знает лошадей! Каждый, кто знает лошадей… Кто ездил верхом? Кто умеет сидеть в коляске? У нас это называется — качалка?
Толпа молчала.
— Ну? Кто-нибудь ездил верхом? В коляске?
— Начальник, начальник, — из задних рядов пробился молодой мулат с бородкой клинышком. — Зачем обижаешь? Проскачу, лошадь ногами удержу, деньги получу. Верно, ребята? Ну, что молчите?
Один из барбров усмехнулся. Мулельге хмуро оглядел мулата, кивнул. Ассоло подвел Бету, Мулат взял поводья, легко вскочил в седло. Бета, почувствовав руку, вздрогнула, загрызла удила.
— Давать на дорожку? — улыбнулся мулат.
Барбр поднял руку, и мулат нехотя слез.
— Ха… — барбр лег грудью на круп.
Не дотрагиваясь до поводьев, мгновенно очутился в седле. Повис на одной ноге, дотянулся до уздечки. Приник к лошадиной шее. Бета закружилась, взметывая копытами песок. Старая лошадь крутилась, как жеребенок, быстро перебирая ногами. Белый плащ барбра слился с крупом Беты, казался попоной.
— Ха!
Бета остановилась как вкопанная. Ноздри ее дрожали. Глаза нашли глаза Кронго. Барбр тоже следил за его глазами. Барбры с детства могут только чувствовать лошадь — но не понимать. То, что затеял он, Кронго, не так безнадежно. Еще хотя бы человек шесть. Он объяснит им, он будет следить.
Барбр слез. Бета потянулась — шеей и губами, все еще глядя на Кронго, заигрывая с ним.
— Это скаковая английская лошадь, — Кронго легко отстранил переносицу Беты. — Никогда больше не ущемляйте у нее сухожилия. Запомните.
— Берем обоих. Отойдите в сторону, — Мулельге не обращал внимания на сложенные руки.
— Кто еще умеет сидеть на лошади?
Седой манданке по-прежнему смотрел на Кронго. В этом взгляде было понимание, что его не возьмут.
— Не боитесь грязной работы?
Манданке вздрогнул. Поклонился. Мулельге похлопал мусульманина по плечу.
— Отойдите, молла, мы вас берем. Кто еще умеет на лошади?
Кронго заметил взгляд — теперь в эту сторону смотрел и Мулельге.
— Вы знаете лошадей?
Человек был худ, одет по-европейски, кожа матово-серая, как у жителя центральных районов. Но изогнутый крючком нос… Тонкие длинные пальцы.
— Местный?
Негр, щурясь, разглядывал что-то в небе.
— Городской?
— Городской, Жан-Ришар Бланш, — негр широко улыбнулся. Он явно говорил на парижском арго.
— Сядете на лошадь?
Странная, деланная улыбка. Но что-то в нем есть.
— Попробую, — Бланш долго, как слепой, ощупывал и мял поводья.
Он явно держал их первый раз в жизни. Положил руку на холку, попытался вскочить. Не получилось. Бланш с трудом удержал Бету за шею, примерился снова. Наконец вскочил, еле-еле удержался. Он был худ, костляв. Бета переступала ногами, дергала головой.
— Вы хотите работать жокеем?
— Кем назначите, — Бланш говорил в такт движениям, трясясь и стуча зубами. — У меня нет работы. Есть диплом. Мне не на что жить. Я люблю лошадей. Чертова лошадь.
Он пытался во что бы то ни стало удержаться. Улыбка, манера глядеть, наглая и застенчивая, по-прежнему не нравились Кронго.
— Хорошо. Мы берем вас. Мулельге, помогите ему.
Уцепившись за Мулельге, Бланш сполз вниз. Прихрамывая, пошел к остальным.
— Мулельге… Наберите рабочих на конюшни, на свое усмотрение.
Но ведь кто-то из них будет работать на Крейсса. А кто-то — на Фронт.
Но это не имеет значения. Он не должен думать об этом.
Он тогда вернулся в Париж, занялся с отцом лошадьми. Но главное, что он чувствовал, была наполненность Ксатой. Наполненность Ксатой и ощущение перемены в самом себе. Удивительно — но теперь он воспринимал как должное совсем иное значение смысла вещей, которое ему вдруг открылось. И так же как должное воспринимал вот это свое соединение с ней, вот именно — наполненность Ксатой, которую ощущал постоянно.
Раньше, участвуя в заговоре, в том тайном приготовлении к заезду на Приз, которое затеял отец, в скрытой от всех работе с Гугеноткой, участвуя во всем этом вместе с отцом, — он тем не менее смотрел и на заговор, и на всю затею отца отстраненно, чужаком. Пусть даже этот чужак искренне вносил свою помощь и с сочувствием следил за этими усилиями. Но он был чужаком в этом предприятии. Во-первых, потому что не верил в конечный успех, не верил, что молодая лошадь, пусть даже с прекрасными данными, сможет обойти Корвета. Во-вторых, он понимал, что затея отца, даже если Гугенотка возьмет Приз, все равно ничего не принесет ему, кроме неприятностей. Отец потеряет гораздо больше, чем приобретет.
Теперь же, еще в первый день, вернувшись в Париж и обходя с отцом конюшни — при этом он нашел Гугенотку в отличном состоянии, — он вдруг подумал: почему же раньше он смотрел на заговор отца отстраненно? Теперь он видит все в другом свете. Да, он и теперь считает, что отец может проиграть больше, чем выиграет. Но все переменилось — вот в чем дело. Ведь он понимает, против чего направлен этот заговор. Против Генерала, против его дутого могущества. Могущества тайных перекупщиков лошадей, могущества, которое было достигнуто инспирированными заездами, а потом — монополией на элиту. И потом уже это дутое могущество было поддержано всем остальным: попавшими в кабалу к Генералу холуями; продажной прессой; обозревателями, получавшими баснословные подарки; наконец, публикой, которая была подготовлена и теперь уже, получив кумира, фанатично поклонялась ему. Публика сама создала «великого наездника современности». Публика, для которой Генерал давно уже стал всеобщим любимцем, была теперь его главной поддержкой.
Отец решил посягнуть на Приз именно поэтому. Он понимал, что ему не свергнуть Генерала. Но он хотел хотя бы нанести ему первый удар, хотя бы пошатнуть трон. Потому что он, его отец, не мог смириться со всем этим. Он был Принцем, известным всем, неподкупным Принцем Дюбуа. А значит — именно он должен был начать борьбу с несправедливостью. Но как же должен был при этом поступить сам он — он, сын Дюбуа, Морис Дюбуа, Маврикий Кронго? Почему он должен был оставаться равнодушным к заговору? Почему?
Теперь он мог легко ответить на этот вопрос сам. Он был раньше равнодушен — потому что боялся. Он боялся, он не решался лезть на рожон. Потому что — не видел возможности одним только взятым заездом, одним только выигрышем Приза что-то сделать. Он был равнодушен, потому что воспринимал все, что знал о Генерале, как должное. Подкупленные заезды, мертвую хватку холуев и шестерок, жульничество с элитой, продажность и лживость прессы — все это, все до конца он воспринимал как должное. Как само собой разумеющееся — и считал, что так и должно быть. И бороться с этим смешно.
Но теперь, когда все переменилось, — переменилось и это. Переменился смысл вещей и смысл его отношения к отцу, к затее отца, к Призу, к подготовке Гугенотки.
Он давно уже чувствовал, что сильней отца.
Когда он думал об отце, он понимал — отец был действительно большим, даже — великим наездником. Отец заслуживал звания Принца. Кронго хорошо знал, что отцу не было равных в умении подготовить лошадь. Не было равных Принцу Дюбуа — и это знали все на ипподроме — в умении вникнуть в мелочи, которые обычно остаются скрытыми, в лучшем случае открывают даже профессионалам только свое начало. Никто не мог превзойти отца в знании тайн ковки, мельчайших оттенков подготовки упряжи, в знании того, почему и как каждая деталь ковки и упряжи влияет на конечный результат, почему их выбор так зависит от характера лошади, от ее готовности, от порядка к дню заезда, даже — от незначительных изменений в рыхлости дорожки, от погоды, от тысячи других причин.
Кронго перенял все это еще подростком. Он старался изучить все это — до конца, по крайней мере так, чтобы знать хотя бы не хуже отца.
Отец научил его всему этому — и он был ему благодарен. Но в чем-то Кронго превзошел отца — и он это чувствовал. Превзошел не потому, что был старательней, — нет, он знал, дело здесь было не в затраченном труде, не в усилиях, он понимал это. Хотя и усилия что-то значили… К двадцати годам Кронго понял, что это было ему дано больше — от природы, от рождения. Ему дано — а отцу нет; по крайней мере, отец не чувствовал это, не ощущал так, как ощущает он, Кронго.
Это и вселяло в Кронго уже в восемнадцать чувство силы, уверенность — потому что он понял, что эти качества составляют вершину работы с лошадьми, они для наездника и жокея важней всего остального. Они — это чувство дистанции и чувство лошади.
Особенно — чувство лошади. Уже подростком Кронго видел, как часто наездники и тренеры, выбирая или оценивая молодую лошадь, не понимают ее истинного значения. Как часто они впадают в крайность, преувеличивая достоинства только что полученных из завода годовиков и полуторок или — переоценивая их возможные недостатки.
Да, он знал, как это трудно — угадать в молодом жеребенке, сыром, угловатом, несовершенном, будущего призера. А может быть, не просто призера: угадать великую лошадь, рекордсмена — в существе, таящем сейчас в себе, в своих линиях и пропорциях, в обводах, мышцах и жилах, тысячи недостатков, несуразностей, недобрых примет, говорящих, казалось бы, о полной непригодности в будущем. Кронго знал секрет этого выбора. И — знал лучше отца. Он почувствовал его, он с детства уже понимал, что при оценке нельзя основываться только на пропорциях и линиях. Он дошел до этого шестым чувством, уже мальчиком он понял главное — понял, что именно надо искать в сыром и нескладном жеребенке, понял ту повадку, скрытую силу, ту смесь упорства, капризов, великолепного, а может быть, неприметного сложения, ту влажность ноздрей, чистоту белков, легкость дыхания, ту особенность холки и крупа, то множество признаков, которые, складываясь в целое, могут намекнуть или даже — безошибочно предсказать будущего рекордиста. Именно рекордиста, знаменитость — а не рядовую, пусть и сильную, лошадь.
Сначала он оценивал прибывающих жеребят вместе с отцом и часто видел, что оценки отца ошибочны. В конце концов Принц Дюбуа сам понял, что уступает в этом сыну, — и потом уже при просмотре молодняка и оценке новых лошадей полагался только на его чутье, зная, что Маврик, выбирая и оценивая жеребенка, никогда не ошибается.
Когда, начиная с шестнадцати, отец стал записывать сына в заезды, Кронго незаметно развил и выработал в себе еще одно качество — безошибочное чувство дистанции. Особенно хорошо он чувствовал себя на миле — стандартном однокруговом отрезке, который ощущал до последнего метра и по которому мог провести лошадь на лучшее время даже с закрытыми глазами — зная, конечно, характер лошади и состав заезда.
У них в конюшнях при тренаже и доводке неукоснительно соблюдались принципы «школы Дюбуа» — здесь отучали наездников держать лошадей «на вожжах», основу тренажа и испытаний составлял мягкий голосовой посыл, все делалось только для того, чтобы сберечь лошадь, как можно меньше насиловать и ломать ее, даже — потакать ее капризам, высвобождая тем самым заложенную в животном от природы резвость, силу характера и другие естественные качества. Проходя дистанцию в основном на отданных вожжах, с лошадьми, приученными повиноваться малейшему изменению интонации посыла, Кронго, сообразуясь с тем, кто идет с ним в заезде, всегда безошибочно определял, как построить бег. Как начинать именно этот заезд, сразу ли показывать намерение или скрыть его до середины дистанции, занимать ли бровку с первых метров или на первой четверти идти полями. Кронго всегда безошибочно чувствовал пейс, ритм бега, и обычно уже после второй четверти знал, с какой именно точки дистанции и как нужно начинать ускорение и прибавлять. Именно — как прибавлять. И тогда уже, если он ловил эту точку, ничто не могло ему помешать довести лошадь до финиша и — если надо и класс лошади позволяет — вырвать победу на последних метрах, чувствуя еще в рысаке оставшийся запас сил.
Ничему этому он, по существу, не учился. Конечно, еще мальчиком Кронго узнал основы, прописные истины, азы того, как должен вести себя наездник на дистанции. Знал, что есть лошади с хорошим финишем, концевые, или, наоборот, ровно идущие всю дистанцию, те, кого наездники называют «машинами». Знал, что позиция у бровки сокращает дистанцию, но чревата потерями при отвороте и обгоне, зато ход с поля дает простор для разъездки. Знал он также множество других прописных истин — но ведь все это знали и другие наездники, не только он… Он понял это. Наездники на ипподроме совершенствовали свое знание дистанции бесконечно. Но — ошибались. И он, сам допустив несколько ошибок, потом при оценке дистанции выработал для себя железный принцип — никогда не полагаться на общепринятые правила. Ведь он видел, что правила дистанции знает и отец, — но все-таки сколько раз, и именно в силу верного следования правилам, ошибался и он, его отец, великий Принц… Знание, истинное, скрытое от всех знание дистанции пришло к Кронго тогда, когда он понял, ощутил всем существом, что нет правил. Нет, их нет — вот в чем был секрет. Или — они есть, но они, эти правила, состоят из бесчисленного множества каждый раз меняющихся обстоятельств. Обстоятельств, на которые нельзя полагаться. Чувство дистанции зависит от великого множества соотношений сил, характеров, манеры бега, порядка и класса, от качеств десятка, если не больше, лошадей, которые участвуют в каждом новом заезде. Оно, это чувство, зависит также от соотношения целей наездников, от состояния дорожки, погоды, даже — от того, как настроены в этот день зрители. Кронго много раз наблюдал, как, складываясь в неожиданные сочетания, обстоятельства заезда заставляют ошибаться самых опытных наездников, даже — корифеев, седоков вроде знаменитых Томсона и Княжинского.
Дистанция вырывалась, ускользала, уплывала от них. Точка ускорения вдруг оказывалась не там, бровку занимал кто-то другой, всегда послушная лошадь вдруг словно прилипала к затылку едущего впереди наездника и не хотела отворачивать, заведомые финишеры с самого начала вырывались вперед на три столба… Все было не так, все становилось с ног на голову. Поняв это, Кронго на дистанции полагался только на свое чутье. На то шестое чувство, которое ощутил, которое проверил и которое его не подводило. Он скрывал это чувство от всех, он берег его, боялся потерять. Кронго понимал — в этом чувстве была кажущаяся легкость. Да, он знал: это ощущение, живущее в нем всегда, ощущение абсолютной ясности при прохождении кругового отрезка, это возникавшее каждый раз понимание, как нужно вести заезд, не вечно. Его можно потерять, хотя оно и дано ему, преподнесено судьбой. Хотя оно легко, свободно, хотя оно присуще ему, как дыхание. Но его можно потерять, оно может превратиться в пустоту, фальшь. Испытав эту кажущуюся легкость, Кронго познал, как хрупко это бесценное свойство. Он понял, как много оно значит для него, и потом уже боялся упустить — до возникавшего в нем беспричинного страха, до неожиданно потевших ладоней, до суеверия. Нельзя было играть на себя; нельзя было говорить об этом чувстве; нельзя было им злоупотреблять.
Именно потому, что Кронго знал свои силы, он, вернувшись в Париж, ощутив в себе после возвращения перемену, почувствовал себя виноватым — перед отцом. Виноватым в том, что до сих пор оставался сторонним наблюдателем. Может быть, он был даже сильней отца — и тем не менее не верил в удачу заговора, а значит — просто не мог помочь отцу так, как должен был это сделать.
До дня розыгрыша Приза оставалось еще довольно много времени, когда мсье Линеман, улучив момент, зашел к ним в жокейскую. Кронго хорошо помнит — он притворил дверь и, подумав, повернул ключ.
— Слушайте, Эрнест, — мсье Линеман сел. — Нам надо поговорить.
Лицо мсье Линемана, круглое, доброе, жило сейчас какими-то другими заботами, было, как, впрочем, это всегда казалось Кронго, далеким от конюшни, от ее дел. Казалось, мсье Линемана занимает что-то другое, а не разговор с отцом. Впрочем, для человека, владевшего не только конюшней, такое выражение лица было естественным. Но было ясно, что сейчас мсье Линеман действительно решил поговорить о чем-то важном. По крайней мере, о деле, давно занимающем его мысли, поговорить с присущим ему, как всегда, тактом. Может быть, даже о Гугенотке — хотя при подписании контракта было оговорено условие, что продюсер занимается только финансовыми делами.
— Да, мсье Линеман, — отец после утренней проездки стянул сапоги, расстегнул рабочие панталоны и теперь отдыхал, полулежа на диване.
— Эрнест, извините — вы знаете, я никогда не лез в ваши дела. Но… мне кажется… Гугенотка…
— Что — Гугенотка?
— Ну, Эрнест. Она у вас не взяла ни одного квалификационного заезда. И… по-моему, вы темните.
— Мсье Линеман, — отец приподнялся.
— Эрнест! — мсье Линеман поднял руку. — Я бы ни слова вам не говорил. Ну? Эрнест, милый… Вы понимаете в лошадях в тысячу раз больше, чем я. И вообще… Мне повезло, что мы работаем с вами. Но, Эрнест… я просто думаю… о вас.
Отец молчал, делая вид, что не слышит.
— Скажите прямо — вы с Морисом собираетесь записывать Гугенотку на Приз?
Было слышно, как кто-то остановился у двери жокейской и, подождав, отошел. Кажется, это был Диомель.
— Эрнест… — мсье Линеман вздохнул. — Хорошо, вы можете не верить, что я дружески беспокоюсь о вас. Но ведь — есть лошади. И… как-то… Мы вроде бы владеем ими вместе.
— А что — лошади? — отец привстал. — Лошади здесь ни при чем.
— Эрнест, не валяйте дурака. Не будем детьми. Не связывайтесь с Тасма.
— Хорошо, — было видно, что отец начинает сердиться. — Что с ними может произойти? С лошадьми?
— Эрнест… Вам что — мало случая с Ришаром? Или — вы плохо знаете Генерала? В конце концов — лошадей могут просто отравить.
Отец молчал.
— Да, я понимаю, стыдно говорить об этом. Но пока мы ничего изменить не можем.
— Но ведь я тоже не дурак. И у меня есть глаза. Потом в конюшне есть хорошие конюхи. В конце концов — есть Диомель.
— Диомель… Вы понимаете, Эрнест, — если Тасма возьмется за вас всерьез, один Диомель с тремя конюхами… Вы понимаете. Они ничего не сделают.
— Я сделаю. Я ведь тоже что-то значу.
Мсье Линеман вздохнул.
— Учтите — скорей всего… первого места вы не возьмете. Но если Генерал только по тому, как вы едете, поймет, что вы взбунтовались, а главное — затемнили Гугенотку, он не простит вам этого. Вы понимаете, Дюбуа? Генерал не простит. И что-то сделает. И сделает это в назидание остальным. Для него это значит слишком много.
— Кто кому должен прощать, мсье Линеман?
— Я сейчас не об этом. Ну же, Эрнест. Ну… У нас с вами ведь другие отношения. Поймите — я не только умом… я ведь и сердцем… за вас. И потом — взять Приз. Ну — кто не мечтал об этом. В конце концов, со мной ничего не случится, даже если отравят лошадь. Ну — пусть двух, трех. Пусть я на этом потеряю несколько тысяч. Переживу — терял и больше. Но вы понимаете, что будет с вами? Эрнест?
— Что?
— Весь ипподром после этого будет работать только против вас. Поймите. Весь. Уже не будет жизни. Жизни, вы понимаете, Эрнест?
— Не весь ипподром. Не весь. Есть честные наездники.
— Две-три конюшни… Что они могут? Эрнест, не будем детьми.
— Мсье Линеман…
— Не связывайтесь. Прошу вас, Эрнест, не связывайтесь. По крайней мере — сейчас.
— Я ведь еще не связался.
— А… — продюсер махнул рукой. — Как будто я вас не знаю.
Он устало улыбнулся, и по знаку отца Кронго открыл бар и достал бутылки и стаканы.
— Хорошо. Все-таки отдаю вам должное — Гугенотку вы затемнили прекрасно.
Отец промолчал. Они взяли стаканы, Кронго налил.
— Не хотите говорить. Осторожничаете. Правильно, Эрнест. В конце концов, учтите — я не такая свинья… И… что касается меня, — мсье Линеман взял ложку, осторожно положил в стакан кубик льда. — Я вас, конечно, не выдам.
— Спасибо, мсье Линеман.
— Хотя знаю, убежден — предприятие бесполезное.
— Может быть.
— Ах, как мне хотелось бы, чтобы вы были правы. Ведь вижу, чувствую — хороша… — мсье Линеман отпил. — Хороша, подлая лошадь. Ну — ужас как хороша.
— Она не только хороша.
— Увы, Эрнест. Мы взрослые люди. Корвет есть Корвет… — мсье Линеман пригубил и опять удивил Кронго выражением отрешенности. — Спасибо… Спасибо — не мне. Спасибо вам, Эрнест.
— За что?
— Не могу объяснить. За что. А, черт возьми, Эрнест — вот за это. За это самое.
Он сам не заметил, как прошло время. Он сидел и думал о том, что целая неделя позади. Целая неделя. Кажется, все вошло в колею. Фелиция что-то жарила на кухне. Крикнула:
— Садитесь на веранде… Садитесь на веранде, месси… Мадам спит, я ее накормила… Садитесь на веранде, я сейчас подам…
Свет из гостиной хорошо освещает каменный пол веранды, стулья с фанерными сиденьями, плетеное кресло, стол из камыша. Внизу у берега слышится рассыпающаяся океанская волна. Звук ее медленно расходится вширь, становится тише, глуше, затихает, переходя в слабый хриплый рокот. Кронго вдруг с удивлением вспомнил, что не знает, на какие деньги сейчас живет. Правда, он и раньше не особенно вникал в это, его денежными делами занималась Филаб. С двадцати лет, со времени, когда он стал выступать всерьез, он привык не думать о деньгах. У него всегда была еда, одежда, разменные деньги для себя, все переезды оплачивала дирекция или фирма. Иногда, когда ему были нужны лишние деньги, он начинал играть. Хотя потом бросил — из суеверия. Ведь отец никогда не играл.
Кронго хорошо помнит ощущение того первого запретного выигрыша. Бесстрастные пальцы кассирши легко отсчитали толстую пачку денег. Выигрыш был большим, Кронго ставил на темную лошадь. Странно — оттого, что появилось много денег, он не ощутил удовольствия. Вечером отдал половину выигрыша отцу, и тот странно улыбнулся. Но деньги взял, только предупредил, чтобы Кронго больше не играл. «Ты потеряешь чувство лошади, слышишь, фис!» Но Кронго продолжал играть, и всегда на темных. Он знал наизусть все конюшни. Несколько раз он ставил на себя. Правда, против себя на фаворите не играл ни разу. Это были странные дни — шумные, выматывающие. Это был Париж. И это было задолго до Ксаты… Но сейчас Кронго даже не может вспомнить имена тех, с кем проводил время. Но он же проводил время… Помнит красивую иностранку, венгерку. Ему казалось, что он любит ее… Она плохо знала язык, и утром, просыпаясь, он всегда видел ее немую улыбку. Он жил тогда в гостинице. Потом, когда слова отца сбылись, Кронго бросил играть. Он отстал на полкорпуса. Он до сих пор помнит эту скачку, чувство отчаяния, охватившее его. Отец молча улыбался, помогая слезть. Дело было не в проигрыше, а в том, что он в самом деле перестал чувствовать лошадь. Потом Кронго изменил правилу не играть только дважды… И один раз это было в розыгрыше кубка «Бордо — Лион».
— Рыба, месси… Очень вкусная рыба… — Фелиция осторожно опустила тарелку.
Вдруг проплыли лошадиные лица. Душ Сантуш, Бланш… Он ничего не ел весь день. Почему он вспомнил об игре? Из-за денег?
— Фелиция, где вы достаете еду?
Глаза негритянки убегают от его взгляда.
— Вы покупаете на свои деньги?
Она молчит. Шумят кусты.
— Что же вы молчите, Фелиция?
— Деньги отменены, месси, магазины берут только доллары и боны… Вы ешьте, не думайте об этом…
Рыба была сладковато-соленой, она мягко расползалась на языке.
— Где же вы их доставали? Доллары и боны?
— Как не стыдно, месси…
— Фелиция… — он положил вилку.
— Пришлось крутиться… И… у меня было кое-что…
— Запишите все ваши траты… И — за уход.
— Месси…
— Завтра же. Сниму со счета и отдам… Все, все, Фелиция…
В пять утра… Мысль с трудом пробивалась сквозь подступившую сытость. Он должен работать, работать, иначе все пропадет. Но уже об этом нет сил думать. Целый день — осмотр молодняка, прикидка, обход, набор людей… Что еще осталось… Нет одного кузнеца… И — машина. Пусть будет машина. Машину обещал Крейсс. Он должен встать завтра в три. Он должен работать до исступления, а сейчас лечь, провалиться… Внизу ворочаются волны. Лечь…
— Я разбужу вас, месси… Идите спать…
Лежа у себя в комнате, Кронго слышал шум волн, но этот шум уже становился не шумом, а чем-то беззвучным, неосязаемым. Беседка, маленькая, открытая, она стоит в пустом грязном дворе, и на лавочке у стены беседки сидит человек. Этот человек держит в одной руке тарелку и, улыбаясь, неторопливо разговаривает с Кронго, но так, будто его сейчас слушают, кроме Кронго, еще несколько человек.
— Ведь вы согласны со мной? — сказав что-то совершенно незначащее, человек улыбнулся.
Он поправил рукой одну из гирлянд, свисавших с потолка беседки, и Кронго увидел, что это комиссар Крейсс. Все черты лица были Крейсса, те же изогнутые уши и нос, будто являющийся отражением губ и подбородка и потому придававший комиссару Крейссу сходство с животным — но теперь уже не с хорьком, а с тюленем. Но странно: приглядевшись к его шее, Кронго увидел параллельно идущие коричневые полосы и понял, что шея Крейсса обжарена и чуть трясется, как обычно трясется хорошо обжаренное куриное мясо на собственных ребрах. Шею облегал белый накрахмаленный воротник, и Крейсс продолжал разговаривать с Кронго о чем-то совершенно незначащем, улыбаясь и требуя взглядом ответов, участия в разговоре. Кронго попытался вникнуть в смысл слов Крейсса.
— Попробуйте, это действительно очень вкусно, — комиссар наклонил голову, и Кронго отломил от нее вилкой несколько легко подавшихся кусков. У головы остался лоб и подбородок, а вместо рта и носа обнажились ребра, совсем как у жареной курицы, глаза же попали в тарелку, которую Крейсс держал перед собой. — Ну как, вкусно? — спросила белая гортань, торчащая в этом странном провале.
Кронго ясно видел белые слоящиеся куски в своей тарелке. Он поворачивал их вилкой, с ужасом думая, что это человеческое мясо, и тем не менее отламывал и ел кусочки. А комиссар Крейсс продолжал говорить, несмотря на то что у него не было рта, а одна только белая гортань.
Они с отцом работали с Гугеноткой, и работа была успешной, но скоро он понял — он не может без Ксаты.
Пытаясь преодолеть острую тоску, он убеждал себя, что может чем-то заменить ее присутствие… Он говорил себе, что у него есть воспоминания о ней… Что у него есть мысли о Ксате, он явственно представляет себе ее, так, будто она постоянно находится рядом с ним. В конце концов, говорил он себе, ведь он знает, что может всегда ее увидеть… Ничто непреодолимое не разделяет их — только расстояние.
Сначала ему казалось, что достаточно только представить себе это, достаточно только убедить себя в том, что Ксата никуда не уходила, не исчезала, что они не расставались, что она и сейчас здесь, — и он успокоится, сможет работать дальше. Достаточно только представить себе, что Ксата в Париже, на ипподроме, что она стоит рядом с ним в конюшне, следит, как он раскатывает Гугенотку по тренировочной дорожке, — и он будет спокоен.
Но скоро он понял — ведь ничего этого нет. Нет Ксаты. Нет, просто нет… Ее нет рядом с ним — он только доказывает себе это. На самом же деле Ксаты рядом с ним нет, есть только острая тоска, острое, непреодолимое желание быть рядом с ней, увидеть ее. Ксаты нет, а значит, нет того ощущения бесконечности, нет того удивления, которое теперь ему необходимо. Но ведь в этом и было ощущение перемены. В этом, именно в этом. Ощущение удивления, острое и мучительное ощущение счастья, ощущение, что Ксата рядом. Именно оно, это ощущение муки и счастья, было бесконечно важным, и только оно и меняло все в нем. Но раз Ксаты нет, — значит, нет и этого ощущения. А тогда — зачем все? Зачем?
Но ведь он что-то делает. Зачем-то живет. Нет, он не живет. Не может же он бесконечно задавать себе вопрос — зачем вообще он сам? Зачем мир? Зачем все, что происходит, если нет Ксаты?
Он взял билет на самолет, объяснив матери и отцу, каждому отдельно, что-то невнятное. Сказал, пряча глаза, что с ним что-то происходит, что он должен отдохнуть, исчезнуть, уехать, — и, не дожидаясь, поверят ли ему, вылетел первым же рейсом, скрыв от матери, что он летит в Бангу.
Сидя в самолете, он мучился тем, что улетел, мучился тем, что нужен сейчас отцу, потому что скоро будет розыгрыш Приза, — и все-таки радовался и впервые был спокоен.
Сойдя с самолета, ожидая багажа, ощущая обступившую его тихую, ленивую суету аэровокзала, — он еще не верил, что увидит Ксату.
Вот автобусная остановка. Он знает это место на площади у «столичного терминаля» — на самом деле у старого потрепанного ангара. Он хорошо знает старый автобус, на котором много раз ездил раньше, знает, что автобус сейчас поедет вдоль побережья и по его просьбе остановится недалеко от Бангу. Там, у остановки, слева, за зарослями густых пальм, лежит обычно безмолвный, знакомый ему океан, справа — небольшой перелесок. За перелеском — то, что называется «выселки»: несколько брошенных полуразвалившихся хижин. А дальше, если пройти по тропинке, откроется всегда спокойная поверхность озера и мостки. Раньше эти подробности ничего, не значили для него. Хижины… Перелесок… Океан… В них ничего не было… Теперь же все в них приобретает особый, понятный только ему и важный смысл. Раньше, когда он приезжал сюда с матерью, его охватывало ощущение полного спокойствия. Но сейчас, прислушиваясь к стуку старого мотора автобуса, глядя из его окна, как стоят на площади люди с узлами, — он знает, они ждут такси, — сейчас, чувствуя преддверие городского зноя над утренней площадью, над аэровокзалом, проплывающим мимо, — он ощущает острое, болезненное волнение. Это волнение неверия. Он не верит, что увидит Ксату. Не верит… Как это просто. Проехать по побережью. Через полчаса сойти с автобуса, пройти по тропинке. Потом — подойти к озеру. Перейти мостки. И ощутить счастье. Да, теперь он знает цену счастья. Еще не увидев Ксату, а просто понимая, что она рядом, здесь, что достаточно было ему прилететь сюда, проехать полчаса на автобусе, а потом прийти на озеро — и она почувствует, что он приехал, и приедет туда же… И даже если не почувствует — ей передадут, ведь полдеревни увидит, как он идет через мостки к дому Ндубы.
Здесь, на шоссе, в тени деревьев, была настоящая тишина. Водитель дождался, пока он сойдет. Закрылись двери, автобус уехал.
Кронго прошел несколько метров по тропинке и услышал голоса. Возле одного из деревьев стояли люди. Кронго сразу узнал их — это были жители деревни, он хорошо знал и помнил их одежду, лица, глаза, голоса. Две пожилые женщины — в старых выгоревших накидках, у каждой пол-лица закрыто белыми платками. Трое парней. Седой негр. Они не ожидали его увидеть — и замолчали. По тому, как они сейчас стояли, по напряжению, застывшему в их позах и лицах, Кронго понял — что-то случилось. Что-то плохое, от чего, как они считают, он должен уйти. Стремясь преодолеть это напряженное ожидание, избежать его, Кронго хотел пройти дальше, но седой негр — Кронго вспомнил, что его зовут Тсуб, — странно подмигивая, сказал на ньоно:
— Сынок… Эй, сынок… Ну-ка, подожди… Не нужно, подожди. Постой здесь.
Только тут Кронго увидел длинный предмет под деревом. Предмет был накрыт покрывалом, и Кронго не сразу понял, что это человеческое тело. Когда же понял, то сначала подумал, что человек мертв. Но вот покрывало чуть поднялось, дернулось… Застыло, опустилось — человек тяжело дышал. Кронго увидел окровавленное лицо, выглядывавшее из-под покрывала, задранный подбородок, закатившиеся глаза, веки над ними были разорваны.
— Что случилось?
— Ничего, ничего, — старик непрерывно подмигивал, лицо его при этом оставалось озабоченным, неприятным. — Ты пока постой, не ходи…
Старик смотрел сквозь деревья; Кронго повернулся туда, но ничего не увидел.
— Стыдно перед людьми, — сказал старик, по-прежнему глядя сквозь деревья. — Что люди подумают?
Он прищурился, сморщился; руки его непрерывно двигались, отгоняя мух.
— Балубу? Слышишь?
Ему никто не ответил. Парни переглянулись. Они были одеты, как одевались в деревне все мужчины, — в сандалетах и брюках, голые по пояс.
— Эй, Балубу! — старик повысил голос. — Тебе это даром не пройдет. Ты же его до смерти забил.
Он подождал и добавил:
— Перед братьями ответишь.
— Плевал я на братьев, — отозвался голос из-за деревьев. Голос звучал глухо и показался Кронго знакомым. — Со мной пусть делают что хотят. А ее… Слышишь, Тсуб? Если около увижу…
Кронго наконец разглядел того, кто это говорил. Это был его старый знакомый. Тот самый молодой гигант, которого он не раз встречал в деревне. Он стоял, прислонившись спиной к пальме. Значит, того, кого он про себя называл «старый знакомый», зовут Балубу.
— А если братья будут около нее крутиться, — сказал Балубу, — и их убью.
— Отгони мух, — кивнул старик, будто не зная, чем заполнить тишину. Один из парней присел, ладонью стал отгонять мух, плотно облепивших окровавленное лицо.
— Это он когда напьется, — прошептала на ухо старику одна из женщин. — Трезвый он хороший… Слышишь, Тсуб… Ты же знаешь.
— Хороший, — старик продолжал подмигивать, глядя то на Кронго, то на парня, отгонявшего мух. — Вот тебе — хороший. Сволочь, мерзавец… Человека убил. За что?
— Ты же знаешь… Все из-за нее, — шепнула женщина.
Из-за нее, подумал Кронго. Из-за какой-то женщины. Какой? Он еще не мог понять тогда, что это значит — из-за нее.
— Что ты с парнем сделал, Балубу? — крикнул старик. Он неподвижно, без всякого выражения, смотрел на раненого. — Ты же ему голову всю разбил. Заявим на тебя. Что хочешь делай — заявим.
— Заявляйте! — крикнул Балубу. Он оттолкнулся от дерева и присел, будто собираясь прыгнуть. — Заявляйте куда хотите!
— Ну, ну, — сказал старик. — Эй, Балубу. Не очень-то. Слышишь! Не испугались.
— Да он только из-за нее, — тоже шепотом, оглядываясь на Кронго, сказала вторая женщина. — А так он никого не тронет. Вот увидишь — не тронет. Слышишь, Тсуб… Всё из-за нее. Да и то — когда напьется.
Хотя там, у деревьев, около раненого, ни разу не было произнесено слово «Ксата», Кронго подумал — может быть, это «из-за нее» и значит — «из-за Ксаты»?
Он перешел через мостки, разглядывая жителей деревни, неподвижно стоящих на том берегу и начинавших постепенно расходиться.
Но почему обязательно из-за Ксаты… Он старался убедить себя, что этого не может быть. Это невозможно. Не может Балубу, нелюдь — тот самый, которого он только что видел у дерева… около человека с разорванными глазами… этот Балубу не может быть связан с Ксатой.
Но как смотрел старик на раненого. И как шептали женщины… В их шепоте, в их словах не было осуждения. Даже — в них было что-то вроде поддержки… Они не осуждали Балубу, нет. Если все это из-за Ксаты, — значит, этим шепотом, этими прощающими взглядами из-под платков женщины поощряли любовь Балубы. Любовь к Ксате. Но этого не может быть… Балубу и Ксата…
Он увидел знакомый дом на берегу, веранду, на которой любил сидеть, хозяйку, которая, увидев его, улыбалась и махала рукой еще издали.
— Приехал? А где мама? Ничего, ничего, давай вещи… Да перестань. Худой, серый…
— Ндуба, здравствуй. Можно я…
— Ну-ка, давай вещи. Садись. Хорошо, что приехал.
— Спасибо. Я просто посижу на веранде. Я… приехал один.
Опять будет это — спокойствие, тишина, веранда. И — Ксата… Ндуба не спрашивает, почему он приехал один. Она рада ему.
— Как вы здесь?
— Хорошо, хорошо, все в порядке. Живем потихоньку… Садись… Я пока сбегаю за молоком. С дороги же нужно что-то поесть…
— Да не беспокойся.
— Хорошо, что приехал, хорошо. Ты ведь кокосы любишь… Любишь?
— Люблю.
— Ну, я сейчас.
Ндуба ушла. Кронго хотел спросить ее — что случилось, почему жители стояли на берегу — но передумал. Ему сейчас совсем не обязательно было выяснять — что произошло на том берегу… Совсем не обязательно узнавать, почему произошла драка. И что будет — с Балубу или с кем-то еще. Он приехал к Ксате. Ему хочется сейчас думать только о Ксате. Только о Ксате… Сегодня вечером он встретится с ней — остальное неважно.
Но он продолжал думать о Балубу — и в нем снова возникло ощущение чужести. Он снова испытал это знакомое чувство, снова ощутил себя чужим всему, что было связано с деревней — кроме Ксаты.
Но оказалось — и не нужно было ничего выяснять. Не нужно было ничего спрашивать — Ндуба сама заговорила об этом, когда он сидел на веранде. Он глядел на поверхность озера, отхлебывал молоко из маленького глиняного кувшинчика, а Ндуба передвигалась за его спиной, что-то убирала, что-то переставляла, непрерывно вздыхала, — и он понял, что хозяйке не терпится чем-то поделиться с ним, что-то сказать ему. Но — что же? Он подумал: конечно, это наверняка связано с тем, что случилось на том берегу.
— Что ты, Ндуба? Что-то случилось? — он поставил кувшин на стол. В нем возник острый, мучительный интерес.
— Да нет… — он слышал, как тряпка мерно трется о доски. — Ты прямо… приехал… Нет, конечно. Ты-то ни при чем. А тут у нас… Наши деревенские. Парень один умер. С того конца.
— Парень? — Кронго спросил это, стараясь говорить как можно равнодушней. Да, это — о Балубу. Значит — раненый умер.
— А я думала — ты видел. Он как раз, — Ндуба вздохнула, — когда ты приехал… На том берегу…
Тряпка перестала тереться о пол. Слышно было, как Ндуба достает ступу, что-то пересыпает.
— А… — он постарался скрыть интерес. — Отчего… умер? Этот парень?
— Да тут есть у нас один, — он услышал шуршанье — Ндуба стала что-то неторопливо растирать в ступе. — Сумасшедший… Хотя — нормальный он. Просто — из-за этого дела. Он… сын вождя.
— Сын вождя?
— Ну да, — Ндуба продолжала что-то растирать. — Балубу. У нас же тут… В деревне… Если сын вождя… Ты же знаешь. А он… Из-за девушки из-за одной.
— Из-за девушки?
— Она… На праздниках она танцует. Хорошая девушка.
— Ну и что? — Кронго почувствовал, как что-то сжимается внутри. Ксата. Это — Ксата.
— Ну вот. Из-за нее… Ну… из-за танцовщицы. Из-за Ксаты этой.
Из-за Ксаты. Из-за Ксаты этой. Ну да. Это могло быть только из-за Ксаты. Только из-за нее.
— А… что? — спросил он, пытаясь преодолеть себя, преодолеть то, что возникло сейчас в нем, — преодолеть боль, злость, ревность, которые кипели, сжигая все внутри, непрерывно усиливаясь. — Что из-за… Ксаты?
— Представляешь себе. Приревновал. Он… Балубу этот.
— Что — он?
— Вообще-то — парень он хороший. Никого не трогает, — Ндуба продолжала тереть — мерно, не торопясь. — Парень-то он ничего. Но — из-за Ксаты будто с ума сошел. Стал как бешеный.
Что же еще спросить? Что же еще спросить у Ндубы…
— Давно это он?
— Давно уже. Как почудится ему… Даже не просто ходит кто около нее… А просто — посмотрит кто не так… Как бешеный делается. Напьется. И по деревне бегает. С ножом.
— А… что она? Эта… Ксата?
— Да ничего… Смеется. Ей-то что.
Нет, все это не так. Он должен как можно скорей увидеть Ксату. Особенно сейчас, после того, что узнал. Он должен выяснить… Не может быть, чтобы у нее было что-то с Балубу…
— Ну и вот. Он… Этого парня. Который умер. Приревновал. Ну и — до смерти.
— И — что?
— Да парень-то был не виноват… Балубу просто… от любви своей совсем с ума сошел. Парень на нее даже не смотрел.
Ндуба перестала тереть и ушла на кухню. Наступила тишина. Кронго почувствовал прохладу — она шла от озера, от начинающей постепенно охлаждаться воды. Но эта прохлада не радовала его сейчас, он думал только об одном — узнать как можно больше из того, что скажет ему Ндуба. Ему казалось — это поможет хоть как-то унять то, что жжет его сейчас, унять эту мучительную боль.
— Ты что? — крикнула хозяйка из кухни, хотя он молчал. Вышла на веранду.
— Нет, ничего, — сказал он.
— Аа… Мне показалось.
— А что… она? Ну… она его тоже? Ну, что там — между ними?
— Не знаю, — Ндуба помолчала. — Кто их знает… Он сидел, не веря еще, что все переменилось. Все.
— Она красивая. Ох, красивая она, Ксата. Если б ты видел. Просто — красавица. Да у нее и мать такая была. Тоже… танцевала.
Может быть, ничего не переменилось. Ничего. Он уцепился за эту спасительную мысль.
— Вообще-то у нас с этим строго. Сам понимаешь. Обычай. Да ладно, заболтала я тебя. Сейчас будем обедать.
— А что же… с Балубу?
— Никто не знает. А что…
Все переменилось. Все переменилось, думал он тогда.
— Судить будут. Или… в городе. Или… у нас, на сходке. В лес пока ушел. Явится, никуда не денется.
Он увидел Ксату в тот же вечер — около озера, в разламывающейся от напряжения хрупкой тишине у воды, на том самом месте, где они всегда встречались. Он услышал шорох и обернулся. Он стоял у самого берега, думая о ней, и это была она — и, пока они стояли друг перед другом, в эти несколько секунд, он вдруг понял, как был глуп, ничтожен… Как он был мал рядом с ней, рядом с ее молчаливыми глазами, в которых он прочитал все без всяких слов. Как он был мелок, как недостоин ее, когда сомневался в чем-то. Но это мелькнуло только на секунду — и ушло. Она молча вцепилась в его рубашку, уткнулась в плечо, затрясла, задергала. Он видел — она сейчас изо всех сил удерживается, чтобы не заплакать, кусает губы, морщится. Она удержалась, стала говорить, непрерывно стуча по нему кулаками, стала что-то доказывать ему — жарко, шепотом, с детской обидой, со странной злобой:
— Я не могу без тебя!.. Слышишь!..
Она колотила по нему кулаками. Снова вцепилась в рубашку.
— Я не могу без тебя… Откуда ты взялся такой… Слышишь!.. Я не могу без тебя! Не могу! Не могу-у! Маврик, я не могу…
Она заплакала, бессильно повиснув у него на руках. Она плакала, уткнувшись в его плечо, продолжая бессильно, с горькой обидой что-то шептать, пытаясь найти в нем ответ:
— Слышишь, Маврик… Почему, ну скажи… Почему же я не могу без тебя… Маврик, милый, ну почему я тебя люблю… Ну объясни, ради бога, объясни… Ну объясни же мне, Маврик… Ну…
Он осторожно гладил ее, прислушиваясь к озеру, к тишине, к ее словам.
— Ну объясни, Маврик, милый, пожалуйста… Я же не могу без тебя, совсем не могу… Пойми…
Она закинула голову, взглянула ему в глаза.
— П-почему? — она мучительно сморщилась. — Маврик?
Да, вот сейчас он уплыл. И она уплыла — он ясно ощущает это. Зачем же все остальное — раз это так? Он ощущает ее сейчас, как себя, ясно чувствует ее в этой бесконечности, в невесомости, в пустоте, которая на мгновение — или на вечность? — обступила — его? — или ее? Нет, их вместе.
Значит — она любит его. Значит, все его мысли, все опасения — не нужны. Все это лишнее. Совершенно лишнее. Вообще — ничто не нужно ему сейчас, ничто на целом свете, раз это так.
— Ты приехал из-за меня?
Она прочитала это в его глазах — и успокоилась.
Они уже сидели — и лежали — и плыли куда-то, вцепившись друг в друга, будто боясь, что потеряются в этой пустоте. Плыли бесконечно.
Но ведь ему ничего не нужно, подумал он. Ничего, абсолютно ничего — раз Ксата его любит.
Теперь наступило спокойствие. Спокойствие, невесомость. Он был уверен — в себе, в Ксате, в целом мире. Остальное его не волновало.
— Ты… надолго приехал?
— Не знаю.
— Не знаешь?
— Насколько ты хочешь… Я… понял, что не могу. Просто не могу. Понимаешь — я без тебя не могу.
Тишина. Балубу. Париж. Гугенотка. Тишина. Звезды. И — ничего нет. Ничего. Ничего не нужно. Даже Ксата не понимает сейчас — насколько ему ничего не нужно, кроме нее.
— Спасибо… — она уткнулась ему в плечо. Зачем она это говорит. Почему — «спасибо».
— Мне… так хорошо, — она дотронулась губами до его шеи. — Ты понимаешь?
— Понимаю.
— Я не верю, что может быть так хорошо.
Тишина. Звезды над головой. Ксата. Он подумал — Балубу. Да, Балубу. Но он не хочет сейчас спрашивать или думать о нем. Балубу и все, что связано с ним, безразлично ему сейчас. Потому что это — лишнее. Сейчас это совершенно лишнее. Но вот возникает мысль, которая нарушает тишину, нарушает безмятежность. И вместе с тем эта мысль странным образом становится частью этой безмятежности.
— Ксата… Я хотел тебе сказать.
— Да.
— Мы должны быть вместе.
Что же он понимал под этим — мы должны быть вместе? Только одно — она должна уехать с ним. Да, уехать. Совсем — в Париж. Но это было бы немыслимым счастьем. Невозможным.
Она все поняла. Именно все — то, о чем он сейчас думал.
Дотронулась ладонью до его губ… Подбородка… Щек…
— Маврик…
Он повернулся к ней. Увидел ее глаза. Она улыбалась, и он увидел в ее глазах отражение счастья, они смотрели сквозь него, в пустоту.
— Давай сейчас… Не будем… говорить об этом. Хорошо?
— Хорошо.
Они уплыли. И в то же время он думал — не хотела же она, чтобы он жил здесь, в Бангу. Или — в столице? Она должна понять, что он не может оставить ее здесь. Не может. Как она дорога ему. Как дорога. Не может. Немыслимое счастье — чтобы она была ему так дорога. И все-таки он ответил «хорошо». Потому что сейчас, когда они лежат рядом, он понимает, что не нужно говорить об этом. И она понимает — что не нужно. Но она понимает гораздо больше. Она понимает все — даже то, что должна быть с ним. Понимает — до конца.
Но ведь что-то стояло за ее словами. За запинающимся, неуверенным «Не будем… говорить об этом». Не — будем — говорить — об — этом. Ксата не хотела уезжать. Не «не могла», а «не хотела», И это было совсем не потому, что она не могла оставить деревню. Что она не могла бы жить в Париже — потому что привыкла к деревне. Потому что ее не отпустили бы жители, так как этого не допускал обычай. Она могла бы уехать с ним — если бы он сказал обо всем Омегву. Омегву легко замял бы всю историю. Но — она не хотела. Не хотела… Не потому, что привыкла. Лучше бы он не понимал, лучше бы не догадывался, что дело было совсем не в этом.
Они лежали в зарослях, у озера, и он был счастлив.
— Ты уезжай, — тихо сказала Ксата. — Уезжай завтра. Ведь у тебя там… дела. А я приеду потом.
— Когда?
— Ну… потом.
Счастье. Да, это и есть — счастье.
— Ты не обманываешь?
— Нет.
Именно тогда и раздался этот крик — хриплый крик птицы. Он знал крики местных птиц и раньше уже слышал этот крик — похоже было, что кто-то с силой дует в большую полую трубку. Будто кто-то сильно дул в эту трубку, пытаясь свистнуть, — а получался только сиплый протяжный хрип. Ксата приподнялась — но он тогда не сразу связал ее движение с этим криком.
— Что ты?
Крик повторился, теперь он был ближе. Да, на этот раз уже Кронго был уверен — это кричала не птица.
— Ничего, — она оглянулась. — Мне… нужно отойти.
Только сейчас он наконец понял, что было это «другое». Это другое был Балубу. Кронго наконец понял, почему все у них происходило втайне, почему Ксата так боялась, что кто-то в деревне узнает об их встречах.
Он взял ее за руку, повернул — и она отвела глаза.
— Пожалуйста… Маврик…
— Я знаю, кто это.
— Пусти… — она осторожно высвободила руку. Она уходит — несмотря ни на что, несмотря на все, что было между ними.
— Это — Балубу?
— Маврик… — ее лицо искривилось, стало жалким. — Маврик… Ты… ничего не понимаешь. Это — совсем другое. Маврик, мне нужно отойти. Пожалуйста. Подожди меня здесь. Только никуда не уходи. Никуда. Слышишь?
Она скользнула в кусты, а он остался лежать, неподвижно глядя вверх, не видя ничего перед собой. Значит — это Балубу.
Что же было самым страшным — тогда, когда Ксата встала и скользнула в кусты? Тогда, когда он понял, кто издавал этот хриплый звук? Когда почувствовал, что она ушла к Балубу?
Самым страшным тогда было ощущение утраты власти. Ему казалось, что какая-то часть власти, его власти, именно — его, безраздельной власти любви, которую он так остро ощущал и которая тогда составляла основу счастья, — теперь, после того как Ксата скользнула в кусты, — уходит, исчезает. Он впервые понял, что до этого момента властвовал над Ксатой. Это было счастьем, легким, беззаботным счастьем любви. Он остро ощущал счастье властвовать — так же, как и она властвовала над ним, так же, как и она ощущала это счастье. Но вот раздался крик птицы, звук, полусвист, полухрип, чужой ему, лишний, ненужный, — и она ушла. Она понимала, что произойдет с ним — но все-таки выскользнула, оставила его, ушла туда, в лес, хотя он не хотел этого.
Но ведь он не знал, зачем ее вызывал Балубу. Не знал.
Пусть это была ревность. Он не придумал эту ревность, не звал ее, она появилась сама. Эта ревность вошла в него, раздавила, пронзила, стала его частью. И он не хотел ни о чем больше думать — тогда, когда лежал и смотрел вверх.
Он не хотел, чтобы она уходила к Балубу — даже на те несколько минут. Не хотел. Не хо-тел! И все-таки она ушла — понимая это. Он не хотел выслушивать ее объяснений, не хотел даже понимать, зачем она уходит в лес. Да, он ревновал. Ревновал — потому что разрушилась власть. Ревновал немыслимо, невыносимо… Он лежал, как каменный, ощущая страшную боль, глядя вверх, — и ничего не видел, не ощущал, кроме этой боли.
Но ведь в конце концов он должен был смириться с этим. Должен был! Он должен был понять, что это неизбежно. Но почему же эта неизбежность становилась в те секунды такой мукой? Он должен был понять, что его любовь к Ксате не может кончиться, исчезнуть — никогда, ни за что. Она не кончится, не прекратится — сколько бы он ни ревновал, что бы ни происходило, как бы она ни вела себя.
Она действительно вернулась через несколько минут. Вернулась и легла с ним рядом. Она лежала, положив руку ему на плечо, молча, ничего не объясняя ему. Да, он чувствовал — она не хочет ему сейчас ничего объяснять. Ни-че-го. Но ведь потом, когда он уедет, эти несколько минут могут превратиться в часы… Эти несколько минут власти Балубу над ней.
Именно тогда, именно в эти минуты, когда она лежала рядом, вернувшись, он вдруг понял, что это значит — любить ее. Именно тогда.
Он не знал, что сказать ей тогда, когда она лежала рядом. Не знал.
Нет, не было разницы между миром Ксаты и его миром. Он рассказал ей обо всем — об отце, о заговоре против Генерала, о Гугенотке, — и она поняла это. Она поняла это до конца, так же, как понимал он, — если не больше. Она поняла все тонкости, все, что было главным в заговоре. И встала на сторону отца, и настояла, чтобы Кронго скорей уехал, чтобы помочь отцу. Она никогда не была на ипподроме — но уже хотела увидеть его лошадей. Она уже знала их по именам, различала каждую из них в его рассказах. Он понимал — это значит, что Ксата почти решила, почти готова уехать к нему в Париж.
Сидя в самолете, глядя вниз, на облака, отделяющие небо от океана, он наконец понял остроту, с которой счастье становится реальностью. Счастье, его счастье, мучительное, выстраданное им, болезненное, найденное так случайно и так прекрасно, — вдруг становится чем-то еще, не только тем, что он ощущает в себе, — и от этого не делается менее прекрасным. Если Ксата будет с ним — счастье, оставаясь в нем, частью своей становится всем, что окружает его: вещами, предметами, делами, бокалом шампанского, самолетом, облаками, океаном.
Все было бы хорошо, если бы не появились эти тени. Если бы эти тени не напоминали о какой-то иной, непонятной ему связи, которой он не знал и которую не мог понять. Они появились один раз — когда он лежал на берегу озера и ждал Ксату. Они возникли в тишине, где-то на границе послеполуденной жары и преддверия прохлады, — возникли и исчезли, и больше он их никогда не видел.
Он лежал и ждал Ксату, он был весь наполнен этим ожиданием — и вдруг в тишине, в редких криках птиц что-то почувствовал. Да, он почувствовал тревогу. Сначала это было просто непривычное ощущение, ему что-то показалось. Он как будто уловил какое-то движение в кустах, что-то вроде легкого дуновения, напрягся, прислушался — нет, все было тихо. Никакого движения не было, ему наверняка почудилось. И все-таки ощущение чего-то постороннего, лишнего, ощущение тревоги осталось. Ощущение тревоги не прекращалось, оно росло и в конце концов заставило его встать. Он встал, прислушался — и тихо вошел в кусты. Сначала он хотел просто позвать ее, сказать: «Ксата» — но на секунду передумал. И все-таки сказал, не очень громко: «Ксата?» Он помнил, как не хотела она, чтобы кто-то знал об их встречах, как боялась этого. Если он говорил ей: «Ведь все равно ты уедешь со мной», она неизменно отвечала: «Да, уеду. Но пусть все узнают об этом потом, когда я уеду». И он каждый раз соглашался с ней, потому что знал и чувствовал, что это в любом случае будет счастьем.
Он прошел несколько шагов в кустах — и вдруг понял, что окружен. Он был сейчас окружен тенями, призраками, бесплотными видениями. Но это не испугало Кронго. Он увидел лицо в зарослях, которое безмолвно смотрело на него. Сначала он испытал даже что-то вроде удовлетворения, — значит, я не ошибся, почувствовав тревогу. Встретившись с ним взглядом, лицо не вздрогнуло, не пошевелилось. Это лицо казалось коричневым плодом, давно выросшим на тонкой ветке кустарника и ухитрившимся каким-то образом не согнуть ее. Молодое, безбородое, бесстрастное, лицо было чужим, незнакомым, Кронго никогда раньше не видел его в деревне. Лицо было таким неподвижным, что сначала даже не испугало его. Но что-то в этом лице заставило Кронго понять, что рядом, где-то совсем близко, есть такие же лица, такие же видения, — и они следят за ним. Он оглянулся — и увидел в зарослях еще одно лицо. Теперь уже — с редкой вьющейся бородкой, постарше. Потом — два рядом. Он пытался проникнуть взглядом сквозь листья — и разглядел блестящий коричневый торс, дуло и приклад автомата, повешенного на шею. Кронго подумал — почему же он не пугается? Вернее — испуг есть, но пока не трогает его, он где-то притаился, и Кронго рассматривает сейчас эти лица совершенно спокойно. Да — он спокоен, потому что эти лица сейчас ничем не выражают своей враждебности. Они глядели безучастно, в них не было заинтересованности. Больше того — они позволяли Кронго бесконечно, как ему казалось, и — безопасно разглядывать себя, ничем не отвечая на его взгляд.
Но эта кажущаяся бесконечность длилась всего несколько секунд. Лица исчезли — так, будто их и не было.
Самое удивительное — их действительно как будто не было. Ветки кустов остались неподвижными, стояла та же тишина, изредка нарушаемая всплесками на поверхности озера или криками птиц.
Когда пришла Ксата, он пытался понять — знала ли она об этих лицах… Он спрашивал ее об этом — но исподволь, будто ненароком пробуя узнать, как она шла, что видела по дороге… Но почему в нем возникла эта осторожность? Он не мог это объяснить. Он не задавался тогда вопросом — почему же он просто не спросил ее об этих видениях? Ему казалось — он испугает ее. Но она никого не видела, он понял это по ее глазам. По словам, ответам, по тому, как Ксата смотрела на него, он тогда понял — или ему показалось, что понял? — что она ничего не видела, никого не встречала. Потом уже он убедил себя, что это ему не показалось, что было ясно — эти лица, эти бесплотные видения остались для нее тайной. Но что же все-таки заставляло его тогда не спрашивать об этом прямо? Что? Что именно?
Но ведь они могли видеть его и ее вместе. Могли.
Да, все-таки он был тогда уверен, что почему-то не мог спрашивать ее об этом.
Но в конце концов он должен был когда-то сказать ей о тенях. Должен был. Пусть не тогда, пусть потом.
Этот нелепый сон прервался, и Кронго, еще не проснувшись, попытался уговорить себя, что это всего только сон. Он ощутил тепло. Сон ушел, пропала наконец нелепая белая гортань Крейсса… Кронго услышал шум волн и понял, что вокруг сумерки. Он слышал шепот, называвший его имя. Нет, ему показалось. Наконец Кронго понял, что уже не спит. Сумерки же — утренние… Почему ему приснился именно комиссар Крейсс? Именно он и никто другой? Кронго несколько секунд лежал, пытаясь привыкнуть. Обычно он спускался вниз, бросался в волны. Плотное соленое объятье снимало сон. Еще не проснувшись, Кронго сел, сунул ноги в шлепанцы. Сквозь темную гостиную прошел в ванную. Нащупал кран. Вода падала на шею, затекала на спину, трогала живот. Сейчас он выбит из колеи. Но ведь он бывал уже так выбит раньше. И каждый раз ему казалось, что все кончено, мир остановился. И каждый раз он пытался сцепить какие-то крохи, какие-то остатки своей сущности, и убедить себя, что все не так плохо, что все поправится. Вот и сейчас он пробует сцепить все, что у него есть, в целое. Мотающих головами лошадей, Альпака, Бвану, Ле Гару. Даже старую Бету. Мулельге, объясняющего что-то набранным. Двух барбров, мулата с бородкой, Амалию… Этого крючконосого негра, Бланша…. Все это стягивается вместе, соединяется… Странно — сейчас его охватывает острое предвкушение того дня, когда он откроет ипподром. Предвкушение музыки над трибунами… Выезда лошадей… Бегов и скачек… Они могут состояться уже через неделю. И это облегчает его. Облегчает и то, что он теперь убежден — болезнь Филаб временная… Это просто шок, он пройдет. А мальчики, его дети, которых он почти не знает… Он вспомнил, как зовет их Филаб… Она дала им свои клички — Бубуль и Гюгюль… Им семь и пять… Они сейчас где-то в джунглях, но он думает о них так, словно они рядом и им хорошо. Да, он плохой отец, потому что думает сейчас не о них, а о лошадях… Но он будет лучше. Может быть, он даже сам сядет в качалку… Теперь, собрав все вместе, он связывает это общей мыслью. Не может быть, чтобы все это продолжалось вечно. Наступит стабильность, не может не наступить… Он не знает, как именно, он не хочет думать об этом сейчас — но наступит. Стабильность поможет ему спасти то ценное, что всегда было в его жизни, — лошадей. И чувство победы, чувство Приза. Да — живущее в нем всегда чувство Приза. Он подумал о том, о чем иногда думал с усмешкой, — о профессии. Странная, не производящая ничего. Лошадей давно уже не воспитывают для работы. Он подставил ладонь, отводя струю в сторону, так, чтобы она попадала на затылок. Ради чего нужен тот быстрый бег лошади, который создает он, и все связанное с ним? Ведь ради этого он рожден, он, Кронго, появился на свет, специально приспособленный только для этой цели. Он должен воспитывать этот бег и этих лошадей, и в этом его счастье. Но цель эта призрачна, неясна. Быстрота лошади, ее резвость может быть, и становиться, и возникать в людях, вокруг них и для них — чем-то прекрасным, существующим ради высшей цели… а может показаться чем-то нелепым, ненужным, возникающим непонятно зачем… и притом — всего несколько мгновений. Кронго медленно растер шею сухим полотенцем, снял с крючка шорты, гимнастерку, натянул. Как отчетливо сейчас, в этом зеркале, проявляются в его лице черты матери. Черты, которых он раньше не замечал. Обычный нос, такой может быть и у европейца. Но только у племени ньоно может быть эта остренькая раздвоенность на конце, и за ней — расширенные ноздри, которые ему напоминают ноздри буйвола. Но это заметно только ему, потому что кожа у него гораздо светлей обычной кожи мулата. Волосы черно-седые, но гладкие, как у европейца. Глаза выдают его безошибочно. Огромные веки — даже когда глаза открыты, сочные лепестки кожи занимают две трети глазных впадин, оттеняя грустный белок навыкат. У Кронго он почти без желтизны. Но и этих примет достаточно, чтобы выдать это худое лицо с неясными скулами и чуть вытянутым книзу подбородком. Он редко думал о своем лице именно так, у него не было времени, чтобы об этом думать. Ежедневно бреясь, он изучил его наизусть и знал, что волосы растут редкими островками на подбородке и у висков. Значит, это тоже африканский признак. А он думал, что это просто некрасиво. Поднимаясь по лестнице, Кронго старался отогнать неожиданно появившуюся теплоту какого-то странного тщеславия — то, чего он раньше стеснялся. Эти приметы матери, оказывается, могут стать предметами гордости. Какого-то горького и сладостного раскрытия — да, да, я такой, пусть считают, что это плохо, но я такой, я счастлив, что я такой, и другим не хочу быть. Он уже чувствовал это тщеславие раньше, в детстве. Потом забыл о нем, но сейчас оно проявилось особенно остро, и он пытался отогнать его, уговаривая себя, что то, о чем он думает, недостойно его, глупо, по-ребячески.
Ощущение любви, ощущение счастья переполняло его тогда. Но он старался скрыть это ощущение, держать его в себе — хотя иногда болезненно чувствовал чрезмерность переполненности, мучение от невозможности освободиться от нее. Он никому не говорил о том, что с ним происходит, — кроме Жильбера.
Да, он сказал это Жильберу, когда тот зашел к ним в конюшню, примерно за неделю до дня розыгрыша Приза. Как обычно, Жильбер остановился у двери и свистнул.
— Кро… Ты свободен?
Как легко и мелко все, что он, всесильный, всемогущий, молодой, полный своей любовью, он — Кронго, Кро — делает сейчас. Очистка денников молодняка, втирание мази в круп Корнета-второго, наблюдение за ковкой… Какая все это мелочь… Как все это знакомо ему, как мелко, незначительно — и в то же время как легко.
— Сейчас, Жиль… Привет… Подожди секунду.
Конечно, отец занят сейчас только одним — предстоящим розыгрышем Приза и подготовкой Гугенотки, Кронго же взял на себя все остальные дела по конюшне. Он, всесильный, всемогущий, полный любовью Кронго, Кро. Он — перед которым ничто не может устоять. В нем сейчас живут одновременно переполненность любовью — и мукой… Но именно эта мука и делает его всесильным.
— Кро… Я подожду?
— Все, Жиль, я готов, — он вышел, щурясь на солнце после полутьмы конюшни.
Вот эти условные слова, которые понятны только им.
— Привет великим…
— Привет — о! — таким же великим…
Они отошли в сторону и сели на скамейку, с которой была видна часть трибун и тренировочный круг. Откинулись на спинку, подставили лица солнцу, зажмурились, застыли. Кронго всегда, было легко с Жильбером. Жильбер никогда не пытался что-то узнать у него, всегда выслушивал его молча, без лишних вопросов. Именно таким Жильбер был нужен Кронго. Но и Жильберу нужен был он, Морис, Маврик, Кро, таким, каким он был. И Кронго хорошо это знал, он знал, что скрывается за этим. Кронго был нужен Жильберу из-за его безнадежной любви к матери. Кажется, Жильбер много раз пытался избавиться от этой любви — и не мог. Любовь была именно безнадежной, Кронго это понимал. Жильбер все знал о матери и Омегву, все — от начала до конца.
— Дашь «наколку», Кро? Или «фонарик»?
Шутки. Обычные шутки.
— Перестань, Жильбер…
— Ну, в крайнем случае — свесь ногу…
— Что тебе даст моя нога? Я не лезу в их кухню.
— Ну, ну… О’кей.
— Ты что — стал поигрывать всерьез?
Все это — блаженно жмурясь на солнце, не открывая глаз. Как легко с Жильбером. Как ощущает он сейчас переполненность счастьем — и мукой.
— Да ну — всерьез. Когда я играл всерьез…
Как его переполняет ощущение любви.
— Когда играешь всерьез — все пропадает.
— Верно… Ты знаешь, Жиль…
— Да?
Солнце. Ксата. Он думает сейчас только о ней — и может надеяться, что она думает сейчас только о нем.
— Кажется, я влип.
— Не понял. Ты о чем?
— Жильбер, я влип. Безнадежно.
Да, после того, как он сказал это, ему сразу стало легче. И Жильбер, несмотря на насмешку, скрытую в его словах, понимает то, что сейчас с ним происходит.
— О-о… Это интересно.
— Нет, Жильбер… Нет. Пойми — кажется, я вмазался. Влип всерьез. Понимаешь?
Жильбер молчит. Как легко сейчас говорить об этом Жильберу — и чувствовать, что он все понимает.
— Насчет в м а з а т ь с я в с е р ь е з — это я понимаю, кажется, лучше, чем кто-либо.
Жильберу сейчас горько, и Кронго понимает его горечь и знает причину. Но он переполнен только своим счастьем. Сейчас ему кажется, что Жильбер, понимая его переполненность, забывает о своей горечи. А может быть, наоборот — в этой горечи есть своя радость, и Жильбер чувствует это.
— Кто она? С в о я?
С в о я. Он понимает прекрасно, что это значит.
— Неважно.
— У-уу… Парижанка?
Тишина. Солнце. Что бы он ни сказал сейчас Жильберу — тот все поймет.
— Значит — действительно вмазался всерьез? Она — «культуриш европеиш»?
Все ясно, что хочет сказать этим Жильбер. Белая ли она.
— Нет.
— Так-так-так-так-так. Неужели «наша»?
Он очень хорошо понимает, что значит это «наша». Наша — значит черная.
— Жильбер…
— Прости. И что — хороша?
Тишина. Солнце. Если бы только Жильбер знал, как она хороша. Если бы только он увидел ее.
— Ну, конечно, если ты вмазался, то это какая-то сумасшедшая красавица.
Солнце. Ксата. Переполненность счастьем — и мукой.
— Вот именно — сумасшедшая красавица.
— Дело не в том, что она красавица. Не в том… У нее оттопыренное ухо…
— Ну что же… Сколько ей лет?
Он ничего не отвечает. Сколько нежности сейчас в нем. «Тебе нужна такая обезьянка? Которая ничего не умеет, только — танцевать?»
— Наша, красавица, и, наверное, она прекрасна… Хорошо, хорошо. Не буду ничего спрашивать. Сказал — и довольно. Посидим молча.
— Посидим.
— Просто — я тебя поздравляю.
— Спасибо.
И снова они сидели молча, сидели, не открывая глаз, закинув руки на спинку скамейки, жмурясь на солнце. Да, они теперь все понимали друг о друге, им было легко…
Потом, когда они прощались, Кронго понял, из-за чего зашел Жильбер. Сейчас, перед Призом, он мог интересоваться только одним — есть ли еще какие-нибудь фавориты, кроме Корвета.
— Я не прошу тебя выдавать тайну, слышишь, Кро… Ты просто скажи — отец поедет?
Смеющиеся, прищуренные глаза Жильбера. Но даже ему нельзя сейчас ничего говорить — даже Жильберу, которому он верит, как себе, который, он знает, никогда ничего не выдаст. И — все-таки…
— Отец всегда едет. Пойми это, Жильбер.
Жильбер смеется.
— Ты же знаешь, Кро, я всегда, в любом случае, ставлю на вас. На фаворита — и на вас. Ради интереса.
— Ну — если ради интереса… Ставь и сейчас.
В день розыгрыша Приза они были в конюшне уже в шесть утра и сразу же прошли к деннику Гугенотки. Диомель стоял у денника и следил, как двое младших конюхов чистят пол. Вместо приветствия молча поднял большой и указательный пальцы, сведенные в кольцо. Это значило — все в порядке, ночь прошла хорошо, лошадь в хорошем настроении. Они вошли в денник — и Гугенотка повернулась, зашевелила губами: ждала обычной морковки.
— Выведи ее пройтись, — отец достал приготовленную, заранее очищенную, морковь.
Гугенотка легко взяла ее, прихватила зубами, осторожно хрустнула.
— Сделаем, шеф. — Диомель надел на кобылу легкий оброток без удила, цокнул, — и лошадь, все понимая, задергала шеей, стала баловаться, уворачиваясь от обротка, присела на задние ноги.
Потом вдруг, увидев, как Диомель улыбнулся, и словно поняв, что капризничать дальше нельзя, повернулась и вышла в проход. Они с отцом вслед за ней прошли во двор, сели на скамейку, наблюдая, как Диомель стал медленно водить Гугенотку по кругу. Сразу было видно, что кобыла сейчас в идеальном порядке, — по сухости и легкости шага, по рабочим мышцам, особенно мышцам крупа и задних ног, сейчас легко и расслабленно перекатывающимся под черной блестящей кожей.
— Как будто ничего, — сказал отец.
— Ничего, па. Да… сколько еще кобыл в заезде?
— Если Генерал ничего не выкинет — одна. Патрицианка.
— Вспомнил. Она заявлена по шестой дорожке. Поедет Клейн.
У них традиционно была третья дорожка, у Генерала — вторая.
— Да. Вот что, фис. Я, конечно, не думаю, чтобы Генерал чего-то опасался или заподозрил. На Корвете ему нечего бояться, сам понимаешь. Но все-таки — вдруг они захотят меня придержать.
— Все может быть, па. На всякий случай.
— Ты знаешь, кто обычно придерживает у Генерала.
— Знаю. Клейн и Руан.
— Все верно. Клейн обычно занимает бровку.
— Обычно. А Руан идет сбоку и садится на колесо. Так — это хорошо.
— Все это меня устраивает — если так и будет.
Диомель отпустил оброток, Гугенотка прошла несколько шагов и остановилась.
— Понял. Руан едет на Идеале?
— Ну да. По первой дорожке. Понимаешь — вдруг они решат поменяться? Так, знаешь — из прихоти?
— Может быть.
— Ведь они думают, что закроют меня играючи. Как стоячего. И вообще — меня в этом заезде никто за человека не считает.
— Да. Этого битюга тебе будет трудней сделать, чем Патрицианку.
— Поведу, поскребу ее немножко, шеф! — крикнул Диомель.
— Давай, давай.
— И вообще — кобыл она обходит легче. А мимо Идеала ты скользнешь играючи.
— В том-то и дело. Понимаешь — боюсь: вдруг в заезде следить, как они там перестраиваются, мне будет некогда.
— Все понял, па.
— Ведь вы с Диомелем обычно следите за заездами здесь?
— Ну да, у конюшен. На третьей четверти.
— А вы встаньте чуть ближе.
— У перехода? А… Генерал? Вдруг он догадается?
— Не догадается. Ему будет не до этого. Да и потом — он в заезде никогда по сторонам не смотрит.
— Хорошо, па.
— Так вот — ты сразу увидишь, как они идут. Если как обычно и Клейн с Патрицианкой ближе к бровке, — значит, все хорошо, подними руку и покажи большой палец. А если заметишь, что они перестроились и бровку держит Руан, — стой смирно, я все пойму.
Кронго ощутил холодок — все, главный заезд уже скоро, через полтора часа после начала, в два.
— Хорошо, па.
За полчаса до заезда на Приз лошади, прошедшие уже разминочные круги, были готовы. Отсюда, от конюшен, хорошо было видно, как некоторые идут, увлекая качалки с наездниками, от рабочих дворов к месту, где весь заезд выстраивается перед паддком, чтобы выехать на торжественный парад. Первыми потянулись американцы — оба в одинаковых сине-белых полосатых куртках и красных шлемах. Американцы ехали прямо через поле, о чем-то переговариваясь с качалок. Их лошади — бравший уже третье место игренево-рыжий Леон и мало кому известный гнедой четырехлеток Бетти класса «один пятьдесят пять» — были в прекрасном порядке. Но, хотя об американцах много говорили, можно было предсказать — в таком заезде их затрут уже со старта. Лошади здесь были равные, Корвет же — а может быть, и Гугенотка — просто выше классом. К тому же места у Леона и Бетти по жеребьевке были неудачные — девятое и тринадцатое. Надо было знать ипподром — фору в несколько дорожек здесь не простят и в обычном заезде. За американцами медленно двигался Руан в шахматном камзоле — на тяжелом с виду вишнево-гнедом Идеале. Чуть дальше подтягивался Клейн на Патрицианке — он был во всем красном.
Отец стоял у качалки в белом шлеме, в белоснежных куртке и брюках, держа перчатки под мышкой, потягиваясь и разминая пальцы. Лицо его было серьезным, хотя он и старался шутить, улыбался и подмигивал — Кронго, Диомелю и Жильберу. Вот сдвинул очки на лоб, потер переносицу.
Гугенотка в полной упряжи, изредка вздрагивая кожей у холки, осторожно отжевывала удила. Они, все трое, стояли рядом с отцом, чуть поодаль держались младшие конюхи. Мсье Линеман не пришел — он сидел на почетных местах на центральной трибуне.
— Все понимает, красавица, — сказал отец. — Гугошка.
Гугенотка чуть повернулась, дернула головой, приподняв гриву.
— Гугошка, не подведи. Не подведешь?
— Шеф, седелку еще раз проверьте, — сказал Диомель.
— Да все в порядке, — отец занес ногу.
Гугенотка переступила ногами, будто ожидая, когда отец сядет.
— Ну, пошел, — отец сел в качалку.
— Ни пуха, — сказал Диомель. — Слышите, шеф?
— К черту, — отец цокнул, Гугенотка легко пошла к кругу, выезжая к проезду на поле.
Они увидели, как, отъехав уже далеко, кобыла развернулась, медленно пошла по краю поля, будто нарочно показывая им свою стать, потом пристроилась цугом к другим лошадям, последними съезжавшимися к главным трибунам. Отец сидел пригнувшись, не глядя в их сторону, одной рукой придерживая вожжи, другой слишком уж тщательно поправляя очки. Сзади подъезжал Генерал — в белых брюках, сиреневой куртке, оранжевом шлеме, с хлыстом под мышкой. Корвет шел к трибунам последним — слабым тротом, каждым шагом показывая мощь, силу и одновременно — легкость. Сейчас вслед Корвету, собравшись гурьбой у конюшни, смотрела целая свита; несколько телохранителей, как обычно, разошлись и сели у бровки.
— Это лошадь, — сказал Жильбер. — Это действительно лошадь.
— Лошадь, — отозвался Диомель. — Кто спорит — лошадь. Ну и что? Что, я тебя спрашиваю?
— Да ничего, — сказал Жильбер. — Я так.
В комнате Филаб Кронго включил приемник. Вспыхнула шкала. Но разве вся его жизнь — не ребячество? Что заставляет его, сорокапятилетнего, вспоминать сейчас сладостное ощущение бросающейся в лицо дорожки?
— Передаем сообщения… — чисто и негромко сказал голос в приемнике. — Вчера террористы сделали попытку покушения на ряд служащих государственного аппарата…
Улыбка на лице Филаб пропала.
— Выключить? — он обрадовался, что может что-то сделать для нее, не прибегая к тому лживому взгляду, который ей необходим.
— По неполным данным, в попытке участвовало девять…
Кронго нажал кнопку, шкала потухла. Филаб снова улыбнулась, он взял кофе, сел на кровать. Кофе был чуть теплым, горьким до жжения. Кронго тщательно прожевал гренки, чувствуя, как вкус сыра, солоновато-сладкий, смешивается во рту с хрустящей пресностью теста. Приз, вот в чем дело. Океан, ровный и тихий, светлел голубой полосой на глазах. Этот отсвет, осторожно касаясь серой широкой глади, окрашивал ее в зеленое. Но это зеленое было еще темнотой; оно проявлялось то светлым пятном, то темными густыми полосами. Опять все подтягивается одно к одному — ипподром, то, что он попробует сегодня проверить несколько заездов, может быть, даже — скачек… Подумает, что можно сделать с теми, кого он набрал. Барбры и Бланш уже научились обращаться с качалкой. Только бы удержать это ощущение ясности, прочности, которое установилось сейчас. Да, и еще — вновь появившееся, такое же, как раньше, острое предвкушение бегов и скачек, подсасывающее чувство, тревожащее и дающее силы.
— Пойду. Не скучай.
Филаб на секунду закрыла глаза. Кронго будто бы и понимал, как плохо, что он с радостью оставляет сейчас это тело, эти бессильные беспокойные зрачки. Он уходит от них «к своему» — к тому, что постепенно и сильно захватывает его. Но он вспомнил, что сегодня купанье лошадей, и он в любом случае должен спешить. Каждая секунда сейчас обкрадывает его, утренняя прохлада скоро пройдет, наступит жара. И с предательским чувством избавления, легкости, тронув еще раз ее руку, заспешил вниз.
Берег, у которого обычно купали лошадей, был недалеко от ипподрома. Подъехав сюда на «джипе», который вот уже неделю присылал ему Душ Сантуш, Кронго увидел, что лошади здесь, и, отпустив «джип», пошел к линии прибоя.
Еженедельное купание лошадей именно в океане было введено им еще в первый год приезда сюда. Оно стало обязательной частью распорядка ипподрома. Кронго знал, как капризны и привередливы чистокровные лошади. Узнав об этом давно, он не всегда мог объяснить, почему так важна для работы именно эта часть их характера. Правда, как тренер, он никогда в этом не сомневался и считал само собой разумеющимся. Факты подтверждали, что обязательное удовлетворение, а иногда и обязательное потакание всем прихотям лошади, не связанным с бегом, приводят к интенсивному росту резвости. Зная, как важно послушание лошади на дистанции, Кронго убедился, что вне дистанции он должен чем-то компенсировать это послушание, использовать странную связь между удовлетворением капризов и ростом скорости. Он-то знал, чем иначе может отплатить лошадь: дурным настроением, вялостью, безразличием, всем, что так ненавистно тренеру и наезднику.
— Месси Кронго… Утро-то божье, утро божье какое… — в тишине берега Кронго увидел Ассоло, спешившего к нему.
Поодаль неподвижно сидел на большом сером камне Мулельге. Четкий контур лица и рук Мулельге был недвижим, Мулельге глядел вперед, туда, где было что-то черно-сиреневое. В этом черно-сиреневом можно было сейчас только еще угадать линию слияния океана с горизонтом.
— Где достали автофургоны? — спросил Кронго, чувствуя, как ботинки слабо увязают во влажном песке, а рассеянные во множестве пустые раковины легко чиркают по подошвам.
Так получилось, что утренние купания стали массовым дополнительным капризом всех лошадей, они с нетерпением ждали выездов по четвергам, и отменить купания было уже нельзя.
— Душ Сантуш… — не повернувшись к Кронго, сказал Мулельге.
Эту кажущуюся непочтительность, короткое «Душ Сантуш» вместо полного ответа Кронго как бы не заметил. Сейчас, в хрупкой тишине предутреннего берега, он признавал право Мулельге сидеть неподвижно и глядеть в океан. Если бы Мулельге поступил по-другому, это показалось бы Кронго странным. В сумерках у воды долго, насколько хватало глаз, темнели силуэты лошадей. Они были неподвижны. Смутно угадывались лишь морды, спины, ноги. Легкий всплеск от копыта разломал тишину, вслед за этим кто-то фыркнул, вздохнул, снова все стихло. Лошади заходили в спокойную гладь сами, когда и где вздумается. Камни и мокрый ночной песок поглощали все звуки. Рассвет всегда, неизменно должен был наступать после того, как последняя лошадь, сойдя с автофургона, успевала привыкнуть к океану.
— Шесть автофургонов обычных… — Мулельге чуть шевельнулся, разглядывая линию горизонта. — Седьмой для скота.
Одна из лошадей, стоящая ближе, опустила голову, беззвучно тронула губами воду, будто пробуя, осторожно шагнула. Кронго узнал Мирабель, третью по резвости лошадь рысистой конюшни. Ее гнедая масть была неразличима в сумерках, но неизвестно откуда появившийся розово-сиреневый фон горизонта вдруг обрисовал контур маленького аккуратного тела, короткого, но с чистыми линиями. Достоинства этих линий были понятны Кронго. Он медленно пошел вдоль берега, замечая сидящих на камнях конюхов, лошадей, то стоящих у кромки песка, то зашедших в воду по самые бабки, темные пятна автофургонов, серебрящиеся в темноте островки прибрежной травы. Здесь была элита, взрослые лошади, как раз те, что уже начинали показывать характер. Человек был готов отдать лошади все, лишь бы она показала себя на дорожке, и лошадь всегда чувствовала это. Будучи послушной его руке на дистанции, она потом требовала взамен стократного послушания. Она как будто чувствовала, что, как бы непомерны ни были ее капризы, капризы хорошей резвой лошади, человек всегда смирится с ними — во имя рабочих качеств. Мирабель, всегда ровно и чисто работавшая на дорожке, вне ее была злым, мелочно-мстительным, обидчивым и желчным существом. Она постоянно норовила укусить конюха, незаметно сделать ему больно, в самый неожиданный момент прижать к стенке денника. Однажды из-за этого она сломала два ребра тихому Амайо, который всегда терпеливо и заботливо ухаживал за ней. Но стоило Кронго и второму конюху после этого на нее накричать, а потом лишить лакомства (о том, чтобы тронуть призовую лошадь, не могло быть и речи), Мирабель сникла, завяла, стала пугливой. Несколько испытаний подряд она приходила в заезде последней. Стало ясно, что может пропасть одна из лучших лошадей. Она не признавала других конюхов, и спасти ее для дорожки удалось, лишь вернув в денник забинтованного Амайо.
— Здравствуйте, маэстро…
Бланш сидел на камне, подогнув одну ногу в засученных по колено брюках, обхватив это колено руками. Розовая полоса над горизонтом светлела равномерно и неотвратимо. Но неясный, смешанный с синим оттенок на ее краю был еще тяжел. В голосе Бланша Кронго послышалась смесь почтительности и удивления. «Я, крючконосый нагловатый негр, слишком низко поставил вас, и вашу работу, и ваш ипподром, придя к вам наниматься…» — явственно услышал Кронго в «здравствуйте, маэстро» и в висящем сейчас в воздухе долгом взгляде Бланша. Лошадь, стоявшая рядом, повернулась, под ее ногами заскрипел песок. «А сейчас я понимаю, что э т о достаточно высоко, достаточно тонко, пока даже слишком тонко для меня… Я приобщаюсь к чему-то большому… Я не могу всего этого сказать, объяснить… Но вы понимаете, что я сменил привычный наглый тон на почтительный только для того, чтобы вы это поняли…» Рядом с Бланшем стоял угрюмый тяжелый Болид. Он даже не скосил глаза, не шевельнул мускулом при приближении Кронго. А что, если Бланш… Ломкая тишина, в которой не слышно было обычных криков птиц, беззвучно уходила вдаль по воде. Лошади затихли, будто боялись нарушить ее и спугнуть. Кронго прошел еще несколько шагов. Заметив, что треск ракушек под его подошвами — единственный звук на берегу, остановился. Линия над кромкой океана вдали была уже отчетливо розовой. Этот розовый отблеск сломался, потемнел, потом раздался широкой желтеющей полосой, наполовину скрытой черными заплатами. Заплаты сменились синими прямоугольными кусками. Куски эти нехотя расходились, смешиваясь с розовым, превращаясь в длинные лилово-коричневые полосы. Но та медленность, с которой это совершалось, была непонятна. Розовое, составляя пестрый резкий набор с лилово-коричневым, ровно засветилось, захватив постепенно огромную часть неба, плоско поставленную над океаном… От вставшей зари что-то вздрогнуло вдруг. Но что именно — Кронго не понял. Лошади, как одна, повернули к рассвету головы. Над поверхностью океана, которая из чернильно-черной стала теперь синей с зеленоватым оттенком, дрожало и пробегало что-то, похожее на дрожь воздуха или на звук, и этот тихий звук-дрожь неясно будил все, передаваясь и людям, и лошадям. Какая-то лошадь — Кронго увидел, что скаковая, но не смог узнать по имени — глухо фыркнула, с шумом запрыгала, взбивая воду, но ее никто не поддержал. Она остановилась. Воздух был еще темен, несмотря на рассвет, тела лошадей, неподвижно стоящих в воде и у берега, можно было спутать с валунами, редко разбросанными по мелководью. Кронго казалось, что шум, поднятый нетерпеливой лошадью, пропал, исчез, о нем забыли. Но вот увидел Альпака — он будто не замечал Кронго, так, как если бы Кронго вообще не стоял рядом. Неудобно изогнув шею, напружинив серый корпус, Альпак вглядывался в одну точку. Пестрота рассвета стала совсем светлой, разбудив океан.
Кронго понял — Альпак глядит туда, где взбрыкнула и теперь стояла неподвижно первой нарушившая тишину кобыла. Розовое с клубами и полосами синего над океаном медленно расплывалось. В монотонную торжественность этой пестроты незаметно, но упорно врывались окружности и блики желтого и алого. С другой стороны берега послышалось, как несколько лошадей заходят в воду. Океан проснулся. Кронго уловил в стороне рядом чей-то пристальный взгляд. Испуганно скорчившись, у самой воды сидела негритянка, которую он уже знал. Она делала вид, что разглядывает песок, вытянув длинные худые руки, стесненная тем, что он почувствовал ее внимание. Амалия была одета по-мужски, как все конюхи, в подвернутых по колено брюках и застиранной рубашке. Почувствовав, что Кронго не сердится на нее и даже взглядом старается ободрить, она подняла голову. Глаза Амалии неторопливо, по-африкански, плавным заигрывающим движением пошли вбок, двинулись в одну сторону, в другую, остановились. Ноги ее сдвинуты вместе, босые ступни чуть расставлены, пальцы подогнуты. Да, эта девушка чем-то притягивает его — но это только мелькнуло на секунду и ушло. Резко посветлело, Кронго пошел дальше, до той части берега, где стояли последние лошади… Кронго отмечал их по именам — Кариатида, Парис, Болид, Блю-Блю, Кардинал, Казус… Теперь он должен думать только об одном — что конюшни спасены. И он уже спокойно думает и о рысистых испытаниях, и о скачках, уже примерно знает, как составить заезды. То неприятное, что першило в горле после разговора с Крейссом, прошло. Размеренность, повседневность, обычность — вот к чему он должен теперь стремиться. Эта размеренность очень важна для него, она поможет втянуться, снова почувствовать то тонкое, что так неожиданно ускользает от самых разных причин.
И в самом деле, именно с этого рассвета ему удалось поймать и ухватить размеренность. Последующие дни он старался сделать похожими один на другой. И они становились похожими. Ранний, до зари, приезд на ипподром. Обход конюшен. Работа с молодняком в манеже. Перерыв на завтрак. Привычный для него мучнистый фруктовый навар, который готовила Фелиция. Снова работа, теперь уже до позднего вечера. Обыденность и размеренность были ему приятны, он чувствовал, что они нужны, они благотворно действуют на него. Он уже решил, что, как только почувствует, что может составить несколько заездов на неделю вперед, назначит бега и скачки. То же, что ежедневно, ежечасно происходило вокруг, не мешало ему. Улицы, по которым он проезжал на ипподром, были спокойны. Давно уже открылись лавки, в переулках, ведущих от набережной к окраинам, стояла обычная толкотня. Все шумней были гам и ругань торговцев. Радиопередачи… Радиопередачи он старался не слушать.
Но при чем тут радиопередачи, думал иногда он, где-то в перерыве между пробным заездом и переходом в; манеж. Он никому не может объяснить, как глубоко чувствует и знает то, чем занят всю жизнь. Ни Душ Сантушу, ни Крейссу, ни Фердинанду с его кривой улыбкой нельзя это объяснить. Они не смогут этого понять. Он рожден для этой работы, пусть он не может объяснить, найти ее смыслу какое-то оправдание. У него есть лишь убежденность, не требующая оправданий, что работа нужна только ему, — а искать объяснений, почему она нужна другим, он не хочет.
Отсюда, через доле, паддок и дорожки, на многоярусных, забитых людьми трибунах можно было различить только легкие и зыбкие волны белого, красного и цветного. Розыгрыш Приза, как всегда, собрал весь Париж и туристов; кроме того, заезд транслировался по прямой в городские залы и передавался по четырем каналам телевидения в Европу, Америку и Австралию. Над трибунами стоял гул, изредка взрывавшийся сдержанным громом, — он возникал каждый раз после объявления об изменениях в заездах. Ипподром сейчас забит до отказа, можно было увидеть, что на массовых трибунах протолкнуться невозможно и, хотя продажа входных билетов давно прекращена, люди стоят в проходах. Говорили, что Генерал вложил крупные деньги в рекламу противников — американцев; Тасма знал, что окупит свое и равные ставки будут обеспечены. Ведь только немногие специалисты знали, что у Корвета нет сейчас серьезных соперников; реклама была с успехом поддержана, газеты уже несколько месяцев писали только об американцах: сообщали подробности подготовки, интриговали дутыми секундами, умело преувеличивали возможности. Все это делалось для того, чтобы в конце концов создать видимость равенства и предстоящей борьбы.
Грянул торжественный марш; цепочка из четырнадцати лошадей с дальней стороны поля медленно приближалась к трибунам. Жильбер, Диомель и Кронго двинулись вдоль ограды к месту у второй четверти призовой дорожки. Телохранители, сидящие попарно на скамейках или прямо на земле, провожали их взглядами — передавая друг другу. Люди Генерала знали каждого из тройки, поэтому взгляды телохранителей были сейчас пусты и ничего не означали. Это были ленивые взгляды служак, уставших на рутинной работе; так смотрят на пустое место.
— Следят, — сказал Диомель. — Следите, следите, субчики. За это вам деньги платят.
— Шавки генеральские… — поддержал Жильбер. — Совсем зажрались.
— Ничего, — Диомель огляделся. — После заезда оживятся. Встанем здесь, Морис.
Жильбер остановился. Посмотрел на Кронго.
— А что — после заезда?
— Ничего, — сказал Кронго.
Но Жильбер что-то почувствовал.
— Э, Кро?
— Смотри лучше, Жиль… Сейчас получишь удовольствие.
— Ты о чем? Что — неужели Принц поедет?
— Смотри.
— Что будет… — сказал Жильбер. — Ай-яй-яй, что будет… Ну, знаешь, Кро, мальчик, — это свинство… Честное слово… Сказал бы хоть час назад… Отец поедет?
— Жиль… Не отвлекай…
— Я поставил всего пятьдесят билетов.
Кронго сейчас думал только о заезде. Он почти не слышал и не понимал — о чем говорит Жильбер.
— Хватит тебе, Жиль… — сказал Диомель. — Ты и с десятью обеспечишься на год.
Раздались удары колокола. Ипподром притих; лошади, до этого показывавшие трибунам идеальную рысь, сейчас разворачивались с разных концов к старту; комментаторская и стартовая машины тоже подъезжали к полосе разгона. Кронго ощутил, как много значит для него этот момент… Момент — которого они с отцом так долго ждали Вот это — холодок вдоль спины; плотность воздуха; пересохшее горло; боязнь за отца, за то, что вмешается какая-то мелочь, которую нельзя предусмотреть. И в то же время в нем сейчас живет вера в Гугенотку, вера в то, что они все-таки добились своего. Он был почти уверен — Гугенотка может показать «один пятьдесят». Она сравнялась, а может быть, и превзошла Корвета. Лишь бы это было так… Лишь бы было… Лишь бы было… Если это так — отец выиграет; ведь Генерал не знает, что в заезде есть равная лошадь. Это и даст Гугенотке те доли секунды, которые помогут обойти Корвета; пусть это обман, этот обман — ничто по сравнению с тем, что делал и делает Генерал.
— Не могу, — сказал Диомель. — Такие вещи не для меня.
Да, в том, что они затемнили Гугенотку, был обман; но этот обман поможет разрушить тысячи других обманов.
— Перестань, — отозвался Жильбер. — Слышишь, Диомель. Во-первых, все ясно… И придет Корвет…
— Заткнись.
— А если не придет — что? Мы выиграем. Да, Кро?
Кронго не ответил; он следил, как лошади, миновав линию старта, проезжают дальше, разворачиваются и выравниваются. Отсюда хорошо был виден белый камзол отца; Гугенотка, пропустив на вторую дорожку Корвета, завернула и встала с ним рядом, легко продолжая движение по третьей дорожке. Она шла к линии старта, выравниваясь с остальными лошадьми, шла хорошо, ровно, без тени испуга, не уступая соседям ни сантиметра. Лошади, постепенно разгоняясь, будто плыли перед крыльями двигавшейся все быстрей стартовой машины.
Диомель схватил Кронго за локоть. Кронго покосился, — кажется, Диомель сейчас ничего не ощущает и не видит, кроме шеренги лошадей.
— Молодец, старушечка, — прошептал Диомель. — Молодец, старушечка… Впритирку, вплотную… Так их… Молодец, старушечка…
— Выравнивайтесь! — прогремел голос в репродукторе. — Выравнивайтесь! Пятый номер, подтяните лошадь!
Ипподром глухо шумел; это была реакция, сейчас все следили, как лошади подходят к старту, как завоевывают или отдают сантиметры.
Лошади пошли быстрее; Гугенотка по-прежнему не уступала ни пяди, двигаясь вплотную к крылу; Корвет подавал чуть легче, как бы уступая пространство, как бы говоря остальным номерам — смотрите, я добровольно проигрываю вам на старте чуть ли не метр.
— Отрывайтесь! — приказал репродуктор. — Отрывайтесь!
Машина уехала. Все в шеренге, сразу резко прибавив, включились в борьбу. Шли кучно: Корвет занял место в середине; тут же, то уступая, то сравниваясь с ним, бежала Гугенотка; несколько лошадей перед ними боролись за место у бровки.
Да, это был обман; но обман справедливый, Кронго это знал, чувствовал и не считал обманом.
На первых метрах дистанции стало ясно, что Генерал еще ни о чем не догадывается. По тому, как он сидит в качалке, как держит вожжи, Кронго понял — Тасма сейчас спокоен за себя, за судьбу заезда и за Корвета. Поэтому и не выходит сразу вперед, чтобы, как это не раз бывало раньше, закончить дистанцию далеко впереди с отрывом в несколько столбов. Зная, что равных Корвету нет, и помня о рекламе, которая перед заездом сопровождала каждый шаг американцев, Генерал решил поиграть и закончить гонку броском на финише — тем более что Руан и Клейн уже сейчас ловко оттерли американцев и идут в общей куче, почти не придерживая лошадей и создавая нужный пейс. Генерал мог позволить себе и такое — несмотря на то что Корвет не готовился специально, как финишер, и обычно проходил дистанцию ровно. Гугенотка же была ярко выраженной концевой лошадью; они с отцом хорошо знали, как много сил остается у нее каждый раз к концу дистанции. Этих сил хватило бы, конечно, и на то, чтобы выдержать борьбу с Корветом с самого начала. Но тогда Генерал гораздо раньше понял бы, в чем дело, и мог пойти на все; ради победы он не постоял бы даже перед тем, чтобы загнать Корвета. Сейчас же он ничего не будет знать по крайней мере до третьей четверти. Именно потому, что Генерал сейчас придержал Корвета, пока все складывается хорошо. Гугенотка идет ровно и легко, держась то четвертой, то пятой. Если все и дальше будет идти так — борьбу решит финишный бросок.
Сразу за отцом шли Клейн и Руан; Кронго видел, что они заняты сейчас не столько заездом, сколько американцами. Лошади, занимавшие пока первые три места, опасности не представляли: впереди по бровке двигался швед на заурядном жеребце, явно не рассчитав силы. За шведом держались аргентинцы — два таких же середняка. Трибуны шумели непрерывно; лошади вошли в первый поворот. Швед отпал и сделал сбой; к началу второй четверти заезд выравнялся. Увидев приближающиеся морды, ровно и безостановочно мелькавшие ноги, Кронго понял — Генерал выпускает вперед остальных. Кого же? Идеала и Патрицианку… Руан и Клейн… Патрицианка идет первой и — хоть и на вожжах — пока совершенно сухая. Чувствуется, что кобыла сможет выдержать еще целую четверть… Сможет… Сможет… Если не больше. Отец пока не прибавляет. Видно, что Гугенотка тоже совсем свежая; она продолжает идти в незаметной борьбе с Корветом. Молодец, Гугошка… Молодец… Рыжий сух; так и должно быть; Корвета ничто не берет.
— Что он делает… — Диомель взял Кронго за руку. — Его же съедят.
— Первая четверть — двадцать семь секунд, — объявил комментатор. — Идут с опережением, но пока — не на рекорд.
— Съедят, — повторил Диомель. — Его съедят.
Мелькнул красный камзол — Клейн бросил вперед Патрицианку и занял бровку. Все хорошо; шахматная куртка Руана пока чуть сзади и сбоку. Отец сидит спокойно; он идет сразу за Руаном вровень с Генералом.
Кронго поднял большой палец, дождался, пока строй лошадей пронесется мимо. Пейс был высоким; американцы легко держались на пятом и шестом местах. За ними чуть растянулись остальные, последним теперь шел швед, и, когда заезд отдалился к третьему повороту, в хвосте долго еще был виден его желто-голубой камзол.
Отец сделал правильно, что не поддался соблазну и не вышел вперед.
Вот сейчас, в конце третьей четверти, и должно все решиться. Именно сейчас, когда над полем и над трибунами, постепенно нарастая, встает гул, легкий и пока еще негромкий гул удивления; когда заезд перед поворотом опять сжимается, становясь уже не цепочкой, а плотной группой. Все изменилось; даже отсюда, с угла поля, видно, что Патрицианка ведет заезд из последних сил, ее движения, маховый выброс ног, даже наклон шеи — все, вместе взятое, уже не то. Ясно, что кобыла сейчас отпадет. Настал момент решающего броска. Это обычная точка, в которой Генерал начинает ускорение. И этот бросок сейчас будет. Но этот момент настал и для Гугенотки; отцу уже нечего скрывать. Сейчас Гугенотка должна показать все, на что она способна; показать, что они, отец и он, сумели ее подготовить; показать, что не зря были потрачены их усилия, весь смысл их жизни последних месяцев, все их бессонные ночи, их сомнения, страхи, разочарования, угрызения совести — все, все вместе. Сейчас Гугенотка должна показать, не был ли напрасным их обман — на который они пошли ради разрушения тысячи других обманов.
Вот это место, выход из третьего поворота на последнюю дугу, идеальное для решающего броска…
Гул превратился в грозный, объемно нависший над полем, нарастающий звук; началось… Корвет рванулся; он легко оставил позади Клейна и Руана; да, вот оно, это мгновение, это каждый раз удивляющее Кронго ощущение — ощущение, будто лошади, которых обходит Корвет, будто Патрицианка и Идеал не бегут, а остановились, неподвижно стоят на дорожке. Грозный объемный звук распался, рассеялся; рывок Корвета подхвачен торжествующим гулом; его ждали, ведь здесь, на ипподроме, почти все ставили только на Генерала. Оранжевый шлем Тасма на несколько секунд вырвался вперед и оказался в одиночестве. Корвет, легко усиливая рысь, движется теперь на привычном месте у бровки. Отец не поднимает вожжи, но движение Гугенотки, то, как она идет, вызывает другой гул. Уже не одобрительный, не радостный — а удивленный. А через несколько секунд — потрясенный. Кажется — многоголосый шелест-шепот постепенно возникает над полем. Гугенотка не отпустила Корвета; она словно прилепилась к нему, потянулась — а потом прибавила и вышла вперед. Ее ноги движутся легко, и Кронго, всегда привычно понимавший язык движений, прочел в них бесконечный запас. Вернувшись к этому рывку, он понял, почему отец чуть задержался. Клейн и Руан зевнули. Они ждали ускорения Генерала не здесь; поэтому, когда оба все поняли и поторопились уступить, резко отпавшие Идеал и Патрицианка, радуясь, что вожжи ослаблены, рассеялись и, совсем не желая этого, на секунду загородили Гугенотке дорогу. Отцу пришлось сильно отвернуть, чтобы обойти их. Вот отец легко обошел Руана; впереди чисто; Гугенотка, резко прибавив, достает Корвета. Гул над трибунами превратился в слитый многоголосый крик. Руан и Клейн, сгрудившись на третьем и четвертом местах, отчаянно хлещут лошадей. Наверняка они должны были, следя за американцами, придержать и отца. Только они могли раньше это сделать, и это в любом случае обговаривалось перед заездом. Но сейчас ни Клейн, ни Руан уже не успевают прибавить, вымотанные лидерством, Идеал и Патрицианка потеряли пейс и, по существу, выпали из борьбы. При всем желании, как ни работают сейчас хлыстами Руан и Клейн, обе лошади уже не смогут достать Гугенотку.
Генерал оглянулся; он тоже все понял. Корвет и Гугенотка остались теперь в голове гонки вдвоем. Помочь Генералу уже никто не может. Гугенотка идет ровно и легко — она достала Корвета, несколько метров прошла с ним пейс в пейс, сравнялась и, наконец, обошла на корпус. Наверняка сейчас на трибунах никто не верит своим глазам. Это и была решающая уловка отца — занять бровку не на финишной прямой, а чуть раньше, перед последним поворотом. Такого еще никто не мог себе позволить с Генералом. Казалось, над ипподромом ревет вулкан; гул и крик заглушали слова, гремевшие по всем репродукторам; голос информатора тонул в нарастающем реве, объявлений о резвости не было слышно. Кажется, третья четверть — двадцать пять секунд. Генерал поднял вожжи; но это еще не последняя степень посыла, Тасма надеется еще на что-то, он пока не понимает всей степени своего провала. Но Гугенотка явно сильней — отец идет на опущенных вожжах, и все-таки его качалка не только ушла вперед, но и смогла при выходе на прямую увеличить просвет до полутора корпусов. Так они и вышли на финишный отрезок. Гугенотка идет на мощной и легкой рыси, в полутора корпусах за ней держится отставший Корвет.
— Наша взяла! — оскалившись, закричал рядом Диомель, нагнувшись, вздернув вверх руки, не замечая, что брызжет слюной. — Наша взяла! Наша-а! Наша!
Он принялся приплясывать, толкая то Кронго, то Жильбера.
Пейс был страшным. Обойти Гугенотку сейчас уже невозможно. Но Кронго увидел ошибку, которую допустил отец, выйдя на последнюю прямую. Да, Кронго хорошо увидел эту ошибку и холодно отметил про себя. Все было правильно, разрыв был достаточно велик; но сейчас, приближаясь к финишу, отец освободил бровку и повел Гугенотку не у левого края дорожки, а посередине. Таким образом он о с т а в и л д ы р к у для возможного броска. Было непонятно, сделал ли это отец случайно или просто потому, что был слишком уверен в победе… Да, именно чувство дистанции подвело его здесь; может быть, при таком пейсе отец просто не придал значения тому, как он стоит на дорожке. Ведь до финиша оставалось всего двести метров.
Вот сто пятьдесят… Сто… Конечно, обогнать Гугенотку уже невозможно. Но теперь ошибка отца видна всем.
— Бровку! — крикнул Диомель. — Бровку, шеф! — Маленький, круглый, с растрепанными жидкими волосами вокруг лысой головы, Диомель, побагровев, теперь непрерывно орал одно и то же: — Бровку! Бровку!
Никто, конечно, не услышал этого крика. Случилось то, что и должно было случиться: Генерал поднял хлыст и с оттяжкой, изо всех сил вытянул Корвета по рыжему потному крупу. Это был страшный, невозможный, дикий посыл. Генерал не остановился на этом; он тут же принялся хлестать по оглобле, так, чтобы кончик хлыста, загибаясь, бил жеребца в низ живота, причиняя острую, невыносимую боль. Корвет рванулся и легко сократил разрыв, войдя в просвет между бровкой и качалкой отца. Он перешел предел своих сил и теперь прибавлял непрерывно. Вот до финиша остается пятьдесят метров… Отыгран корпус. Тридцать метров… Еще четверть корпуса. Двадцать… Отец не видит, что Корвет съедает его… Он поднял вожжи — но не видит… Теперь увидел — и закричал что-то. Но поздно — разрыва почти нет. Сравнявшись, отчаянно работая ногами, вытянув морды, Корвет и Гугенотка одновременно, нос к носу прошли створ.
Но ведь прийти одновременно нельзя.
В том-то и дело, что одновременно к финишу прийти нельзя, Кронго знает это. Пусть на несколько сантиметров, даже — миллиметров, но кто-то должен быть впереди.
Гул расходился кругами… Красное, белое и цветное на трибунах, до этого дрожавшее, сейчас лишь переливалось чуть заметной зыбью. Потом все вокруг стихло — все ждали результатов фотофиниша.
Да, все должен был решить фотофиниш.
Кронго хорошо знал, что это такое. Несколько человек, уединившись в судейской, должны были просмотреть финишный бросок двух лошадей, тщательно изучив положение их голов на большом экране. Эти несколько человек должны были проследить, как последовательно, сантиметр за сантиметром, прошли финишный створ Корвет и Гугенотка.
— Внимание… Первое место, а с ним Приз…
Конечно, абсолютного равенства на финишной линии не может быть; Кронго знал это — его не может быть никогда. Да и что могло значить это равенство; равенство, когда морда одной лошади именно в ту долю секунды, в тот миг закрывает другую — линия в линию, силуэт в силуэт; когда они сливаются воедино именно здесь, на хрупкой, тончайшей границе, именуемой финишным створом? Такого равенства нет; есть только легкие толчки, создаваемые движением механизма проекционного аппарата, легкие движения сфотографированных лошадиных морд: вот одна впереди, вот другая; снова — толчок, впереди одна… новый толчок — вторая. Определить точное положение невозможно… Кроме того, наверняка треть состава жюри — люди Генерала. Но дело даже не в этом. Дело в том, что равенства нет; равенства не может быть… Отец виноват, он виноват перед судьбой в том, что неправильно провел бег; он не должен был освобождать бровку. За это и должна сейчас последовать расплата. Но, может быть, расплаты не будет… Нет, еще немного — и рассеется надежда, слабая надежда, что расплаты не последует… Теперь это зависит не от отца, а от случая… от дуновения ветра… от настроения судей… их честности… от тысячи других причин. Вот на экране морды Гугенотки и Корвета, ставшие фотоотпечатками; он представляет себе эти движущиеся по сигналу тени, их рывки, их положение на створе… Это положение может быть истолковано по-разному — настолько неясным, настолько обманчивым может показаться их попеременное продвижение на экране, их неуловимый проход, неясный переход сквозь тончайшую нить створа.
Какая гробовая тишина; именно — гробовая… Даже конюхи, выбежавшие сейчас сюда, к бровке, молчат. Сейчас, стоя у бровки, прислушиваясь к напряженной тишине, нависшей над полем, Кронго понял — они проиграли. Он понимает все, что может произойти в судейской. Нет равенства; вот в чем дело. Нет, его нет. Конечно, есть еще какая-то надежда; он все еще верит, что преимущество Гугенотки было на финише достаточно явным… присудить Приз Генералу просто так нельзя… ведь финиш заезда будет показан в видеозаписи… кроме того, фотоматериалы финиша, если решение судей покажется им с отцом пристрастным, можно затребовать потом официальным порядком… Можно даже начать процесс; но ведь он понимает сейчас, что все это — пустое, об этом даже смешно думать.
— Внимание… Первое место, а с ним Приз…
Там, где дело будет касаться доказательств, они с отцом бессильны против Генерала. Глупо даже думать об этом. Да — они будут выглядеть смешно, доказывая сомнительную победу в заезде, где Корвет совершенно справедливо считался единственным фаворитом.
Вина отца в том, что он неправильно построил заезд, освободил бровку и позволил Генералу достать его… Только в этом… Только в этом…
Тишина. Гробовая тишина.
— Внимание… По результатам фотофиниша решением жюри…
Отцу не могли дать первого места; не могли, даже если бы Гугенотка выиграла полноса… нос… полголовы…
— Внимание…
Было видно, как отец едет сюда по боковой дорожке. Он проехал мимо, не шевельнувшись, не посмотрев в их сторону.
Все правильно — в конюшню ехать еще рано, отец должен дождаться решения жюри… Бесполезно что-то говорить; что-то объяснять; можно только ждать; но зачем ждать? Зачем ждать, понимая, что равенства нет; его нет, его не может быть, вот в чем дело.
— Внимание. Бег на первом месте, а с ним Приз…
Равенства нет. Но есть же еще какая-то надежда.
— По результатам фотофиниша… Бег на первом месте…
Провал. Тишина. Это — целая вечность. Вечность.
— Закончил выступавший под номером вторым Корвет.
Выступавший. Какая чушь. Два раза — выступавший. Какая ерунда. Равенства нет. Его нет — ведь все это так просто. Его не может быть.
— Корвет выступал под управлением мастера-наездника Тасма.
Равенства нет. Его просто нет.
— Корвет показал резвость одна минута сорок девять секунд…
Какая чепуха все, что он думал о равенстве.
— Ту же резвость показала выступавшая под третьим номером Гугенотка…
Вечность. Целая вечность. И — пустота.
— Гугенотка выступала под управлением мастера-наездника Дюбуа.
Равенства не может быть. Вот в чем дело. Равенства не может быть никогда.
Прошел час. Диомель занимался с Гугеноткой. Они с отцом сидели в жокейской и молчали. Как тоскливо было это молчание. Он помнит эту тягостную тишину. Им не хотелось говорить. Они сидели, тупо разглядывая стену. В ушах у Кронго все еще стояло: «Внимание… Первое место, а с ним Приз… Внимание… Первое место, а с ним Приз…» Потом голос, звучавший в репродукторе, ушел, растворился. Прибежал мсье Линеман. Он был потным, покрасневшим, галстук сбился набок.
— Эрнест… Эрнест, очнитесь… — все это, этот сбитый галстук, пунцовое лицо было так не похоже на всегда спокойного, неторопливого продюсера. — Эрнест! Да черт вас возьми, очнитесь… — мсье Линеман присел на корточки. — Вы были на полголовы впереди… Я ясно видел, я сидел на самом створе! Вы были впереди! Эрнест, да очнитесь же вы, это видели все! Эрнест!
Наконец мсье Линеману надоело кричать. В жокейской стало тихо.
— Мсье Линеман, оставьте меня, — отец закрыл глаза. — Мне сейчас не до вас. Прошу вас — уйдите.
— Перестаньте, Эрнест! — мсье Линеман покраснел еще больше, вскочил, оскалился, схватил отца за плечи, затряс. — Перестаньте, не будьте дураком! Вы победили! Вы! Полголовы! Вы понимаете? Это все видели! Я буду судиться, черт их возьми! Я вытребую документы!
Возникла какая-то надежда. Может быть — мсье Линеман прав…
— Оставьте меня, мсье Линеман, — отец осторожно освободился. — Я не был первым. Была голова в голову.
— Заткнитесь! — странно, что мсье Линеман, всегда выдержанный и тактичный, так кричит. — Заткнитесь, Эрнест! Голова в голову… Вы великий наездник, великий, черт вас возьми! Но вы дурак! Дурак! Вы думаете, мне нужны деньги? Плевал я на деньги! Плевал! И на Приз плевал! Сейчас дело касается не денег! Не денег! А чего-то бо́льшего! Вы слышите? Бо́льшего! Вы должны подать в суд!
Отец молчал, осторожно пытаясь носком сапога снять другой сапог.
— Что вы молчите, Эрнест? Я же не могу подать в суд за вас! Ну?
— Какой суд… — отец наконец снял сапоги. Стал стаскивать панталоны. Швырнул их на пол. Открыл кран в углу, плеснул в лицо. — О чем вы говорите, мсье Линеман… Суд…
— Процесс поведу я! Я найму лучшего юриста! Слышите, Дюбуа? Мы выиграем! Или — привлечем внимание! Это нужно! Остальное вас не касается! Пишите заявление. Ну? Сейчас же… Сейчас же, слышите? Эрнест!
Отец, нагнувшись, разыскивал под диваном рабочую одежду.
— Берите бумагу! И пишите!
— Ничего я не напишу, — отец надел рабочие брюки. Взял полотенце, вытер все еще мокрое лицо. Сел. — Я проиграл заезд. Вы понимаете — проиграл? Мсье Линеман, поймите — я проиграл его по всем законам. Чисто.
— Во-первых, вы выиграли. Вы были на полголовы впереди. Но дело не в этом…
— Если я сейчас начну судиться… Я, вы понимаете — я?
— Что вы заладили — я? Что значит это — «я»?
— Ну, мсье Линеман, ну подумайте сами — я вдруг начну судиться? Это будет… глупо.
— Не глупо. Да вы вообще… Вы вообще… Не понимаете ничего!
— Хорошо, мсье Линеман. Говорить дальше — впустую.
Снова в жокейской стало тихо. И снова Кронго ощутил плотность — вот эту плотность воздуха, которая появляется, возникает…
— Вы упрямец, Эрнест. Я знаю, что вас не переубедить. Пусть вы — удивительный наездник. И вообще, это… Это… Этому нет слов. Этому заезду. Но то, что вы отказываетесь от процесса, — глупо. Вы же сами все это затеяли. Ну, Эрнест? Значит — нужно доводить дело до конца. Нужно! Ну — что же вы молчите? До конца! Эрнест!
— Ничего не нужно, мсье Линеман. И — на самом деле оставьте меня в покое. Мне… Мне… Не хочется ни с кем разговаривать.
Отец ушел и весь день до глубокой ночи возился в денниках. Было ясно, что говорить с ним в эти дни лучше не стоит — и это продлится еще долго.
Но странно — все сложилось потом так, что проигрыш Приза оказался не ударом судьбы, не карой, не рукой провидения, не расплатой за то, что отец неправильно провел бег. Нет — все получилось наоборот. Именно проигрыш, именно он оказался тем, чего отец так долго добивался. Именно проигрыш стал началом разрушения «великого наездника современности». Именно этот промах, эта оставленная бровка, о которой все говорили, нанесла первый удар. Проигрыш стал победой.
Но все дело было в том, что проигрыш стал победой не для отца. Отец считал, что он проиграл, проиграл бесповоротно, — и никто не мог убедить его в обратном. Даже он сам, он, Кронго, не смог убедить в этом отца. Проклятье… Он не может простить себе этого…
Отец не понимал, не хотел понимать, что проигрыш стал победой. Что он, Принц Дюбуа, добился своего. Отец был сломлен, раздавлен — до самого конца. Именно — сломлен, раздавлен… Он не мог простить себе, что уступил бровку. Не мог.
Беда была в том, что он сам, он, Морис Дюбуа, Маврикий Кронго, сын Принца, долго не понимал, что на самом деле означал этот проигрыш. Он сам, он, Кронго, не догадался, не понял, что упущенный Приз, оставленная бровка, фотофиниш — все это, вместе взятое, означало Победу. Только Победу — и ничего больше. Он — не понимал этого. Как же он был глуп, что не понимал этого… Да, он поддался унынию, которое воцарилось тогда в конюшне… Он поддался настроению отца. Но ведь в соболезнованиях, в сочувственных словах, во взглядах, в похлопываниях, в кривых улыбках, которые встречали их после заезда… вот именно, в этих кривых улыбках, которые, как он теперь понял, бережно прятались от остального мира, — во всем этом было не сочувствие, а ликование, радость… Именно этими скрываемыми улыбками, этими взглядами люди тогда поддерживали их, выражали понимание… Потому что они боялись кричать об этом. Да, вот в чем было все дело — в понимании. Каждый понимал, что случилось. И именно поэтому он сам понял наконец, как все тогда ликовало, радовалось их победе… Победе… Победа была в том, что отец доказал, что можно быть сильнее… Можно быть — вопреки всему. Ведь все, все — до последних ипподромных жучков — видели, как Генерал безжалостно хлестал Корвета… И видели, что отец позволил себе только крикнуть. Все знали, почему Приз не был отдан отцу, — но это только подтвердило его победу..
Да, это произошло. Произошло для всех — кроме отца.
Чуть в стороне от их палисадника стоял «джип» из роты Душ Сантуша — серый в лиловом рассветном воздухе. Шофер дремал, привалившись к рулю. Еще не было четырех. Кронго знал свой переулок наизусть. Глухая стена напротив — задний двор кафе, выходящего на набережную. Большой особняк перед выездом к берегу — он принадлежал военному ведомству, сейчас он пуст, окна разбиты. В другую сторону, к центру города, — семиэтажный жилой дом, рядом мавританская кофейня, два коттеджа и снова семиэтажный дом. Окна мавританской кофейни приоткрыты, оттуда слышится звук передвигаемых стульев. Переулок пуст, только вплотную к калитке кто-то в голубом свитере возится над приткнутым к изгороди велосипедом. Ожидающий Кронго «джип» стоит совсем рядом, до него не больше двадцати шагов. Странный велосипедист…
— Ну как, Кронго? Как у белых?
Первой мыслью было подойти к «джипу». Лицо, которое смотрело на него из-под велосипедной рамы, медленно подтянулось вверх, глаза скосились в сторону машины. Если он сейчас кашлянет, шофер проснется. Черное сухощавое лицо будто вдавливалось в него. В этих глазах нет жалости. Ньоно…
— Можешь, конечно, подойти к машине… — толстые губы медленно шевелились, выпуская неясный шепот. — Но тогда нехорошо получится, совсем нехорошо… Как тебе у длинноносых?
Лицо выползло из-под рамы, страшное, безжалостное, человек выпрямился, став спиной к «джипу». Ему около тридцати, он на голову выше Кронго, с мощными руками и рельефной грудью. Человек улыбается, облизывая губы, глаза то и дело странно закатываются под лоб. В этом закатывании — смерть. Нос с большим провалом на переносице, так что это место почти сравнивается со щеками. Кронго хорошо был виден курчавый затылок шофера, синий отличительный знак на сером рукаве.
— Что вам нужно?
— Ну, ну, Кронго, спокойней… Не смотрите туда… Вы знаете, что мы достанем вас из-под земли… Да и жена ваша… Вы ведь понимаете…
Широкая грудь медленно вздымалась перед глазами Кронго.
— Первая ложа центральной трибуны… Если увидишь там меня, я положу пальцы на перила… Вот так…
Человек положил руку на раму велосипеда.
— Больше десяти лошадей ведь не бывает в заезде… — он убрал один палец, потом два. — При нужном номере отвернетесь. Вы меня поняли? Поняли? О чем вы думаете, Кронго?
Что-то блудливое, мерзкое стояло в этих глазах. Они лезли в заповедный мир, куда он не пускал никого. Этот человек с гладкой грудью, с плавающими глазами не имел права лезть в его мир, он мог просить его о чем угодно, но не заикаться о бегах или скачках. Он не мог трогать Приз. Безусловно, эти плавающие глаза уже играли — иначе бы он не знал ни расположения трибун, ни количества лошадей в заезде.
— О том, что это жульничество, — Кронго почувствовал медленную, слепую ярость.
Еще несколько слов, и он кинется на эту грудь, вцепится в это гладкое горло, виноватое во всем на свете, пусть за этим будет стоять смерть. Этот перебитый нос посмел превратить его, Кронго, в уличную девку, в шлюху.
— Жульничество? — человек усмехнулся, глаза его сузились. — Вы слепец. Оглянитесь, прислушайтесь. А брать заложников, связывать их в сетках для рыбы и спускать с баржи сразу за портом — это не жульничество? Вы не видели этих сеток, этих замечательных, туго набитых сеток… Этих широко открытых ртов и пальцев, вцепившихся в ячейки. А сжигать человека, привязанного к кровати, обливая керосином? А всех живых в сарай — не жульничество? Керосином, взятым у хозяек, потому что бензина жалко… А потом — сарай… А вы знаете, как голого негра подвешивают, растягивают ноги и бьют палкой вот сюда? Иногда они не экономят бензин, иногда даже стреляют в яму… Именно в яму, там туго набито битком, туда пихают воняющих девок, кричащих младенцев. Это очень удобно, никто не убежит… Хоть раз посмотрите, как ногами бьют в карательных отрядах… Если человек остается жив, это позор для карателя. Что же жульничество, Кронго? Что?
Рука человека все еще лежала на раме велосипеда. Он говорил шепотом, чуть улыбаясь.
— Жалеете деньги белых? Боитесь, что настучат? Не бойтесь, у нас все продумано. Вам ведь нужно всего-то отвернуться. Меня вы будете видеть только на трибунах. Первая ложа центральной… Народу нужны деньги, Кронго. И всех дел. Я не скажу даже имени. Ну, допустим, Пьер, какая разница. А теперь не смотрите на меня. Идите к машине. Смотрите, если только выкинете… Если выкинете…
Пьер исчез, ловко скользнув за его спину. Курчавая голова водителя на руле ничуть не изменила положения. Кронго услышал легкий шорох шин. Водитель не пошевелился. Наконец, почувствовав, что кто-то над ним стоит, поднял голову. Мелко задрожал, зевнул. Встряхнулся, показал головой — садитесь. Приз, подумал Кронго. Приз.
Они идут по Парижу. Он понимает — и удивляется сам, как мать красива.
— Мама…
— Подожди, подожди, давай сядем.
Они садятся. В глазах матери, в ее подрагивающих зрачках, в веках, которые мягко щурятся, в улыбке и иронии глаз, бровей, морщинок, во взгляде, который сейчас проникает в него, в самую его сущность, — во всем этом всегда хранится привычная ему теплота, привычное понимание его жизни, его существа, его забот, всего того, что в нем происходит.
— Ну, как твои дела? Ну, Маврянчик? Ну — выкладывай… Выкладывай.
Мать смеется, улыбается, и он понимает — она сейчас счастлива. Наверное, она переживает сейчас самое прекрасное время — потому что у нее есть Омегву. И он догадывается о том, как это может быть прекрасно, — потому что у него есть Ксата. Мать поглощена своим счастьем… Но это не мешает ей всегда думать о нем, о ее «Маврянчике», понимать все, что с ним происходит, догадываться обо всем — даже о том, о чем он не сказал ей ни слова. О Призе, о Корвете, о Гугенотке. Даже — о Ксате… Может быть, не о самой Ксате, а о том, что он любит. Да, мать чувствует это.
У него на языке сейчас вертится давно приготовленное: «Мама, ты могла бы устроить ангажемент?» — «Для кого?» — «Ну… неважно. Могла бы?» Он знает, что мог бы и не спрашивать ее об этом. Конечно — могла бы. Мать с ее связями, друзьями, добротой — сумела бы устроить любой ангажемент здесь, в Париже. Тем более если бы узнала, что это не для кого-нибудь, а для девушки, которую он любит. Для Ксаты. Для Ксаты — если бы он решился сказать матери об этом.
— Ну, ну, ну… Ты взрослый, и я не лезу в твои дела.
Хорошо. Он просто попросит мать — и все.
— Но все-таки, скажи, что там у тебя? Или — у вас?
— Мама, ну…
— Вы там, кажется, что-то натворили? Выиграли или проиграли? Какой-то Приз?
Ага. Она об этом.
— Мама… Тебе это неинтересно.
— Читала и даже — слышала. Мне даже задавали вопросы.
— Мама, пустяки.
— Я всегда говорила, что у меня будет знаменитый сын.
— Проиграли. Но это — неважно. Я хотел у тебя спросить…
Мать ждет, улыбаясь чему-то своему. Она следит за идущими мимо людьми, и лицо ее принимает странное выражение, это выражение бывает только у матери — будто она забыла обо всем, ничего сейчас не замечает, кроме этих людей. Но на самом деле она не видит и этих людей. Наконец мать поворачивается:
— Ну — спрашивай.
И снова взгляд матери улыбается, будто понимая все, о чем он хочет сказать.
— Ты могла бы устроить… ангажемент?
— Ангажемент?
— Ну — на какую-нибудь элементарную площадку. Варьете.
— О-о-о…
— Ма… Я ведь мог и не спрашивать.
— Все, все, — мать снова смотрит на людей. Говорит, не глядя на него: — И — кому? Маврик? Одной… девушке?
— Одной девушке.
— Ну… Маврик. Я поняла. И… эта девушка — что же она делает?
Мать уже догадалась. Он ведь спрашивал ее раньше — о ритуальных танцах. Тогда, в Бангу.
— Танцует.
Мать улыбается. Как смешна была его попытка что-то скрыть от нее.
— Ну… если она хорошо танцует… И… сможет, кроме ритуальных танцев… показать что-то еще…
— Мама!
Она все чувствует. Скрыть что-то бесполезно. Ну и — хорошо. Он злится, и мать, тут же понимая, что чем-то виновата перед ним, обнимает его, заглядывает в глаза:
— Маврик. Ты же сам меня просил?
— Опять…
— Ну — хорошо. Ну — Маврик? Не лезу. Ну — Маврянчик? Прости свою серую, деревенскую мать. Она ничего не понимает. Ну — серость. Деревенщина.
Нет, он уже не злится.
— Ты не серая… И не деревенская…
— Просто — я не понимаю.
Вокруг Париж — бесконечная общность людей, привычная ему. Да, все эти люди, конечно, любили… Может быть даже — у них были свои Ксаты… Но Ксата, его Ксата — есть только у него. Они никогда не поймут того, что происходит с ним. В том-то все и дело, — никто никогда этого не поймет.
— Мама… Я не об этом.
Но мать, — кажется, мать понимает. Она одна понимает, что с ним происходит. Странно — как же она ухитрилась понять это…
— И я — не об этом.
Да, она понимает.
— Я… просто…
— Просто — ты влюбился.
Мать сказала об этом именно так, как надо было. Это еще раз подтвердило, что ей все понятно. Все, что он чувствует сейчас.
— Это… больше. Больше. Понимаешь… ма.
— Ну — что я могу тебе сказать… Ничего, сын…
Не нужно ей ничего объяснять. И ему, и ей все ясно. Все до конца. Сейчас ему кажется — все будет хорошо у него и Ксаты, потому что матери все понятно.
— Пусть будет у тебя вот это… Больше…
Самое главное было не в том, что должна была последовать месть Генерала, не в событии, а в ожидании. Кронго понял это в дни после розыгрыша Приза, в пустые, не заполненные ничем дни, когда они с отцом ждали, как отомстит им Генерал. Он должен был отомстить. Но была какая-то надежда, что вдруг ничего не случится, все сойдет и так. Да, он часто думал, что все сойдет и так. Ведь Корвет получил Приз. Теперь Кронго понимает, что именно эта надежда мешала ему тогда освободиться от мук ожидания — ожидания беды.
Дни были обычными — но ведь на самом деле они с отцом и Диомелем только делали вид, что не ждут ничего плохого. Отец ни разу не сказал ему об этом, он даже не подал вида, что допускает возможность беды, что чего-то боится. И сам Кронго ничего не говорил отцу. Но все это было ложью. Он понимает — этим молчанием они тогда обманывали сами себя.
Ведь они понимали — и отец, и Диомель, и Кронго, — что Генерал не простит заговора. Просто — они скрывали, это от себя. Скрывали, что ждут мести… Скрывали, что каждый день ждут, что с ним, или с конюшней, или с лошадьми что-то произойдет.
Но ничего не происходило. И это длилось долго. Как обычно, раздавая на ходу интервью, Тасма приезжал на ипподром. Как обычно и как всегда, его встречали, почтительно улыбаясь, холуи. И как обычно, каждый день они с отцом и Диомелем ждали, что что-то случится. Но ничего не было — ни через месяц, ни через два, ни через полгода. Но ведь они ждали — и конец каждого дня, во время которого ничего не случилось, казался им облегчением.
Теперь он понимает — именно в этом облегчении, в этой попытке освободиться от боязни и было тогда самое страшное. Не в страхе — а в облегчении, с которым они встречали конец каждого дня.
Теперь он понимает, почему они молчали. Он понимает, почему они с отцом не могли признаться друг другу в том, что ожидают чего-то. Это ожидание было мучительным, но теперь он понимает, что дело было совсем не в этих муках — а в том, что ожидание унижало их. Унижало… Ожидание — унижало. Оно их принизило, пригнуло — просто тем, что существовало. Просто тем, что возникло, что жило в них, вокруг них. И они, пытаясь преодолеть это унижение, не хотели признаться в нем — даже друг другу.
Да, главное было в самом свойстве этого ожидания… В унижении, которое они тогда испытывали.
Но, может быть, тогда, в самом начале, можно было освободиться от этого? Может быть, можно было уйти от того, что пригибало их тогда — изо дня в день?
Как проклинает он сейчас эти дни. Ему не помогает и то, что сейчас он пытается оправдать себя тем, что он боялся тогда не за себя, а за отца. Все равно — он боялся. Боялся — и унизил себя боязнью. Унизил себя ожиданием боязни.
Конечно — он пытался освободиться от этого ожидания. Иногда даже ему это удавалось. Это случалось всегда, когда Кронго уезжал к Ксате. Да, в Бангу он не испытывал страха. Он уже не ожидал — вот в чем дело. Не ожидал… Страх проходил, как только он садился в самолет. В Бангу, рядом с Ксатой, как ни странно, он не боялся не только за себя — но и за отца.
Конечно, это бывало не только в Бангу. Страх иногда проходил и в Париже.
И все-таки он так и не освободился от унижения. Не освободился…
Водитель подождал, пока Кронго сядет, включил мотор. «Джип» медленно покатил вниз, свернул на набережную. Какая мерзкая, дергающаяся улыбка… Пьер… Гладкая грудь… И всех дел… Он спокойно сказал все это Кронго. Шофер совсем еще молод, он неторопливо жует жвачку, его пухлые черные губы лоснятся, пилотка засунута под погон. На набережной — несколько человек в форме, сразу у поворота. Поднимают руки. Патруль. Шофер остановился у тротуара. Кронго оглянулся — по всей набережной, сколько хватало глаз, вдоль домов выстроены люди. Они стоят в утренней неясной серости, прижавшись лицами к стенам и подняв руки. Кронго заметил, что это одни мужчины. Несколько черных лоснящихся спин глядели на него прямо здесь — через тротуар.
— Что это?
— Первый раз, вы что… — шофер протянул удостоверение подошедшему солдату. — Берут заложников.
— Ваше? — негр-патрульный зачем-то пощупал пальцами пропуск Кронго. — Управление безопасности… — он поглядел печать на свет. — Можете ехать. Останавливай по первому знаку, слышишь…
— Хорошо, — шофер дал газ, сплюнул. — Теперь будут каждое утро.
— Что случилось?
— Налет на управление безопасности… — шофер притормозил перед светофором, включил приемник.
— …Проникнув в помещение под видом шейхов племен… — сказал знакомый голос в эфире. — Через пять минут после начала переговоров покушавшиеся бросили спрятанные под одеждой гранаты… В перестрелке все террористы убиты. Ранены четыре бойца внутренней охраны, один тяжело. Покушение было организовано против работников Совета безопасности. Присутствовавший на совещании комиссар сил безопасности Хуго Крейсс не пострадал.
За светофором их снова остановил патруль. У тротуара стоял старый грузовик с брезентовым верхом. Люди, выстроившиеся у стены, поворачивались и по одному, держа руки за спиной, влезали в кузов. Кронго заметил, что влезали одинаково — ставили на железную ступеньку одну ногу, потом поднимали вторую, опираясь на колено. Влезать иначе без рук было трудно. Шофер протянул удостоверение, патрульный пробежал его глазами, продолжая следить за погрузкой, поднял руку.
— Гариб! — подошедший к кузову негр поставил ногу на ступеньку. Под глазами у него были мешки, щеки изъедены прыщами. — Гариб, ты где?
— Я здесь… — отозвались в кузове.
— Люди, люди, проходите… Просьба не волноваться… — патрульный приложил к губам ручной громкоговоритель. — После необходимой проверки все будут отпущены… Всем задержанным будет выдана справка о задержании… Проходите, люди, проходите, быстро, быстро.. Проходите!
Шофер дал газ, через два квартала завернул и остановился у ипподрома.
Странно — это Кронго чувствовал впервые. Он улыбнулся, глядя на двух античных героев, сдерживавших вздыбленных гипсовых лошадей у входа. Ерунда, сейчас пройдет. Конечно, пройдет. Он никогда этого не чувствовал. Будто кто-то чужой сидит у него в голове и говорит: так, так… но почему… так, так… но почему… Стеклянный фронтон, привычная надпись: «Трибуна 3 яруса».
Так, так… но почему стеклянный фронтон… Так, так… Кронго отмахнулся — какая чепуха. Он же взрослый человек. Но почему третьего яруса. Что за нелепость — именно третьего. Если бы этот Пьер не сказал о сетках. А ведь в самом деле, он видел вчера баржу, стоящую за портом на рейде.
Шофер с вопросом смотрит на него. Кронго кивнул, курчавая голова опустилась на руль. Бессмысленность, никчемность каждого действия, каждого движения — Кронго никогда не ощущал этого… Но баржа, при чем здесь баржа, ему нет никакого дела до баржи. Было ли в его жизни раньше то, от чего он мог прийти в такое отчаяние? Смерть отца… Проигрыш Приза… Отравили лошадь… Было отчаяние, и все было страшно, тоскливо… Но такого как будто никогда не было… Кронго снова улыбнулся. Прямо в голове, прямо в центре головы… Человечек… Так, так… Но почему? Так, так… Но почему? Вот он шагнул. Но зачем он шагнул? Почему? Ради Филаб? Ради детей? Ради лошадей?
Кронго толкнул вертушку трибун третьего класса. На вытоптанном пространстве перед асфальтом валялись клочки бумаги, разбитая бутылка из-под сока, кусок ременной сбруи. Билетики тотализатора. Еще с того, последнего дня скачек. Еще при Фронте. Так, так. Но почему при Фронте? Нелепость этой земли, этой бутылки сока… Ведь лошади ему совершенно ни к чему… Этот разговор, то, что он должен показывать какому-то человеку на каждой скачке и заезде вероятного победителя… Его ужаснуло бы это, но только тогда, когда он видел блудливые, плавающие глаза… Так, так… Но почему… Почему его должно это ужасать? Ведь то, чем он занимался всю жизнь, бессмысленно. Но что же вывело его из себя, что же повернуло это в нем, посадило в голову маленького человечка? Кронго остановился у двери манежа, в котором обычно каждое утро гоняли на вольтах жеребят первого и второго года. Дверь открыта, из пустого неподвижного зала чуть слышно тянет запахом слежавшегося старого навоза. Так, так. Но почему?.. Пьер. Этого человека зовут Пьер. Пэ. Шестнадцатая буква алфавита. Но почему он думает об этом. Когда Пьер тихо говорил о сетке с выпученными ртами, держа руку на раме велосипеда… Ну хорошо — а Приз? И потом, когда Кронго увидел негра с прыщами, который спросил: «Гариб, ты где?» Он представил, что пальцы этого негра будут на сетке. Действительно, он, Кронго, слеп и глух. Баржа стоит на рейде. Она каждый день выходит на рейд. Он не любит Филаб. Ему чужды собственные дети. Ничто не нужно ему, ничто его не интересует. Только одно. Кронго толкнул дверь и прошелся по дорожке ближнего вольта, увязая ногами в крупном глубоком песке. По такому вольту гоняют жеребят первого года, вырабатывая просторный машистый ход. В глубоком крупном песке жеребенок поневоле раздвигает ноги, приучаясь к накатистой рыси. Но почему? Зачем и кому нужна эта машистая широкая рысь? Кронго стало страшно, он закусил губу. Нет, он не может даже улыбнуться. Надо заинтересоваться хоть чем-то, этим воздухом, этим запахом, надо силой заинтересовать себя в том, что всегда было ему интересно, что составляло цель его жизни. Приз, конечно… Так, так. Приз… Но почему? Зачем он? Вот мягкий вольт, здесь проскачками распускают жеребятам ход, приучая далеко выбрасывать ноги. Так, так, улыбнулся в голове у него человечек. Но почему? В другое время Кронго подумал бы, что к вольту надо добавить мягкий крошеный навоз. Он взялся ладонями за виски. Но это глупость, глупость, никакого человечка нет, это он, Кронго. Нет, так еще хуже. Так сама голова, существующая как бы отдельно от него, спрашивает — но почему? Так. Так. Нет баржи на рейде, сказал он себе. Но это не помогло. А зачем ему Приз?
Кронго вышел из манежа. Вблизи, на рабочем дворе, к изгороди были привязаны жеребята второго года, они дергали головами, пытаясь отвязаться. Сумерки пропали, наступило утро — так, как это бывает здесь, все осветив за одну минуту. Вдоль дорожки тянулся дым, Ассоло неторопливо помешивал палкой угли под большим черным котлом. Воткнул палку — и она застыла стоймя в медленно булькающем варе. На рабочем дворе негромко разговаривали конюхи и наездники, в углу у кучи навоза сидел на корточках тот самый мулат с острой бородкой, Литоко, которого он взял жокеем. Литоко курил, сплевывая и стряхивая пепел в навоз. Эти привычные вещи, лошади, люди, заботы — они должны и пасти его, отвлечь, выгнать это нелепое — так, так, но почему? И в самом деле, Кронго почувствовал облегчение. Он прислушался, входя во двор. Нет никакого человечка. Тепло избавления… Нет баржи. Жокеи, наездники, конюхи стоят вокруг него, он видит и знает, что нужно каждому — и старым, и вновь взятым, и тем, кто был принят совсем недавно. Тассема, маленький, сутулый, седой… Чиано… Бекадор… Жокеи скаковых конюшен Зульфикар, Заният, Мулонга… Мулонга — способный жокей, но пьет… Барбры, Эз-Зайад и Эль-Карр… Бланш. Он единственный сейчас не подошел к нему… Сидит в старой качалке, широко расставив ноги. Тренирует посадку… Неужели пропало, не веря еще сам себе, подумал Кронго.
— Черт знает что… — услышал он чей-то недовольный голос, который совсем не предназначался для того, чтобы его слышали. — Скоро доживем, конюхи будут работать жокеями…
— Как вес, Зульфикар? Заният, надо подтянуться, грамма три лишних… Жокеи, сможем пустить по шесть лошадей в скачке? Тассема, возьми жеребят второго года — и в манеж… Амайо вместе с Фаиком сегодня старшие по беговой… Проследите еще раз, у всех ли расчищены копыта… Так… Что у нас было вчера? С молодыми?
— На жестком гоняли, месси… — Амайо, с отметинами на ноздрях, подслеповатый, приземистый, вышел вперед. Кронго вспомнил, как он трясся, боясь оборотня. — Круг гоняли тротом, круг шагом…
— Хорошо… Сегодня можно уже на глубоком… Начинайте с самых сильных, со слабыми осторожней… И проследите, чтобы подсыпали навоз, мягкий вольт совсем запущен…
Амайо и Фаик пошли отвязывать жеребят. Радуясь, что к животу и груди подступает ровное тепло, что баржи нет, что пропала бессмысленность всего, что стоит перед глазами, Кронго сделал знак Бланшу и барбрам. Да, если бы он захотел уехать на розыгрыш Приза… Если бы он захотел поехать в Париж… С Альпаком… Он уверен — уже в этом бы году он взял Приз….
— Маэстро, я с вами… — Бланш торопился за ним по дорожке, когда их нагнал Мулельге. У первого ряда трибун стояли негры, при виде Кронго они притихли.
— Новые конюхи, — Мулельге движением руки выравнял людей, как бы выстраивая. — Это кузнец… это второй кузнец…
— Где работали раньше?
Сутулый негр с огромными бицепсами покосился на соседа.
— Скажи, Пончо, — сосед сутулого неумело пожал Кронго руку. Да, тот, кого сосед назвал «Пончо».
Добродушное лицо с большой челюстью. Она выпячена и улыбается. Только Кронго подумал об этом, как на него посмотрело прыщавое лицо, руки, вцепившиеся в сетку. «Гариб, где ты?» Так, так, улыбнулся человечек. Но почему? Баржа есть.
— Мы работали на государственной ферме, — Пончо переминался с ноги на ногу, подталкивая локтем соседа. — Я и Бамбоко. Наши дома сожгли, мы пришли в город. Мы умеем делать любую работу, мы хорошие ковали. Спросите Бамбоко, — негр будто извинялся, что их дома сожгли.
Так, так… Но почему… Как пусто все — лицо этого негра, воздух над дорожками, трибуны. Все, чем он занимался всю жизнь, бессмысленно. Зачем нужны лошади?
— Бамбоко скажет, что Пончо Эфиоп никого не подводил, — негр хихикнул.
— Пончо Эфиоп? — Кронго пытался избавиться от бессмысленности, от человечка.
— Это прозвище, — Бамбоко улыбнулся.
Надо что-то сказать им. Надо объяснить им, что здесь особая работа. Несмотря ни на что, несмотря на человечка, на это «но почему». Ведь все прошло на какое-то время, когда он говорил с наездниками. И не было баржи.
— Мулельге, вместе с Тассемой, запрягите Альпака… Качалку возьмите тренировочную, к которой он привык, — Кронго видел краем глаза, как барбры и Бланш переминаются в новых ездовых костюмах, поправляя сапоги. — У нас особые условия, вам здесь придется учиться заново… Потом я проведу вас к старшему кузнецу, вы посмотрите, как он работает… Рысистую и скаковую лошадь важно поставить правильно с самого начала, иначе она никому не нужна… Ковка поэтому особая… Жеребят надо сначала приучить к подковам… Подковы куются легкими, из мягкого железа, с низкими тупыми шипами…
Человечек пропал. Но теперь уже спрашивает голова. Отдельно от него самого. Почему? Это никому не нужно.
— Почему же непонятно, месси… — Пончо Эфиоп внимательно следил за Кронго, так, что даже губы его шевелились, будто повторяя каждое слово.
— Задние подковы на зацепах должны делаться с заворотами. С заворотами…
Нет, он, Кронго, должен что-то сделать. Он говорит чушь. Альпак закидывал задние ноги, вертел головой, чтобы заглянуть через наглазники. Коротко и гортанно захрипел, и в этом звуке были одновременно и обида, и радость. Чиано, сидя в качалке, держал вожжи на весу, не подавая жеребцу намека. Кронго сделал знак, отпуская кузнецов и конюхов, подождал, пока Чиано слезет, и забрался в качалку сам. Но ведь сейчас он должен ощутить захватывающее, сладко-острое, подташнивающее предвкушение бега, бега, в котором он всегда, всегда должен прийти первым. Это было всю жизнь. В этом и есть чувство Приза. Человечек молчал. Лоснящийся мышастый круп Альпака чуть заметно вздрагивал у ног Кронго. Репица сильного хвоста легко держала короткий черный султан. Нет, ощущения бега не было. Правда, не было и человечка, но и не было больше ничего — только подрагивающий круп и черный султан хвоста.
— Вы научились сидеть в качалке, научились держать вожжи, поворачивать влево-вправо, подавать, сдерживать, — Кронго хрипло и привычно кашлянул-кхекнул, удерживая Альпака. Хоть нет человечка, и то хорошо. — Но этого мало, чтобы стать наездником. Искусство езды состоит в том, чтобы забыть себя и помнить только о лошади. Надо знать все о ней — свойство ее рта, меру поднятия колец, силу бега, беговой характер… Горячая она, ровная или ленивая… Но не в этом еще состоит истинное искусство езды…
Так, так… Но почему… Так, так. Но почему…
— Эз-Зайад, Эль-Карр, Бланш… — Кронго попытался сделать вид, что не слышит этого внутри себя, не понимает, не хочет понимать. Альпак дернулся, взбрыкнул, присел. — Посмотрите, правильно ли запряжена лошадь…
Бланш, подтянув сапоги, подошел к Альпаку, взялся за хомут, вгляделся. Альпак дернул головой, пытаясь отвернуться, и Кронго кхеканьем опять удержал его.
— Как будто правильно, маэстро, — Бланш, приложив к оглобле черную щеку, внимательно изучал уздечку и хомут. — Налобник и дольник не натирают, хомут как надо, на груди и на плечах… Кольца подняты в меру… Чересседельник в порядке… — Бланш поднял голову. — Мы слушаем, маэстро… Что до меня, то я готов слушать вас бесконечно.
У Кронго появилось искушение взяться за виски, и он с трудом удержался.
— Истинное искусство езды состоит в том, чтобы заставить бежать лошадь весь круг резво и правильной рысью, не сбиваться с нее, а во время сбоя направлять на рысь, не уменьшая, а прибавляя быстроты. Но и это еще не все, и это еще не истинное искусство. Истинное искусство езды в том, чтобы понять не только беговой, но и настоящий характер лошади, ее душу, ее скрытые чувства… Надо понять ее секрет, который свой у каждой лошади… Тогда, слившись с ней в одно целое, вы будете ощущать ее бег, как свой, а ее, как себя, как будто не она, а вы бежите по кругу…
Так. Так. Так. Так. Кронго чмокнул, и Альпак медленно тронулся с места. Выехав на круг, где уже давно велась работа и разъезжались лошади, Кронго чуть заметно шевельнул кистями, припуская вожжи. Это был обычный посыл, пожалуй, чуть выше среднего. Но вместо того чтобы пойти тротом, Альпак, постепенно разгоняясь, бешено заработал ногами. Полетели комья грунта, в лицо ударил ветер, Альпак, пролетев метров пятьдесят, сорвался в проскачку. Кронго захрипел, выправляя сбой. Альпак пробежал еще несколько шагов, постепенно сбавляя. Кронго тут же завернул и тротом вернул Альпака к выезду на круг. Остановился, глядя на Чиано.
— Вы что, с ума поспятили? — чтобы не испугать Альпака, зашипел Кронго. — Вы какое удило кладете жеребцу со строгим ртом?
Чиано изменился в лице:
— Месси… Что случилось?
— Я вам покажу, что случилось…
— Месси Кронго… Месси Кронго… Мы положили толстое… Мы не виноваты… Мы толстое…
— С кем вы запрягали лошадь?
— С Мулельге и Ассоло… — Чиано испуганно крутил головой.
Кронго слез с коляски, приоткрыл Альпаку губы. Удило, покрытое пеной, было толстым, как и полагалось. Но Альпаку с его чрезмерной нервностью нужно ставить толстое и полое удило. Его обычное удило… Так, так. Но почему? Взрыв гнева прошел, и Кронго уже сам не понимал, почему он сердился.
— Чиано… И вы, молодежь… Подойдите сюда, поучитесь. Бланш… Эз-Зайад… Эль-Карр.
Кронго случайно увидел, как кто-то смотрит на него с трибуны. Высокий креол в светлом костюме. В этом взгляде есть что-то особенное. Похоже — это человек из охраны. Или — от Крейсса.
— Видите, Чиано… Вы совершили ошибку… Во-первых, Альпаку, лучшему жеребцу, рекордисту, вы положили чужие удила… Во-вторых, если уж класть чужие, то не такие. Удила толстые, но этого иногда бывает мало. Лошадь горячая, с очень строгим ртом, сюда нужно толстые и полые…
— У всех лошадей удила висят в денниках, — Чиано взялся под уздцы. — Альпака мы не нашли…
— Хорошо.
Креол чуть заметно показал рукой, и Кронго подошел поближе.
— Мсье Кронго? Будьте любезны, пройдемте со мной. Не волнуйтесь, все в порядке, все хорошо. Пройдемте, буквально на секунду.
— В конюшню! Перезаложить! — Кронго двинулся вслед за креолом.
Креол, высокий, с красивым спокойным лицом, как-то странно оглядывался на него, мелко перебегая глазами с рук на лицо и снова на руки. У подъезда дирекции он посторонился, пропуская Кронго, и, хотя тот прекрасно знал путь к собственному кабинету, осторожно и мягко повел его под локоть по коридору. Это сначала обрадовало Кронго. Эти мелко бегающие глаза, эта рука, взявшая под локоть, — все это должно выбить бессмысленность, которая пронизала все. У кабинета с медной дощечкой «М. Кронго» два молодых негра в таких же, как у креола, светлых костюмах низко поклонились. Чуть в стороне сидящий на стуле европеец держал между ногами блестящий черный предмет. Уже заглядывая в растворившуюся дверь, Кронго заставил себя подумать — что же это за черный предмет между коленями европейца… И европейца он уже где-то видел.
— Мы совершенно беззастенчиво… — высокий пожилой африканец протягивал связку ключей в пухлой розовой руке. — Но все это ради близких скачек. Вы должны нас понять.
Черный блестящий предмет между коленями — автомат.
— Карионо, Сембен Карионо, — африканец поглядывал на двух белых, сидящих у стола по обе стороны от него. Вышел и мягко взял руку Кронго в теплые ладони. — Партия не будет вмешиваться в ваши профессиональные дела. Хотя от себя скажу, что горжусь первым ипподромом в Черной Африке. Ваши лошади могут с честью представлять страну на дорожках любого континента.
Глаза Карионо упрашивали Кронго что-то сказать. Как-то ответить ему, все равно как.
— Очень приятно, — Кронго попытался улыбнуться.
Карионо обернулся к одному из белых — худому европейцу с пшеничными усами. Европеец дружелюбно улыбался — «не стоит обращать внимания на эту болтовню».
«Может быть, прошло», — подумал Кронго. Да, прошло. Совсем прошло. Ничего нет. Только не нужно думать о намеках, которые могли бы опять вернуть это.
— Моя фамилия Снейд, я бухгалтер, — европеец тряхнул Кронго руку. — Попробуем с вами сработаться, так ведь? Деньги правительство будет платить вперед. Если хотите, вам мы можем выдать аванс твердой валютой или бонами. Я просмотрел номенклатуру, штат теперь почти укомплектован, но, если необходимо, ограничений для вас не будет. Только одна просьба — скорей назначить день открытия. И… чтобы это было… ну, торжественно, что ли. Какие специальности будут просматриваться лично вами?
Второй белый безразлично курил, не глядя на Кронго. Нет, ничего не выходит. Нет никакого человечка. Есть пустота. Пустота во всем. Его ничто не интересует. Ничто.
— Жокеи, — Кронго помедлил. — Наездники. И конюхи.
— Отлично, — Снейд раскрыл номенклатуру. — А… ну вот, например, диктор-комментатор… контролеры… редактор программ… Как они?
Снейд покосился на Карионо. Не назвавший себя белый осторожно стряхнул пепел. У него был крахмальный воротник, бакенбарды резко сменяла гладко выбритая розовая кожа, нос был как перевернутая груша, он расплывался наверху, у хмурых, близко поставленных серых глаз.
— Если господин директор не возражает, мы наберем сами… — глаза Карионо застыли. — Согласно номенклатуре.
Так, так, уныло прошептал человечек. Но почему? Почему он раздвинул губы Кронго и сказал им:
— Меня интересуют только конюхи, наездники и жокеи…
— Вот и отлично, — Снейд открыл портфель и осторожно придвинул к Кронго две пачки. — Здесь тысяча долларов. Здесь полторы тысячи правительственных бон. Они принимаются во всех магазинах. Конечно, и в тех, где лимит.
Снейд достал ведомость, встряхнул новый хрустящий лист. Кронго, машинально расписываясь, видел все, что уже много лет видел за окном кабинета, — финишную прямую, часть трибун, рабочий двор, вход в главную беговую конюшню. Надо поймать, поймать паузу, когда нет человечка. Вот сейчас. Он знает, что он, сделает. Знает. Снейд и Карионо, поклонившись, вышли.
— Меня зовут Лефевр, — белый с бакенбардами протянул пачку сигарет. — «Бенсон»? Ах, не курите… Я из сил безопасности. Шеф просил не докучать вам… Но не мне вам говорить, что сейчас происходит, — Лефевр постучал зажигалкой по столу.
В дверь заглянул креол, Лефевр кивнул ему, тот щелкнул пальцами и вошел уже вместе с неграми — теми, кто кланялся ему у входа. Негры улыбались, лицо креола было безучастным.
— Поль… Амаду… Гоарт… — по взгляду Лефевра Кронго понял, что он представляет вошедших. — Кронго, если хотите… Вы не будете замечать их… Может быть, иногда, на трибунах… Повторяю — если хотите. Это охрана. Это их специальность.
— Нет, — Кронго думал о том, как он приведет в исполнение то, что пришло ему в голову. Ведь это очень просто. Однако вместе с тем он прекрасно понял смысл слов Лефевра.
— Не хотите?
— Не только не хочу, но настаиваю, чтобы этого не было, — теперь, когда Кронго решил, он почувствовал облегчение.
Странно — ведь он Лефевра мог использовать как повод для избавления. Ведь бессмысленность, которая была, кажется ему, страшней боли, потому что, когда есть боль, есть хотя бы желание избавиться от боли, а когда есть бессмысленность, нет ничего. Но теперь повод для избавления от бессмысленности не нужен, значит, не нужен и Лефевр.
— Хорошо, — Лефевр встал, ухмыльнулся. Негры и креол исчезли. — До свиданья. Как знаете.
Подождав, пока стихнут шаги, Кронго подошел к столу. Сначала возникла мысль сдвинуть пачки с долларами и бонами в ящик, даже протянулась рука. Но тут же она, проплавав немного над пачками, вернулась на место. Это ведь сейчас глупо и не имеет никакого значения. Кронго сделал усилие, чтобы еще раз ответить на собственный вопрос: может быть, для него что-то значат сыновья? Может быть, ему только кажется, что он к ним равнодушен, может быть, потом это изменится? Он прислушался к самому себе. Бубуль и Гюгюль. Два козленка. Так их зовет Филаб. Боль? Горечь? Тревога? Нет ни одного из этих чувств. Ни одного. Он увидел за окном медленно скачущую лошадь-трехлетку. В жокее, неловко привставшем на стременах, узнал Амалию, девушку-негритянку. Сидеть она не умеет. Но бессмысленно учить ее сидеть. Вот в чем дело. Так же бессмысленно то, что он сам хорошо умеет сидеть. Это не имеет никакого значения, ровно никакого. Может быть, имеет значение, что Альпак может обойти любую лошадь в Европе и Америке? Потому что ведь имеет значение, что пять лет назад во время случки в Лалбасси беговая кобыла Актиния и скакун-гибрид Пейрак-Аппикс еще раз оплодотворили яйцеклетку? Нет, не имеет. Совершенно бессмысленно, что родился жеребенок с такими длинными пястями, какие редко случаются от смеси английской и американской пород. Может быть, он, Кронго, зачем-то и нужен. Но он просто не понимает, зачем. Да, красота лошадиных линий, конечно, конечно. Удивительная красота тела, в котором нет ничего лишнего. Но зачем она нужна? Ну, хотя бы почувствовать стыд, угнетающую, жгущую щеки горечь стыда за то, что он притащил все это сюда, в этот город, бессмысленность этого, бессмысленность, постыдность. Но он не чувствует ничего этого, все спокойно внутри. Красота линий. Каких линий? А в самом деле, зачем стыд? Что такое стыд?
Кронго вышел в коридор. Рука автоматически вставила ключ, он хотел запереть дверь. Кронго улыбнулся. Теперь уже нет никакого человечка. И этот вопрос — «так, так, но почему?» — не кажется ему бессмысленным и не пугает его. Наоборот, он успокаивает, потому что оправдан. Ключ можно оставить в двери и сойти вниз. Как только Кронго вышел на улицу, он почувствовал приятный жаркий удар лучей в лицо и увидел, что на него смотрит Душ Сантуш. Он сидит в «джипе».
— Одна небольшая просьба… — Душ Сантуш щелкнул пальцами. — Попрошу вас после утверждения список для охраны.
Кронго слышал слова Душ Сантуша, но одновременно не понимал их смысла. И тем не менее ласково улыбнулся, дружелюбно вглядываясь в юного лейтенанта. Приветливо сказал:
— Конечно… Да, но… после какого утверждения?
Душ Сантуш что-то почувствовал в тоне Кронго, на секунду задержал взгляд. Вытащил из нагрудного кармана несколько нагрудных значков.
— Вам это носить не обязательно. Но персоналу необходимо. Это значок нашей демократической партии. Может быть, и вы? Пожалуйста, вы можете надеть.
Кронго улыбнулся, глядя на него, и лейтенант отложил значки.
— Понимаю, — Душ Сантуш закрыл на секунду глаза. — Простите, мсье Кронго, не думайте, что я дерьмо. Честно говоря, плевал я на значки. Мне их дали эти… из сил безопасности. В виде нагрузки.
Кронго кивнул — уже совершенно серьезно, как бы успокаивая и сразу отстраняя лейтенанта. Пока он шагал к главной конюшне, мелькнула мысль: если бы лейтенант узнал, что он хочет сейчас сделать, — смог бы он ему помешать? Нет, не смог. Мимо проехала качалка, кто-то на Мирабели, кажется Бекадор. Еще одна, Амайо на Ле Гару. Выехали на круг, пошли тротом. Как быстро едут, вот уже у поворота. Обе створки дверей главной конюшни широко открыты, наверняка денники пусты. Устоявшийся запах конюшни — навоза, подгнившего сена, сбруи. За денниками — каморки конюхов, тех, у кого нет своего дома. Настежь распахнутая каморка Ассоло. На соседней двери — надпись: «Старший конюх». Мулельге… Они не придут сюда еще часа два. Вот за этим денником… Сюда…
Кронго остановился. Стены широкой клети были увешаны сбруей, чересседельниками, хомутами. Стояли аккуратно расставленные оглобли. С длинной перекладины под потолком свисали вожжи, обрывки старых хлыстов, веревки для поддужья, шлеи. Под перекладиной тянулся длинный помост полуметровой высоты. Когда Кронго поднялся на него, ремни загородили проход, и он их раздвинул. Нет, конечно, он не будет этого делать. Он просто завяжет вокруг перекладины одну из вожжей, так, чтобы она крепче держалась. И, глядя на себя со стороны и как бы со стороны ощущая собственные руки, он подтянул одну из вожжей, самую тонкую, размягчившуюся от долгого употребления, а в некоторых местах застывшую. Кронго завязал ее вокруг перекладины. Подергал, проверяя. Конечно, он этого делать не будет. Тем более что прямая вожжа, свисающая с перекладины, не представляет никакой опасности. Кронго аккуратно сложил конец вожжи и, перегнув, завязал маленькую петёлку. Эта крохотная петёлка получилась на уровне его груди. Кто-то есть в конюшне, слышен шорох в одном из дальних денников. Но это теперь не имеет значения. Никто не догадается заглянуть сюда, в дальний угол, где вывешена старая сбруя. Да и потом — он совсем не собирается делать ничего такого, что могло бы вызвать тревогу. Вот он осторожно вдел в петёлку край вожжи, и получилась петля. Теперь, если отпустить вожжу, петля сама собой распустится. Так и есть, пропущенная в петёлку часть вожжи выскользнула под собственной тяжестью, и вожжа чуть качнулась, раскручиваясь в обратную сторону, застыла. Хорошо, что никого нет, потому что, если бы кто-нибудь был или хотя бы краем глаза увидел все это, ему, Кронго, было бы стыдно за то, что он делает. Он опять взял петёлку и протянул в нее часть вожжи. Получившаяся петля была как раз на уровне его лица, и он осторожно надел ее на шею. Шея чувствует петлю. Снял, потянул ее рукой, и петля затянулась вокруг кисти. Растянул, опустил. Петля качнулась, раскручиваясь. Снова надел на шею, почувствовав холод кольца. Он должен сейчас постоять, привыкая к тому, что петля лежит на шее. Ну, где же ты, человечек? Нет никакого человечка. А «так, так, но почему?» Нет «так, так, но почему?». Это будет болезненно, но никакая боль не может сравниться с бессмысленностью, которая окружает его. Именно «почему» заставляет его это сделать. «Почему» того, что он делал всю жизнь. Он поднял глаза и увидел, что на него смотрит Альпак.
Альпак остановился в проходе у крайнего денника, чуть выгнув шею, чтобы увидеть Кронго. Наверное, оттого, что Кронго не ожидал этого, первое, что он ощутил, был жгучий стыд — стыд оттого, что кто-то увидел его в таком положении, стоящим на помосте, с петлей, накинутой на шею. Альпак, редко прядая ушами, глядел на него в упор, и Кронго видел в его глазах, что лошадь понимает все, что с ним происходит. Альпак чуть отступил вбок. Нет, значит, стыд совершенно ни к чему, Альпак ведь не сможет никому сказать, что он видел. Вспомнилось — оборотень. Многие конюхи считают Альпака оборотнем. Однако как же он сумел выйти из денника и неслышно подойти сюда? Кронго не чувствовал петли, она словно слилась с шеей. Может быть, он был слишком занят петлей и не заметил Альпака? Но все равно, он должен был услышать хотя бы легкий стук копыт об унавоженный земляной пол. Не может быть, чтобы, выйдя из денника, Альпак подкрадывался настолько осторожно, что он, Кронго, его не услышал. Альпак повернул шею, тряхнул головой. Повернувшись, пошел назад, к своему деннику. Звука его копыт почти не было слышно, видна была только двигающаяся над стенами денников черная челка. Вот она остановилась. Странно — если Альпак пришел, то почему сейчас пошел назад? Челка дернулась, было видно, что Альпак поворачивает. Вот снова вышел из прохода. Остановился, мотнул шеей. Глаза его странно блестят. Осторожно кашлянул, вглядываясь и будто спрашивая — что мне делать? Нет, конечно, Альпак не понимает, зачем Кронго стоит в таком положении. Он просто вышел из денника, почувствовав присутствие хозяина. Но тогда почему подошел так тихо? Он не подходит вплотную, а смотрит, выгнув голову из-за прохода. Боится? Он смотрит совершенно беззвучно. Но чего тогда он боится? Наконец Кронго совершенно отчетливо и ясно понял — Альпак не понимает, от чего он, Альпак, должен спасти его. Но понимает, что ему, Кронго, сейчас очень плохо. Альпак не догадывается о человечке, не видел прыщавого негра, не знает о барже, не слышит «но почему?», — но знает, что он должен спасти Кронго. Но он не понимает, как он может это сделать. Он только чувствует, что для спасения Кронго он не должен делать лишних звуков, лишних движений, а из-за незнания может только застыть, замереть, может только вглядываться, чтобы хотя бы попытаться понять, чем он сможет сейчас помочь. Может быть, он может помочь этим взглядом и тем, что он осторожно прошел по проходу и вернулся? Кронго почувствовал, как сдавило горло, и осторожно снял петлю. Возникло что-то совсем постыдное, какое-то жалкое всхлипывание. Если эти глаза, которые сейчас внимательно смотрят на него, могли подсказать ему такую мысль, то по ним он может проверять и остальные мысли. Но странно — он вспомнил сейчас лишь о том, как, приехав в Лалбасси, принял от конюхов мокрый комок с четырьмя вытянутыми палочками, Альпака, и, глубоко засунув палец в задний проход, помог комку освободиться от первородного кала. Эти страшные и добрые глаза не имеют никакого отношения к тому воспоминанию. Оборотень? Он осторожно распустил петлю. Потом, срывая ногти, петёлку. Он должен отвернуться, чтобы Альпак не видел его слез. Отвернуться — вот так, давясь и икая. Но сейчас, глотая слезы и закусывая палец, Кронго чувствует, что освободился от бессмысленности.
Тогда, в тот день, придя на берег озера и глядя на Ксату, Кронго будто пытался проверить — что же в ней изменилось. Вот она поворачивается к нему. Глаза Ксаты кажутся ему недоверчивыми, сначала ему даже кажется, что в них испуг. Он видит: она сама сейчас тоже хочет узнать — что же изменилось в нем? Ей тоже важно — что же произошло с ним за это время? Вот рука ее медленно поднимается, протягивается… Она стоит спиной к озеру. Нет, он ошибся, в ее глазах сейчас нет испуга. В них по-прежнему вот это странное смешение. Это соединение беспомощности и силы. Ему вдруг кажется — глаза Ксаты хотят обмануть его, пытаются что-то скрыть.
Она опустила, почти отдернула руку. Отошла к самому берегу, остановилась. Но он не дал ей остаться одной. Он тут же подошел к ней, повернул к себе. Да, ее глаза сейчас пытаются что-то скрыть от него. И одновременно с этим в них живет насмешка. Теперь он видит — это насмешка не прежней Ксаты. Не той, которую он увидел впервые год назад. Это насмешка все понимающей, умудренной опытом женщины — хотя Ксате только исполнилось восемнадцать. Что же говорит ему сейчас эта насмешка… Может быть, Ксата просто смеется над ним? Да — именно смеется? Над его любовью, над бессилием этой любви? Вот холодные, прекрасные губы Ксаты дернулись… Застыли… Что-то привело эти губы в движение. Да, это насмешка. Что-то, что она знает — и таит в себе. Но она ведь знает в с е. Да, теперь он понимает — она всезнающа. Значит — это и есть изменение? Вот это ее детское всезнание? Это, появившееся в ней теперь, через год после их встречи, всезнание — оно и изменило что-то в ней? Оно, это всезнание, давно уже сделало ее взрослой. Ксата теперь намного старше, чем он, — но именно поэтому она привлекает его еще больше. Вот она легким движением выскользнула от него, отстранилась. Как же ему не хватало ее. Как не хватало — все время. Там, в Париже, он оставался один. Совсем один…
— Ты… давно здесь?
Она, ничего не отвечая, отошла. И — будто отстраняя его этим движением — легла на землю, раскинула руки. Глаза ее ускользнули от него — хотя были широко раскрыты. Она сейчас прекрасна — под лучами утреннего солнца, еле прикрытая двумя лоскутками материи, легкая, стройная… Но — прекрасная — она далека от него. Далека — бесконечно. Почему же… Вот почему. Она далека потому, что всезнающа. Он же ничего сейчас не знает о ней. Ничего. Откуда же в ней это изменение? Откуда эта появившаяся в ней взрослость?
— Давно, — наконец сказала она. — Целую вечность. С тех пор, как тебя нет в Бангу.
В ее словах был упрек. Значит — она его любит. Любит — повторил он про себя. В этом и есть счастье. Но в этом счастье есть горечь. В нем, Кронго, Кро, уже возникла ревность. Да, в нем возникла именно ревность, представление, что она была с другим. Неважно, была ли она с другим на самом деле, — но он почувствовал, что она м о г л а быть с другим. И именно это мешает ему сейчас понять ее слова.
Но что же тогда — если она н а с а м о м д е л е была с другим все это время, пока его не было здесь? Пустяки. Глупости… Он знает — она ждала его. Иначе бы она не пришла сюда. Нет, это не может так продолжаться. Она не может, не должна больше жить в Бангу — без него.
— Ксата… — Кронго сел рядом. Она повернулась к нему — и он увидел в ее глазах злость, почти ненависть. И одновременно — горечь.
— Ну, Ксата. Н-ну…
— Молчи.
Это, вот эти ее слова, — любовь. Значит, она должна уехать с ним. Не когда-нибудь — а именно в этот раз. Сейчас. Он должен сейчас же настоять на этом.
— Что с тобой? Ксата?
— Ничего, Маврик. Молчи.
— Ксата… давай уедем.
Но тут же растворение, невесомость, небытие пропали. Ему показалось — сейчас этот разговор сделает их чужими. В нем вдруг возник испуг — испуг, что она сейчас станет чужой. Чужой — из-за этих слов. Он должен замолчать…
— Ты… не представляешь… Я… не мог… без тебя.
Она протянула руку, дотронулась до его щеки. Ее пальцы легко скользнули к его губам. Подбородку. Он застыл, замер под движениями этих пальцев — но ее рука отстранилась, снова легла на песок. Он чувствует, как сейчас она смотрит вверх, не мигая. Ее широко открытые глаза снова ушли от него, ускользнули.
— Давай уедем, Ксата.
— Давай.
Именно в этом ответе — насмешка. Добрая, не злая, но насмешка над ним, над его желанием всегда быть с ней. Насмешка — в этих ускользающих глазах.
— Ксата… Я… серьезно. Я… больше не могу без тебя.
— А ты думаешь — я могу?
Она повернулась к нему, вцепилась в рубашку.
— Как ты можешь только думать, что я могу? Как ты можешь только думать?
Она с бессилием, с ненавистью — к чему-то, не к нему — вдруг отодвинулась, оттолкнулась.
— Ну вот. А теперь запомни — мы с тобой взрослые. Мы же — взрослые. Слышишь, Маврик?
Тишина. Тишина знакомых звуков.
— Мы с тобой будем встречаться. Но — здесь. На берегу, в этом месте. Только здесь и нигде больше. Пусть это… мучительно… Но я не могу… уехать из деревни. Не могу. Пойми, Маврик… Пока — не могу. И я… Я… Ты понимаешь — я иду на то, чтобы мы встречались здесь. Тогда, когда ты будешь приезжать. Только в эти дни. Ты слышишь? Я иду на это — а не ты. Я согласна… на это.
Он молчал, прислушиваясь к привычному шуму вокруг — камышей, воды, птиц. Она сказала это со злостью. Но в то же время — с нежностью, с болью.
— Но — почему?
Сейчас он знает, почему. Если бы только он знал об этом тогда. Если бы только знал. Но он тогда думал — это смешно. Это все игра. Ксата все выдумывает. Ничего этого нет.
— Я… нужна деревне.
Она нужна деревне… Почему? Что за глупость? Зачем она может быть нужна деревне? Что, деревня без нее — пропадет?
— Ты… никому не должна быть нужна. Никому, кроме меня.
— Нужна. Пока — нужна. Понимаешь, Маврик? Нужна. Ну, миленький. Поверь.
Какой большой смысл стоял тогда за этими ее словами. Но он не понимал его. Не понимал. Тогда он ей ничего не ответил. В этих ее словах было для него что-то другое. Он действительно не понимал, почему же она может быть нужна деревне. Но какой-то особый, сокровенный их смысл все-таки стал тогда понятен ему. Сейчас он понятен ему до конца. Если бы только он догадался обо всем раньше. Если бы только он все понял. Все, что понимает сейчас.
— Ну вот. А… потом… Потом я уеду с тобой.
Она прижалась к нему — и он ощутил тепло ее дыхания.
— Уеду — я обещаю тебе. Слышишь, Маврик? Обещаю. Но… пока… я не могу. Мы будем встречаться здесь. Пока. Здесь, украдкой. Как… Как… преступники. Хочешь ты этого… или нет…
Он повернулся — и увидел ее глаза. Да, в этих глазах было сейчас небытие, невесомость, ничто. Растворение.
— Я люблю тебя, Маврик.
Небытие. Невесомость. Растворение. Какой бесконечный смысл был тогда в ее глазах. В каждом ее слове. Бесконечный. Но он не понимал тогда этого смысла. Не понимал. Он просто любил ее.
— Я люблю тебя, Ксата. Слышишь… А остальное — неважно.
— Мы будем с тобой преступниками, Маврик.
«Да. Мы. Будем. С тобой. Преступниками. Я согласен. Остальное ведь неважно, Ксата… Ты понимаешь?» Каким же он был тогда глупцом. Каким глупцом. Он ничего не понял. Ничего не понял — в Ксате.
Крик раздался утром — когда Кронго проверял денники.
— Морис! Морис, сюда!
Кричал Диомель, и, так как крик раздался снаружи, Кронго понял: что-то случилось там, у входа в конюшню. Стояла страшная жара, и первой его мыслью была досада. Досада на то, что нужно выходить, — Кронго не хотелось выходить из прохлады и полутьмы конюшни туда, под солнце и жару, в пекло. Но Диомель продолжал кричать, и Кронго вдруг почувствовал в этом крике что-то большее, чем растерянность.
— Морис! Морис, сюда! Морис, где ты? Скорей сюда! Морис!
Кронго почувствовал в этом крике даже что-то большее, чем испуг. Он выскочил из дверей и увидел отца. Отец лежал в странной позе: подвернув руку, закостенело вытянув ноги, — они были сейчас вытянуты и прямы, как палки. Первая мысль, которая возникла, была нелепой: почему отец, ненавидевший жару, лег здесь, на самом солнцепеке? Глаза отца были стеклянными, пустыми, но губы непрерывно шевелились, так, будто он пытался что-то сказать. С отцом что-то произошло, ему плохо — но возникшая мысль была другой, совсем не об этом. «Нужно унести его отсюда», — подумал Кронго. Отец что-то говорил, и Кронго нагнулся, пытаясь понять, что же означает это движение губ, что хочет сказать отец. Странно — Диомель почему-то не дал ему нагнуться, закричал в лицо:
— Поздно! Поздно, Морис!
Только тут Кронго увидел пену, которая выходила у отца изо рта.
— Морковка! Ты что, не видишь, Морис, — морковка?
Вместе с пеной, оседая на губах, изо рта отца плыли, выходили вместе с пузырями мелкие оранжевые крошки. Тут же Кронго заметил — глаза отца вдруг приобрели осмысленное выражение. Они вдруг стали совершенно ясными, и Кронго понял: раньше, до этого, движение этих губ было неосознанным, теперь же отец хочет ему что-то сказать. Что-то очень важное. Кронго пригнулся, с отвращением ощущая резкий запах рвоты.
— Да, па… Что с тобой?
— Ф-фис… Я только… хотел… Т-только… хотел… Взять… в-взять… Т-только… хотел…
В глазах отца снова что-то произошло. Они застыли, опять стали пустыми, стеклянными. В них снова, ничего не было. Диомель присел, жарко зашептал:
— Смотри — морковка… Морис, ты понимаешь? Смотри — да вот. Морковка у него в руке… Он должен был дать ее Гугенотке… Слышишь? Гугенотке… А съел сам…
Кронго увидел в руке отца — удивительно, эта рука отца казалась сейчас одновременно и расслабленной, и закостеневшей — огрызок морковки.
— Морис, ты понимаешь? Ты понимаешь, что они с ним сделали? Понимаешь?
Голова отца дернулась, закинулась. Вдруг Кронго понял — он умирает. Умирает…
— Папа! Па!!!
Кронго попробовал придержать отца за затылок — и ощутил легкое движение.
— Быстрей!.. — закричал он. — Вызови «скорую»!.. Диомель… Беги скорей… Скорей же, ты слышишь? Вызови по телефону… Из жокейской…
— Сейчас… Сейчас, Морис… — Диомель побежал к телефону.
Кронго огляделся — все вокруг было пусто. Стены конюшен. Дворики для прогулок. Никого не интересует, что происходит сейчас с отцом. Никого. Они одни. Вот это ощущение пустоты, ощущение, что никого нет. Вокруг только солнце и пустота. Они одни. Они никому не нужны. Никому не нужны эти закостеневшие ноги отца, вытянутые перед дверью. Ипподром под лучами солнца показался бы ему сейчас вымершим — если бы он не разглядел вдали, за оградой тренировочного круга, мерно двигавшиеся головы раскатывающихся лошадей. С телом отца сейчас что-то происходит: оно непрерывно, через равные промежутки, напрягается — и потом, выдержав напряжение, расслабляется, становится пустым, легким. Вот застыло — и одновременно с этим в глазах отца появилась тень смысла.
— Да, па?
Отец попытался приподнять голову. Да, он опять хочет что-то сказать.
— Папа… Потерпи… Потерпи, я тебя прошу… Сейчас приедет врач…
— Морис… — губы отца еле двигались. Движение губ было совсем слабым, и было непонятно, как же они могут сейчас выговорить хоть что-то. Слюна продолжала выходить изо рта — и тут же подсыхала.
— Морис… Я… Только… хотел… Запомни… Я только хотел… взять…
Отец попытался договорить эту фразу. О чем он хочет сейчас сказать? О морковке? Глаза отца закрылись, тело снова вытянулось, замерло. Подошел Диомель, Присел на корточки.
— Я… вызвал, Морис. Они сейчас будут.
Кронго услышал странный звук и понял, что Диомель плачет.
— С-сволочи… — Диомель беззвучно всхлипывал, слизывая с губ слезы. — С-сволочи, мерзавцы… Им было мало, что они отобрали Приз… Им… б-было… этого мало…
В воздухе возникло какое-то напряжение, неловкость — и вдруг Кронго понял, что они не одни. Он оглянулся — вокруг них молча стояли несколько конюхов и наездников из других конюшен. Отец дернулся, и Кронго тут же нагнулся — но теперь уже в этом движении отца не было требования выслушать его. В нем было что-то беспомощное, слабое.
— Маврик… — отец улыбнулся. — Маврик…
— Да, па?
Кронго почувствовал горечь, бесконечную горечь. Он вдруг понял — отец умирает. Папа, папка, па, Принц, Принц Дюбуа умирает… Он почувствовал, как судорога рождается в горле, влажная пелена заволакивает глаза… До крови закусил губу.
— Я… т-только… — отец замолчал.
— Тебе больно?
Зачем он спросил это?
— Да… — слабо сказал отец.
Он вдруг понял — ему почему-то нужно было, необходимо было спросить, больно сейчас отцу или нет. Отцу больно… Больно…
— Па, потерпи.
Почему ему так важно знать — больно отцу или нет… Людей вокруг становится все больше. Кронго видел, ощущал, как люди подходят сюда, к их конюшне. Никто из них не говорил ни слова. Подходящие просто останавливались, просто стояли и смотрели. Теперь их с отцом окружает молчаливая неподвижная толпа. Может быть — весь ипподром… Что же означает эта толпа… Это молчание… Изредка о чем-то спрашивают сзади — и замолкают, услышав ответ.
Да, это означает поддержку. Но эта поддержка не нужна. Она лишняя. Лишняя… Подъехала «скорая». Люди расступились, пропуская носилки. Кронго пошел вслед за носилками к фургону.
Потом он сидел в машине, разглядывая спину сестры. Рядом с ним качались ноги отца, укрытые простыней. Кислородная маска. Стимулятор. Две белые спины перед ним — они отделяют его от носилок, но это уже неважно. Что же означает фраза отца? Я только хотел взять… Он хотел взять. Что — взять? Что отец хотел взять? Сейчас внутри — пустота. Кронго понял — ему безразлично все. Отца уже нет. Все, что осталось от отца, — часть ног, укрытая простыней.
Потом — белый коридор. Белые двери. Лицо матери… Растерянное, ничего не понимающее… Бедная мама…
— Как… он?
— Состояние больного… ниже удовлетворительного.
Что это значит — «ниже удовлетворительного». Ниже — удовлетворительного. Бессмысленный набор слов. Нелепый смысл. Совершенно нелепый. Ниже удовлетворительного… Но, наверное, такой набор слов лучше всего подходит, когда говорят о смерти. Что же он хотел взять. Что…
— Вы — родственники Дюбуа?
Ясно — отец умер. Отец — умер. Совершенно ясно. Так говорят всегда, когда человек умирает. Вы — родственники — Дюбуа. Он вдруг понял — что-то кончилось, прекратилось. В его жизни — что-то кончилось. В жизни Маврикия Кронго, Мориса Дюбуа что-то кончилось. Как это ясно…
— Он… умер?
В любой бессмысленности, нелепости наверняка есть какой-то тайный смысл. Есть — наверняка…
— Да, он… скончался.
Кронго пытался разглядеть крайнюю ложу центральной трибуны. Там должен стоять Пьер, но Кронго не мог различить его среди людей, двигающихся в ложе, лица виделись смутно, только рубахи.
— Третий заезд… — громко объявил репродуктор. — Начинается третий заезд… Лошади третьего заезда, на старт…
К паддку от трибун подошли два европейца в белых гимнастерках, один из них, высокий, улыбнулся.
— Все в порядке, мсье, не волнуйтесь, — высокий осторожно потрогал бок под рубашкой. — Все в порядке, мсье Кронго, не беспокойтесь…
Оттого, что Пьера не было, Кронго должен был чувствовать облегчение. Но облегчения нет. Ведь это означало, что все, что он решил про себя, пропало впустую. Поэтому вид безликих рубашек в ложе был неприятен, вызывал досаду. Трибуны были расположены с одной стороны двухкилометрового овала скаковой дорожки, край их начинался от последнего поворота к финишу. Длинный трехъярусный прямоугольник с далеко выступающим бетонным козырьком был разделен пополам застекленной вертикальной ложей. Там помещалась администрация, комментаторы и судьи. У края металлической изгороди толпились любопытные, наблюдавшие за проводкой готовившихся к скачке лошадей. Сейчас, в перерыве, трибуны неровно и редко закрывало белое, красное и черное. Кронго знал, что если сидеть на лошади и медленно выезжать из паддка к старту (неровный стук сердца, судьи, следящие за правильным положением стартовых боксов, медленный путь под музыку по бровке, вздрагивающая холка у колен) — то белые и красные рубахи, черные брюки, белые и черные лица становятся неотличимы, кажутся странным вздутием, неподвижно-покрывшим трибуны. Изредка по краям и в провалах этого вздутия возникают мелкие пузыри, легкие потоки. Перед заездом вздутие всегда застывшее, неподвижное — огромное безликое лицо, смотрящее на тебя из-под высокого козырька… Сейчас это лицо было рябым, с черными провалами.. Петля из вожжей, распускающаяся и свивающаяся перед его лицом, — ее не было, ее никто не видел, он должен забыть о ней, не вспоминать. Он просто будет поступать так, как надо, как требует жизнь. Для этого он должен найти правду, ради которой он жил, — не ту правду, которой он всегда отговаривался сам перед собой, не ту, которую слышал в тысячах слов, в стертых привычных строчках газет, в книгах, в людях вокруг. Красота линий, так, кажется, думал Кронго, разглядывая двух европейцев в белых рубашках, остановившихся у паддка. Да, и еще — безупречность форм, стремительность бега… Да, именно эти слова… При чем тут стремительность бега? Есть падающая и бьющая с размаха в живот, в горло, в лицо дорожка, но эта бьющая и падающая дорожка тоже еще ничего… В сущности, ведь его профессия не только в том, чтобы гордое, сказочной красоты животное с рождения превращать в раба, в гоночный механизм, в тупую машину… Лошади с характером, входящие в силу к зрелости, часто становятся негодными для ипподрома. Но именно они могут показать наибольшую резвость… Проклятье. Это — извечное противоречие, которое ему так и не удается разрешить. Ведь часто те, чей характер ему удается сломать, которых удается обработать, — эта сломанные и есть «победители». Победители, способные только к одному — к послушной, сильной и ровной рыси, к оглушительной бессмысленной скачке под рев трибун. Это и есть правда. Но ведь правда и то, что только такая лошадь дает ему возможность ощутить счастье борьбы, счастье Приза… Приза, пока еще не взятого им… Значит, это — жертва, которую он сам заставляет приносить для себя природу. Значит, нужна и ответная жертва…
Следователь раскрыл папку и сделал вид, что листает бумаги.
— Вы понимаете, что я хочу вас спрашивать непредвзято. Обстоятельства дела как будто ясны… Это отравление… И в то же время эти обстоятельства могут быть истолкованы по-другому. Я хотел бы найти у вас помощь. Вы понимаете?
Должен ли он, Кронго, что-то говорить следователю? Должен ли что-то объяснять ему сейчас — или это бессмысленно? Да, верней всего — бессмысленно. То, что происходит на ипподроме, то, что делает Генерал, — известно всем. Наверняка это известно и человеку, который сидит сейчас в жокейской и смотрит на него — смотрит с участием, с искренним участием, Кронго видит это.
— Понимаете — мы обязаны выяснить истину. Дело получило огласку, о нем пишут. Прежде всего — я хочу выяснить, для кого была предназначена отравленная морковь. Для человека? Или — для лошади? Помогите мне.
Лицо следователя, его движения, его голос совершенно искренни. Может быть, это так и есть, и следователь действительно хочет найти. Что же найти… Истину… Того, кто подложил морковь. Может быть даже — следователь не куплен Генералом. В лучшем случае — следователь нейтрален. Но все равно — это бессмысленно. Бессмысленно, потому что отца нет.
— Мы выяснили, что у вашего отца была привычка давать лошадям очищенную морковь.
Потом — это бессмысленно, потому что, даже если бы Кронго и хотел, он ничего не смог бы объяснить следователю.
— Хорошо, — следователь смотрел на него все так же — с искренним участием. — Теперь — много ли людей на ипподроме могли знать об этой привычке?
Много ли людей могли знать об этом… Да об этом мог знать каждый. Каждый — кто этого бы захотел. Важней другое — хотели ли они отравить отца. Или только — лошадь. Ведь никто из них не знал… Никто не мог знать, захочет ли отец съесть именно эту морковь. И потом — это было бы слишком. Вряд ли Генерал решился бы убить отца — только за то, что отец решил затемнить Гугенотку.
— Что же — здравый смысл подсказывает нам, что кто-то хотел отравить одну из ваших лошадей? Тогда — мы должны выяснить: чем это было вызвано? Помогите же мне, мсье Дюбуа. Видимо, тем, что кто-то хотел устранить возможного конкурента? Ведь так? По крайней мере, здравый смысл говорит нам, что это должно быть так?
Нет, они не хотели отравить отца. Они хотели отравить только лошадь. В назидание. Для порядка. Это было — «по-божески». Да — в назидание… Что же он должен сказать следователю? Что это была месть? Рассказать о том, что происходит на ипподроме? О Зиго? О двадцати тысячах долларов? О том, что произошло во время заезда? Зиго… Двадцать тысяч долларов… Они даже сами не знают, что эти деньги присылал Тасма. Потом — сейчас уже поздно говорить о мести. После розыгрыша Приза прошло несколько месяцев. Да, Кронго понимает, ясно понимает, что это была месть. Если говорить на языке ипподрома — Тасма поступил по-божески. Он должен был отомстить — для порядка. Но можно ли объяснить — за что он хотел отомстить? За то, что отец мешал ему, когда он хотел взять Приз?
— Отравление произошло как раз накануне розыгрыша Кубка Элиты. Кажется, он уже разыгран? Неделю назад? Видите — это нас уже на что-то наводит. Давайте посмотрим, кто был заявлен на Кубок Элиты. Кто именно. Кому это было выгодно. Так ведь?
При чем здесь Кубок Элиты? Розыгрыш Кубка Элиты совпал с отравлением случайно. Да, конечно, они не хотели отравить отца. Но что ему от этого — сейчас? Ему — Принцу?
— Вот, у меня есть список. Взгляните, мсье Дюбуа… Курбюйон. Эваль. Буссек. Вы… Будем откровенны. Вы… кого из них вы подозреваете? Поставим вопрос корректней. Кто из них мог видеть в одной из ваших лошадей конкурента? Помогите же мне.
Морковку должна была съесть Гугенотка. Или — еще кто-то из лошадей. Но ведь это совсем неважно. Неважно. Не-важ-но. И — никакое следствие не поймет этого. Морковку съел отец — вот и все. Отец. Он иногда грыз морковь. Но делал это очень редко. Поэтому никто не мог знать, когда именно отец это сделает.
— Мсье Кронго…
Двое в белых рубашках, стоящие у ограды паддка, выпрямились. Лефевр. Кронго узнал его бакенбарды и крахмальный воротник. Нос грушей вверх.
— Надо идти, мсье Кронго, — приблизившись, Лефевр улыбнулся, одновременно разглядывая толпу, стоящую у перил.
Кронго заметил двух негров в светлых костюмах — тех, которые дежурили у его кабинета. Как же их зовут… Кажется — Амаду и Гоарт.
— Но… я еще не подготовил заезды… Надо проследить…
— Пойдемте, пойдемте, мсье… — Лефевр еще шире улыбнулся. — Нас ждут.
Проходя через трибуны, Лефевр держал одну руку в кармане пиджака. Кронго не мог дать объяснения этому. Шум трибун угнетал его. Кронго не мог сказать, что не любит трибуны, просто ему давно уже не было надобности там бывать. Сейчас трибуны, их воздух, их шум, их волнение окружили его. Лица вокруг — ясные, нервные, тупые, безразличные. Толкучка у касс тотализатора, короткие выкрики:
— Семь пять… Предлагаю семь пять… Один три экспресс… Кто хочет зарядить… Кто хочет один три экспресс… Верный вариант семь пять…
Кронго хорошо знал игру, ее тонкости и термины, «замазку», «подыгрыш», «перехлест», «зарядку»… Но привык с суеверной опаской отмахиваться от этих слов. Конечно, он с детства знал, что многие другие жокеи и наездники боялись, что, занявшись игрой, перестанут чувствовать лошадь. Перед самым входом в стеклянную ложу Кронго на секунду легко оттерли от Лефевра. Пьер, подумал Кронго, ощущая прикосновение бумаги, вложенной кем-то в его ладонь. Испугавшись этого прикосновения и всего, что может быть с ним связано, рука Кронго сама собой сжалась, притиснулась к карману. Еще через секунду Кронго встретил знакомые глаза, узнал креола из охраны, Поля. Рядом с Кронго никого уже не было, люди отхлынули к кассе. Кронго держал руку в кармане. Выждав паузу, вынул, оставив бумагу. По взгляду Поля увидел, что тот этого не заметил.
Он должен признаться себе — именно смерть отца все изменила в его жизни.
Он стал известен. Да, именно так. Известен — сразу после смерти отца. Он никак не мог привыкнуть к этому. Не мог привыкнуть к заголовкам на первых страницах газет. К письмам с вложенными фотографиями. К телефонным звонкам. К просьбам об интервью. Не мог привыкнуть — но уже понял, что стал известен. Он стал тем, что обозначается словом «знаменитость». Он, Кронго, Кро, он, Дюбуа-младший, действительно стал знаменит — гораздо больше, чем отец. Сразу после смерти отца о нем стали писать и спорить — и неизмеримо больше, чем о самом Принце. Он видел это. Он, Кронго, Кро, стал уже не просто т а л а н т л и в ы м н а е з д н и к о м, не просто «М. Дюбуа», в лучшем случае — «Дюбуа-2», не просто «ст. тр. конюшни». Он понял — он стал п р е е м н и к о м. Именно — преемником. Он уже привык к тому, что о нем писали — «П р и н ц Дюбуа-младший». П р и н ц — вот в чем было дело. Да, он стал преемником — воистину. Теперь он понимает, что это значило — стать преемником не только в газетных отчетах. Что значило стать с е р ь е з н ы м н а е з д н и к о м, наездником, о котором пишут, заездов которого ждут, тактику которого разбирают. Он стал всем этим. Но ведь он знал — это было несправедливо. До смерти отца он был таким же. Он не вырос, не прибавил в классе. Он ездил так же, как и раньше. Специалисты знали это. И тем не менее именно теперь на его заезды, на его технику, на его лошадей стали обращать внимание. Он сразу же стал одним из фаворитов. Его выступлений стали ждать, одно его участие в бегах уже становилась событием. О лошадях, подготовленных им, теперь постоянно говорили и писали в отчетах. Он стал вторым по известности наездником — после Генерала. Лошади из конюшни мсье Линемана сразу поднялись в цене.
Что же было еще… Он стал тем, что называется «богатый». Он впервые понял, что это значит — быть богатым. Что значит соглашаться или отказываться от крупных сумм. Он понял, что это значит — брать или не брать несколько тысяч только за выступление на радио. Только за упоминание имени. Только за присутствие в рекламе. Если бы он захотел — он мог стать совладельцем конюшни. Именно с того времени, со времени своей известности, и до сегодняшнего дня — он уже не испытывал недостатка в деньгах и мог бы получить их столько, сколько захотел.
Он понял, испытал, ощутил известность, принял ее. Но и в первые дни этой известности, и потом — она не радовала его. Он понимал, что все это произошло только из-за одного — из-за смерти отца. В нем жило безразличие. Пустота.
Единственное, чего он хотел и к чему стремился, — видеть Ксату. Только видеть Ксату, приезжать к ней — хотя бы раз в неделю. Только в этом он находил отраду, цель жизни, отдых, спокойствие. Теперь он мог делать это часто. Так часто, как хотел, — денег у него было достаточно.
Да, в нем тогда жило безразличие ко всему, кроме Ксаты. Прежде всего — к работе. Но все-таки — что-то же вывело его из этого безразличия? Да. Его вывел из безразличия случай. Именно тот случай, когда он впервые согласился б о р о т ь с я. Когда он впервые согласился участвовать в одном заезде вместе с Генералом — в розыгрыше Кубка «Бордо — Лион». В одном заезде, откровенно против Тасмы. Да, именно тогда он впервые захотел победить, захотел выступить, бросив вызов Генералу.
Он согласился участвовать только из-за одного слова. Слова, брошенного невзначай, которое он случайно услышал. Слова, сказанного мельком, которое он услышал краем уха, сидя в пустом холле, — а мог и не услышать.
Он согласился тогда выступить — не из-за денег, хотя баллы за Кубок «Бордо — Лион» были самыми высокими после баллов на Приз. И не из-за возможности заработать на ставках. Даже не из-за желания мстить. Деньги, слава, известность, месть — все это было тогда ни при чем. После смерти отца, после того, что случилось, он не хотел выступать против Генерала. Не хотел ни в коем случае. Он не хотел бороться с Тасма — но совсем не потому, что боялся. Он — не боялся. После смерти отца в нем уже не было страха. Наоборот — тогда, после всего, что случилось, он понимал, что теперь уже Генерал должен бояться его. Эта боязнь была, он чувствовал это, он, Кронго, знал об этой боязни. Знал, что теперь, после смерти Принца, Генерал не решится сделать с ним хоть что-то. С ним или с его лошадьми.
Но даже если бы Кронго знал, что Генерал на что-то решится, — и в этом случае в нем уже не было бы страха. Он, Кронго, победил тогда унижение страхом — навсегда. Да, именно — он победил не только страх, он навсегда победил унижение ожидания… Ожидания… Он, Кронго, уже не боялся именно этого — ожидания страха.
Но было ли тогда в нем самом желание мести? Была ли в нем тогда ненависть? Нет. Ни ненависти, ни жажды мщения — ничего этого в нем тогда не было. Он не хотел мстить Генералу. В нем тогда жило только одно — безразличие.
Только безразличие — ко всему. Безразличие к работе, к заездам, скачкам, тренингу — хотя он работал с лошадьми так же, как работал всегда. Но, работая, он был безразличен. Ко всему — в том числе и к Генералу.
Когда же с ним говорили о Тасме, о том, что он, Принц-младший, должен бросить вызов «великому», должен выступить, и прежде всего выступить в розыгрыше Приза, — это его не интересовало. Когда ему говорили о том, что любое его выступление в одном заезде с Тасмой станет событием, что пресса раздует схватку, что заезд станет бомбой, — когда ему говорили обо всем этом, в нем возникало отвращение.
Но в конце концов и это отвращение сменялось безразличием.
Да, ему было противно думать обо всем этом. Он не мог позволить себе мстить Генералу. Не мог позволить себе мстить победой в заезде — за смерть отца. Не могло быть мести за это, нет… Он не мог отомстить за стеклянные глаза отца, за слабо шевелящиеся губы, за оранжевые крошки в лопающейся слюне, за ноги, укрытые простыней.
Он решил выступить только из-за одного слова. Из-за слова… Слово стало поводом, не для мести, а просто — для того, чтобы он согласился участвовать в заезде.
Он помнит, как это было. Он сидел в пустом холле, в здании дирекции, его привела туда какая-то незначительная причина, кажется — он должен был уточнить в тот день списки лошадей для повышения элитной категории. В конце концов, было неважно, зачем он туда пришел, было важно другое — то, что он сидел один в пустом холле, загороженный креслом и бонбоньеркой, лицом кокну, за которым был виден тренировочный круг и часть города. Он ждал мсье Линемана, но забыл об этом и сидел скрыто. Впрочем — это было вполне естественно. Здесь было пусто и тихо, и он сидел, забывшись, без всякого интереса наблюдая за привычной жизнью впереди, за окном, на круге, за неторопливо двигавшимися по дорожке фигурками лошадей, — когда услышал, как кто-то прошел в кабинет дирекции. Снова стало тихо, потом кто-то вышел, наверняка это были те же — и по голосам он понял, что это Тасма и Руан. Они остановились недалеко от него, разговаривая об обычных классификационных заездах, которые должны были состояться завтра, — и сначала это никак не подействовало на него. Он с привычным безразличием слышал их слова, почти не вникая в смысл. Он понимал, что они не видят его, но ему было все равно, что скажут у него за спиной Генерал и Руан, заметят они его или нет. Даже слово, то, которое все изменило, слово, услышанное им, сначала не произвело на него никакого впечатления. Он просто не понял, что это слово относится к нему, — пока не вник в смысл сказанного.
Генерал и Руан говорили о заездах, и Генерал спросил:
— А кто поедет по третьей? Негритос?
— Да, — сказал Руан.
Они обменялись еще несколькими словами — и ушли. Кронго продолжал сидеть — и вдруг вспомнил, что на завтра он записан в четырех заездах. И во всех — на третьей дорожке. «Кто поедет по третьей?..» По третьей поедет… Значит — эта фраза относилась к нему? Кто поедет по третьей… Он. Он, Кронго.
Он по-прежнему следил за фигурками лошадей. Да, он вспомнил — они говорили о пятом заезде. Это он. Он — Морис Дюбуа. Маврикий Кронго. Значит — Генерал и холуи всегда зовут его только так. Кто поедет по третьей… Как — кто… Ясно — кто. Этот ответ был для них привычен, он был сказан безразличным тоном, спокойно, совсем без желания кого-то обидеть. Это слово было для них обычно. «Кто поедет по третьей?» — «Да». Они понимали без всяких слов, без объяснений, что значит это обозначение. Он — для всех, для всего клана Генерала, для двадцати конюшен — давно и навсегда был именно этим.
Почему же это так подействовало на него?.. Ведь он знал об этом. Почему же это слово так подействовало на него — тогда? Именно тогда? Сказанное случайно, мельком?
Все дело было в тоне, которым оно было сказано. Они не знали, что он их слышит. Именно поэтому все дело было в тоне. Тон выдал ему значение этого слова. Для обозначения его личности у Генерала и холуев было одно только это слово — привычное, спокойное, добротное. Он был — нечто, сказанное этим тоном. Значит — оно говорилось ежедневно. Говорилось мельком, мимоходом. Кто поедет по третьей… Ну-ка, я забыл, напомни мне, кто… Да. По третьей поедет…
По третьей поедет не Кронго. Не Дюбуа.
Ну что ж. Обида прошла. Обида была секундной — и исчезла. Хорошо. Он поедет по третьей. Он поедет именно с ним — с Генералом. Дюбуа поедет с тобой, Тасма, если уж на то пошло, ты слышишь? Дюбуа поедет по третьей дорожке на ближайший Кубок. Он, Принц-младший, Морис Дюбуа, Кронго, Кро, поедет. Какой же ближайший Кубок?.. На той неделе, «Бордо — Лион». Да, именно — «Бордо — Лион». Отлично. Он поедет с Генералом на кубок «Бордо — Лион». Он — Дюбуа.
Теперь надо просто найти мсье Линемана. Найти — и сказать ему о своем согласии выступить в одном заезде с Генералом.
Было утро, они встретились около ипподрома. Мсье Линеман стоял у своей машины… Короткий взмах рукой… Улыбка…
— Морис, привет.
— Мсье Линеман… Вы помните, у нас был разговор… О том, чтобы я выступил в одном заезде с Тасмой.
Мсье Линеман прищуривается. Как всегда, он идеально одет. Безукоризненная рубашка. Безукоризненный галстук.
— Так вот — я согласен. Я… готов выступить с ним на ближайший Кубок.
Мсье Линеман улыбается. В этой улыбке странно соединяются искренность — и хитрость.
— Морис… Мальчик… Приятно. Это — очень приятно.
Улыбка мсье Линемана что-то говорит ему. Это — не только радость, но и удивление.
— Но ведь ближайший у нас — «Бордо — Лион»? Да, Морис?
— «Бордо — Лион».
— И ты поедешь?
— Поеду.
— Тогда — я сообщу в прессу. Да… а — на ком?
Они остановились.
— Мсье Линеман. Я как раз об этом хотел поговорить. Я прошу вас пойти на небольшую хитрость.
Мсье Линеман поднял брови.
— Какую же? Или — с чем?
— С… записью. Мы можем пойти… на перезаявку?
Перезаявка могла быть обычным делом, случайностью — а могла быть жульнической махинацией. Замена лошадей перед самым заездом обычно применялась шестерками Тасмы — чаще всего для изменения курса ставок.
— На перезаявку? Кого же ты хочешь перезаявить?
Глаза мсье Линемана спрашивают — ты не боишься?
— Сначала записать Престижа. А перезаявить — Гугенотку.
— О-о…
Такая перезаявка была не только выгодна мсье Линеману как реклама. Вместо липового призера они выпускали фаворита. Если бы мсье Линеман решил играть, такая перезаявка принесла бы ему по меньшей мере несколько тысяч. Конечно — если бы Гугенотка пришла первой. Но в то же время — такая перезаявка сбила бы все расчеты Генерала.
— Но… мальчик… Это прямой вызов Тасме. Такая… штука… все спутает. Это — средство разозлить.
— Я знаю.
— Ну, Морис… Если ты знаешь и идешь на это. А ты… помнишь, кого записал Генерал?
— Помню. Исмаилита.
Исмаилит был лошадью класса Корвета и равен ему по секундам — но, конечно, менее опасен. Мсье Линеман помедлил. Самому ему бояться было нечего — он лишь продюсер, по существу — посторонний человек. Да и — с продюсерами Генерал никогда не связывался.
— Ты… вдруг обиделся на Генерала?
Кронго закрыл один глаз. Они рассмеялись.
— Да. Я — вдруг обиделся.
— Ну что ж, — мсье Линеман поправил на нем куртку, сделал вид, что стряхивает пылинки. — Если уж мы пойдем на это, то — за какой срок ты хочешь перезаявить?
— Ну… у вас хорошие отношения с оргкомитетом. И — с жюри.
— Понимаю. Ну что ж. Я… попробую добиться перезаявки почти вплотную. Конечно, не перед самым заездом, это нереально. Но — вплотную. Я правильно тебя понял? — мсье Линеман обнял его за плечи. — Впрочем — ты ведь прав, Морис. Пришла пора им нас бояться. Как ты считаешь?
— Я считаю — пришла.
Они сидят на веранде, на той же самой веранде перед озером, как и прежде, втроем — он, мать и Омегву. Как и прежде, слышно — возится, постукивает чем-то на заднем дворе Ндуба. И как прежде, этот обед для них не просто обед, а что-то особое, соединяющее их. Но все изменилось.
Во-первых, изменился он. Изменилось его отношение ко всему вокруг — потому что есть Ксата. Да, в том-то и дело — ведь ни мать, ни Омегву не знают о Ксате, не знают, как они теперь связаны — он и Ксата. Они не знают — так, как должны были бы знать. И в этом есть изменение — в этой особенности, в том, что его приезды сюда давно уже приобрели особый, тайный смысл, доступный только ему.
Изменилось что-то в отношениях матери и Омегву. Не потому, что нет отца… Дело совсем в другом. В глазах матери уже нет ощущения счастья. Что-то произошло — что-то, что отдаляет Омегву от матери. И хотя они по-прежнему любят друг друга, он это видит, — в их отношениях все изменилось. Теперь он понимает — это было связано с политикой, с выездами Омегву в столицу, с его выступлениями в печати. Он не понимал тогда — почему мать была против этого. Ведь все, что происходило вокруг, разговоры о предоставлении независимости, разговоры, которые шли уже несколько лет, в Париже, в столице, здесь, — все это интересовало мать, было ей близко. Он много раз слышал эти разговоры и сам с охотой участвовал в них.
Да, изменились не только отношения матери и Омегву — изменился сам мир Бангу, все, что окружает деревню. Во-первых, появились солдаты Фронта, которых сначала было мало. Те самые п л о д ы н а в е т к а х, которых когда-то в зарослях он принял за тени и которые тогда были малочисленны. В деревне их теперь зовут о н и. Не как-нибудь по-другому, а именно — о н и. Они были реальны — но для него остались тогда только тенями, которые он однажды случайно увидел. Эти тени назывались раньше «боевыми группами», потом — «отрядами Фронта освобождения». Эти отряды были формально запрещены, но они были, они представляли Фронт, то есть — все ведущие партии. Они не вели боевых действий, но были вооружены, у них были свои командиры, свои базы в лесу. Эти отряды несли охрану всех крупных деятелей из ньоно и бауса. Омегву тоже находился под их охраной. Хотя, может быть, сам Омегву тогда и не знал об этом… Ведь Бангу был за переход к независимости мирным путем, он отрицал вооруженную борьбу…
Сейчас ему, Кронго, кажется странным, что он был так далек от всего, что занимало тогда Омегву. Он был далек — и от противопоставлений, и от выяснения разницы во взглядах партии, и, конечно, — от отрядов Фронта. Он не понимал даже, чем отличаются друг от друга партии, — скажем, «Национальный конгресс за свободу» от «Партии демократического действия», коммунисты от социалистов.
Но ведь в нем было сочувствие. Даже — симпатия ко всему движению.
Но он был обособлен от всех. Он был — далек. Он хотел жить, просто — жить… Его ничто не занимало тогда, не интересовало. Только Ксата… Да — только Ксата.
Конечно, была еще и работа. Ипподром. Кубок «Бордо — Лион». Разве этого было мало? Пусть — мало. Он не чувствовал никакой вины из-за этого. Никакой.
Ведь он имел право быть далеким от всего. Он имел право — только сочувствовать. Право только желать успеха — и ничего больше… Ведь его жизнь была в другом. Совсем в другом.
Вот Ксата выскальзывает из зарослей — будто сама до этого составлявшая их часть. Вот, отделившись от кустов, приникает к нему…
— Ксата…
— Маврик…
Ему ее не хватает. Всегда… Повсюду… Во всем… Как она не может понять, что ему ее не хватает?
— Ты… давно?
Ее закинутая голова. Глаза — о которых он все время думает.
— Давно.
Уплыть… И все-таки… Эти скрытые от всех встречи… Нелепые, дурацкие, идиотские… Тайком… Он заметил в Ксате что-то новое. Вместо обычной накидки на ней рубашка и брюки.
— Маврик.
— Ксата.
Они крепко обнялись, — и, обнимая ее, он прислушался и ощутил какое-то изменение в ее руках. Или — ему показалось? Вот ее руки — цепкие, будто прилипшие к его спине. Сильные — но одновременно нежные, одновременно — знающие все о нем… И ему сейчас кажется, одновременно — далекие от него. Да — именно это ему показалось. Далекие — хотя ему ее не хватает. Она не понимает, что с ним происходит. Не понимает, как он сходит с ума без нее, как мучается. Не понимает, что так не может продолжаться.
— Пойдем… — она улыбнулась, выдохнув ему эти слова в самое ухо.
— Куда, Ксата?
— Ты знаешь, тут… есть лодка. Я не хочу, чтобы мы были здесь.
— Как хочешь.
Он пошел за ней. Они прошли несколько шагов вдоль воды — и он увидел старую лодку, полную высохших водорослей. Весло на корме. Ксата разгребла водоросли, прыгнула в лодку. Он оттолкнулся. Они уплыли далеко. И пока плыли, пока носом лодки раздвигали камыши, пока по очереди работали единственным веслом — он чувствовал себя счастливым. Да — он ничего больше не хотел в эти секунды. Раздвигая веслом воду, он чувствовал себя счастливым безоглядно. Тишина… Шелест камышей… Для счастья была нужна такая малость. И это — из-за Ксаты. Кажется, в этом ее особенность — приносить ему безоглядное счастье в самой малости, приносить без всяких усилий, легко, как дыхание…
Потом они оставили лодку… Долго шли по колено в воде к берегу, путаясь в зарослях. Он снова заметил перемену в ее одежде и понял, почему обратил на это внимание. Никогда раньше она не носила брюк, сейчас же на ней были узкие, обтягивающие бедра брюки и рубашка — расстегнутая, с полами, небрежно завязанными грубым узлом под грудью. Брюки и рубашка были армейские, брюки — почти новые, но перешиты по фигуре.
Потом они лежали и смотрели вверх, в небо.
Он ждал сейчас близости — и не верил в эту близость. Не верил — хотя все знал о Ксате. Хотя она давно была для него будто он сам, была его частью — и все-таки каждый раз он не верил, что близость между ними возможна.
Наверное, это и было счастье. Долгое, длящееся уже полтора года.
Вдруг он понял, откуда брюки. И — рубашка. Это — «они». «Я нужна деревне». Каким же он был дураком, что не понимал раньше, что значат эти слова. Конечно — она связана с «ними». Смешно. Он ревновал ее к Балубу, мучился. Но теперь он понимает, — может быть, она и не была связана с Балубу. Но она наверняка все это время была связана с «ними». Наверняка… Она нужна деревне… Значит — она нужна «им». Но ведь это глупо. Это смешно, нелепо.
— Откуда это у тебя?
— Нравится? — Ксата развязала рубашку, бросила — и рубашка накрыла камыши. Выгнулась, показывая брюки, — и вдруг поняла, что что-то скрывается в его вопросе. Повернулась.
— Ты что — недоволен? Что на мне брюки?
— Мне все равно.
— Что с тобой?
Встретив сейчас ее взгляд, он попытался понять — в чем же была разница. В чем же была разница в их отношении к «этому»?
Да, разница была. Разница была во многом. Для нее это было серьезно, для него — нет. Ведь он понимал: эти тени, отряды Фронта, их появление около деревни, возможная охрана Омегву — только игра… Игра… Пусть она для нее серьезна, но это — игра.
Именно поэтому он сейчас чувствует досаду. Да, он почувствовал себя обманутым. Значит — все это было только ради «них»? Ради теней?
Конечно. Просто — раньше он не понимал, в чем была причина ее отказа давно уже уехать отсюда… Иногда он думал, что, может быть, эта причина — Балубу. Или — то, что она должна танцевать на праздниках. Хотя нет… Конечно, нет… Все-таки он думал, что причины ее отказа уехать с ним важны для нее… Он не знал существа этих причин — но по ее тону, по тому, как она каждый раз говорила ему, что не может оставить деревню, он верил, что эти причины серьезны. Это не мог быть Балубу, это могло быть только что-то действительно важное, действительно мешающее ей уехать… Но оказывается — это так просто. Вся причина невозможности счастья, его счастья — в «них», только в «них». Все, что удерживало Ксату, — было ради них… Но что такое — они? Что они могут принести — ей, ему, деревне, кому бы то ни было? Даже — независимости? Что? Неужели она не понимает, что вопрос о независимости решается не здесь. Не появлением этих теней. И — не связью Ксаты с ними… Независимость будет предоставлена, это ясно, это видно… Но она решится не созданием «отрядов» и «боевых групп», не «тенями» и не связью Ксаты с тенями… Даже — не выступлениями Омегву. А переговорами между властями метрополии и столичными партиями. Независимость будет оговорена и наступит автоматически — со временем. Странно… Сейчас он чувствует бессильную ярость… Бессильную… Значит — связь с «ними» была ей так важна, что она не сказала ему о ней. Ничего не сказала — хотя именно эта связь и помешала возникновению счастья… Помешала тому, чего он давно ждет. Она же — ничего не сказала.
— Что с тобой? — повторила она.
— Со мной — ничего.
Он протянул руку — и встретил ее ладонь. Он не скажет ей сейчас ничего… Ничего о том, что думает. Ничего о том, что он понял.
— Маврик, ты… не сердишься?
— Нет.
Может быть, он и не прав. Может быть — она не могла ему ничего говорить. Ведь наверняка это у «них» — одно из правил. Ничего не говорить — тем, кто с ними не связан…
— Не сердись…
— Я не сержусь.
Он может сейчас найти даже что-то хорошее в этом… Ведь связь Ксаты с «ними» говорит о ее серьезности… Пусть о наивных — но хороших чувствах. Да — об искренности, увлеченности…
— Слушай, Ксата… Ты так упорно не хочешь, чтобы кто-то знал, что мы с тобой встречаемся.
— Да, — она насторожилась. — А что?
— Ничего. Просто — я подумал о том, что ничего не остается… как рассказать об этом всем.
Нет, у нее нет никого. Она его любит. Он чувствует это хотя бы по тому, как она сейчас засмеялась:
— Ну что ж. Расскажи. Всем.
— Ксата… А вдруг я случайно кому-то скажу?
Какая острая боль вдруг возникла. Он должен увезти ее. Он сумасшедший — что мирится с тем, что она до сих пор здесь. Он должен ее увезти — сейчас же, немедленно. Ее — наивную, скрытную, бесконечно милую, бесконечно любимую им. Странно только — почему он до сих пор этого не сделал.
— Не скажешь. Я знаю.
— Ты так уверена?
Он вспомнил — как не раз уже вспоминал, — как тогда, встретившись в зарослях с тенями, спросил у пустоты: «Ксата?» Но это было давно. Очень давно. И — никто не узнал об этом.
— Уверена.
Он должен ее увезти. Силой — увезти.
— Почему?
— Потому что… не нужно этого делать. Ну, Маврик.
— А… что с тобой тогда будет?
Она сделала преувеличенно серьезные глаза, приблизила к нему лицо:
— Меня убьют.
Да, она сделала это смешно. И в то же время немыслимо — что она так шутит. Значит — это все-таки Балубу. А ведь Балубу в самом деле может ее убить. Он должен увезти ее… Увезти сейчас же, как можно скорее…
— Глупая шутка.
— Только признайся — ты говорил кому-нибудь?
— Ксата, что ты… болтаешь. Это — глупости.
— Нет, признайся, — говорил?
— Нет. А может быть — тебя в самом деле убьют?
Она отвернулась и долго лежала, ничего не отвечая.
— Ну — что ты… Я смеюсь.
Он вдруг почувствовал несерьезность в ее словах — и это успокоило его. Или — она внушила ему это. То, что это было сказано несерьезно.
— Ксата. Ты… должна обещать мне… Слышишь — должна обещать. Слышишь?
— Хорошо. Я обещаю.
— Ты должна со мной уехать. Немедленно.
— Я уеду.
— Нет. Без всякого, — он взял ее за плечи. — Ксата, девочка… В этот приезд. Сейчас. Вот сейчас. Сейчас же… Ну? Слышишь? Идем на автобус. Без вещей, без всего. Слышишь?
— Маврик… Ну — Маврик, — она, шутя и увертываясь, стала целовать его.
Она сейчас поддастся. Еще немного — и она поддастся.
— Пошли, — он попытался приподнять ее. — Все остальное мы купим в аэропорту. Ну? Ксата?
— Маврик… — она легко высвободилась, не поддалась. — Ну, Маврик… Смешной… Ну ты смешной, это несерьезно, ну… Ну — давай, я тебя поцелую. Маврик, пусти. Я уеду, обещаю тебе — уеду. В следующий раз. Еще немножко, чуть-чуть. Ну? Ну подожди. Самую малость. Ну — Мавричек?
Он молчал, вглядываясь в нее. Она нахмурилась, ее улыбка пропала.
— Ну — я уеду. Все, все. Ну, Маврик? Ну — неужели ты не видишь? Ну… ну подожди немножко.
Он снова протянул руку — и снова ощутил прикосновение ее ладони.
Потом, когда он проводил ее к окраине деревни, его снова охватила досада. Она любит его, она не может без него, он знает это… Он это чувствует. Но она не хочет именно этого — уехать отсюда, уехать вместе с ним. Но это ее нежелание порождает в нем некую двойственность. Он испытывает странное состояние, он понимает, что она хочет быть его женой, хочет быть с ним навсегда… Ведь ему ничего больше не нужно. Но в то же время — этот ее мягкий, повторяющийся каждый раз упорный отказ…
Но все-таки — он чувствовал, что это возможно… Потом, когда поднялся в воздух, в самолете. Она уедет с ним — он чувствовал это. Он думал тогда: может быть, сказать обо всем Омегву? И снова смотрел на громоздящиеся внизу, уплывающие, исчезающие под крылом облака. Омегву… Нет, думал Кронго, дело не в Омегву. Дело в ощущении возможности. Была бы лишь вот эта надежда. Вот это ощущение возможности — и все сбудется.
Только теперь он понимает, как обмануло его тогда это ощущение возможности, ощущение близости счастья. Тогда он не понимал, не мог понимать, что именно существует в Ксате, что именно живет в ней — тайком от него. Вернее — он догадывался, но думал, что все это, эта ее п о л и т и к а, эта ее связь с н и м и, с Фронтом, и то, что она ничего не говорит ему, что она скрывает от него эту связь, — все это невинно. Но это было не невинно, как он думал, это было далеко не невинно. Ведь дело было даже не в том, что Ксата была близка к Фронту, что она помогала отрядам Фронта. Дело было в том, что тогда, в то время, когда никто еще ничего не знал, она должна была поступать только так — и не иначе. Она, Ксата, должна была сделать это, она должна была с в я з а т ь с я с п о л и т и к о й — именно потому, что никто еще ничего не знал. И неважно, что он сам, он, Кронго, думал, что все уже предопределено. Что он, думая о п о л и т и к е, в душе улыбался, забавлялся, думая, что это детская игра, что все наступит само собой, — то, что теперь называется отделением от метрополии, независимостью, свободой. Ведь Ксата этого не думала. Для нее это действительно было с в о б о д о й. Сво-бо-дой. И она ничего не знала, все для нее тогда было неясно. Именно — неясно. А это значило — в том, что она делала, был риск. Он сам не знает — каким был этот риск. Но она знала, что он, Кронго, далек и от этого риска, и от всего, что называлось — политикой, политической борьбой. Она, Ксата, знала это. Знала, видела, понимала все — несмотря на то что ей было только восемнадцать. Только восемнадцать… Она знала о риске — и не хотела связывать его с ним. Не хотела. Проклятье. Как все разрывается сейчас внутри. Разрывается, мучит. Бесконечно — как только он думает об этом. Ксата не хотела связывать его с риском — без его желания. Она не хотела этого делать — помимо его воли…
Утром, в день розыгрыша Кубка «Бордо — Лион», перед тем как выехать из дому, Кронго позвонил Жильберу. Он решил э т о сделать — и решил твердо.
— Жиль, привет, это я. Не рано? Хорошо… Да, я сегодня еду в главном заезде. Подожди меня… где обычно, на углу. Есть разговор.
Когда Жильбер сел в его машину, они проехали несколько кварталов молча. Наконец, выбрав пустую стоянку, Кронго остановил свой «пежо». Город только что проснулся, людей на тротуарах было немного.
— Жиль… У тебя есть деньги?
— Ну… — Жильбер пожал плечами. — В общем — есть. А что?
— Сыграй сегодня на меня. Крупно.
— На тебя?
— Не на меня — на третий номер в «Бордо — Лион». Только понимаешь — крупно? Поставь все, что у тебя есть. Все, что есть наличными. Понял? Если мало — вот. Вот, возьми, — Кронго достал из сумки несколько пачек. — Я тебе даю взаймы. Да перестань! Держи. Это — на себя. А эти поставь на меня. На мою долю. Вот — всё.
Жильбер пересчитал пачки. Улыбнулся.
— Слушай, Кро… Я, конечно, все сделаю. Поставлю, как ты говоришь. Но — ты что, так надеешься на Престижа?
— Престиж не поедет. Вместо него поедет Гугенотка.
— О-о… — Жильбер свистнул. Он все понял. — И что — об этом кто-нибудь знает?
— Те, кто знаком с членами жюри или оргкомитета, — знают. Но… все остальные… ты сам понимаешь.
— Слушай, но это же… Это же… Если ты придешь…
— Я приду.
— Да я… Я остров себе смогу купить. Если ты придешь. На эти деньги.
— Вот и купишь. На́ сумку… — Кронго протянул Жильберу пустую сумку. — Сложи деньги. И… — он помедлил. — Поставь… Найди какое-нибудь захудалое агентство. Где с информацией туго. Ну — ты сообразишь.
— Но все-таки, — Жильбер приоткрыл дверцу. — Исмаилит — все-таки лошадь. Все может быть.
— Вот поэтому и поставь.
Кронго щелкнул языком — и Гугенотка, осторожно переступая ногами, стала подравниваться с общим строем. В конюшне Генерала сильнее Исмаилита только Корвет. Но перезаявить в последнюю минуту Корвета Генерал уже не может. Не та лошадь. Да и — Корвет наверняка еще сырой… Поэтому перезаявка Гугенотки — удар… Хорошо рассчитанный. Прямой вызов всему клану. Все, что за последние несколько часов мог бы сделать Генерал, узнав о перезаявке, — это накачать своих шестерок. Больше ничего. Ясно — всему заезду теперь даны точные инструкции…
— Участники Кубка «Бордо — Лион» — на старт… Участники заезда на Кубок «Бордо — Лион»… На старт.
Разворачиваясь на старт, Кронго увидел, как Генерал, не двинув головы, что-то бросил Руану.. Это было только движение губ — но Кронго понял, что это — предостережение. Это — напутственный окрик. Умница, мсье Линеман. Он все сделал так, как и нужно было: Гугенотка перезаявлена по самым допустимым срокам. Даже если Генерал и захотел бы сейчас кого-нибудь перезаявить — он уже не сможет это сделать. Ясно, сейчас Генерал вне себя.
— Выравнивайтесь… Выравнивайтесь… Одиннадцатый номер…
Конечно, все расписано и пойдет, как и должно пойти. В ход будет пущено все. Все средства… И прежде всего испытанное оружие — Руан и Клейн. Они сейчас идут справа от него, по четвертой и пятой дорожкам. Вот стук копыт их лошадей — Орфея и Салли. Вот шахматный камзол Руана, дальше — красный Клейна. Они сделают все, чтобы зажать его, не пустить вперед, к бровке. Но Кронго сейчас спокоен. Совершенно спокоен.
— Выравнивайтесь! Выравнивайтесь!
Трибуны стихли. Впереди, постепенно увеличивая скорость, плывут крылья стартовой машины. Ноги Гугенотки движутся ровно, легко, пружинисто… Пока еще, до того момента, когда Кронго даст посыл, движения этих ног расслаблены, свободны, Гугенотка занята сейчас только тем, чтобы не отстать от крыльев машины. Слева, не уступая ему ни сантиметра, движется качалка Генерала… Исмаилит, как обычно, не отдает на старте ни пяди пространства. Жеребец идет ходко, в его движениях уже сейчас чувствуется будущий пейс. Значит, этим Генерал подает знак трибунам — он е д е т. То есть — он решил взять Кубок. Кронго знает — сейчас, со старта, Клейн и Руан постараются пристроиться к нему с двух сторон. Зажать, чтобы он был вынужден тут же выпустить к бровке Исмаилита. Но он совершенно спокоен. Нет никакого волнения. Он спокоен, хотя уверен, что они пойдут на все — раз Генерал е д е т, раз он дал знак трибунам. Ясно, в ход пущены большие деньги. Они расписали этот заезд, потому что знают, что Гугенотка — концевая лошадь. Уверены, что он, Кронго, рассчитывает на ее финиш. Классическое построение — они думают, что он будет всю дистанцию держаться на второй позиции, чтобы потом все решить на последней прямой.
Но он сейчас сделает все по-другому. Не так, как они думают. Он хорошо знает, что приемистых лошадей в заезде нет… Сейчас, в самом начале, когда лошади еще не смогут перестроиться, он бросит Гугенотку в посыл. Он сразу же, с первых секунд, вырвет ее из общего ряда — так, чтобы уже с первых метров занять бровку. Он должен оказаться хотя бы на полкорпуса впереди Исмаилита. И — постараться держаться так до самого конца дистанции, опережая все попытки Генерала отвернуть и обойти его с Гугеноткой. Исмаилит считается «машиной». Чтобы провести такого жеребца всю дистанцию за собой — нужно очень верить в лошадь. Но Гугенотка сможет… Он чувствует, хорошо чувствует сейчас — она сможет.
Вот мерный топот копыт по сторонам возрос, усилился. Надо идти на опущенных вожжах. Не показывать им ничего. И точно выбрать момент посыла… Точно выбрать… Ничего уже не видно, ничего… Только мелькающие впереди ноги Гугенотки… По тому, как она сейчас движется, он понял — она ждет его посыла, ее ход с каждым шагом обретает машистость… Ушли крылья, стартовая машина уезжает… Спокойней. Ты же знаешь, что Гугенотка выдержит.
— Отрывайтесь! — загремел репродуктор. — Отрывайтесь!
Кронго чуть приподнял вожжи, чмокнул…
— Гугошка… Гугошка, пошла…
Гугенотка, услышав голосовой посыл, резко прибавила. Кронго угадал — бросок был хорошо рассчитан и сразу вывел его лошадь из общего ряда. Трибуны загудели. В начале дистанции никто не ожидал этого.
Кронго снова чмокнул, одновременно услышав сзади — даже не услышав, а ощутив — бешеный ход Исмаилита. Он ждал этого — попытки Генерала сравняться. Да, сейчас за его спиной Тасма изо всех сил пытается выжать из жеребца все, чтобы догнать Кронго. Или — хотя бы сравняться, не пустить к бровке. Генерал наверняка уже догадался о его плане. Сейчас Тасма пытается достать его, зажать, сесть на колесо, не позволить Гугенотке вырваться. Поздно… Гугенотка заняла бровку, поймала пейс и идет на очень хорошей резвости… Очень хорошей… Молодец, Гугошка. Молодец. Теперь — дотянуть. Только дотянуть. Вот так, на небольшом отрыве, вот так, на пределе, в полкорпуса впереди, не позволяя Исмаилиту приблизиться. Улавливая каждую попытку Генерала улучшить пейс… Так они прошли первую четверть. Вот он — выход из второго поворота… Кронго оглянулся — серая, почти скрытая наглазниками морда Исмаилита мчит сзади, в нескольких метрах, наезжая, не отпуская его ни на пядь… Ноги Исмаилита работают ровно, четко, легко, на самом деле — он идет, как машина… Так кто же поедет по третьей, Генерал? Остальные лошади сильно отстали, они далеко сзади. Это мелькнуло только на секунду — и снова впереди легко работающие ноги Гугенотки. Кто поедет по третьей…
Нет, в нем, Кронго, уже нет обиды, он спокоен… Иди, Гугошка… Двигайся, милая, не уступай… Вот так… Вот так… Кто поедет по третьей… Хорошо… Иди, Гугошка. Мы поедем по третьей. Слышишь, Гугошка… Мы поедем с тобой по третьей. Пусть шумят трибуны. Пусть кричат, сходят с ума. Мы поедем по третьей.
Поворот на последнюю дугу… И снова Кронго почувствовал — Генерал пытается прибавить. Он услышал это по звуку копыт сзади, по еле заметному изменению их ритма.
— Гугошка!.. Гугошка, милая, еще немного!.. Ну, потерпи!.. Потерпи!.. — Кронго чмокнул.
Да, он все рассчитал правильно. Гугенотка сделала невозможное, увеличив сейчас и без того предельный пейс. Выход из последнего поворота. Все… Теперь только — занять бровку… Занять, плотно прикрыть и… Ни в коем случае не допускать ошибки… Занять бровку, не пустить к ней Генерала… Пусть обходит полем — если сможет… Пусть… Что творится на трибунах… Но все это потом, трибуны и все остальное потом… Не думать об этом. Кронго поднял вожжи:
— Гугошка! Умри! Гуго-о-шка!
И все-таки Генерал отвернул и смог каким-то чудом с поля подтянуть Исмаилита. И где подтянуть — здесь, уже метрах в ста пятидесяти от финиша… Неужели обойдет… Вот морда Исмаилита сбоку… Не дать ей приблизиться… Не дать… Кто поедет по третьей… Негритос… Кто поедет… По третьей… Все… Исмаилит уже не обойдет… Не обойдет… Негритос… Кто поедет…
— Гугошка… — Он уже не кричит это, а шепчет, улыбаясь. — Гугошка… Гугошенька…
Удар колокола над ухом. Финиш… Они первые… Первые… Сзади Исмаилит… Но это уже не важно… Не важно… Они первые…
Еще движутся, пружиня, ноги впереди. Еще дрожит качалка.
— Первое место…
Кто поедет по третьей… Негритос… Остальное не важно. Не важно.
— …выступавшая под номером третьим Гугенотка… под управлением мастера-наездника Дюбуа…
Они первые. Первые.
Кронго не успел еще переодеться после заезда и торжественной проездки с Гугеноткой перед трибунами, когда его вызвали в Дирекцию.
— Морис, это что-то серьезное, — сказал в трубке голос секретарши. — Поспеши.
— Что, не знаешь?
— Какие-то люди из Швейцарии. Кажется, фирма «Эстль». Твой продюсер тоже здесь.
В приемной его остановил мсье Линеман.
— Морис, кажется, тебе подвалило.
— Мне?
— Ты знаешь, я хотел бы работать только с тобой. Если ты против — я откажусь. Но извини — они дают за Гугенотку миллион.
— А что случилось?
Мсье Линеман помедлил.
— Ладно… Проходи в кабинет.
Несколько человек, сидящих в ряд за боковым столом в директорском кабинете, повернулись в их сторону. Кивнули. Директор улыбнулся. Кашлянул, подождал, пока они сядут.
— У нас сегодня… очень приятные гости.
Один из сидящих рядом с Кронго еще раз кивнул. Повернулся к нему:
— Мсье Дюбуа, мы хотели бы сделать вам серьезное предложение. Мы — это фирма «Эстль» и дирекция объединенных ипподромов Женевы и Берна.
Значит, это — фирма «Эстль». Та самая. «Отделения во всех странах мира».
— Да, я слушаю.
— Судя по предварительному разговору с вашим продюсером… и дирекцией вашего ипподрома… с их стороны возражений не будет. Мы предлагаем вам работу у нас.
— У вас? А… где?
— В Берне или в Женеве — по вашему выбору. Условия — вы будете работать у нас старшим тренером двух конюшен… Рысистой и скаковой… Ну, и, естественно, наездником. Кроме того, вы становитесь владельцем этих конюшен — автоматически после подписания контракта. Естественно, без всякого вложения капитала с вашей стороны. Но — совместно с фирмой. Это будет одним из условий общего договора. Кроме того, вы будете включены в правление — с правом открытого счета. И наконец, фирма готова приобрести лучших лошадей… так ведь, мсье Линеман? Лучших лошадей из тех, с которыми вы сейчас работаете.
Да, условия были королевскими. Совладелец конюшен и член правления…
— Это — все?
— Все. И… нам хотелось бы, чтобы вы не затягивали с решением.
Значит — прощай, Генерал… Прощайте, телохранители на дорожках… Прощайте, холуи, прощайте, сделанные заезды. Что касается лошадей — он увезет с собой Гугенотку… Потом — двух недавно поступивших трехлеток… Еще — двух или трех скаковых…
— Что вы решаете?
Надо соглашаться. Конечно. Надо ответить — этим вычурным языком, которым принято говорить в таких случаях. А впрочем — зачем вычурным…
— Ну… конечно… я должен подумать. Но в общем — я согласен.
Ведь он понимает, самое главное — он сможет взять с собой Ксату.
В квартире матери тихо. Занавески на окнах. Цветы. Волнистый попугайчик в клетке.
— Мама… ну как? Что ты решила?
Мать смотрит на него. Протянула руку, погладила по голове. Как маленького. Она все видит, все читает в его глазах. Она старается сейчас казаться радостной — преувеличенно радостной.
— Ты… у тебя все собрано?
— Да, — он решил скрыть от нее, что перед отъездом в Берн полетит в Бангу — за Ксатой.
Да, все уже собрано. Позади последние сборы. Гугенотка отправлена, ее сопровождает Диомель. Остальные лошади давно в Берне.
— Ну — мам?
— Маврик, — мать садится на край дивана, стараясь не смотреть на него. — Маврик… Я… Я долго думала… Ты не представляешь, как я рада за тебя… Но… поезжай один…
— Мама! Ну — ты что?
— Маврик… Не нужно. Я уже решила. Я… привыкла уже здесь. У меня здесь друзья… Работа… В общем — все. А ты — поезжай. Это нужно для тебя. Ты понимаешь — нужно?
Ему кажется — в этих словах матери звучит упрек. Хотя она старается сейчас дать ему понять, как она рада — рада его успеху.
— Мама… Но это же смешно. Берн. Это же — Берн.
— Мавричек… Ну — Маврянчик мой… Присядь. Вот так, — он видит глаза матери, они все понимают — все до конца. — Ну? Мой знаменитый сын? Мой самый гениальный? Ты обещаешь мне писать?
Она все понимает — и он может не отвечать ей. Уговаривать ее бесполезно. Он помнит — у нее сейчас размолвка с Омегву. Может быть — даже больше, чем размолвка…
— И потом — разве это расстояние? Пригород. Час — и я там. Я буду приезжать. Хорошо, Маврик? А ты… Ты поезжай. Желаю удачи.
Она права. У нее здесь друзья. Потом — здесь остается Жильбер.
— И пиши чаще. Не забывай свою серую, деревенскую мать. Звони.
— Хорошо, мама.
— Сюда… — стеклянная дверь за Кронго закрылась.
Лефевр и Поль стояли рядом. На долю секунды Кронго показалось, что они ждут — он должен им сказать о бумажке, которую незаметно положил в карман. Кронго вспомнил слова Пьера о барже, о том, как топят заложников. Он подождал — но оба, и Лефевр, и Поль, молчали. Нет, ему показалось, они ничего не заметили. Конечно… Они просто устали. Они не собираются спрашивать его о чем-либо. Лефевр смахнул со лба пот, улыбнулся:
— Вот служба… Проходите, мсье, проходите…
В почетной ложе на большом столе, за который сел Кронго, были аккуратно разложены карандаши, чистая бумага, свежие программки сегодняшних бегов и скачек, расставлены бутылки с минеральной водой, вазы с фруктами. Отсюда, из кабинета второго яруса, был хорошо виден ипподром — идеально открывающийся двухкилометровый овал дорожек. Европеец, сидевший рядом с Кронго, чистил ножом апельсин. Кронго обратил внимание на его руки — они были морщинистыми, с желтыми и коричневыми старческими пятнами, пальцы слабо нажимали на нож, пытаясь снять оставшуюся после кожуры белую бархатистую пленку.
— Кстати, Кронго, мне будет очень, очень… — Крейсс, сидящий в стороне, сделал особое движение вверх подбородком. — Господин пресвитер!
Руки европейца застыли, короткий горбатый нос, сплошь усеянный красными жилками, был неподвижен, оттопыренные синие губы не шевельнулись. Европеец будто вглядывался, стоит ли ему еще снимать белую волокнистую пленку или можно уже есть апельсин.
— Я рад представить вам, господин пресвитер, директора ипподрома, мсье Маврикия Кронго… — Крейсс незаметно показал рукой, и креол, стоящий за его спиной, отошел. — Кстати, к нашему разговору, господин пресвитер… Мсье Кронго — человек нейтральный, он не поддерживал борьбы правительства, не участвовал в том, что, может быть, претит вам, — в вооруженном восстании… Видите ли, Кронго, — Крейсс придвинул к нему бокал, налил из бутылки пузырящейся прозрачной воды. — Господин пресвитер представляет экуменическое движение, он у нас в гостях с тем, чтобы… Джекоб Рут — представитель Всемирного совета церквей…
— Прошу вас, не нужно, господин Крейсс… Я постараюсь сам составить впечатление о том, какая обстановка складывается у вас.
Пресвитер говорил тихо, и Кронго понял, что его губы кажутся синими из-за нескольких голубых волдырей у самой линии рта.
— Простите, мистер Кронго… Почему они… перед тем как туда зайти, кружатся? Почему не бегут?
Ударил колокол, крышки боксов открылись, и буланый Эль, сильно опередив других, рванулся к бровке. Трибуны закричали. Мелко забил колокол: одну из дверей заклинило — и лошадь осталась стоять в боксе.
— Фальстарт! — крикнул голос в громкоговорителе. — Фальстарт! Фальстарт! Фальстарт!
Заният с трудом остановил Эля, вернул его на собранном галопе к старту, пристроил к крупу Дилеммы. Задние дверцы боксов открылись, служители стали по очереди заводить в них лошадей. Бумажка была не от Пьера, подумал Кронго.
— Надо пускать лошадей одновременно, так, чтобы никто не получил преимущества, — сказал он, глядя на пресвитера и стараясь не замечать его волдырей. — Скаковая лошадь может начинать с места, ей не нужен разгон…
Пресвитер незаметно отломил дольку апельсина. Крейсс, улыбаясь, сделал Кронго знак — «правильно, говорите с ним, занимайте его». Вздохнул, скрестил пальцы:
— Господин пресвитер, я не знаю, могу ли я вас просить… Отец Джекоб, мне хотелось, чтобы вы почувствовали необычность этого праздника, обстановки, царящей здесь.
Пресвитер осторожно сосал дольку апельсина.
— И допустим… я не хочу навязывать свое мнение… Я, конечно, верующий, но не пацифист… Но вы видите сами… люди, черные и белые, стоят здесь рядом… Не могли бы мы сделать этот кубок традиционным? Назвать его, скажем, Кубком Дружбы? И просить вас войти в жюри?
Лицо Крейсса, в котором нос был как бы перевернутым повторением губ, застыло, подбородок сморщился, глаза смотрели на дорожку. Пресвитер повернулся к Кронго. Серые глаза его под коричневыми бугристыми веками были спокойными и ясными.
— Бог породил природу и все сущее в ней, но ведь он не поставил никаких пределов ее могуществу… Добродетель, удовольствие и истина столь же реальны в мире, как и ужас, боль, преступления, горести и печали… Поэтому, только поэтому я не могу присоединиться к мнению братьев моих о заповеди «не убий»… Не утверждаю «убий», ибо не знаю… Но бессилен осудить и насилие, ибо сомневаюсь…
Что-то знакомое и давнее слышится в этих словах. Ах, вот что — искренность. Странная искренность мысли, противоречивая, доступная только европейцу. Но ведь и он, Кронго, европеец. Гораздо больше европеец, чем Крейсс, потому что Кронго понимает сейчас смысл и искренность слов пресвитера, а лицо Крейсса глухо к ним.
— Пошел! — треснул громкоговоритель. — Отрывайтесь! Отрывайтесь!
Ударил колокол. Лошади, лихорадочно взбивая копытами землю, кучно рванулись. Каждую из них сейчас жокей пытался оторвать от общей массы и прибить к бровке. Пресвитер отломил еще одну дольку. Крейсс неторопливо закурил, улыбнулся.
— Кронго, вы сейчас предстаете перед нами чуть ли не в образе господа бога. Из тысяч людей, пришедших сюда, вы единственный точно знаете лошадь, которая придет первой. Что вы скажете, господин пресвитер?
Пресвитер налил в стакан воды, стал пить, морщинистая шея его медленно напрягалась и опадала.
— Слепота веры была нужна тогда лишь, когда веры еще не было, — пресвитер поставил стакан, и Кронго заметил Лефевра, нагнувшегося к уху Крейсса, листок бумаги, переданный из рук в руки, написанные на нем слова «палачу» и «геноцид». — Но со временем слепота веры неизбежно должна была превратиться в свою противоположность и стать неверием… Поэтому я и пекусь об объединении церквей божьих, ибо не оттенки веры меня заботят, а меняющаяся суть ее… Новая вера грядет…
Кронго перехватил знак, который подал ему Крейсс: «слушайте, внимательно слушайте». Пресвитер, пососав дольку, осторожно выложил ее в пепельницу.
— И разве в том дело, что учение Христа распространилось по земле недостаточно?
Он улыбнулся, мелкие черточки появились в дряблых уголках губ. Пресвитер улыбался странно — линия рта, у которой были голубые волдыри, складывалась в улыбку, а самые углы губ опускались, будто пресвитер беззвучно плакал.
— А в том, что заповеди Христа чем дальше, тем реже исполнялись каждым верующим истинно… Вдумайтесь — слепота веры была повинна в этом. Ибо слепо верующий человек поневоле начинает считать себя бесконечно постигшим истину, а абсолютное постижение истины противоречиво и противоестественно сути человеческой…
Внизу ударил колокол, Эль первым проскочил финиш. Поль что-то показал от двери Лефевру, а тот — Крейссу.
— Господин пресвитер, простите, я ненадолго займу вашего собеседника, — Крейсс отвел Кронго в сторону, зашептал одними губами, распространяя горький и душистый запах сигарет: — Вы, кажется, понравились старику… Кронго, умоляю вас, выручите… Вас вызывают… Вы должны подготовить какой-то там заезд… Но вы можете скорей вернуться? Я вас умоляю, Кронго… Будьте любезны, мсье Маврикий…
Глаза Поля и Лефевра в упор смотрели на Кронго. Знают ли они о бумажке, которую кто-то сунул ему в руку, он должен встретить Пьера, кроме того, Альпак… но главное, этот старик — все это смешивалось с шепотом Крейсса. Этот шепот был гарантией, залогом, он обещал что-то, но главное, он притягивал Кронго к пресвитеру, который сейчас листал дрожащими пальцами положенную перед ним программку.
— Хорошо, я приду… Я буду минут через двадцать, мне нужно подготовить скачку…
— Кронго, я вам обязан… я бесконечно… — брови Крейсса что-то приказали Лефевру, тот открыл дверь.
Кронго, Лефевр и Поль миновали короткий коридор и вышли наружу, в шум трибун, в слившиеся резкие выкрики. На рабочем дворе перед паддком Заният, Зульфикар, Мулонга и Амалия медленно проваживали по кругу лошадей для скачки. Лефевр и Поль отошли — так, что Кронго сразу потерял их из вида. Перль, вороная тонконогая кобыла, которую вела Амалия, и чубарый долговязый жеребец, Парис, выбраны были для этой скачки не из-за резвости, а только из-за редкостной стати. Дети Пейрак-Аппикса, с такой же, как у него, длинной пологой холкой и вислинкой в крупе, они сейчас переступали легко, вздрагивали, будто показывая — каждый обычный медленный шаг для нас мучителен, мы любим только скакать. Заният вел сухого, сильного и резвого Казуса, жеребца дикой выносливости, солово-игреневого, с прожелтью и белыми ногами, хвостом и гривой. Казус то и дело приседал, дергал непослушной шеей с обратным «оленьим» выгибом. Раджа, наоборот, был спокоен.
— Как вареный, месси, — Зульфикар огорченно остановил рыжего Раджу — полуараба, получистокровку.
Раджа мягко и неторопливо переступал на месте. Кронго видел, что Раджа сейчас вяловат, «не в себе». Он единственный мог обойти в этой скачке Казуса — если бы не плохой порядок.
— Постарайся не отстать на первой четверти, — Кронго невольно повернулся к перилам, где толпились любопытные. — На той прямой пусти… Может быть, достанешь… И разогрей его… Разогрей….
Нет, в этой скачке Раджа безнадежен… Кронго подумал, что хочет вернуться назад, чтобы слушать пресвитера. И тут же увидел Пьера. Он сразу узнал литую грудь под рубашкой, теперь рубашка была не голубой, а белой. Проваленный нос, плавающие глаза. Пьера толкали. Он увидел, что Кронго заметил его, — и улыбнулся той самой улыбкой… Той самой… Количество пальцев на перилах все время менялось. Один. Два. Четыре. Три. Когда же он, Кронго, должен отворачиваться? Один. Наконец Пьер оставил надолго два, а потом три пальца. Он улыбался, глядя в сторону, и был сжат со всех сторон, каждый сантиметр перил занимали чьи-то руки, локти, кулаки, кто-то пытался протиснуться. Пьера отталкивали. Три был номер Казуса. Раджа не в настроении. Перль и Парис еще слабы. Перль под неопытной Амалией — все это мелькнуло, даже не отвлекая от Раджи, от Ассоло, тихо хлопавшего в ладоши, прыгавшего рядом. Кронго отвернулся. Да, Казус… Хотя для всех он явный аутсайдер — но верней всего придет именно он…
— Заложили, заложили… — хлопал Ассоло. — Альпак в духе, месси, Мулельге закладывал, Бвана злой… Идемте, посмотрим, заложили… Цок, цок, цок… Месси, месси!
Казус, выдергивая шею, вертелся по двору, Заният с трудом сдерживал его. Понял ли Пьер, что Кронго показал именно Казуса? Там, у перил, Пьера уже не было. Вместе с Ассоло Кронго подошел к тыльной части конюшни. Шесть наездников сидели в качалках — пока еще Кронго не решался выпускать их сразу на круг, без проверки. Мулельге поклонился, стараясь не смотреть на Кронго. Ньоно, подумал Кронго. Наверное, если бы он пытался определить, кого имел в виду Фердинанд, когда говорил о человеке Фронта, то подумал бы в первую очередь о Мулельге. Всех этих лошадей, которые сейчас, перед скачкой, побегут в главном заезде, Кронго знает наизусть. Гнедая маленькая Мирабель под первым номером. Ее поведет Эз-Зайад. Этот барбр сидит в качалке по-своему, чуть подогнув ноги. Сухая темно-соловая Ле Гару, если бы не Альпак, пришла бы в этом заезде первой. В коляске Эль-Карр. Но почему ему, Кронго, хочется вернуться в ложу и слушать пресвитера? Может быть, его тело, его организм сами тянутся туда, чувствуя, что в словах пресвитера есть какое-то обещание… Обещание выздоровления… Одновременно с этим он думает о том, что нарочно посадил барбров, с детства привыкших к седлу, не на скакунов, а в качалку. Верхом их сажать нельзя, они уже не отучатся от варварских способов обращения. Номер третий, Болид, — угрюмый гнедой жеребец с львиной грудью. Болид может ехать без наездника, настолько он выучен и устремлен к цели. В качалке сидит Бланш. Перебирает вожжи, приподняв их на кистях. Альпак. Кронго на секунду замедлил шаг. Альпак стоял смирно и ответил ему долгим радостным взглядом. «Я готов, хозяин» — значило это. Болид… Бланш в качалке… Спокойно улыбается, глядя мимо Кронго. На Альпаке — опытный Чиано, он сейчас ушел в себя, откинувшись и упершись ногами в передок. Кронго вспомнил слова пресвитера — «не могу сказать «убий», ибо не знаю»… Бвана, последний… Его поведет Амайо. Кронго медленно поднял руку и показал ладонь. Комментатор на поле — он сидел в «джипе» — увидел этот жест и зажег фары. Грянул, выходной марш. Эз-Зайад чмокнул, Мирабель медленно двинулась к дорожке, ведя за собой остальных. В паддке ходили по кругу все те же Перль, Парис, Раджа и Казус. Скачки должны начаться сразу же после заезда, Кронго снова увидел на перилах пальцы Пьера. Пьер смотрит на выезжающих лошадей, твердо показывая четыре — номер Альпака. Да, конечно, ведь Пьеру надо знать двух победителей подряд. Кронго поймал его взгляд, отвернулся, подойдя к Амалии. Амалия неловко подпрыгивала, вставив одну ногу в стремя.
— Мсье, вы не готовы? — Лефевр не вынимал руку из кармана пиджака.
— Сейчас, — Кронго подошел к Амалии, чтобы помочь ей сесть.
Но она уже вскочила, пригнулась к гриве, прилаживаясь к седлу и разбирая поводья. У нее красивое лицо… Красивое…
— Не нервничай! — Кронго заглянул ей в глаза — но они уплыли.
— Да, месси, — выдавила Амалия дрожащими губами, и Кронго заметил взгляд Лефевра и то, что в красных жокейских брюках и туго обтягивающей грудь красной рубашке с распахнутым воротом Амалия очень хороша. Длинный жокейский козырек оттеняет лицо, глаза, посеревшие нежные губы. Тонкие и длинные черные пальцы нервно перебирают поводья. Эти пальцы — с полуоттенком коричневого и розового.
— Амалия… Да возьми ты себя в руки…
Кронго хорошо видел взгляд Лефевра и открытую темно-коричневую грудь за отворотом красной рубашки… Амалия тоже заметила его взгляд, вздрогнула, чмокнула. Перль присела, вздыбилась.
— Если будешь нервничать, будет только хуже…
— Хорошо, месси… — Амалия пригнулась, закрыла глаза.
— Доверься ей, доверься… Лошадь сама привезет тебя, если ты доверишься…
— Хорошо, месси…
Они с Лефевром прошли вдоль шумящих трибун, перед ложей Лефевр посторонился, приоткрыл дверь. В коридорчике на двух табуретках сидели знакомые негры. Лефевр кивнул, они встали.
— Наконец-то, Кронго, — Крейсс тронул стул и незаметно для пресвитера показал ладонью. — Мы просто заждались, ей-богу, тем более сейчас начинаются главные призы… Но как будто в заезде неожиданностей не будет? Ведь тут, как принято у вас говорить, один Альпак? Неожиданности могут быть только в скачке?
Пресвитер тоже обернулся к Кронго и улыбнулся своей странной улыбкой.
— Альпак — это кто? — спросил он.
— О, Альпак… — Крейсс легким, почти незаметным движением отодвинул Лефевра к двери. — Мышастый жеребец под четвертым номером… Это — знаменитая лошадь.
Пресвитер беспомощно вглядывался в лошадей.
— Мышастый? Что это — мышастый?
— Серая лошадь с черными ногами и гривой, — сказал Кронго. — Как раз разворачивается…
Крейсс улыбнулся.
— Пока вас не было, Кронго, господин пресвитер любезно дал согласие войти в жюри Кубка Дружбы. Мы уже решили, что сделаем его традиционным. Объявим о нем в печати. Может быть, разыграем через месяц, если вы не против?.. Кажется, начинают?
Лошади медленно пристраивались к развернутым крыльям стартовой машины, постепенно выравниваясь. Машина ехала все быстрее, быстрее.
— Отрывайтесь! — скомандовал репродуктор.
Ударил колокол, машина уехала в сторону, лошади почти одновременно пробежали стартовую линию. Первые несколько секунд коляски шли кучно, затем Альпак легко выделился и занял бровку, постепенно уходя вперед. Казалось, что ноги его движутся даже медленно. В беге Альпака не было погрешностей, он шел машисто и свободно, и по тому, как сидел Чиано, было видно, что наездник нисколько не подает лошадь, держа вожжи на одном уровне. На втором и третьем местах далеко за Альпаком держались в борьбе Бвана и Мирабель. Потом их обошла Ле Гару. Альпак прошел поворот, противоположную прямую и, так же раскидисто и ровно работая ногами, легко закончил бег под короткий удар колокола.
Он не понимает — что же с ним происходит. Ведь он должен сойти с ума. Но — он стоит и смотрит на озеро. Как будто все разрывается внутри, и это распадающееся, разрывающееся тут же соединяется снова, сживляется… И снова — будто от него отрывают куски. Но он остается живым… Живым… Он стоит, не падает. Да — что-то окаменело в нем. Но ведь в мире не может быть этого… Не может…
— А потом она побежала… Она побежала по деревне… Знаешь, она, наверное, долго бегала около домов и все кричала: «Спасите! Спасите! Он убьет меня!..» Знаешь, она кричала так пронзительно… Я отсюда слышала… Как заяц…
Ндуба ходит около него, что-то ставит перед ним на столе, что-то передвигает — но он ничего не видит. Он только слышит ее слова — обыденные, простые, сказанные самым обычным тоном. Но ведь в мире не может быть этого… Не может…
— Сначала все думали, что она шутит… Но оказывается… Понимаешь, дело-то какое… Оказывается, она была уже ранена в это время… Он ее ударил ножом… Она бегала и держала эту рану… Пыталась закрыть… Чтобы кровь не шла…
Она бегала — и держала эту рану. Она — бегала. Ксата — бегала. Все путается в голове. Не бежит, не побежит когда-нибудь. А бегала. Вот отчего он не сходит с ума. Он пытается найти в словах Ндубы хоть какую-то возможность исправить — исправить то, что случилось. Не может быть, чтобы это было, — невозможно. Ксата — бегала. Там, за домами. В темноте. Ксата бегала — уже раненная ножом. Да. Вот кто-то схватил его голову — и пытается разделить ее, оторвать от нее часть. Но он не сходит с ума. Ему разрывают голову — а он стоит. Он стоит, и ему кажется, что он съеживается — съеживается бесконечно, до размеров зерна. И где-то наверху над ним вырастает, колышется огромная Ндуба и продолжает говорить — говорить то, что для нее стало бытом, обыденностью.
— А потом кто-то увидел… Так, случайно… Как мимо хижины он пробежал… Балубу… И тогда люди поняли, что Ксата не зря кричит.
Он чувствует — он перестал быть зерном. Наоборот, он стал расти, шириться, он стал огромной глыбой. Огромной беспомощной глыбой, нависшей над озером. И Ндуба — маленькая, еле заметная Ндуба — теперь уже где-то внизу.
— Но было уже поздно… Он догнал ее. Там, за домами. И задушил. Знаешь — мгновенно. Я сама слышала, как крик оборвался.
Почему он не сходит с ума? Почему? Ведь того, о чем он слышит сейчас, — не может быть. Этого… Не может… Быть…
— Да и люди говорили — она перестала кричать, как будто ей подушкой рот заткнули. Поэтому их долго не могли найти — ее и Балубу.
Еще час назад он сидел в самолете. Он летел сюда. Да, час. А всего полчаса… Всего полчаса назад он трясся в старом такси, торопясь успеть. Он хотел успеть до ночи — чтобы забрать Ксату… Сразу забрать… И вот — он успел. К чему же он успел…
— Ты знаешь, а потом… Потом их нашли. Ее и его. Она была уже мертвой. Лежала за домом. А Балубу сидел над ней. Знаешь, как каменный… Сидел и молчал. Будто… ничего не слышал. Говорят — он к тому времени уже того… С ума сошел. Чокнулся. Но этого никто не знает. Потому что его тут же… Все вместе, понимаешь. Мужчины… Мужчины из деревни… Убили. Забили камнями.
Он сейчас сойдет с ума. Он хотел бы сойти с ума. Лучше бы его самого забили камнями. Почему же он стоит? Почему не умирает? Жизнь немыслима, она слишком жестока. Жизнь — жестока, Ксаты — нет. Что же происходит с ним? Неужели это возможно? Сумасшествие — оно было бы благом. Что же с ним происходит. Что же… Ведь он один виноват в ее смерти. Он один… Только один.
— Великолепно… — сказал Крейсс.
Пресвитер закрыл глаза. Кронго заметил, что Крейсс, воспользовавшись этим, еле заметно, неуловимым, легким шевелением бровей показывает: «Кронго, занимайте, занимайте его». Молодой человек в глухом черном сюртуке, по всей видимости сопровождающий пресвитера, покосился в их сторону. Он сидел, сложив руки на коленях, и смотрел в стол, изредка шевеля губами. Пресвитер взял еще одну дольку апельсина, она пропала в его рту, будто провалилась, губы задвигались, но это движение уже не относилось к жеванию.
— Всем… всем… тягость… — послышалось Кронго за движением выпуклых губ пресвитера. Голубые волдыри будто жили на них отдельно, едва не западая внутрь. — Простите, — пресвитер ясно и открыто посмотрел на Кронго. — Мне иногда кажется, что я всем в тягость. И от этого мне тяжело. Только от этого.
— Что вы, — Кронго попытался улыбнуться. — Мне было очень интересно… Мне… мне было это очень важно… Я никогда не слышал, чтобы так говорили…
— Я говорил о заповеди «не убий», — пресвитер с трудом взял бутылку и налил воды сначала Кронго, потом себе. — Но я часто думал о том, что заповеди составлены неправильно и эту заповедь следовало бы назвать по-другому… «Как убий»… Вдумайтесь — именно как умереть важно для человека, а не умереть ли ему вообще. Ибо и так знает, что смертен… Мы говорим часто «жизнь и смерть», но не это составляет самое важное… Истинно — не смерти боится человек, а того, как он умрет… И сам ты, и брат твой боятся страданий длительной мучительной смерти… И не всегда во времени она длительна, и не только в мучениях тела. А в короткий страшный миг может быть длительна бесконечно… Но не знаем, что даровано, и не можем постичь, за что даровано будет…
Пресвитер улыбнулся и отодвинул программку.
— И грех совершаем мы, когда выступаем просто против смерти… Когда выступаем только против атомной смерти, но не против тяжкой, долгой гибели отдельного человека… В одну секунду умирает он десятилетиями… Бесконечно умирает в мгновение, когтями разрывают ему грудь и мозг, и страшно ему… — пресвитер осторожно глотнул воды. — Но, говоря это, сомневаюсь, и кажется мне, что грешу сам.
Шея пресвитера напряглась и вяло опустилась. Внизу, под самой ложей, Перль, Парис, Казус и Раджа ходили по кругу за приготовленными и распахнутыми боксами. Часто звонил колокол, с трудом заглушая шум ипподрома.
— Вот что… — Крейсс, улыбаясь, обернулся к пресвитеру. — Что же мы сидим? Ведь это и есть прообраз Кубка Дружбы! Мсье, господа, давайте сыграем, давайте доставим себе это удовольствие. Господин пресвитер? Лефевр, вызовите букмекера! Кронго, вы ведь дадите нам консультацию…
Лефевр незаметно проскользнул в дверь.
— Я сторонюсь азарта… — пресвитер поставил бокал.
— Ну что вы, что вы, господин пресвитер… Никакого азарта. Просто сделаем ставки на эту скачку. Только на эту. Кронго, ведь это возможно?
Поль, прислушавшись, впустил посредника.
— Внима-ательно слушаю! — Посредник, смуглый молодящийся европеец в полосатой рубахе, с набриолиненным пробором, привычно огляделся. Видно было, что букмекер старается скрыть, что определяет, с кем будет иметь дело. — Господа! Желаем сделать ставки? Прошу торопиться, скачка начинается… Правда, по секрету… — посредник кашлянул, постучал пальцем по растрепанной программке. — Информатор побежал к судье, тот затянет, насколько возможно…
— Ну что ж… — Крейсс достал бумажник, повернулся к пресвитеру.
Посредник достал и выложил на стол аккуратные стопки билетов.
— Объясните нам, как идет игра… — Крейсс вынул из бумажника деньги. — На кого и что?
— Фаворитов пока немного, Раджа и Перль… — посредник легко наклонился, исправляя пометки в блокноте. — Господин директор, вы не помните меня? Я работал у вас старшим смены третьего яруса… Одно время ставили только на Раджу, на Перль совсем мало, жокей молод и никому не известен… Честно говоря, для нас это плохо, ставки разбалансированы… К тому же явный аутсайдер — Казус… Правда, я догадывался, что где-то крупно ставят на Перль… Так и оказалось, перед самой скачкой началось сумасшествие, только и слышно — Перль, Перль… И надо сказать, крупные. Сейчас Перль идет один к двадцати…
— А остальные? — Крейсс шевельнул бровями. — Господин пресвитер, решайтесь…
— Парис и Казус в полном забвении… как будто их не существует… Иногда подыгрывают Париса… Это и понятно… На моем этаже вообще не было ни одной ставки… Правда, сейчас уже не знаю, конъюнктура могла измениться.
— Сто долларов на Перль, — Крейсс улыбнулся.
Лошади внизу по-прежнему ходили по кругу с задней стороны боксов. Ипподром затих, Амалия во всем красном сидела на Перли, чуть свесившись набок… Мулонга в белом костюме на Парисе, черный Зульфикар на Радже, оранжевый Заният на Казусе.
— Господин пресвитер? — Крейсс спрятал бумажник. — Назовите свой номер.
— Право, не знаю… — пресвитер закрыл глаза. Улыбнулся. — Ну, если уж… Брат Айзек, дайте сто долларов… Дайте, дайте. Если я выиграю, они пойдут в кассу общины… Дайте им.
Молодой человек в черном сюртуке встал, закрыл глаза, прошептал молитву. Протянул посреднику стодолларовую бумажку.
— На кого? — посредник расправил блокнот, чуть приподнимая ручку. — Первый? Четвертый? Перль? Раджа? Может быть, все-таки первый? Советую… Он очень хорош.
— Вот на этот… желтый… — пресвитер шевельнул пальцами. — Это какой номер, третий, кажется?
— Отец Джекоб, отец Джекоб, — Крейсс кашлянул. — Вы будете огорчены, право… Вы новичок, и получится…
— Нет, нет, — пресвитер поднял руку. — Мне именно третий, да, да, третий, этот желтый, с беловатыми ногами… Будьте любезны… Да, его…
— Третий номер, Казус, — посредник ловко разложил перетянутые черными резинками пачки билетов перед пресвитером. — Скачка начинается. Больше никто не желает?
— Я не имею права, — Кронго закрыл глаза — на секунду.
Ему показалось странным, что пресвитер так твердо и определенно поставил на Казуса. Ведь то, что Казус — наиболее вероятный победитель, не знал никто, это могло быть понятно только ему, Кронго. Откуда же эта уверенность? Божественное предвидение, вдруг мелькнула мысль. Кронго повторил про себя именно эти слова — божественное предвидение. Он вспомнил приходской католический интернат, белокурую настоятельницу…
— Пошел! — крикнул голос в громкоговорителе. — Отрывайтесь! Отрывайтесь!
Одиноко ударил гонг. Бешено замелькали копыта, вылетев из распахнувшихся боксов. Над трибунами взорвался вздох. Перль вышла вперед. Амалия сидела неправильно, спина ее была слишком выгнута, а ноги слишком выпрямлены. Но тем не менее Перль опередила метров на двадцать остальную тройку. Вороная кобыла яростно работала такими же тонкими, как у Пейрака, ногами, рубашка Амалии вздулась. Кронго видел, как бело-черно-оранжевая тройка, Мулонга, Зульфикар и Заният, отчаянно подают лошадей, но просвет не сокращается. Кронго думал одновременно о том, что показал Пьеру на Казуса, и о том, что каждое слово пресвитера успокаивает и ободряет его. Это происходит само собой, не от смысла слов, а от того, как они сказаны. От тембра, интонации, шевеления синих волдырей у линии губ. Шум над ипподромом стал сильней. При подходе к повороту Раджа немного опередил идущих вплотную друг к другу Казуса и Париса и стал приближаться к Перли. Кронго успокаивал себя, убеждая, что, конечно, Перль не выдержит всю дистанцию. И опять, мешая следить за скачкой, мысль возвращалась к пресвитеру. Брат Айзек судорожно мнет руки. Он наблюдает за скачкой. Странно — Перль по-прежнему впереди. Она выходит на противоположную прямую. Амалия все так же сидит неправильно. Несмотря на это, вороная кобыла пока не дает сократить разрыв. Что-то неприятно кольнуло, шевельнулось внутри, удивило… Перль может прийти первой. Перль? А почему его это огорчает? Дело не в Пьере. Он, Кронго, совсем не обязан каждый раз точно знать победителя. Он показал Альпака — и достаточно. Он, потерявший все, потерявший уверенность, сейчас вдруг обрел ее. А может быть, именно Перль должна прийти первой… Конечно, должна. И он должен желать ей победы. Это будет указанием, что Крейсс прав. Та мелкая деталь в его жизни, которая появляется каждый раз, подтверждая истину. Он, Кронго, что бы там ни было, чувствует симпатию, которая исходит от Крейсса. Эту симпатию он почувствовал, когда на него были направлены автоматы из зеленого «лендровера». Пусть ему кажется, что Крейсс лицемерит. Каждое движение и слово Крейсса кажутся рассчитанными. И все-таки рядом с ним Кронго легко. Легко, ужаснулся сам про себя Кронго. А баржа? Но Крейсс может и не знать о барже… А есть ли баржа вообще? Крейсс белый. Именно белый — а значит, он должен чувствовать то, о чем говорил пресвитер. Над ипподромом стоит рев. Большинство ставили на Раджу. Парис и Казус рванулись на противоположной прямой. Они сейчас обходят Раджу и вплотную приближаются к Перли. Амалии нельзя оборачиваться, подумал Кронго. Только он это подумал, Амалия на полном скаку обернулась. Но это не помешало Перли прибавить и почти восстановить разрыв. Ноги Перли по-прежнему работают так же неутомимо. Кронго заметил, что у Казуса, идущего за Перлью неотрывно, как по ниточке, ход ровный, и Заният еще не прибавлял. Если бы на Казусе скакал я, подумал Кронго, я бы поднял плетку. Перль выскочила из-за последнего поворота и стремительно рванулась к финишу. Амалия лежит у нее на шее, вцепившись в поводья. Кронго увидел, как Заният поднял плетку, ловко, одним касанием ожег ею бок Казуса. Мощные ноги жеребца заходили вразброс, закидывая его с поля и приближая к Перли. Больше всего Кронго поражает в этот момент брат Айзек. Он видит его краем глаза, не отрывая взгляда от скачки. Круглые желтовато-пушистые щеки брата Айзека покрылись мелкими красными пятнами. Он вцепился в стол. Вот сейчас лошади проскочат финиш. Память Кронго замедляет, по частям восстанавливает, как передние ноги Перли выходили из-за поворота. Она шла впереди Казуса метров на пятнадцать. Заният поднимает плетку, бросая вперед жеребца. Вот почему так оглушительно ревет ипподром. Казуса вообще не считал никто. Странно, как он, Кронго, мог даже на секунду не поверить. Перль идет сейчас на полкорпуса впереди, до финиша ей остается всего около пяти скачков. Она сейчас сделает эти мощные и сильные скачки. Но скачки Казуса совсем другие. Это прыжки страшного напряжения сил. Такие скачки животное делает в ярости под плеткой наездника, в минуту смертельной опасности. В первые же два прыжка под плеткой Занията Казус настигает Перль, их головы одну секунду плывут вровень. Брат Айзек странно, будто зевая, открывает рот. Еще три прыжка — и Казус сначала на голову, потом на шею и, наконец, на полкорпуса впереди. Он проскакивает финишный створ, втягивая за собою взмыленную Перль.
Пока медленно стихал, расплываясь кругами, гул трибун, пока нехотя пересекали финиш далеко отставшие Раджа и Парис, Кронго успел подумать — неужели это и есть само собой? Пресвитер встал, брат Айзек, смиренно глядя под ноги, подает ему руку. Красные пятна сошли. Ипподром тихо и монотонно гудит. Помигав, на демонстрационном табло зажглись цифры — один к девяноста. Все правильно — Казуса почти никто не играл. Вспыхнувшие цифры вызвали короткое и яростное усиление гула — каждый поставивший доллар получит девяносто.
— Вы выиграли девять тысяч долларов… — улыбается посредник. — Сейчас пришлют ведомость, и вы получите всю сумму…
Пресвитер стоит перед Кронго и Крейссом и шевелит губами. В этом шевелении что-то робкое, растерянное. В глазах пресвитера, серых и ясных, вина, что он выиграл, будто пресвитер совершил то, что он ни в коем случае не должен был делать. Сейчас он просит прощения именно у него, у Кронго.
— Господин пресвитер… Я от всей… Вас поздравляю… — Крейсс поднялся со стула.
Ударил марш. Заният внизу вывел на дорожку Казуса. Жеребец покачивал головой, увитой красными лентами. На шее Занията зеленел огромный венок. Брат Айзек смотрит на пресвитера.
— Мистер Кронго, я надеюсь, — пресвитер улыбнулся, и Кронго понял, что он сказал это с особым значением. — И все-таки сомневаюсь, сомневаюсь. В сомнении пребывает душа, в сомнении великом… Что есть человек и что есть бог…
Пресвитер вышел. Кронго шагнул к двери, но перед ним осторожно встал Лефевр.
— Подождите, мсье Кронго, подождите, — Лефевр улыбался, чуть-чуть отводя глаза в сторону. — Немножко подождите, не уходите.
Кронго обернулся, не понимая, почему его не выпускают. Прямо на него с улыбкой смотрит Поль. Этой улыбкой красивый креол как бы приглашает, приказывает — и вы тоже улыбайтесь в ответ, не смотрите просто так. Это выражение глаз у меня странное, но улыбайтесь, улыбайтесь. Крейсс сидит спиной, он пишет, будто не замечая, что Кронго не выпускают.
— Но… мне надо, — Кронго попытался взяться за ручку двери. — Господин… комиссар…
— Ничего, ничего, мсье, не беспокойтесь, — Поль прижал низ двери ногой. — Сейчас, сейчас.
— Кронго, сядьте, пожалуйста, — Крейсс обернулся. Поль, переглянувшись с Лефевром, отнял ногу от двери, отошел, придвинул стул. — Кронго, я вам очень благодарен, — Крейсс потер двумя пальцами виски. — Что у вас там в кармане, давайте, не тяните.
О чем Крейсс? От бега, от слов пресвитера мысль перешла к этому.
— Кронго, вы же понимаете, что за пресвитера я вам готов простить что угодно… — Крейсс кивнул Лефевру, тот отошел от двери. — Я даже запишу вам это как заслугу перед государством. Поль, объясни, как все было… Да садитесь вы.
— Я сам видел, мсье комиссар, у четвертой кассы… — Поль осторожно придвинул к Кронго стул. — Из рук в руки. Передал и отошел к окошку.
— Ага… — Крейсс неторопливо закурил. — Его взяли, конечно?
— Он давно на набережной, его отвезла патрульная группа.
Крейсс отложил сигарету.
— Кронго, я могу вам прочесть все, что написано на вашей бумажке, — комиссар открыл ящик стола. — Я абсолютно уверен, что вам листок передали случайно, вы не знаете никого из задержанных… это ведь так?
Крейсс расправил мятый прямоугольник, который уже видел Кронго.
— Итак… Так, так, так… Ну, это неинтересно… Ага. Вот… С благословения своих хозяев палач Крейсс проводит политику зверств и геноцида. Но дух народа не сломить… Так… пытками и террором… Ну, и так далее… — Крейсс потянулся за сигаретой. — Так, вот конец… Ага… Именем народа… Суд народа приговаривает военного преступника Крейсса к смертной казни. Палачу не уйти от возмездия… Приговор будет приведен в исполнение. Давайте ваш листок, Кронго, ведь это смешно.
Кронго машинально достал скомканную бумажку. Крейсс осторожно расправил комок.
— Одинаковые… Кронго, поймите, вы не посторонний. Вы теперь наш, а не их… Сегодня они грозят убить Крейсса, а завтра очередь дойдет и до вас. Кронго, не сердитесь, но если мы волки, вы художник, вы сильны своим искусством… Перед ними и перед нами вы пташка беззащитная… Вы элемент, генетически чуждый этой стране…
От точек по золотистым зрачкам Крейсса расходились светлые трещинки. Взгляд был твердым, маленькие веки изредка начинали моргать.
— Вам не нужно это, не нужно, поймите… Ни то, чем занимаются они, ни то, чем занимаемся мы… Вы на своем месте.
Крейсс пошевелил пальцами, и Лефевр открыл дверь.
— Идите и простите, — Крейсс взялся пальцами за виски. — Да, Кронго, еще минутку… Они не пытались установить с вами связь?
Стоя в дверях, Кронго видел, как Крейсс закрыл глаза, упершись в веки тыльной стороной больших пальцев. Встряхнулся, энергично подвигал губами.
— Впрочем, не нужно, Кронго, не нужно… Я и так зря затеял разговор… Одного взгляда на вас достаточно. Кронго, мы почти ровесники, вы должны понимать… Не может быть, чтобы вы ничего не понимали…
Крейсс встал.
— В случае, если вам что-нибудь понадобится… Вы понимаете, Кронго.
Крейсс протянул руку, мягко сжавшую пальцы. Вместе с этим мягким осторожным пожатием, вместе с чуть влажноватой прохладной ладонью, которая живет одновременно со взглядом золотистых зрачков со светлыми трещинками, вошло воспоминание.
Два восемнадцатилетних парня дали ему тогда, в Париже, оплеуху… На улице, ему было всего четырнадцать лет, и он их встретил случайно… Он так и не понял, за что. Но это не имеет никакого значения. Обиды нет, и нет боли… А есть то, что он здесь. Но это решила мелочь — связка ключей от бунгало. Золотушный тогда ему подмигнул: «Держи, это за третьей портовой, мой собственный… Белье в шкафу… Перед отъездом отдашь….» Оплеуха, которую ему дали в Париже… Бумажка, которую случайно сунули ему в руку и которую он положил в карман, — все это само собой. И взгляд Крейсса, спокойный взгляд золотистых зрачков со светлыми трещинками. В памяти Кронго снова восстановилось, как приближалась к финишу Перль. Не было никакого сомнения, что она придет первой. Это и есть само собой. Ей оставалось каких-нибудь пятнадцать метров… Но вот за ее спиной медленно возник Казус. Он поднимает колени так, будто хочет подтянуть их к горлу, он прилипает к черному телу Перли, страшным усилием отдирает ее от себя, чтобы первым пройти финишный створ… Само собой…
И сейчас, прислушиваясь к темноте, прислушиваясь к ночи, которая нависает над ним, прислушиваясь к океану, к треску цикад, к почти беззвучным шагам Фелиции наверху, — он так же остро ощущает смерть Ксаты, как и тогда. Эта смерть так же остро живет сейчас в нем, так же остро получает свой отзвук и свою боль, как и тогда, почти двадцать лет назад… Все это время она не умирала для него… Ксата — не умирала. Вернее — именно все это время она умирала. Умирала бесконечно. Все эти двадцать лет. Она умирала бесконечно — в нем. Боль ее смерти, боль ее крика — вот этого крика, который он отчетливо слышит, когда она бежала, раненная, за домами… Все это — умирало. Боль этого заячьего крика до сих пор живет в нем… Но в нем живет и боль ее любви… Ее нежности… Он не может забыть ни одной секунды этой нежности. Этой любви. И никогда не сможет. Никогда.
Что же с ним было — тогда, после ее смерти? После слов Ндубы, После окаменелости. После бесконечного столбняка, Он шел по шоссе. Да — после того, как он понял наконец, отчетливо понял, что Ксаты нет. Он ушел. Он попытался привыкнуть к мысли, что ее больше никогда не будет. Потом его подобрали. Куда-то везли. Но это казалось ему невозможным. Привыкнуть к этой мысли. Мир не мог существовать без Ксаты. Не мог. Мир не мог существовать без нее. Без обезьянки… Без обезьянки с оттопыренным ухом… Которая умела только одно — танцевать. Но ведь ухо было ни при чем. Она была самая красивая. Самая красивая… И это беспрерывно металось в нем. Беспрерывно… Это стучало в голове. Разрывало. Душило. И он понимал — это стучит каждая секунда их нежности. Их любви. Каждая секунда — оживала. И металась. Тогда… Она оживает и сейчас — с прежней силой. Так же, как оживала, и протестовала, и кричала ему — нет. Нет… Этого не может быть… Не может. В мире не может быть этого.
И сейчас, отдаленная временем, каждая секунда их нежности и любви кричит. Продолжает кричать. Кричать что-то — понятное только ему.
Он уехал в Берн. Сел в самолет — после того, как его подобрали в нескольких километрах от Бангу. После того, как высадили из автобуса у аэровокзала. Он бесчувственно сидел в самолете. Бесчувственно, не понимая ничего. Если он сейчас не умер, не сошел с ума, — значит, уехать в Берн для него будет самым лучшим. И самым лучшим, спасительно лучшим будет — бесчувственно сидеть в самолете… Пить, не напиваясь… Бесчувственно проваливаться в какие-то гостиницы… И — ничего не принимая, не желая ничего понимать — выслушивать какие-то слова… Все это — бесчувственно, безразлично.
Но ведь он остался жить. Остался. Он не умер, не сошел с ума. Он остался жить — несмотря на то что умерла Ксата.
Потом… Да — потом. Потом были месяцы. В Женеве, в Берне. Даже — годы. Он втянулся. Да… что называется… втянулся. Втянулся… В работу. Работа была единственным, что могло тогда заглушить боль. Тогда. Хотя бы на время. Работа была спасением — спасением от нежности и любви, которые беспрерывно продолжали кричать в нем. Спасением от сумасшествия. От собственных мыслей. От ежедневного умирания.
Но проходило время. Сколько же? Три года. Пять лет. Да. Именно — проходило несколько лет. Эти несколько лет прошли — и боль стала затихать. Затихать? Нет. Нет, она не прекращалась, она оставалась в нем. Она жила в нем по-прежнему, он знал — боль никуда не уйдет, он уже не сможет никогда от нее избавиться. Но, оставаясь, боль приобретала другое качество. Боль, оставаясь памятью о Ксате, преображалась, становилась уже чем-то иным, чем была вначале. Он уже мог ее терпеть. Иногда даже это было просто тупое ощущение утраты — не больше. И даже иногда — он мог ее забывать… Сначала — лишь на короткое время, на несколько дней. Потом — на несколько недель…
Чем же были эти дни и недели?.. Чем? Он не помнит. Все было однообразно. Карусель заездов. Работа в конюшне. Берн. Женева. Потом… Потом пришло то, что и должно было прийти. Вызовы международных федераций. Поездки. С этим совпало — увлечение скачками. Да, это было основным — его успех в работе со скакунами. Успех был во всем, хотя он и не ждал его, — в подборе лошадей, в соревнованиях, в международных скачках. Но это была только работа. Только работа, ипподром — и ничего больше. Много лет сразу же после ипподрома его окружала бесцельность, бессмысленность… Он не знал, чем занять время; Он привык держать себя в форме… Да — выпивка, может быть… Клуб. И — все. В его жизни тогда не было женщин. Совсем не было, долго — до того времени, пока он не встретил Филаб.
Филаб. Он встретил Филаб. Он ведь встретил Филаб.
Но и Филаб, первая встреча с ней, все, что произошло потом, в бунгало, — все это было лишь случайностью. Эпизодом — который мог так и остаться лишь размытым воспоминанием о шуме океана, о золотушном и связке его ключей. Этот эпизод совсем не должен был стать тем, чем стал, — женитьбой, рождением детей…
Наверное, все дело было в том, что Филаб его любила. Он ощущал ее любовь непрерывно, в течение многих лет — совсем не желая ощущать… Эта любовь была ему не нужна. Не нужна…
Однажды, в один из приездов, после скачек, сидя все в том же бунгало, он вдруг подумал: начало этой любви, превратившейся потом почти в свою крайность, чуть ли не в унижение, — начало всему этому положило удивление… Филаб была удивлена его холодностью. Удивлена — тем, что до сих пор она нужна ему только иногда. Что он не отвечает на ее письма и звонки. Что он скрывается, что он холоден.
Да, причиной ее любви было удивление… Она была готова ждать. Она была готова приехать к нему в Берн. Или — дожидаться, пока он сам приедет к ней, пусть ненадолго, пусть не к ней самой, пусть — из-за какого-то Кубка. Лишь бы — хоть изредка его видеть. Хоть изредка.
Филаб не знала, конечно, чем был вызван его первый приезд в столицу — из Берна. Чем можно было объяснить его согласие на участие в местном Кубке, который считался третьеразрядным. Ему вдруг захотелось услышать язык ньоно. Просто — поговорить, перекинуться двумя словами с кем-то на улице.
С манежа доносилось негромкое щелканье пальцев, ласковый голос, чмоканье. По звуку копыт, их легкому дробному перетоптыванью Кронго определил, что жеребенок бежит по вольту тротом, почти рысью. Голос конюха, который гонял жеребенка, сходил на шепот, но здесь, в коридоре, звучал неестественно громко:
— Алэ… алэ… Цо-о, цо-о… Так, так… Хорошо, хорошо, маленький… Алэ, алэ! Цо-о… Цо-о… Алэ, алэ.
Эти слова, глухое щелканье копыт, разговор конюхов и жокеев рядом, в раздевалке, примыкающей к залу, были знакомы и понятны Кронго с детства. Они окружали его всегда, как воздух, он привык к ним, вырос с ними, не замечал их.
— У-у, — кряхтел один из конюхов. Кронго узнал голос Седу, потом понял, что ему делают растирание, по старому обычаю бауса. — Ой, миленький… Ой, пощади… Ах, какой хороший… Ух, какой хороший… А вот… А вот… Вот так… А вот по спине… Ой, кончаюсь… По спине… Ох, хорошо!.. Ох, хорошо!.. Вот… Вот.
Кронго прошел в конторку, взял лист бумаги.
— Ложись на спину… — шлепнула ладонь.
— Второе удовольствие после бабы… — захрипел голос Седу.
Кронго понял, что он переворачивается. В просвете двери была видна часть помещения. Кронго разглядел Амайо, Фаика, Тассему, Мулонго, Литоко, недавно взятого в жокеи. Тщательно вывел на листе — «Литоко». Поставил вопросительный знак. Литоко… Неужели Литоко? Но почему именно Литоко?
— Господин директор! — Тассема помахал в просвете рукой. — Не хотите массажик? Давайте к нам!
— Ух, хорошо! — крикнул Седу. — Ух, хорошо! Баб не пускать!
— Нет, спасибо, — Кронго зачеркнул вопросительный знак, потом само слово «Литоко». — Спасибо.
— А ты что, баб боишься? А, Седу?
— Пониже, пониже… — сказал Седу. — Ух… Ух… По-цыгански все делаешь… Я тебе не длинноносый… Разве так делают… Ты с живота начинай…
— Ладно… — сказал голос Мулельге. — Лежи, а то сейчас… оборву… Живот не выпячивай…
Но этот человек, тот, о котором думает Кронго, человек Крейсса, может быть самым незаметным. Таким, как Фаик. Фаик, старший конюх молодняка, с вечно испуганными глазами. Но почему Фаик? Почему не Тассема, не Седу? Нет, Литоко верней, Литоко взят недавно. Кронго снова вывел на листе «Литоко».
— Она ляжки себе натерла, — будто отвечая ему, сказал голос Литоко, и конец фразы покрыл хохот.
— Алэ, алэ… — донесся с другой стороны голос с манежа. — Так, маленький… Цо-о… цо-о… цо-о… Алэ…
— Ну, Литоко! Ну, Литоко! А ты… — сквозь хохот вырвался фальцет.
— Литоко, ты проверял? Ляжки проверял?
— Да я б на его месте… Девка сок…
— Смотри, как лошадь ногами держит…
— Ну да… Тебя бы она подержала…
— Не трогай девку…
Об Амалии. Да, конечно. Кронго вывел на бумаге букву «А», поставил вопрос. Амалия? Слишком молода. Но не исключено. Совсем не исключено…
— Кончаюсь… — вздохнул Седу. — Мулельге, пощади… Хорошо… Так, чуть пониже… хорошо… так… так…
— Борода, молчи. Тебе тут не хлев на ферме, тут наши порядки…
— Ладно, порядки… Порядки всегда одни…
Глаза, вот что, глаза, подумал Кронго. Он вспомнил выражение глаз Лефевра, Поля. Если он хочет узнать, кто здесь, на ипподроме, человек Крейсса, он должен вспомнить выражение глаз. Это выражение похоже — и у Лефевра, и у Поля, и у тех двух негров, Амаду и Гоарта. Сам не понимая зачем, Кронго раскрыл лежащий на столе журнал работы с молодняком. Слева были неровно вписаны фамилии конюхов, справа, под строчкой «работа», — имена жеребят. Амайо — Чад, Крикет, Карс, Стелла… Фаик — Кондор, Аллюр, Аладин… Бланш — Диамант… Бланш. Крючконосый, с парижским выговором. Бланш. Кронго поставил против фамилии Бланш крестик. Как он сразу не подумал о нем. Но зачем он поставил крестик? Ведь крестик заметят.
— Цо-о… — донеслось с манежа. — Цо-о… Алэ… Алэ…
Это Бланш. Голос Бланша. Да, конечно. Жеребенок Диамант. Он мог бы узнать этот голос раньше. Кронго зачеркнул слово «Литоко». Но почему ему важно знать, кто именно человек Крейсса? Какое это имеет значение? Никакого.
— Моя б воля, я б этих длинноносых… — сказал Тассема. Кронго прислушался. О чем они говорят?
— Тсс… — шикнул другой голос. — Не тявкай.
— А что «тсс»? — Тассема понизил голос. — Все свои, — хохотнул. — Месси Маврикий? В этом вопросе дурак ты. Да брось, ньоно чистокровный… Фамилия, ты что, не понимаешь…
Кронго заметил, как Фаик незаметно глядит в просвет двери.
— Наш, наш… — сказал Седу. — Все равно не шуми.
Интересно. Почему ему, Кронго, приятно это слышать…
— Давай попону… — было слышно, как Мулельге хлопнул Седу по спине. — Заворачивай его скорей.
Кронго мелко, тщательно порвал листок с написанными фамилиями. Взял бритву, осторожно соскоблил крестик. Но чего он боится? Зачем он это делает?
— Амалия! Иди сюда, Амалия! — крикнул Литоко. — Загляни, загляни, не бойся! На минуту!
— Ну, что вам? — тонко спросил голос Амалии в наступившей тишине. — Дураки.
Хлопнула дверь, все густо захохотали. Кронго ссыпал клочки бумаги в корзину, встал. Глупости. Он не должен думать об этом. Его это не должно касаться. Он вспомнил странное чувство легкости, которое он испытал, сидя рядом с пресвитером и Крейссом в ложе. Может быть, не нужно противиться этому чувству. Но тогда, может быть, он должен узнать, кто на ипподроме человек Фронта. Но тоже — зачем? Он просто устал, просто устал. Он должен работать, работать… В раздевалке стоял гниловатый запах жгучей смеси и курева. Остывающие Седу, Амайо и Чиано сидели, по горло завернувшись в попоны. По их лицам крупно и густо тек пот. Губы Седу блаженно отвисли, белки глаз виновато повернулись, наблюдая за вошедшим Кронго.
— Все в порядке, месси, — Мулельге осторожно поглаживал Седу по плечам, чтобы пот лучше впитался в попону. — Кариатиду водили с поддужными… Бвана, Ле Гару, Мирабель сейчас на дорожке… Бвана прошел маховые за одну пятьдесят семь… Чиано сидел, он сам скажет…
— А Альпак?
Этот вопрос возник сам собой после цифры «одна пятьдесят семь». Время Бваны всегда было хуже времени Альпака. То, что Бвана сейчас на маховых показал скорость выше рекордной, только подтверждает предположение Кронго, что Альпаку нет равных в Европе и Америке.
— Альпак… — Мулельге сделал Кронго знак бровями, Седу скосил глаза, Тассема незаметно постучал согнутым пальцем по груди.
Суеверие, подумал Кронго. Они боятся, что Альпак оборотень.
— Альпак сегодня.
Мулельге не договорил, потому что земля под ним дрогнула, задребезжали стекла. Конюхи выскочили, на пол полетели попоны. Взрыв раздался снова. Мулельге вытолкнул Кронго из двери манежа, подталкивая, побежал с ним по дорожке.
— Ложись! — закричал выскочивший навстречу автоматчик. — Ложись, кому говорю! Буду стрелять! На землю! Все на землю!
Мулельге бросился на дорожку, увлекая за собой Кронго. Чувствуя сухую землю, которая терла щеку, Кронго видел, как цепь автоматчиков в серой форме бежит к конюшням и манежу. Снова тупо вздрогнула земля. Еще раз…
— В порту… — выплевывая попавшую в рот пыль, тихо сказал Мулельге. — В порту… взрывают… Танкеры из Европы…
— Лежать! — крикнул автоматчик.
Мулельге осторожно повернул голову, и Кронго по направлению его взгляда увидел конюхов, стоящих у наружной стены манежа с поднятыми руками.
— Вы знаете, вы знаете, месси… — Мулельге скосил глаза, придавая какое-то особое значение своим словам. — Тут с Альпаком… Они ведь говорят, оборотень… Так вот… Я тут ни при чем… Но конюхи…
Щека его была плотно прижата к дорожке.
— Но это глупости… — Кронго видел черный дым, клубами поднимавшийся далеко за ипподромом. — Я знаю его со дня рождения.
— Глупости, месси, глупости… — в глазах Мулельге был явный вопрос — могу ли я вам доверять? — Глупости-то глупости, но Ассоло хочет перебираться в другую конюшню… Если он уйдет, других силой не заставишь…
Они услышали, как кто-то бежит.
— Болван! — Кронго узнал голос Душ Сантуша. — На передовую захотелось? Это директор ипподрома.
Кронго почувствовал, как лейтенант под локоть поднимает его.
— Простите, господин директор.
Автоматчик стоял навытяжку. Душ Сантуш снял фуражку, вытер пот.
— Мсье Кронго, простите. Часовой превысил власть, он будет наказан. В порту только что взорваны четыре танкера…
Мулельге смотрел под ноги. Кронго уже не пытался что-то прочесть в его взгляде. Они подошли к манежу. Рядом с солдатами, пожевывая погасшую сигарету, стоял высокий европеец в штатском. Кронго хорошо помнил его, этот европеец прохаживался во время открытия ипподрома вместе с Лефевром у паддка. Глаза европейца кажутся очень большими, огромными, но только теперь Кронго понял, почему. Под ними мелко дрожат длинные набухшие мешочки. Они напоминают срез луковицы, окаймляя каждый глаз, а сами глаза от этого кажутся очень большими, будто вылепленными из глины. Кронго попробовал подсчитать мешочки и насчитал четыре под каждым глазом.
— Пощупай… — сквозь сигарету прошепелявили губы европейца.
Один из охранников, Кронго уже хорошо знал его, это был Гоарт, неторопливо засучил рукава. У Гоарта чуть удлиненный, матово-шоколадный подбородок, на нем редко вьются волосы, слипаясь в иссиня-черную бородку. Вот Гоарт что-то прошептал, подошел к краю стены, там стоял Мулонга. Сделал легкое движение, словно обнимая; на какую-то долю секунды Гоарт застыл, казалось, он задумался. Будто очнувшись, пощупал спину Мулонги. Потом кисти Гоарта погладили бока, вернулись к груди. Мулонга медленно поднял голову.
— Стоять смирно, — сказал Душ Сантуш. — Смирно.
Мулонга вытянулся. Гоарт подошел к следующему. Обыскивая, он чуть прикусывал губу, глаза его уплывали под веки, лицо каменело.
— Подонки, сволочи… — Душ Сантуш расстегнул ворот. — Четыре танкера, как хлопушки. Сволочи… Там было трое наших… Вырвал бы им кишки…
Кронго следил, как кисти Гоарта ловко перебегают по боку конюха, которого он обыскивает. Мелькнуло — ничего в моей жизни уже не будет. Не будет.
Проезжая по улице, Кронго удивился этой, возникшей снова мысли. Он обратил внимание на нескольких белых старух с повязками. На повязках было что-то написано, но он не мог разобрать — что. Потом он увидел молодую женщину с ребенком, загорелую, с каштановыми волосами. Он не удивился тому, что она тоже была с повязкой. Патрули с автоматами… Кронго казалось, что шофер нарочно медленно ведет машину. Так, чтобы дать возможность другим машинам как можно чаще останавливать их. Кронго с неприязнью вглядывался в круглую, бархатную, охряную щеку шофера, в медленно, бесстрастно шевелящиеся губы. Мальчишка, ему нет и семнадцати. О чем он думает? Что у него на уме? Что означает эта пилотка под погоном, эта сильно выдвинутая вперед верхняя губа — будто его обидели, — медленно шевелящиеся скулы? Стараясь подавить раздражение, Кронго стал следить за машинами. Ему казалось, что все они стараются обойти их «джип». Он вспомнил движение рук Гоарта. Но, может быть, четыре взрыва, потрясших землю под ним, потом черные клубы дыма, повисшие, как облако, привели его к мысли, что ничего в жизни уже не будет. Нет, все дело в Гоарте, в том, как он застывал, прислушиваясь, а руки двигались сами собой, медленно и чутко, будто лаская тело стоящего. Опять остановка. Пожилой европеец. Местный, слышно по выговору. Повязка на рукаве. Кронго вгляделся, пытаясь прочесть надпись на повязке: «…дские добровольцы». Что значит это «…дские»? Наконец европеец повернулся, пропуская их. «Городские добровольцы» — увидел Кронго. Но почему же это чувство, ощущение, что ничего не будет. Думая об этом, Кронго услышал громкий голос, который пронесся мимо. Голос был знаком: «Мсье… Мистер Маврикий». Кронго понял, что кричали из прошедшей мимо машины, Шофер скосил глаза:
— Догнать? Остановить?
— Да, пожалуйста… Остановите.
Непонятно знакомый голос. Черная машина, идущая рядом, прижимала их к тротуару. Круглое отрешенное лицо, руки, сжавшие баранку. Черный воротник под самое горло. Но это же брат Айзек. За ним пресвитер. Дряблые складки кожи, окружившие шею. Красноватый загнутый нос. Жалкая улыбка. Пресвитер, а кричал брат Айзек. Но глаза пресвитера совсем не те, которые помнил Кронго. Ему показалось, что в них нет уже чистоты и ясности, которые удивили его тогда, в ложе, В них страх, только страх. Скрип тормозов. Пресвитер тщетно пытается открыть дверцу, — и Кронго вышел раньше.
— Мистер Маврикий… — пресвитер тяжело дышал, с тоской глядя на Кронго. — Я давно увидел вас… я вам кричал…
Значит, это кричал он, а не брат Айзек. Но как он мог кричать так сильно? Брат Айзек кивнул Кронго. Дернул ручку тормоза под баранкой, беззвучно шевеля губами молитву. Сказал:
— Отец Джекоб, я вас очень прошу…
— Брат Айзек, брат Айзек… — пресвитер покачал головой. — Мистер Маврикий, меня кладут в больницу… У меня водянка…
Его глаза будто упрашивали Кронго — «не сердитесь, что я говорю такую глупость, выслушайте меня, для меня это очень важно — то, что у меня водянка».
— Я сегодня был на обследовании, — губы пресвитера складывались в улыбку. — Я понимаю, водянка — это ничего серьезного, врач говорил мне…
— Да, конечно, — сам не зная почему, сказал Кронго. — Конечно… мсье Джекоб. Ничего серьезного.
— Я так рад вас видеть, — пресвитер со странно заискивающим выражением взял его руку. — Мне с вами спокойней… Скажите, только скажите, может быть, мне не ложиться? Говорят, больница плохо действует… Одна моя знакомая, у нее тоже была водянка…
— Отец Джекоб… — брат Айзек сказал это, не открывая глаз. — Отец Джекоб…
— Конечно, конечно… я понимаю, брат Айзек… — пресвитер виновато заморгал. — Я держу вас за руку… брат Кронго… Мне так легче… Вам не неприятно? Брат Кронго?
— Нет, нет, мсье Джекоб… — Кронго подумал, что сказал это слишком поспешно. Он чувствовал слабое горячее сжатие пальцев пресвитера. Может быть, и ему самому тоже сжать пальцы в ответ?
— Я рад, что согласился… — пресвитер с трудом облизал губы. — Я рад, что согласился быть в жюри… Я уверен, что этот ваш Приз Дружбы пройдет успешно… Но на всякий случай… Мало ли что… я хотел вам сказать… Человек в какой-то степени беспомощен, потому что находится и во власти природы, и во власти бога… Воля дана ему, чтобы понять сущность этого… Человек не исчезает после смерти, но растворяется в природе и в боге. — Пресвитер торопился, будто кто-то мог помешать ему. — Но во время жизни он волен поступать так, что душа его будет перемещаться внутри бога в ту или иную сторону… Я говорю немного несвязно, простите меня… Но я хочу, чтобы вы это знали… В человеке происходит взаимовлияние бога и природы, и человек способен это понять…
Пресвитер осторожно подвинулся, но все еще не выпускал руки Кронго. Брат Айзек по-прежнему шевелил губами.
— Постарайтесь… Постарайтесь запомнить, — пресвитер наклонил голову, будто пересиливая боль. — Материя развивается по своим законам, а кто их создал, бог или они сами создались, неважно… Ибо материя не возникла раньше или позже бога, так как для понятий бог и материя нет «до» и «после»… Но они различны в корне… Бог пронизывает материю, но это также не имеет для них значения, ибо для них нет пространства…
— А человек? — перестав шевелить губами, спросил брат Айзек.
— Человек — третья субстанция, которая помимо своей воли возникает при постоянно возрождающемся и прекращающемся сближении двух вечных… И для природы, и для бога одинаково нет времени и пространства… Они есть только для человека… Жизнь — вечное стремление природы к богу, и в центре, как вольтова дуга, возникает человек… Он может длиться какое-то время, потом гаснуть, и снова — отталкивание и притяжение, и возникновение дуги… Спиноза считал, что необъятность бога, «это», наполняет небо и землю и все воображаемое пространство до бесконечности, а значит, и все мерзости и гадости есть одна из разновидностей бога… Он ошибался… Да, «это» производит в себе самом все глупости, все бредни, все гадости, все несправедливости рода человеческого… На одну хорошую мысль приходится тысячи глупых, мерзких… Но «это» — не сущность в высшей степени совершенная, не бог, а вольтова дуга, возникшая при очередном сближении природы и бога. Она порождает их, эти глупости и несправедливости, в борении, страшном, кровавом, мучительном…
— Но разве лучше не станет человек, отец Джекоб? — глаза брата Айзека открылись, он отрешенно щурился. — Скажите, отец Джекоб?
— Бог начинает стремиться к природе и отталкиваться от нее, но эти пульсации не зависят от воли человека, само его возникновение — лишь результат этих сближений… может быть, разновидность сближения каждый раз будет иная, может быть, улучшенная. Может быть, человек — далеко не самое совершенное, что создал господь бог… Человек этой пульсации, такой, как мы с вами… Хочу верить, хочу верить…
— Страшно… — брат Айзек закрыл глаза. — Я человек.
— А мне уже нет, — пресвитер улыбнулся. — Мне легче. Брат Маврикий, мне легче. Вы не сердитесь, что я называю вас «брат»? Я поеду в больницу. Я уже не боюсь.
— Нет, — Кронго чувствовал, как рука пресвитера медленно отпускает его ладонь. И в самом деле, глаза пресвитера стали другими, страх, стоявший в них, исчез, ушел куда-то, затаился на дне. — Но как же… Мсье Джекоб…
Он должен его спросить. Он должен спросить.
— Брат Джекоб. Называйте меня «брат». Брат Джекоб… — пресвитер сел глубже, запахнул полу сюртука. — Брат Джекоб, брат Джекоб… Называйте меня брат Джекоб.
— Но как же… брат Джекоб… То, что вы согласились… Что вы приехали сюда… Неужели вы верите, что… Что все у нас именно так, как вам говорят?
— Знаю… — синие волдыри на губах пресвитера приблизились к линии рта. — Знаю и отвечу. Все усилия тщетны, брат Маврикий… Все, все… И мои, и ваши, и этого… этого… Все тщетны.
— Крейсса, — подсказал брат Айзек.
— Да, Крейсса… И, видя тщету этих его усилий, хочу принести хоть какое-то добро… Но, может быть, слеп и не вижу истины…
Брат Айзек незаметно показал Кронго глазами — «он устал».
— Я буду думать о вас, брат Маврикий… Я буду молиться за вас… Не прошу молиться за меня, ибо то, что дали мне, больше любой молитвы…
Кронго захлопнул дверь, и она тут же уплыла из-под его руки, исчезла. Ничего хорошего в его жизни, того, что он представлял себе всегда, всю жизнь, уже не будет — опять возникло вместе с «городскими добровольцами». Но почему он об этом… Руки Гоарта и слова пресвитера, все еще стоящие в ушах, странным образом смешались. Он думает о лошадях, об Альпаке, о рекордном времени Бваны — но это не приносит облегчения.
Он помнит — в тот день он приехал в Берн из поездки и до ночи следил, как размещают прибывших с ним лошадей. Усталый, злой, он еле добрался домой и лег спать. Поэтому он никак не ждал звонка — звонка Жильбера, который раздался ночью.
— Да… — треск звонка вырвал его из сна, и спросонья он никак не мог понять, кому это могло быть нужно — будить его сейчас.
— Кро… Кро, это я, Жильбер. Ты читал газеты?
— Что?
— Я говорю — ты читал газеты?
Он попытался сообразить — что же может быть в газетах. Что такого, из-за чего ему может сейчас звонить Жильбер. Что же… Что… Да — как же он забыл. Независимость… Да. Независимость. О ее приближении все время писали. Об этом давно уже пишут… Но он забыл об этом. В последнее время он просто не следил, за газетами. И особенно — в последние дни, когда заканчивалась поездка. У него просто не было времени… Не было секунды даже — чтобы заглянуть в газеты.
— Кро, проснись! Независимость!
Значит — это произошло. Это случилось… Независимость провозглашена… Все ждали этого…
— Жиль, привет… Что случилось? Объясни спокойней.
— Ты что, спишь? Включи радио! Омегву! Омегву выбрали президентом! Ты понимаешь? Омегву!
— Омегву? Бангу?
— Да — Омегву Бангу! Его выбрали!
— Бангу… что? Президентом?
Кронго не мог еще понять — что означают эти слова Жильбера. Значит, Омегву — президент? Сначала это никак не укладывалось в сознании. Омегву Бангу — глава государства… Омегву… Его Омегву.
— Да! Омегву Бангу — первый президент республики! Омегву, ты понял? Кро, ты понимаешь, что это значит? Приезжай в Париж! Немедленно приезжай!
— Но… Жиль…
— Жду!.. И — кончай…
— А… — в голове промелькнуло все, что будет связано с этим. Мать. Знает ли об этом мать. Наверняка знает. — А… мать?
Кажется, размолвка матери с Омегву до сих пор продолжается. По крайней мере — она продолжалась, когда он видел мать последний раз.
— Что ты спрашиваешь об этом?.. Ну, Кро! Приезжай…
— Она… знает?
— Конечно… Да приезжай, Кро, я же не просто так тебе звоню…
Утром в самолете он наспех просматривал газеты. О новости сообщалось на средних полосах — на страницах, где обычно помещались политические обозрения и международная информация. Он быстро перелистывал страницы. Наспех пробегал заголовки.
«Республика провозглашена». «В результате переговоров уточнены последние вопросы государственного устройства». «Первым президентом республики избран видный общественный деятель Омегву Бангу». «Президент Бангу заявил, что республика не допустит никаких проявлений дискриминации или розни между национальностями». «На здании Президентского дворца поднят национальный флаг». «Солдаты национальной армии сменили войска метрополии».
Значит — Бангу… Так и должно было быть. Да, конечно. Наверное — он устраивает всех… Но ведь Бангу для него — совсем другое. Совсем другое…
«Президент Бангу приветствует любую помощь дружественных стран при условии, если она будет носить бескорыстный характер». Значит — Омегву… «А также если эта помощь не будет связываться с политическими условиями».
Бангу — президент… В общем — это хорошо. Хорошо.
«Омегву Гдебеле Бангу, выбранный президентом, — представитель широких демократических сил. Известен как поэт с мировым именем, видный философ и общественно-политический деятель». «Бангу избран абсолютным большинством голосов».
Бангу — президент… Впрочем — почему это в первый момент удивило его… То, что случилось, так естественно.
Мать открыла — им с Жильбером. Увидела сына, улыбнулась — грустной сухой улыбкой. Молча поцеловала. Видно было, что она проснулась давно, может быть — ночью. Они прошли в гостиную. Среди бумаг на столе Кронго заметил несколько невскрытых писем. Кажется — из республики. Телеграмма со штампом «Правительственная»… Тоже невскрытая. Вернее всего, даже наверняка — все это от Бангу…
— Мама, ты… ты что, не поедешь туда?
— Маврик… — мать подошла к окну.
Кронго вдруг подумал — она постарела. Она постарела — но не может ощутить себя старой. Не может позволить себе этого — потому что любит Омегву.
— Мама… Но… Омегву, наверное…
— Маврик… Я… Никуда не поеду, конечно. И… вообще… ты… Вы оба — зря пришли. Это — не событие. Понимаете — не событие.
Он улетел в Берн в тот же день вечером, а через три дня был снова вызван — на этот раз короткой телеграммой. «Приезжай, мать в больнице. Жильбер».
А потом — чужое, не узнающее его лицо матери в больничной палате. Тогда, сидя на больничной табуретке, ощущая какую-то странную боязнь перед белым одеялом, стараясь не прикасаться к нему, он пытался вглядеться в мать, узнать, что же с ней, искал ее глаза. Но глаза матери, мельком встречая его взгляд, не узнавали его. Не узнавали… Хотя он видел — они полны боли. Он слышал слова, пустые слова, которые говорил кто-то сзади — кажется, врач: «Это случилось неожиданно… Считайте, что нам повезло… Карета скорой помощи… Оказалась рядом…» Считайте… Что нам… Повезло… Какая чушь… Карета скорой помощи… Только он один видит — матери сейчас очень плохо. Матери плохо.
— Мама… Мама, ты слышишь? Это я… Маврик… Мама! Мамочка, повернись… Мама? Что с тобой?
— Что? — она медленно повернула голову.
— Мама… Это я. Ты видишь меня? Это я. Я, Маврик.
— Что? А-а… — она еле заметно кивнула. — А, Маврик. Мавричек…
Он вдруг почувствовал — она сейчас умрет. Умрет.
— Мамочка… — он накрыл ее руку своей. — Мама. Что… Тебе что-нибудь хочется?
Он услышал за спиной срывающийся на визг голос Жильбера:
— Врача! Скорей врача! Сделайте что-нибудь! Сделайте же что-нибудь! Что же вы стоите! Врача!
Но этот голос метался сейчас не рядом, а где-то над ним, в стороне, он оставался где-то далеко, не попадая сюда — к нему и к матери, к тому, что было понятно только им, к окружившей их пустоте.
— Маврик… — он вдруг понял: мать сейчас пытается улыбнуться. В ее глазах появилась ясность. — Ты… будешь помнить… меня?
— Мама… Ну о чем ты говоришь?
— Маврик… помни меня… свою… ты помнишь, кого? Ну… Маврик? Маврянчик мой…
— Да, — он пересилил себя. — Помню. Белую черную ворону.
Она улыбнулась.
— Вот… именно… Белую черную ворону.
Он и не знал, что на похороны матери придет столько людей. Какие-то люди, которых он никогда не видел, стояли у дома, несли гроб… Эти люди шли и шли за катафалком. Они занимали улицы, тесной молчаливой толпой — бесконечной, уходящей вширь — стояли у могилы. Следя за толпой, занявшей почти все кладбище, он вдруг понял, зачем они пришли. Они понимали его утрату… Ему ничего не нужно было объяснять сейчас — этим глазам, этим людям… Он понял, зачем они пришли. Они понимали, чем была его мать… Они пришли из-за нее. Из-за Нгалы Кронго.
Потом, когда все кончилось и люди стали расходиться, среди тех, кто еще стоял рядом, он вдруг увидел знакомую невысокую фигуру. Седые волосы… Узкое лицо, напоминающее морду косящей лошади. Выпуклые, полные острой тоски глаза.
— Омегву… Вы?
— Мальчик… — Бангу кривился, его лицо странно дергалось, он кусал губы. — Мальчик… Мальчик, ты не представляешь, что… что… кончилось… Что это… Значит… Что… Что…
Так он переехал сюда. Переехал, чтобы стать тем, кем стал… Директором ипподрома… Старшим тренером беговой и рысистой конюшен…
Вечером Кронго сидел в верхней комнате у кровати Филаб. Он поймал себя на том, что опять впустую, бесконечно думает о времени Бваны. То, что он все время возвращается к этому, угнетало его, он пытался избавиться от этой мысли, убеждая себя, что ему совсем не нужно думать о времени Бваны, — и каждый раз вспоминал о нем, именно так, как ему сказал об этом Мулельге. А может быть, времени Бваны не было, подумал он, все это придумано? Привыкая к этому вопросу, Кронго вдруг понял, что ему стало легче. Может быть, то, что в его жизни уже ничего не будет, — тоже придумано им? Он попытался прислушаться к самому себе. Но услышал только одно — что в его жизни действительно ничего не будет — ничего хорошего, никакого сладостного ощущения скорости и победы, которое он придумал. Да, он придумал, в этом все дело, конечно. Никакого Приза нет. Нет ничего. Всю жизнь он придумывал что-то сам для себя и сейчас, когда ему сорок пять, продолжает придумывать, но из придумывания ничего не получилось. Он придумал Филаб, придумал поездку сюда. Придумал, что все время будет брать какой-то Приз. Именно все время — так и не взяв его, оставляя главную победу впереди. Но это все выдумано, он ничего не взял и не возьмет. Говоря попросту, он тот, кто работает как раб, убеждая себя, что он свободен. Но то, что он свободен, — выдумано. И неясно, на кого он работает. Окно было распахнуто, явственно ощущалось, как за ним, над кустами, набережной и океаном, висит бесконечная ночная духота. Кронго подумал, как привычно кричат чайки, — он даже не замечает их однообразного хриплого мяуканья, ему кажется, что за окном тихо. Мяуканье иногда стихает, и тогда слышен тонкий слабый писк, будто возятся мыши. Филаб улыбается, почти сидя в кровати. В углу бесшумно стоит над столиком Фелиция. Улыбка Филаб беспомощна, она состоит из загибающихся вниз и вверх краешков губ, и они кажутся ему невыносимыми. Он уже ждал эту улыбку, когда входил, и заранее мог сказать, что Филаб не хочет его жалости, она хочет улыбкой показать, что полна сил, что выздоравливает. Вот кого она ему напоминает — кошку с перебитым хребтом… Когда-то в детстве он видел такую кошку, серую, упавшую, с перебитым хребтом…
— Тебе лучше?
Она закрыла глаза. Нет, он ничего не чувствует, думая о ней. Только жалость. Но эта жалость сейчас утомляет его, ему трудно. Не успев войти, он хочет уже оставить Филаб, уйти, сесть в шезлонг в саду. Думать об Альпаке, о скорости, о бессмысленности всего, всего.
— Прости, я устал, жутко устал…
Может быть, сказать ей что-нибудь еще. Что-нибудь приятное. Но что? Такое, чтобы потом можно было уйти.
— Сегодня Бвана показал минуту пятьдесят семь…
Она улыбается. Но для нее это пустой звук.
— Что тебе? Приемник? Хорошо, хорошо…
Он щелкнул переключателем. Вдруг вспомнился огромный негр, Пончо Эфиоп, кузнец, его глупое похохатывание. Прикидывается? Может быть, он и есть человек Крейсса…
— …чтобы проводить в последний путь героев, — голос в приемнике смолк.
В последний путь… Кого — в последний путь?
— Акт террористов, с бессмысленной жестокостью оборвавший четырнадцать жизней, не достиг цели… Ни экономической, ни политической… Только международное осуждение может вызвать варварское уничтожение четырех судов, плававших под флагом дружественного нам государства…
Кронго опять прислушался к крику чаек. Вот почему он думает о кузнеце. Он все еще по инерции пытается понять, кого же послал на ипподром Крейсс. Но зачем ему это? Это бессмысленно, ненужно, бесполезно. Да, он сознает это, но опять, снова и снова, помимо своей воли, с упорством перебирает фамилии. Вряд ли это Бланш. Может быть, барбры? Эз-Зайад? Эль-Карр? Но он ведь не боится Крейсса, он даже чувствует иногда к нему что-то вроде симпатии. Тогда почему фамилии? Зачем ему это знать? Перебирать фамилии само по себе недостойно его, отвратительно.
— …как только будет закончено расследование. Все участники преступного налета арестованы.
Кронго выключил приемник. Кроме крика чаек есть еще и шум океана. Он тронул Филаб за руку:
— Прости, я устал…
Кронго спустился вниз, прошел на веранду, медленно опустился в шезлонг, чувствуя, как блаженно и тупо ноет спина.
— Месси… — Фелиция поставила перед ним на столике кофейник.
— Спасибо, Фелиция, я не хочу.
Он заметил странное выражение на ее лице, такого он еще не видел.
— Что С вами, Фелиция? Что-нибудь случилось?
— Месси…
Что она может ему сказать? Что-нибудь сообщить, передать? Но ведь он ничего не хочет знать. Он не хочет придумывать что-то снова, он хочет правды, жестокой правды. Удивительно — он подумал вдруг, что Фелиция бесплотна. Черное облако. Черное облако со старушечьим негритянским лицом. Морщинистым лицом, бородавчатым, с желтыми испуганными белками, лицом без плоти. Отсюда, с обрыва, хорошо видна пологая волна, она медленно обрастает белой каймой.
— Нет, нет, месси, с чего вы взяли… — Фелиция осторожно убрала кофейник. — Что вы, месси, все в порядке…
Вот — ему кажется, что Фелиция бесплотна, оттого, что она всегда все делает бесшумно. Как облако. И все-таки она что-то хочет ему сейчас сказать, он видит это по ее глазам, по нерешительности, с которой она отступила.
— Не бойтесь, Фелиция… Не бойтесь, говорите…
— Я просто хотела… — глаза старухи виновато опустились. — Мадам нужны хорошие продукты… Икра, твердая колбаса. Вы имеете право на дополнительную выдачу… Простите, что беспокою вас… Но без вашего пропуска меня не пустят… В распределитель.
— Куда?
— В распределитель, месси.
— Конечно, конечно, Фелиция, — он полез в карман, протянул ей пропуск. — Только и всего? Я что-нибудь еще должен сделать?
Фелиция молчала.
— Ну? Фелиция?
— Нет, я хотела еще сказать, месси… Я его видела… Тогда утром… с велосипедом…
— Кого — его?
— Он получил большие деньги. Очень большие…
— Да кого — его?
Фелиция отвернулась. Кисти ее слабо шевелились. Кронго вдруг понял, что она говорит ему, Что она имеет в виду.
— Того… с велосипедом. Месси, вы не сердитесь на меня… Но я хочу уйти… я не могу… я всю жизнь… я была честной…
Из глаз Фелиции медленно текли слезы.
— Подождите… О чем вы? Я не понимаю. Фелиция, что вы имеете в виду?
— Месси, месси… Я ведь знаю его… Это жулик… Он получил в день скачек восемнадцать тысяч… Из моей кассы… Месси, я всю жизнь была честной… Вы такой добрый… Я не могу больше здесь… Я… не могу выдавать деньги жулику…
Да, она говорит ему о Пьере.
— Нет, нет, нет, месси… — она встала на колени. — Это жулик, я знаю… Отпустите меня, месси… Пожалейте… Он играл и до войны… Мы все знаем, месси… Это жулик, его знают и кассиры, и полиция, весь ипподром… Я не верю, что вы помогали жулику. Но я не могу, я должна уйти…
Жулик… Значит, он, Кронго, помогал не Фронту, а жулику. Пьер — жулик. Только представив себе это, он испытывает облегчение. Но это не имеет никакого значения. Конечно, не имеет. И все-таки он должен успокоить Фелицию. Ведь она в самом деле уйдет. Что будет с Филаб…
— Хорошо, Фелиция, хорошо… Я постараюсь выяснить… Я думал, это человек Фронта… Фелиция, я прошу вас остаться… я ведь не знал…
— Спасибо, месси… — Фелиция схватила его за руку, он осторожно высвободился. — Спасибо, месси… Это жулик… Это не человек Фронта, поверьте мне… Там не такие…
Он не заметил, как она ушла. Жулик. Да, конечно, как он не догадался сразу. Бегающие глаза… Но что он может сделать теперь? Ему вспомнился Фердинанд, кривая ухмылка. «Не пытайтесь узнать, кто он, не суйтесь в это пекло». Но ему и не нужно узнавать, кто это. Это — Мулельге. Больше некому. Это человек Фронта. Он должен открыться ему. Узнать — что за человек Пьер. Но зачем? И потом — почему человек Фронта обязательно Мулельге? Почему не Бланш? Да, вот зачем ему нужно связаться с человеком Фронта. Ему страшно. Он, Кронго, узнав, что Пьер жулик, боится Пьера. Как легко было Пьеру обмануть его. Его, придумавшего всю свою жизнь. Постыдно придумавшего. А теперь он просто боится. И помочь ему может только Фронт. Фердинанд. Оджинга.
Белая кайма, с неизменным постоянством возникавшая вокруг пологих волн внизу, стала уже, спокойней… Духота почти прошла. Омегву умер три года назад. Последние месяцы, даже — годы они почти не виделись… Почти? Нет — совсем не виделись. Сейчас он спрашивает себя — почему?.. И объясняет себе — он был занят лошадьми… Потом — к Омегву было трудно попасть… Занят лошадьми… Трудно попасть… Обычные объяснения… Никчемные, ненужные.
Он хорошо помнит похороны. Площадь, забитую людьми. Гроб с телом Омегву — где-то далеко, через людское море… Ему тогда казалось — рядом с траурными флагами на стенах, с непрерывно звучащей музыкой многих оркестров, с пышными торжествами сам Омегву, лежащий в гробу, был чем-то лишним. Его смерть не вязалась с этими торжествами, они были чужды ему, чужды его духу… Духу того Омегву, которого он знал. Он вспомнил слова Бангу — тогда, после купанья, на берегу озера: «Я приехал сюда, чтобы забыть о смерти». Забыть — о смерти… Забыл ли Омегву о смерти потом?
Следующим президентом после Омегву стал Лиоре. «Узурпатор Лиоре» — так его называют теперь. Но Лиоре не был узурпатором… Лиоре был законно избранным президентом.
Кронго вытянул ноги, закинул голову. Наверху ослепительно ярко сверкали и дымились звезды, словно белые осколки. Их было много, удивительно много, и он ощутил, как они всемогуще тихо висят над всем — над ним, над берегом, над океаном, над землей. И даже больше, чем над землей, — они висят над солнцем, над тысячами других солнц, над миллионами солнц, и в то же время они висят над ним. Он почувствовал, как кто-то ползет по руке, понял, что это цветочный таракан, быстро стряхнул его. Далекий нечеловеческий беспорядок этих дымящихся, тлеющих осколков наверху вдруг показался ему порядком — таким же неестественным, нечеловеческим. Он словно плыл над ним. Он вспомнил загадку, которую они задавали друг другу в детстве. Звезды — выступы или отверстия… И, осознав, что этот страшный порядок плывет сейчас над ним, Кронго вдруг почувствовал, что и он, маленький комок, распростертый в шезлонге, плывет сейчас над этим дымящимся бесконечным заревом. Но странно, почему, плывя в этот момент над сверкающей бездной осколков, он думает о цветочном таракане, который снова поднялся и мягко ползет по его руке. Ведь этот таракан, это раздражающе сладкое ощущение лапок, мелко перебирающих по коже, полностью в его власти. Слабое движение руки, намек на желание — и таракана не будет. Тараканов много, и оттого, что Кронго раздавит именно этого, мягко ползущего по его коже, ничто не изменится. Кронго опять попытался поймать ощущение, что не бесконечно сияющие звезды плывут над ним, а он плывет над бесшумно вздрагивающими внизу дымящимися точками. Но ведь он вынужден будет запомнить этого таракана. Запомнить, что он его раздавил — только оттого, что это было в его власти. Может быть, для таракана в таком случае ничего и не изменится. Но вдруг изменится что-то внутри самого Кронго? Вот ему показалось, что что-то еле заметно вздрогнуло и изменилось там, наверху, в извечной сверкающей расстановке. Он услышал шум океана и писк чаек. Небо придвинулось, и он вспомнил беговую дорожку. Потом Фелицию. Потом перед ним снова возникла упругая, вздрагивающая репица хвоста с коротким черным султаном волос. Ровно, безостановочно работающий круп. Альпак. Кронго улыбнулся, думая о таракане. Что бы там ни было, но для него, Кронго, всю жизнь было возможно единственное счастье — кратковременное, мгновенное счастье победителя. И оно сейчас в том, что он представляет, как сидит в качалке, уперев ноги в передок, и чувствует, как он приподнимает вожжи и как ветер, туго облепивший лицо, становится сильнее. Кажется, с таким ходом он не побоится выйти на любую дорожку. Кого бы Кронго мог поставить сейчас с собой рядом, в борьбе за воображаемый Приз? Теперь на мировой арене царят новые наездники, Генерала давно уже нет. Кого же он хотел бы опередить? Лучшую лошадь Франции? Да, конечно. Победителя Кубка Глазго этого года? Кроме того, есть один австралиец, о нем писали… А Ганновер-Рекорд, непобедимый американец, не уступавший еще никому? Да, Ганновер-Рекорд… Наверняка он будет записан в этом году на Приз. Ведь должно же когда-то прекратиться это фамильное невезение, которое преследует их в Призе. Он, Кронго, не мальчик. Если бы он шел рядом со всеми этими лошадьми, с Ганновером и австралийцем, он смог бы разложить на составные части бег каждой из них. Он не торопился бы и не выжимал из Альпака все. Хотя знает его беспредельную силу, безграничную, если пустить эту силу на полный ход… Он бы спокойно прошел первый поворот. На той прямой он даже отпустил бы вперед Ганновера, но не больше, чем на полкорпуса… Ни в коем случае не больше. Остальных можно не брать в расчет, он это знает. Даже австралийца. Да — вот он представляет себе весь заезд. Сейчас он делает только негромкий щелчок языком, и тугой ветер сразу сбивает тело назад. Но если бы перед ним был Ганновер, Кронго мог бы сказать своему мышастому любимцу несколько слов. Только не говорить их сейчас, забывшись… Какой чистый ровный ход… Это и есть секунда счастья. Он бы сказал первое слово. Оно звучало бы примерно… «Альпак», И потом, при выходе на последнюю прямую, повторил бы: «Альпак, мальчик…» И уходящий назад вспененный профиль Ганновера, только уходящий назад… И уходящие назад трибуны, и дробный цокот преследователей сзади, вплоть до финишного створа… Это и называется — Приз. Его Приз…
Да, наверное, это, и только это, есть счастье. Кронго, словно очнувшись, увидел звезды и подумал о таракане, все еще мелко семенящем лапками по его коже. Он поднял руку, стряхнул таракана на ладонь. Насекомое застыло, осторожно поводя усиками. Двинулось вперед, снова застыло, повернулось в одну сторону, в другую. А как бы вел себя он, Кронго, оказавшись на чьей-то ладони? Так же, как этот таракан? Но разве не нелепо, что он, взрослый человек, рассматривает сейчас это насекомое? Кронго забросил таракана в кусты и снова растянулся в шезлонге. А звезды? Ведь так же он может спросить себя — не нелепо ли, что он рассматривает эти бесчисленные светящиеся точки. Этот хворост, ровно горящий наверху. Но он не может взять одну из этих точек, как таракана, и раздавить.
Думая об этом, Кронго увидел Бланша. Кронго понял, что спит, но тем не менее спросил:
— На каком вольте вы делали проскачки?
Бланш улыбнулся в ответ, и Кронго увидел, что находится на ярко освещенной большой площади в незнакомом городе, а Бланша уже нет, играет музыка, и он ясно чувствует, что происходит какое-то торжество, потому что в центре этого торжества — он, Кронго. Он сидит на белой лошади, а другую, темно-вишневого цвета, ведет за собой в поводу. Потом площадь превратилась в длинный узкий тоннель, а лошади — в двух деревянных лошадок, крохотных, не больше его ладони. Он попытался поставить этих лошадок на пол тоннеля, но пол был наклонным, и лошадки падали, соскальзывая в одну сторону. Кронго ставил их снова и снова, но они все падали, пока наконец одна из лошадок не дернула копытом, твердо поставив ногу. Это копыто словно прилипло к наклонному полу, за ним потянулось второе, третье, четвертое… Лошадка пошла, и Кронго стало легче.
— Нельзя, нельзя.
Это брат Айзек, Кронго узнал его румянец, его черный сюртук, воспаленные глаза.
— Но почему нельзя?
Но брата Айзека уже нет, и Кронго оказывается в новом сне и испытывает странное щемящее чувство в этом странном месте, которое все называют «распределителем». Это — покорность и сознание, что все это есть и наяву, и он даже почти наверняка знает, что это есть наяву, он с этим уже как-то знаком, потому что доставал, именно доставал продукты для Филаб, а может быть, доставала, Фелиция, — и в то же время Кронго понимает, что это во сне. Слово «давать» часто и негромко повторяли те, кто стоял рядом с ним. Присмотревшись, Кронго увидел, что это большая темноватая комната, тесно заставленная рухлядью, картонными ящиками, старой мебелью, но среди этой рухляди каким-то образом стоит большая очередь. Седая пожилая дама… Мулатка с сумкой… Ну да, конечно, он их знает. И мулатку, и даму. Старичок европеец с палкой. Кронго с каким-то облегчением узнал в человеке, стоящем между мулаткой и стариком, своего отца. Но ведь отец умер, спокойно подумал он, и тут же со странной легкостью ответил сам себе — ну и что же, что умер? Кронго увидел, что, несмотря на то что комната глухая и темная, одна стена у нее стеклянная. На этой стене, выходящей на оживленную улицу, висит небольшая табличка, на которой написано: «Почта». Так вот почему никто сюда не заходит, подумал Кронго. Все думают, что это почта, а не распределитель. У входа в комнату, как раз у вывески, стоит высокий негр с гвоздикой в петлице. Он улыбается и что-то беззвучно объясняет прохожим. Кронго по движению его губ понимал, что он объясняет, — что входить нельзя, но самих прохожих Кронго не мог разглядеть. Мулатка оглянулась, косясь на Кронго. Он явственно услышал слова, которые она шептала кому-то:
— Ты знаешь, я лучше возьму индейку… У моего мужа спецлимит, ты подержи очередь, лучше подождать… Индейку… Индейку… Они выбрасывают самое плохое, а уже потом… Ты понимаешь, икра, масло, твердая колбаса…
Увидев, что Кронго на нее смотрит, она зашептала совершенно беззвучно, но Кронго некоторое время еще слышал слова «твердая колбаса». То, что произошло дальше, немного испугало его — но потом испуг и оцепенение, охватившие Кронго, прошли, исчезли. Отец, стоящий за мулаткой, повернулся и, улыбаясь, пошел к нему. Кронго ясно видел его лицо, оно было таким же, каким Кронго всегда его помнил, — улыбающимся, веселым. Только не было жокейской шапочки, которая была обычно на отце. Кронго уже приготовился объяснить, что это распределитель, тут дают продукты по талонам и он стоит здесь за продуктами для Филаб. Кроме того, он хотел сказать отцу, что нисколько не удивляется, что встретил его, что он понимает, что это сон, — и в эту минуту понял, что к нему идет не отец, а чужой пожилой европеец в полотняном костюме. Он разглядел большое родимое пятно под носом европейца. Европеец поклонился и сказал, одновременно улыбаясь мулатке:
— Заходите в гости… только тихо, тихо, пожалуйста… безобразие, выпустили джинна из бутылки, раздувают вражду… Все ненавидят друг друга, черные белых, молодые старых, приезжие местных… Я могу вам уступить половину своего пайка, я пришел из-за крупы… Остальное ликвидировано…
Знакомый, конечно, знакомый, подумал Кронго, покрываясь липким потом от страха. Надо вспомнить, и все пройдет. Но он не помнит его. Европеец поднял ладонь, помахал ею так, будто подбрасывал что-то. Кивнув, отошел в сторону, опять удивительно напомнив Кронго отца. Но это же сон, думал Кронго, он пытался вырваться из тесной комнаты, из липкого страха, понимая, что вырвется только тогда, когда вспомнит, откуда и почему он знает европейца с родимым пятном… Кажется, это аптекарь. А может быть, это его сосед по переулку, да, да, только кто он… Надо придумать, надо придумать, повторял Кронго, и неважно, правда это или нет. И, только подумав это, он проснулся и понял, что лежит в шезлонге. Наверху тихо висели звезды. Почему каждая деталь этого сна так отчетливо стоит перед ним? Он помнит каждое слово. «Остальное ликвидировано». Кронго вгляделся в звезды. Да, они изменили свое положение. Чайки уже не кричат, слышен только шум волн… Значит, уже около двух… Или трех… Что же ему мешает? Кронго вспомнил — Пьер. Он должен пойти к Мулельге, открыться ему. Почему к Мулельге? Но к кому-то он должен пойти. Почему ему приснился отец… Говорят, это что-то значит, когда снятся родственники. И, подумав об этом, Кронго понял, что он на веранде не один.
— Извините, — тихо выдохнул в ухо Поль, чуть тронув его руку и заставляя подняться. — Пожалуйста, тише. Я открою дверь.
Кронго узнал лицо Поля, хотя было темно. Поль расплылся где-то около прихожей, показал рукой — можно идти. Поль и Лефевр, они здесь. Они боятся кого-то разбудить… Значит, они давно уже на веранде. Может быть, они и разбудили его.
Кронго, еще не проснувшись, пошел за Лефевром, чувствуя шорох одежды, дыхание. Калитка открыта, перед ними пустой переулок… Все темно, ни одного огонька. Значит, около трех…
— Тихо? — Лефевр опустил воротник куртки.
Зачем они пришли за ним ночью? Зачем он идет за ними?
— Да, — Поль провел их к глухой улочке за кофейней, помог Кронго сесть в «джип». Лефевр долго шуршал чем-то, устраиваясь сзади.
— Куда мы едем? — Кронго спросил это не потому, что хотел знать, куда они едут, а чтобы хоть что-то спросить.
— Сейчас, мсье, сейчас, — Поль бесшумно повернул ключ зажигания, было неясно, как он видит в темноте. Машина глухо зашумела, тронулась с выключенными фарами. — Сейчас, мсье, мы скоро будем на месте.
Знакомый небоскреб — безмолвный, ни единого огонька. Было отчаяние. Но сейчас его нет, эти двое, появившись, отобрали его. Зачем? Они едут быстро, очень быстро. Мелькнуло — Пьер. Что же у него было до этого момента? Сон. Неподвижные звезды. Таракан. Что еще? Ах да, отчаяние.
— Сюда, — Поль легко притормозил. Вынул ключ, подождал, пока сойдет Кронго.
Они прошли через стеклянную дверь, свернули в коридор. Теперь Кронго увидел, что, хотя с улицы казалось, что небоскреб пуст и все окна темны, здесь, в слабо освещенном холле первого этажа, ходят люди, за конторкой сидит пожилая блондинка. При их появлении она привычно кивнула, записала что-то.
— Господин комиссар, — Лефевр кашлянул.
«Да, да», — послышалось за дверью. Неясный страх охватил Кронго. Он не заметил, как они подошли к этой двери. На ней написано «Медслужба». Он понял, отчего этот страх — от этих мелких металлических букв. Но есть спасение, и это спасение в том, что он расскажет Крейссу о Пьере. Ему будет легко это сделать, потому что он твердо знает, что Пьер не человек Фронта, а жулик, жулик с блудливыми глазами. Он сейчас же скажет Крейссу. Но почему это слово — медслужба. Лефевр нажал ручку. Неярко светит настольная лампа. За столом Крейсс, он сидит в кресле, в руках у него зажигалка.
— Ну как? — Крейсс чуть кивнул Кронго.
В комнате прежде всего бросались в глаза плотно задернутые коричневые шторы, которые сверх того еще закрывала большая простыня. Края простыни были в нескольких местах заколоты английскими булавками. В углу стоял белый медицинский шкаф, на нем висел халат.
— Держусь на одном кофе, — Крейсс отхлебнул из чашки. — Кронго, кто из ваших может работать на Фронт?
— Что? — переспросил Кронго.
— Я знаю, что вам не до этого, просто хочу проверить… Для себя… Не хотите?
Крейсс развернул лист.
— Сейчас, сейчас… Да, кстати… Альпак… Альпак в хорошем состоянии?
— Альпак… — Кронго почувствовал усталость.
— Сейчас объясню, — Крейсс огляделся. — Что вы скажете об Амайо? Вряд ли? Да, вряд ли… А Тассема? Да, тоже нет. Ассоло? Тоже нет. Да, он слабоумный, я видел его… Хотя слабоумный… Но отложим. Давайте переберем новых. Литоко? Вам не показалось… — Крейсс улыбнулся. — Я хотел просить вас об услуге… Хотел просить… Самому повести Альпака, когда мы разыграем Приз Дружбы. Это будет событие, и я хотел бы… Вы посоветуете мне, кого пригласить. Мы можем пригласить любых лошадей… Лучших лошадей мира. Понимаете — лучших. А агент Фронта — черт с ним. Мы найдем его сами.
Крейсс замолчал, помаргивая, и Кронго почувствовал, что не должен говорить. Крейсс дает ему понять, что он должен подождать, пока снова заговорит он сам, потому что то, ради чего его привезли сюда, еще не сказано. Теперь он понимает Крейсса, понимает его паузы, подергивания подбородком.
— Скажите, Кронго, Альпак сможет провезти крытую бричку с двумя людьми? Двумя — не считая вас?
— Крытую бричку?
— Кронго, это недалеко, километров двадцать.
Кронго попытался понять, что же хочет от него Крейсс. Альпак должен везти кого-то километров за двадцать. Кронго взял стоящую около него чашку, отхлебнул. Он должен сказать что-то, потому что Крейсс ждет ответа. Альпаку что-то грозит. Иначе бы они не приехали за ним ночью. Но что может грозить Альпаку?
— У нас много других лошадей, — надо говорить спокойно, так, чтобы Крейсса убедили слова Кронго. — Ничуть не хуже, хороших в ходу на любой дороге. Я поеду с вами, если это нужно. Но Альпак… Альпак, вы сами понимаете, призер. Я не вижу необходимости заставлять его бежать такое расстояние.
— Кронго, я все-таки настаиваю на Альпаке. Дорога будет очень хорошей. Не бойтесь, с жеребцом ничего не случится. Мы не будем гнать. Это будет легкая прогулка.
Альпак, Альпак… Зачем же ему нужен Альпак?
— Не хотите… — Кронго показалось, что Крейсс с каким-то особым значением разглядывает белый халат. — Сделайте мне эту услугу, Кронго. Вот и хорошо. Спасибо, Кронго.
В странном направлении движутся его мысли. Ему совершенно непонятно, почему Крейсс хочет ехать куда-то в крытой бричке, а не в машине. Непонятно, почему Крейсс настаивает, чтобы именно Альпак вез его в крытой бричке. Но ведь Пьер, может быть, не жулик, подумал Кронго, и, значит, он может не говорить пока Крейссу о Пьере. Это будет как бы платой за то, что он согласится на поездку Альпака.
— Теперь ответьте мне, Кронго: ваши лошади все время находятся на ипподроме?
— Да, — Кронго подумал, чтобы вникнуть в смысл собственного ответа. — Все время. Конечно.
Но ведь это не так.
— Нет. Конечно, нет. С лошадьми происходит всякое. Бывает, мы продаем их. Бывает, отправляем на конный завод в Лалбасси.
Лефевр хмыкнул. Крейсс торжествующе переглянулся с ним.
— В Лалбасси? Вот как… Ну да, у вас же там конный завод. Как вы отправляете их? В машинах?
— В автофургоне.
— Всегда в автофургонах?
— Всегда? — Кронго пожал плечами. — Бывает, своим ходом. Это близко. Но призеров мы туда отправляем редко.
— Конечно, своим ходом, — Лефевр осторожно взял зажигалку Крейсса и прикурил. — Сейчас с машинами стало плохо.
— Вы можете оказать большую услугу государству. Впрочем, это все чушь. Для вас это не играет роли, — Крейсс помедлил. — Просто… это моя большая просьба. Вы поедете сейчас на ипподром, скоро будет пять, обычное ваше время… Никто не должен знать, что мы с вами виделись… Ни в коем случае… Занимайтесь своими делами… Вы долгое время не имели связи с Лалбасси… В том, что вы поедете туда с Альпаком, не будет ничего необычного. Так ведь? Ведь когда-то нужно туда ехать… Не обязательно в автофургоне… Тем более с ними сейчас трудно… Заложите Альпака к двум часам. У вас есть крытые брички?
— Крытые брички? — Кронго попробовал вспомнить. — Да, конечно. Кажется, есть… Старые.
— Это не имеет значения. Главное, чтобы бричка была крытой. В два вы должны выехать с ипподрома на Альпаке… В сторону Лалбасси, но по дороге чуть замедлите шаг на Нагорной улице, около дома двадцать восемь. Вот и все.
— А не будет ли это… — Лефевр поднял брови.
Крейсс посмотрел на часы. Но зачем Крейссу нужен Альпак? Почему именно Альпак, а не другая лошадь?
— Кронго, вы все запомнили? Вы помните, где вы должны замедлить ход? Нагорная, двадцать восемь.
Лефевр смотрит мимо Кронго, хотя сидит прямо перед ним. Можно сказать, что Альпак болен. Нет, они, конечно, проверят это. Он должен что-то ответить. Но, в конце концов, двадцать километров средним тротом в Лалбасси — ничего страшного. Дорога хорошая, сейчас сухо.
— Кронго, ваша машина ждет во дворе. Мы не виделись, я вас очень прошу, запомните это. Вы все поняли? В два часа. Постарайтесь быть точным. Нагорная, двадцать восемь.
— Да, — странно, но при этом ответе Кронго не чувствует угрозы чему-то в его жизни, угрозы Альпаку. Только если он действительно поедет сегодня в Лалбасси, надо предупредить, чтобы с Альпаком с утра не работали. — Да, хорошо… Если… Конечно, конечно… Да, конечно…
— Спасибо, Кронго… — глаза Крейсса опустились, разглядывая что-то на столе. — Спасибо, Лефевр, проводите директора.
На улице было все так же темно, но в неясной синеве чувствовалось утро. Знакомый «джип» у ворот, шофер-ньоно, навалившийся на руль, стены соседних домов — все вокруг было облеплено густым влажным воздухом, синим, прохладным, тяжелым, как глина. Спинка сиденья прижалась к его лопаткам. Приз Дружбы. Любая лошадь. Ганновер-Рекорд. Звезды, которые вечером стояли над головой, теперь слабо блестят где-то у линии горизонта. Они стали мелкими, и то, что казалось недавно бесконечным черным провалом, теперь стоит плоской голубеющей доской, твердо наклонившей этот затейливый рисунок над океаном. И этот рисунок сопровождает его до ипподрома.
О Призе Дружбы и о том, что можно пригласить сюда любую лошадь и даже Ганновера-Рекорда, Кронго думал, начав обход, здороваясь с конюхами и наблюдая за тем, как выводят лошадей из рысистой конюшни. Ведь то, что сюда приехали бы лучшие лошади мира и он смог бы выставить против них Альпака, было бы почти счастьем. И это счастье он получает как бы в обмен на то, что согласился на предложение Крейсса. Пусть этим он совершает что-то нечистое, похожее на подлость, он еще не понимает какую, — но ведь за счастье надо чем-то платить. Всегда. Значит, надо пересилить себя и совершить что-то, не обязательно называть это подлостью, что противно тебе, несвойственно. Кронго видел легкие мечущиеся тени рысаков, слышал короткое пошаркивание копыт по дощатому настилу, спокойное пофыркивание, привычные окрики.
— Чиано, Чиано… — одна из легких теней остановилась около Кронго, он ощутил губы Альпака на своей шее, увидел черное, покрытое лишаями лицо улыбающегося Чиано. Серебристая щетина перекатывается по отвислой коже второго подбородка, глаза моргают, с готовностью вглядываясь в Кронго. — Чиано, сегодня работать с Альпаком не будем. Дайте кому-нибудь поводить его. Выберите старую бричку, полегче, крытую. И переставьте туда оглобли с его качалки.
— Как можно, месси? — губы Чиано расплываются. — Как можно не работать? Далеко, месси? В Лалбасси?
Серо-голубой воздух над полем ипподрома неподвижен. Видно, как кто-то уже выехал на дорожку и подает лошадь голосом.
— Да. Заложим около двух. Как он?
— Веселый, месси, совсем веселый. Хорош. Глаза блестят, я вошел, как шарахнется, хорошо, денник не разломал… Это верно, надо в Лалбасси, месси, надо, правильно… Сил накопил, куда столько… Надо в Лалбасси… Там кобылки молодые, он полюбит…
— Хорошо, хорошо, Чиано. Значит, вы все поняли…
Он должен работать. Должен работать, несмотря ни на что. Но почему — ни на что? Ведь ничего не случилось. Все в порядке. Сейчас он обойдет конюшни. Потом манеж. Надо последить, как работают конюхи. Там есть два хороших жеребенка. Один буланый, у него не прошла еще юношеская костлявость. Но при этом стать жеребенка удивительно ровна, он высок в холке, линии длинные, круп обещает вытянуться чуть не в половину спины. Ну вот, сегодня до двух у него много дел, и уже светает. Он вспомнил слова Крейсса — замедлить ход на Нагорной улице. Зачем? Что за нелепость, глупость. И зачем замедлить ход? Ганновер-Рекорд, австралиец, победитель Кубка Глазго. Липкий дощатый пол скаковой конюшни чуть проскальзывает под ногами. Половина денников пуста, в ноздри бьет острый запах конской мочи. Из окон под потолком расплывается неясный свет. Слышно, Как идет уборка, о пол дальнего денника неприятно царапают грабли. Что-то заставляет Кронго повернуть голову. На двери денника картонная табличка, углем неровно выведено «Перль». Уже проходя мимо, он замечает в распахнутой двери мерно двигающееся гибкое тело, белая рубашка для удобства разорвана на груди и кое-как заправлена в жокейские брюки.
— Месси Кронго…
Амалия. Да, это Амалия. Встретив его взгляд, она отворачивается и, будто пытаясь скрыть что-то, снимает щетку с крупа Перли, кладет на перегородку. Медленно запахивает края рубахи — так, чтобы не был виден коричневый нежный живот и плавная длинная впадина на груди.
— Амалия, вы жокей, вы не конюх… Зачем вы моете лошадь?
Глаза посмотрели на него и снова уплыли вбок.
— Месси… — тонкая нежная кисть пытается сцепить края рубахи у ворота, пальцы вздрагивают. — Я привыкла в цирке… Я хорошо ухаживаю… Поверьте, лошади любят меня… Вы не сердитесь, месси, так только лучше… Она привыкла ко мне…
Амалия на секунду взглянула на него и тут же отвела взгляд. Он вдруг вспомнил голубую доску неба, странно наклоненную над океаном.
— Месси, тише, пожалуйста, я все утро хочу вас увидеть… Месси… Если вы были у Крейсса, я очень прошу, скажите… Это очень важно. Вы были у Крейсса?
Она тронула его за локоть и тут же убрала руку. Она смотрит ему в глаза, и он понимает, что она видит, что он был у Крейсса. Откуда она знает Крейсса? Этого не может быть, он ослышался. Но он вдруг понимает, что не может оторваться взглядом от этого мягкого подбородка, от вздрагивающих выпуклых губ, раздвоенно и плавно переходящих в маленький нос, от продолговатых удивленных глаз, от груди, просвечивающей сквозь рубашку, стройных ног.
— Я не понимаю, о чем вы говорите, Амалия.
— Он никуда не просил вас поехать?
Лицо ее изменилось, твердости на нем уже нет.
— Скажите, месси… Я знаю, вы приехали не из дома.
Зрачки Амалии снова сдвинуты вбок. Она стесняется, боится. Это стеснение выражено в ее ладони, нервно вцепившейся в другую ладонь, в уходящих в сторону глазах, в неумело и жалко растянутых, по-детски вздрагивающих углах губ. Слитно с этим Кронго видит лицо женщины, еще не уверенной в себе, но знающей, как она хороша, как красива, пока не знающей, что взгляд любого мужчины с охотой отзовется на эту красоту, но уже чувствующей это. Тусклый луч из-под крыши осветил ее нежную щеку, матово-гладкую, и рядом с ней — разрезанные трещинами обветренные губы и чуть наметившуюся трещинку между губами. Зубы в этой трещинке густо покрыты слюной. Амалия сейчас похожа на причудливый цветок, она — часть какого-то скрытого сияния, и Кронго жадно, постыдно-бесконечно рассматривает ее.
— Месси Кронго, выслушайте меня… — лицо Амалии вдруг становится холодным, почти сердитым. — Я не знаю, на чьей вы стороне, но вы должны выслушать. Не перебивайте. Вы не знаете, кто такой Крейсс. Может быть, вам он сделал добро. Не перебивайте, месси, выслушайте, я вас очень прошу… Это лиса, дьявол, мы никогда не знаем, когда он выезжает, когда и где будет проезжать. Я не хочу призывать перейти на нашу сторону. Я хочу только, чтобы вам было понятно, почему мы должны убить Крейсса… Его приговорили, и он должен быть убит. Простите, может быть, я… но тысячи жизней… — она запнулась. — По-другому нельзя объяснить.
— Амалия… — Кронго еще не знал, что ей ответить, он пытался сломать ее застывшую маску, увидеть трещинку, увидеть, что ее подбородок опять морщится. Она кого-то любит, если есть эта трещинка, подумал он. — Амалия, вы кто?
Она смотрит сквозь него, мимо него, не замечая.
— Навоз, — уголки ее губ мелко задрожали и застыли. — Навоз, перегной, удобрение, месси Кронго…
Он увидел ее глаза. Они блестели, из уголка одиноко и криво ползла слеза.
— Навоз… — ее голос сорвался, стал хриплым. — Но лучше быть удобрением, месси, чем… Чем то, что хотят из меня сделать. Чем они представляют… Меня, вас, всех… Я мечтала быть жокеем, я мечтала быть жокеем… клянусь… красоту… Я мечтала… Я любила красоту… На удобрении вырастают розы, это глупо, что я сейчас так.. Но это так… Я мечтаю, слышите, мечтаю, месси… Я хочу быть навозом, раствориться, исчезнуть… когда я была маленькой… Они не имеют права, они не имеют права так смотреть на меня, так переглядываться, какое они имеют право…
Ее лицо беспомощно сморщилось, она неловко припала к нему, вцепилась в его руку, плечи ее судорожно вздрагивали, мелко тряслись, она продолжала что-то хрипеть ему в грудь, сразу намокшую от слез.
Он видел, как ее пальцы вцепились в его рубашку, ощутил цепкое жесткое сжатие.
— Простите… месси… я больше… не могу… не могу… — всхлипывание дрожало где-то у его груди. — Они маму… Маму, вы понимаете… — Амалия прикусила его за плечо, вцепилась ногтями. — Маму… Я им за все, месси… За все, поймите, за все… Простите, месси… Простите меня, месси…
Она молча затряслась у него на плече, затылок ее вздрагивал, он чувствовал, как острая ключица бьет его по груди.
— Амалия… Амалия… Ну что же вы так… Ну что же вы… — не зная, что сказать, он неумело пытался вытереть ее слезы, подсунуть платок туда, где скрипят зубы, туда, где губы и нос плотно прижаты к его мокрой насквозь рубашке. Спина Амалии, узкая, худая, с выступающими лопатками, вздрагивала и тряслась под его ладонью. — Ну, хорошо, хорошо… — Кронго сам не понял, как появились эти слова, но почувствовал, что сейчас он должен говорить именно так. — Ну, поплачьте… Поплачьте… Ну, вот так… Вот так… И все будет хорошо… Все будет хорошо…
Он перевел дух, прислушиваясь, как переступает копытами Перль.
— Сс-сволочи… — опять выдавила Амалия.
— Сволочи, я сам знаю, что сволочи… Ну, не надо, не надо… Не надо, маленькая… Не надо, хорошая моя… Не нужно плакать, не нужно плакать… Не нужно… Тише.
Вздрагивания ее лопаток с каждым словом становились все тише, слабее. Наконец ему удалось подсунуть платок, он почувствовал, что она, как маленькая, тычется в этот платок носом. Он так же, как маленькой, легко сжал сквозь платок ноздри, они дрогнули, она слабо высморкалась, и он, закатав платок в шар, осторожно вытер ее щеки, чувствуя, как шар густо намокает, становится влажным, скользким и теплым.
— Ну, Амалия… — тихо сказал он, прислушиваясь — нет ли шагов в проходе. Она затихла, изредка всхлипывая. — Амалия… Ну и все… Ну и все… Ну, тише… Тише… Вот и все…
— Простите, месси… — она осторожно отобрала у него платок, прижала ладонями к лицу, так, что сквозь пальцы Кронго еле разглядел ее глаза. — Простите, я просто… Просто…
Она всхлипнула, вытерла платком нос, щеки, попыталась улыбнуться.
— Все в порядке… — Кронго понял, что именно он должен ей ответить, и ответить не потому, что она плакала, а потому, что он хочет ответить только так, а не иначе. — Все в порядке.
— Да, да… — она как-то странно улыбнулась, ему стало легко, он вдруг провалился в ее глаза, бесстыдно поплыл в них, отчаянно пытаясь вырваться, барахтаясь, потому что то, что он решил сделать, он должен был сделать не потому, что были эти глаза, а совсем по-другому, совсем по иной причине.
— У нас нет времени, — она сказала это, пересилив себя. — Месси Кронго, у нас нет времени. Что вам сказал Крейсс?
Взгляд ее становился жестче, и Кронго поймал себя на том, что ему радостно видеть, как рот ее кривится, будто от острой боли, он рад, что она ощущает боль, что ей мучительно говорить с ним и что ее взгляд бессильно пытается оттолкнуть его. Кажется, то, что он хочет сделать, сразу переносит его в другую плоскость жизни, уничтожая все другие законы. Но разве есть другие законы? Закон Амалии, закон Крейсса, закон пресвитера, закон Филаб? Да, есть, и он сейчас оставляет себе только один свой закон, до которого им теперь нет никакого дела, закон Кронго. Ведь тогда он должен решиться на смерть, на возможность смерти. Вот он пока еще в их законах. Но вот он перенесся в свой, показавшийся ему страшным закон — и все стало чужим, лишним, посторонним. Воздух, тот, что светло и отстраненно окружил его, Перль, шарахнувшуюся к стене денника, Амалию под окном, ее глаза, запах конюшни, собственное тело, эту доску с мелкими глазками сучков, просмоленную коричневую уздечку на гвозде, кормушку — все это он ощутил посторонним. Одно короткое усилие — и он снова оставляет свой далекий холодный закон, он снова с Амалией, снова видит ее взгляд, ее вздрагивающие потрескавшиеся губы, ее ноги, ее грудь под рубашкой. Но ведь и она должна чувствовать то же самое. Конечно. Как он об этом не подумал. И для нее воздух становится на это время светлым и чужим.
— Крейсс просил меня выехать сегодня в два часа дня в Лалбасси, — тихо сказал он.
— И больше ничего?
Он видит — и она в это время чувствует то же самое. Почему от этого легко?
— Крейсс просил ненадолго замедлить ход на Нагорной улице, у дома двадцать восемь.
Ее неумелость, неопытность помогают ему.
— Вы поедете на машине?
Он увидел проблеск страха в ее глазах.
— Нет. Крейсс просил взять крытую бричку и запрячь в нее Альпака.
Странно, но этот страх его успокаивает.
— Альпака?
— Да. Только Альпака и никакую другую лошадь.
— Сволочи… — Амалия заплакала, вжала голову в плечи, ударила кулаком по перегородке. — Сволочи… Альпака…
Она беспомощно прислонилась лбом к его щеке, застыла.
— Кронго… Давайте поеду я… Слышите, Кронго… Вы что-нибудь наврите им… Скажите, заболели… Слышите, Кронго… Я умоляю вас… Давайте поеду я…
Он слышал ее неясный шепот у самого уха, почти ощущал легкое прикосновение шевелящихся губ. Это уже не шестнадцатилетняя девочка, подумал он, это женщина, но почему эти шевелящиеся губы я чувствую со стороны?
— Зачем? Зачем — вы? Амалия?
— Как вы не понимаете… — он снова почувствовал беззвучное шевеление ее губ. — Они специально… Альпака… Чтобы… Чтобы вы никому не сказали… С вами поедет Крейсс… Неужели вы не поняли… Вы за Альпака… Они… Вы не скажете…
Он почувствовал, как шершавая холодная кожа ее лба нежно трогает его щеку. Теперь он понимал, что она хочет ему сказать и почему просит поехать вместо него. Ему страшно, но стоит ему перейти из общего закона в свой, как страх пропадает и все предметы, и сам воздух — все становится светлым, посторонним, не относящимся к нему. Он вдруг почувствовал губы Амалии, и это было неожиданно. Губы мягко тронули его шею, поднялись по подбородку. Вздрагивая, касаясь кожи на каждом сантиметре, медленно подобрались к его губам, вздрогнули, будто желали и не смели к ним приблизиться. Осторожно и неумело прильнули к ним. Он чувствует, — может быть, это и не первый поцелуй, но это первый т а к о й поцелуй в ее жизни. Но он не ощущает жара и бреда бесстыдства, а только осторожное и нежное прикосновение, легкое и несмелое. Но каким-то образом оно оказывается сразу жестоким и уверенным и тут же по-детски хрупким, беззащитным, слабым. Страшно подумать, но я ведь люблю ее, остро ощутил Кронго. Люблю — после Ксаты… А может быть — Амалия и есть Ксата? Он чувствовал настороженное, таинственное прикосновение губ, и в нем, в этом прикосновении, были одновременно шершавость, легкость, тепло… Лошадиный круп у глаз пятилетнего мальчика, веселая улыбка отца, пощечина, полученная в Париже, скачка на Пейрак-Аппиксе, ожидание фотофиниша, зеленый «лендровер», жареные щеки Крейсса во сне, волдыри на губах пресвитера, звезды, ползущий по его руке таракан… И снова несмелый поцелуй, осторожное прикосновение ее губ, шершавых, холодных, добрых, детских, безжалостных, бесстыдных, странное расплытие в груди, пронизывающее его существо, вызывающее ярость, гнев, доброту, полет над звездами… Снова осторожное и нежное прикосновение, сильное, беззащитное, преданное, — и это одновременно с тем, что он чувствует ее грудь сквозь рубашку, ее напрягшиеся ноги… Но она никого никогда так не целовала, никого… Представляет ли она, что делает с ним это прикосновение, куда уносит его, представляют ли это ее блестящие огромные глаза, которые сейчас смотрят на него — вплотную, застывшие, жалкие и безжалостные, глаза, перед которыми нельзя врать и с которыми можно только плыть, плыть над висящими внизу звездами, плыть бесконечно, и снова ощущать это прикосновение, эту таинственную и нежную доброту, колдовство двух поверхностей, двух шершавых лоскутков кожи, на долю секунды навечно прильнувших к его губам…
— Нет, Амалия… — он силой вырвался из поцелуя. — Мы не должны этого… Сейчас… По крайней мере сейчас… Амалия… Ну, Амалия… Амалия, я сейчас поеду… На Альпаке… Я поеду, я должен поехать…
— Да, да, конечно, — она жалко улыбнулась. — Как тебя звала мама?
О чем она спрашивает? Как его звала мама? Кронго вспомнил мать — мать в то время, когда ему было пять лет. Округлые негритянские глаза, знакомые добрые губы… Он понимает, почему Амалия спрашивает его сейчас об этом. Вместе с глазами матери в его памяти всплыли все слова, которыми мать звала его маленьким. Маврик… Мавричек… Маврянчик… Тебе не стыдно, Маврик. Иди сюда, Маврик.
— Маврик.
— Маврик? — Амалия проглотила комок в горле, улыбнулась. — Можно, я буду так тебя звать? Иногда?
Вот это он и запомнит — улыбку Амалии и то, как она по-детски неумело спрашивает: «Можно, я буду так тебя звать?»
— Я не знаю, что будет с нами… — она смотрела ему в глаза, и он видел в ее глазах боль. — Вот… ты это умеешь?
Кронго почувствовал прикосновение теплого металла к ладони, еще не глядя, сжал неудобно прильнувший к руке предмет. Она держит пистолет за дуло, словно боясь совсем передать его ему, и он пытается разглядеть синий блестящий ствол, спусковой крюк, оказавшийся под его пальцами.
— Ты умеешь?
— Нет, — он не понимал, почему то, что она передала ему пистолет, успокаивает его, не пугает.
— Он уже заряжен… Нужно только оттянуть вот это… — она легко оттянула предохранитель, и Кронго увидел, что ее пальцы почти без усилия делают это. — Попробуй… Возьми…
Но вдруг все, что происходит, — ложь? Она обманывает его, и ей нужно было только, чтобы он сказал ей о Крейссе? Кронго крепко сжал рукоятку, взялся за металлическую нашлепку над ней, потянул. Пальцы почувствовали, что нашлепка поддается, потом соскользнули. Предохранитель негромко щелкнул. Но, может быть, это даже лучше, потому что и без нее он понимает — он должен был сказать ей и должен поехать.
— Но зачем? Зачем это? — он снова взялся за предохранитель.
Нет, все, что она говорила, не может быть ложью. Но он ревнует ее. Ревнует ее ко всему. И — к пистолету, который она так умело и ловко взяла. Ревнует ее к тому, с чем она так легко и свободно обращается, — к смерти.
— На всякий случай… — она тронула его за плечо. — Я скажу нашим… так, чтобы они… Чтобы они знали, что ты… Они позаботятся… Ты не волнуйся, все будет хорошо… Вот только Альпак. Я боюсь… Если будут стрелять, ты сразу… Сразу на землю…
Кронго наконец удалось оттянуть предохранитель.
— Так?
— Да. И нажать курок, — она обняла ладонями его руку с пистолетом. — А теперь спрячь.
Он поставил предохранитель на место, засунул пистолет во внутренний карман куртки.
— А теперь… — ее глаза стали совсем бессильными. — Уходи… Слышишь, кто-то входит в конюшню… Ты не волнуйся… Скажи Филаб… Твои мальчики… Оба… Целы… А Филаб… Она будет в надежном месте… С мальчиками… Все в порядке… Они у наших… Уходи… Сюда идут… Уходи, милый… Слышишь… Я навоз…
Ее губы дрожали, она вцепилась в его руку.
— Если ты… Если все будет в порядке… Не подходи ко мне, не подходи… Нас не должны видеть… Я сейчас уйду… Незаметно… Уходи, милый, уходи…
Последнее воспоминание — ее растерянные глаза у стены денника.
Закладной сарай был открыт, и Кронго увидел крытую рессорную бричку, в которой он должен был ехать, — старую, одноосную, с низкими деревянными бортами, покрытыми облупившейся зеленой краской. Брезент, натянутый на дуги. Оглобли были заменены привычными для Альпака, ось у колес, втулки и рессоры покрыты свежим дегтем, его резкий душистый запах заглушал остальные — кожи, дерева, лошадей. Амалия уже ушла, думал Кронго, стоя у входа в сарай. Ее наверняка нет уже на ипподроме, и наверняка никто не видел, как она вышла отсюда. Он чувствовал себя лучше. Сейчас нет страха, той отстраненности, которая пугала его, просто он будет думать еще какое-то время о ней… Об Амалии…
— Месси, можно подавать?
Мулельге и Чиано ведут от манежа Альпака. На жеребце хомут с седелкой. Альпак медленно переступает длинными черными ногами, изредка балуясь, дергает головой, пытаясь вырвать уздечку из рук Чиано. Видно, что наступившая жара для него неприятна, Альпак несколько раз присел, недовольный медленным ходом. Каждый раз при этом круглые мышцы его ног в том месте, где черный чулок постепенно пропадал, дробились и вздувались, напряженно перекатываясь под кожей. Но почему Кронго не только мучительно, но и приятно думать, был ли взгляд Амалии, дрожь ее губ, объятье ее рук? И — было ли все это ложью? Или было правдой? Мучительность и сладость происшедшего в деннике, — может быть, он все это только представил себе? Нет, для Амалии это не могло быть привычным, это было нелегкой, мучительной ношей, она еще не знает, не открыла сама себя, не открыла, что она красива и желанна для каждого… Теперь он это знает.
— Проводка хорошо, очень хорошо, — Мулельге, разворачивая Альпака задом, медленно подавал его в сарай между лежащими на земле оглоблями. Хлопнул по крупу. — Глаз веселый, смотрите, какой веселый… Ход ровный, ни зацепов, ни хромоты…
Альпак осторожно тронул губами Кронго за руку, так, что Кронго пришлось отодвинуться.
— Ну, ну, ну… Хорошо, хорошо… — Кронго поднял оглоблю, приладил ее к дуге.
Чиано, шевеля бровями от усердия, осторожно стал закреплять связку. Защемило в груди, и Кронго понял, что это воспоминание о пустоте в глазах Амалии, когда он выходил из денника.
— Не вплотную, не вплотную… — Кронго потянул дугу на себя. — Отпусти еще… Отпусти немного…
— А как же, месси… Я чувствую… — Мулельге подтянул свою оглоблю, следя, чтобы запряжка была не слишком сжатой и не беспокоила Альпака на неровной дороге.
— Так хорошо, месси? Не переслабим?
Длинная холка у глаз Кронго лоснилась, пахла сильным молодым потом. Ему нет равных, подумал Кронго. Значит, это и есть счастье. И дело не в Амалии, а в Альпаке, только в Альпаке… Нет, и в Альпаке, и в Амалии…
— Хорошо… Это не гаревая… — Кронго чуть подал Альпака вперед, положил руку на вздрагивающее теплое плечо, пощупал, убеждаясь, что кожаный вытертый борт хомута лежит правильно, как привык Альпак, на точно определенном месте округлых плеч. Он думает об Амалии. Он думает только об Амалии. И об Альпаке. Странно, но он сейчас ясно чувствует, что и она в эту минуту думает о нем, и неважно — было ли ложью все то, что произошло в деннике. Но, может быть, скрытое сияние, которым осветилось ее лицо, и трещинка на губах были настолько привычными, естественными, что появились и на этот раз? Вот это и есть ревность… Уже сейчас, когда еще ничего не ясно, он начинает ревновать Амалию ко всему — даже к смерти.
— Не нужно, я сам… — он взял у Чиано ремни чересседельника, привычно повязал их, определяя по многолетнему навыку степень соединения седелки с упряжью.
Этот уровень идеален именно для Альпака, только для него одного. Вот зачем Крейсс настаивал, чтобы ехал Альпак. Это будет гарантией, что Кронго никому ничего не скажет. Альпаку в таком случае что-то грозит… Потянувшись, чтобы проверить, правильно ли подняты поводковые кольца, Кронго вспомнил все, что совершилось от прикосновения губ. Бесстыдство и беззащитность, мелькнувшие на секунду в глазах Амалии. Эти бесстыдство и беззащитность перешли в бессилие ее глаз, в обреченность, слились со стройными черными ногами Альпака и снова сладостно расплылись в груди. И снова стали ногами, нетерпеливо переступавшими внизу, статью сухого темно-серого тела, легко тронувшего бричку.
— Счастливого пути, месси…
Кронго сел на крохотные козлы, обитые потертой кожей. За ними, под брезентом, было укреплено второе сиденье, на нем едва могли уместиться двое. Это хорошо, ход будет мягким.
— Отпускай… — Кронго чмокнул.
Альпак шагом вывез бричку на дорожку, и Кронго тут же легко кашлянул — это был знак, что можно прибавить. Альпак пошел чуть резвей, повернул в сторону, к выезду в город, медленно прошел створки ворот, у которых стояли Мулельге и солдат охраны. Вывез бричку на улицу.
Над Кронго, над бричкой нависли низкие старые дома, покрытые чешуей черепицы, сонными чайками. Эти дома окружили их в первом переулке, застыли, неторопливо отодвигаясь окнами назад. Вдруг Кронго почувствовал незаметно возникший страх. Этот страх прыгал и плыл рядом легким и тягостным ощущением, возникал и пропадал в безлюдности переулка, в плавно и узко двигающихся задних ногах Альпака, в старике нищем, стоящем на одной ноге и проводившем его глазами. Он вспомнил — надо лечь на землю; но что чувствует человек, когда в него входит пуля? Наверное, это так мгновенно, что он не успевает понять. Страшна не смерть, которая окружила его сейчас — вместе с плавным сильным ходом Альпака, с тяжестью пистолета у груди, с воспоминанием о бессилии в глазах Амалии. Страшно ожидание и представление того, что он — он, сидящий на этих козлах, все в нем, эти руки, привычно держащие вожжи, эти ноги — все будет мертво. Что же будет с этими руками, с этим телом? И как это будет? В бричку сядет Крейсс, они проедут километр, другой, и потом начнется стрельба… Но ведь не обязательно начнется стрельба, ему никто об этом не говорил. И не обязательно пуля сразу попадет в него. Кронго почувствовал, как страх проходит — так же незаметно, как появился. Он может упасть на землю и лежать, пока все кончится. Кронго чуть подал правой вожжой, сворачивая Альпака на боковую улицу. Улица была забита людьми и машинами. Мимо прошел грузовик, еще один, еще. На него и на Альпака глядят с тротуаров. Он хорошо знает эту улицу, ее лавки, узкие тротуары, старых негров, глядящих исподлобья. Сейчас эта улица станет совсем узкой, придется пустить Альпака совсем медленно. Вот почему прошел страх — он вспомнил об Амалии. Он как бы отобрал у нее часть смерти, отобрал часть ее привычной любви, успокаивая собственную ревность. Он и не знал, что можно не только успокоить ревность, но и ревность сама обладает свойством успокаивать. Вот что он испытывает. Да, сейчас, когда смерть рядом с ним, он испытывает щемящую любовь ко всему, что окружает его. К этой узкой улице, к неграм, стоящим и идущим по тротуарам, к доске, на которой плотно разложены свежие желтые лепешки, к связкам бананов. Старик застыл над доской, кажется, что бананы живые, они извиваются, как змеи. Альпак сам замедлил ход — часть мостовой разрыта, около кучки свежей земли с редким скрипом работает облупившийся старый насос. Вода из грязного гофрированного шланга, толчками выливаясь на мостовую, течет по растрескавшемуся асфальту; ноги проходящих людей разносят эту грязь дальше, по всей улице. Кто-то скандалит, но и к этому скандалу Кронго испытывает щемящую любовь, проезжая сейчас мимо и стремясь зацепиться взглядом за этот возникший в спокойном течении улицы водоворот.
Кронго знает, что сейчас водоворот улицы начнет стихать, она опять перейдет в безлюдные переулки, выводящие к асфальтовому шоссе на Лалбасси. К узкой серой ленте, привычно режущей поля и джунгли. Он подумал, что много раз слышал о том, что человек всегда чувствует свою смерть. Но он сейчас чувствует только любовь ко всему окружающему, у него нет предчувствия смерти. Значит, он останется жить. А Амалия? Вот почему он ее ревнует — она ходит на краю смерти, стоит Крейссу узнать, что она связана с Фронтом, — и она будет убита. И не просто убита — убита зверски. Как, каким образом ее убьют? Потопят в сетке? Чепуха. Кронго вспомнил руки Гоарта, то, как Гоарт обыскивал выстроенных лицом к стене манежа конюхов. Гоарт может ее убить, именно Гоарт. Ногами. Почему ногами? Это особые люди, совсем особые, — Гоарт, высокий европеец с глазами-луковицами…. Поль, Лефевр, Крейсс… У них совсем другой взгляд, другие жесты, другие слова. Они убьют Амалию, если поймают. Конечно, убьют. Как? Но, может быть, все это ему кажется, он придумал это сам для себя, этих людей и их лица. Они ничего с ней не сделают. Допросят и отпустят. И почему они должны ее поймать? Ведь не поймали же они ее до сих пор. Вот безлюдный переулок, глухие глиняные стены без окон. Почти у каждого дома под карнизом крыши сушится рыба в связках — серая, нанизанная на изогнутую толстую проволоку. Альпак идет ровно, ему легко, радостно, Кронго видит это по тому, как Альпак держит голову, как четко и легко уходят и возвращаются ноги. Вот в глубине переулка, рядом с глинобитными домиками, чуть отступив от тротуара, поблескивает окнами современный десятиэтажный дом. Блоки его этажей закрыты цветным пластиком, у каждой лоджии пластик своего цвета. Розовый, синий, васильковый, снова розовый, желтый, коричневый, черный… На одной из лоджий дома Кронго заметил точно такую же связку сушащейся рыбы на проволоке. Потом увидел на тротуаре патруль, двух солдат в серой форме. Он заметил, что оба они светловолосые, коренастые. Один из солдат поднял руку, снял с плеча автомат, щелкнул затвором.
— Сто-о-ой… — он подошел вплотную к бричке. Голова солдата оказалась как раз у колена Кронго. — Кто такой?
Глаза, серые, с красными веками, редко помаргивали. Второй солдат похлопал товарища по плечу, тот обернулся. Поправил ремень, стряхнул что-то с брюк.
— А-а… Проезжайте…
«А-а… Проезжайте…» — что это значит? Они явно дали друг другу знак. Конечно, Крейсс предупредил их. Кронго цокнул, Альпак, чуть задев солдата бричкой, ушел вперед ровным четким тротом, тем четким убыстренным шагом, не знающим сбоев, который был дан ему от природы. Наблюдая за тем, как отточено и безукоризненно работают ноги у передка брички, Кронго вдруг вспомнил о таракане, который полз у него по руке. Странно — это воспоминание показалось сейчас гарантией, обещанием. Что-то же да побудило его не убивать таракана. Он мог его убить, но мог и забросить в кусты — и почему-то именно забросил. Кронго тут же увидел собственную усмешку, ему показалась смешной серьезность, с которой он думает о таракане. Но звезды, которые он видел над собой? Почему они никогда не вызывают у него усмешку? Они серьезны. Так почему же он должен смеяться над тараканом, над той крохотной гарантией, мелочью, над указанием, что он останется жив? Страх смерти пульсирует, он то отступает, то возвращается. И Амалия останется жива, он знает это. Он вспомнил, как прикосновение ее губ, их шершавость, тепло, вздрагивание заставили его забыть обо всем. Это прикосновение унесло его в ничто, бросило к звездам, вызвало доброту к ней и ярость к миру — и он остался таким же. Амалия ничего не отобрала у него, только дала — с бессилием в глазах, с нежностью, с неумелостью вздрагивающих губ. Все, что у нее было: ярость, доброту, неумелость, пистолет, первый поцелуй, смерть. Может быть, ради этого он будет жить, только ради этого. Альпак шел все так же ровно, европейские дома кончились, по сторонам снова тянулись глухие глинобитные стены, и Кронго увидел табличку на одной из стен. Нагорная… Нагорная улица… Последняя улица перед выездом на шоссе. Номер четыре. На фальшивых столбах в стене дома мелькнули гипсовые подслеповатые львы. Кронго чуть взял вожжи, Альпак сбавил ход. Так мог сбавлять ход только он — с точностью машины. Номер десять… Двенадцать… Восемнадцать… Какой длинный шестиэтажный дом, кажется, стена его тянется бесконечно. Кронго хорошо видит все в каждом из окон. Фикус на подоконнике… В следующем — большая тарелка, накрытая такой же перевернутой, а на ней — пустой стакан с ложкой. Следующее окно завешено бумагой от мух… Разломанный глобус… Постиранное белье, сложенное стопкой. Кронго увидел прижатое к стеклу лицо Гоарта в одном из окон — и это испугало его. Гоарт смотрел на улицу неподвижно, не отводя глаз, будто не замечая проехавшего мимо Кронго. Если бы Кронго не знал, кто такой Гоарт, не знал, что это охранник, он не обратил бы внимания на его лицо. Мальчик, вырывающий листья из старой книги… Значит, на всем пути Крейсс расставил охрану. Но почему у Кронго сжалось сердце? Что-то постыдное, неловкое почудилось ему в этом. Номер двадцать два… Это сжатие похоже на искушение. Дом номер двадцать четыре… Двадцать шесть… Эти лица, эти вежливые лица. Поль, Лефевр, Крейсс… Что это — неужели ненависть? Да, ему стало легко — потому что прошел пульсирующий страх и вместе с затихающим цокотом копыт по асфальту появилось то, что только и могло быть целью, — ненависть. Ненависть горячая, сладкая, густая. Да, кажется, он был слепцом. Как он не понимал блаженства ненависти — сладостного, нежного, горячего. Сейчас выйдет Крейсс, он уверен в этом. С затаенным нетерпением первой ненависти Кронго ждет его появления. Это первая ненависть в его жизни, свежая, острая, ею можно захлебываться, блаженствовать, лениво закрыв глаза, она не уйдет, хотя могла бы уйти. Как хорошо упиваться ею, ненавистью. Какое счастье, что она пришла именно сейчас, когда уползает край дома номер двадцать шесть и начинается дом двадцать восемь. Он может вложить в эту ненависть только одно — ровный ход Альпака. Альпака, которого Крейсс, священно, сладостно ненавидимый Крейсс, заставил, посмел заставить… Только надо удержать слезы, они ни к чему — есть только ненависть, слышите, ненависть, одна ненависть… Дом номер двадцать восемь. Ворота, разрисованные вязью. Он должен растянуть этот сладостный момент. Он должен почувствовать ненависть до конца, раствориться в ней. Он должен смаковать по частям каждое ее движение, заставляя себя еще раз вспомнить, что из дома номер двадцать восемь должен выйти Крейсс. А с ним Лефевр… Они быстро выходят из ворот дома, Кронго отодвигается, чтобы пропустить их в глубину брички. Он вспомнил финиш Казуса, в три прыжка медленно обошедшего Перль. Он должен насытить жадность первой ненависти, отдаться ей, не мешать ее толчкам, ее медленному ходу в сердце.
— Спасибо, Кронго… — Крейсс сзади закурил. — Теперь чуть прибавьте и потихоньку в Лалбасси…
Что ж, он готов ехать потихоньку в Лалбасси. Как деловита его ненависть, как спокойна. Эта мразь думает, что он пожалеет Альпака. Он не пожалеет ничего, слышите, ничего. Наверное, это первая ненависть в его жизни, он и не знал, что она бывает такой же, как первая любовь. Легкой, нежной, упругой… Как же он мог предать ее, он, так остро почувствовавший ее первый поцелуй, ее — первую любовь-ненависть, понявший, что он не должен был убивать таракана… О ненависть, о священная ненависть… Она в этих чахлых лианах, обвивших придорожные кусты, в гортанном крике ворон, в грохоте, вставшем над миром. Взрыв раздался, когда он меньше всего ожидал этого, — у небольшого моста, перекинутого через узкую речушку. Дробно, гулко взлетела земля, и первое, что Кронго почувствовал, была глухота от звука. Сквозь эту глухоту он увидел беззвучные красные столбы, ударившие его в живот. Сначала боли не было, он ощутил только подступивший к груди комок страха. Глухота подсказала ему, что он не успеет выпрыгнуть, Кронго увидел кровь у хвоста странно подогнувшегося Альпака. Альпак плавно встал на дыбы, упал на колени, на бок, с силой вытягивая ноги. Новый удар бросил Кронго вперед, над ним проплыла горящая бричка, он разглядел серую одежду Крейсса. Потом, уже лежа, увидел Лефевра, упавшего на землю и медленно подтягивающего под себя ноги. Зачем он это делает, подумал Кронго, ощутил тишину, тупую боль в пояснице, то, что он жив, и снова боль — теперь уже сухую и ломкую, как гипс. Рядом чуть заметно ворочалось и вздрагивало то темно-серое, окровавленное, что было Альпаком. Кронго увидел, как за этим серым и окровавленным легко и ровно горит бричка, увидел неестественно вывернутую черную ногу, хорошо подкованное копыто, оно упорно дергалось. Не в силах отвернуться от этой ноги, Кронго встретился взглядом с Крейссом. Крейсс лежал на спине, рот его был широко открыт, он шевелил губами, пытаясь что-то сказать, но говорил он все это Кронго или про себя, Кронго не понимал. Он слышал Крейсса, чувствовал все усиливающуюся боль в пояснице, тупую, задевавшую теперь спину и ноги, и пытался понять, смерть ли это, да, это, конечно, смерть, но он должен еще вспомнить, что он что-то забыл сделать. Что же он забыл, он ведь помнил, что он что-то должен сделать перед смертью. Он будто вернул это воспоминание — то, что он обязательно должен сделать. Да, вот. Тяжесть в груди, тяжесть в кармане. Пистолет, холодная рукоятка, он уже держит ее. Только сможет ли он его достать. Кронго со стороны ощутил свою руку, повел ее от кармана, вынимая эту холодную поверхность, вспомнил руки Амалии, показавшие, как оттянуть предохранитель. Теперь нужно подползти к Крейссу вплотную. Но после этого еще нужно увидеть глаза Альпака и потом оттянуть предохранитель.
— Кронго… — одними губами сказал Крейсс, пытаясь поднять руки. — Кронго, ведь я вам ничего. Я вам ничего… я вам…
Кронго подползает к Крейссу, его тошнит. Сквозь тошноту он ясно и отчетливо различает — в кустах лежит мертвец, он лежит на боку, глаза его широко открыты. Кронго хорошо помнит это лицо, это Фердинанд, тот самый, который приходил к нему ночью вместе со вторым человеком Фронта, Оджингой. Сейчас Кронго понимает, отчетливо понимает, как все произошло и почему в кустах лежит мертвый Фердинанд и рядом с ним другой человек — живой, с автоматом. Живой — это человек Крейсса. Крейссу было мало того, что он ехал вместе с Кронго на Альпаке, а значит, мог не бояться, что его путь станет известен. Да, Крейссу было этого мало, и на всякий случай он решил подстраховаться. Поэтому люди Крейсса прочесали весь маршрут — до самого Лалбасси. И здесь, у моста, наткнулись на засаду, которую поставили люди Фронта. Им сказала об этом пути Амалия… Да. В засаде лежал Фердинанд с автоматом — и люди Крейсса убили его. Но они не знали, что Фердинанд тоже подстраховался и мост был заминирован. И теперь, после взрыва, пулеметчик из людей Крейсса лежит в той же засаде и целится в его, Кронго, голову. Крейсс пытается поднять руки — но они остаются неподвижными, только вздрагивают плечи. Каждое движение отдается для Кронго тупой болью. Медленная волна боли плывет от поясницы по спине, докатывается до плеч. Но нужно подползти, вот он подползает к Крейссу — но не может отвести взгляда от излучины речушки, этот берег совсем близко, не больше тридцати метров. Сквозь тошноту он ясно и отчетливо различает темный предмет в кустах. Этот предмет лежит, глядя на него, и это мертвец, он лежит на боку, глаза его напряжены, будто он удивлен, что увидел Кронго. Он хорошо знает этого мертвеца — это Фердинанд, он глядит на Кронго, словно подсмеиваясь сам над собой. Натянутая внутрь нижняя губа делает эту улыбку живой и удивленной. А рядом автоматчик, белый, он откуда-то знает его. Над улыбкой мертвеца медленно движется черное дуло автомата, нащупывая его, Кронго, голову. Лицо человека за автоматом хорошо знакомо Кронго, но он пока не вспомнил, он силится вспомнить, где же он видел эти спокойные серые глаза, ясные, пытающиеся сейчас только найти его голову, найти цель. Больше в этих глазах нет ничего — ни гнева, ни сочувствия, ни удивления. Да, он вспомнил, коридор ипподрома, пыль, человек, сидящий на стуле, зажимающий коленями черный предмет. Как спокойно сейчас это лицо, в нем только усилие прицеливания. Но Кронго где-то видел это лицо еще раньше. Зеленый «лендровер», да, да. Ободряющая улыбка, вопрос «вы белый?». Да, это то самое лицо. Губы шевелятся от усилия, глаза нащупывают цель, его голову. Сейчас он выстрелит. Кронго прижал голову к земле, так, что между ним в черным дулом автомата на том берегу оказалась голова Крейсса. На лице целящегося отразилось разочарование, он привстал, будто прикидывая, может ли он выстрелить в Кронго, не задев Крейсса. Кронго вытянул руку, пистолет уперся в щеку Крейсса, сполз вниз и оказался у шеи. Из шеи сочится кровь. Теперь надо сделать усилие, поднять вторую руку и оттянуть предохранитель. Какое-то воспоминание возникло, упорно встало над ним, потом переползло туда, на ту сторону речушки, к черному дулу. Какие-то лопухи, что-то светлое, солнечное. Лицо целящегося опять стало сосредоточенным, и эта сосредоточенность помогла Кронго — он вспомнил, что это было в детстве. Но он не может вспомнить, сколько ему тогда было лет, никак не может. Тогда нужно отбросить это воспоминание и снова положить голову на землю, чтобы голова Крейсса оказалась между ним и автоматом. И сейчас, положив голову на землю, он вдруг точно вспоминает, сколько ему было тогда. Четыре года. Ему четыре года. Лопухи по глаза. Это католический интернат. Лопухи по самые глаза. Их много, очень много. На каждом — белая панамка с тремя хлястиками, застегнутыми на одну пуговицу. Они разбросаны у забора, в траве. Дергаясь и непрерывно двигаясь, они сообщают друг другу новости. Какая-то девочка держит лист подорожника. Как же ее зовут… Лилия. Да, Лилия. Она держит лист подорожника, на нем гусеница. Именно гусеница. Все дело в этой гусенице. Кто-то серьезно сообщает:
— Если гусеницу раздавить и кусочек из нее попадет на руку — сразу умрешь.
— Да, да, — подтверждают вокруг. — Умрешь.
Девочка забрасывает лист подорожника. Но Кронго серьезно волнует это, он несколько раз переспрашивает — какую гусеницу. Совсем недавно он сам раздавил гусеницу.
— Любую гусеницу?
— Нет, — отвечает тот, который слывет среди них авторитетом. — Только эту. Зеленую с черными точками на спине.
Кронго облегченно вздыхает, нервно смеется. Он хочет объяснить этому мальчику, Эдварду, как все хорошо и в чем было дело, он раздавил не ту гусеницу. Но Эдвард уже убежал в лопухи. К ним подходит воспитательница — белокурая, добрая. Она наклоняется над Кронго, как высокое дружелюбное животное. Говорит:
— Кушать, кушать.
Это значит — надо идти в столовую.
— А если гусеницу раздавить — умрешь? — взволнованно спрашивает Кронго.
Она озадаченно думает, прежде чем ответить. Вглядываясь в нее, Кронго лихорадочно следит за выражением ее губ — ну что, ну что? Что?
— Какую гусеницу? — наконец ласково говорит она.
— Зеленую, — объясняет Кронго. — Зеленую с черными точками.
Она опять думает. Наконец говорит:
— Да. Не стоит ее давить.
— Значит, умрешь? — требует Кронго.
— Идем обедать, — убеждает она. — Ты никогда не умрешь.
— Ну, а если гусеницу? — не успокаивается Кронго. — Умрешь или нет?
— Да, — она улыбается. — Ну, пошли. Ты же не раздавил?
— Нет, — Кронго берет ее руку.
Они, болтая ногами, поглощают за высоким столом еду. Потом снова топчутся под забором, бесконечно уничтожая легкие июньские одуванчики. Потом, увлеченный чем-то, Кронго лезет к забору. Выпрямившись, замечает ее. Она возникла как-то сразу — на внешней стороне его ладони, на том месте, где сходятся большой и указательный пальцы. Длинная, тонкая, мохнатая, застывшая, как высохший сучок. Зеленая с черными точками. От нее, медленно отклеиваясь, отделяется и прилипает к коже темный кусочек выдавленных внутренностей.
— Кронго, я ведь вам ничего… — с трудом сказал Крейсс. — Я ведь вам…
Кронго вяло стряхивает гусеницу в траву. Сейчас он умрет. Вот сейчас. Это та самая гусеница. Он кого-то останавливает. Его интересует одно, только одно.
— Ты меня любишь? — спрашивает он.
Да, только этот вопрос он задает, только этот.
— Что-что? А, да, конечно… — и существо в белой панамке убегает. Над лопухами колдует девочка. Она в пестром платьице.
— Лилия… Ты меня любишь? Любишь?
Если б они знали, как важно ему сейчас знать, любят они его или нет. Только это. Больше ничего.
— Дурачок, дурачок… — трясет его за плечи воспитательница. — Ты не умрешь… Ты жив, ты жив… Не умрешь.
Но почему именно это воспоминание возникло сейчас? Вторая рука легко оттянула предохранитель. Вот курок, палец хорошо чувствует его. Он выстрелил, приставив дуло к виску Крейсса. Висок Крейсса почернел, расплылся, рот открыт, Крейсс мертв. Руки стали липкими, им трудно держать пистолет, пальцы онемели. Страшные удары обрушиваются на затылок, затылок трещит, это автоматчик расстреливает его, и Кронго мертв, он чувствует, как треснул затылок, и счастлив, потому что вспомнил, что должен еще увидеть глаза Альпака, дотянуться губами к его губам, облегчить, облегчить… Но что облегчить? Оказывается, и мертвый может двигаться, и он счастлив, что может сейчас сладостно прильнуть к губам Альпака, сделать это последнее усилие, последний шаг к своей смерти.