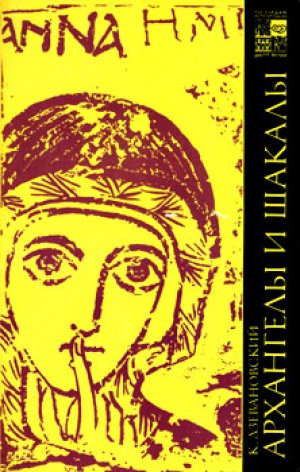
Казимир Дзевановский
Архангелы и шакалы
(Репортаж накануне потопа)
Предисловие
Упоминания о древностях долины Нила неизменно вызывают представления о пирамидах, храмах, сфинксах, обелисках, гробницах, саркофагах, мумиях – словом, всех тех памятниках, которые создавались на века и дошли до нас от времен фараонов.
Но под слоем песка погребены не только следы деятельности десятков и сотен поколений народа, создавшего великую цивилизацию древности – культуру древнего Египта. Их потомки, одними из первых воспринявшие христианство, в которое они привнесли многие мифы, представления, верования и образы религии предков, были творцами не менее своеобразной культуры – культуры коптско-византийского Египта, донесенной до наших дней христианским населением страны. Об этой культуре неспециалистам известно значительно меньше, видимо, потому, что памятники архитектуры и искусства той эпохи не столь поражают воображение, как грандиозные пирамиды, величественные храмы, колоссальные статуи, неповторимые рельефы и фрески святилищ и гробниц эпохи фараонов. Но это отнюдь не умаляет их оригинальности, художественных достоинств и исторической ценности. Византийское искусство, в частности иконопись и фресковая живопись, оказавшее решающее влияние на искусство коптов, при своем становлении испытало значительное воздействие позднеегипетского искусства. Так, например, в иконах мы улавливаем некоторые особенности, присущие фаюмским портретам – изображениям усопших, писанным на досках восковыми красками или темперой и сменившим, особенно у греко-египтян, начиная, очевидно, с I в. н. э. древние погребальные маски[1].
Следовательно, изучение коптского искусства, помимо самостоятельного значения, во многом помогает уяснить искусство Византии, с которым так тесно связано искусство христианской Руси. Тем не менее до последнего времени древнейшие памятники всегда оттесняли на задний план памятники более позднего периода. Занимались последними значительно меньше, публикации, как правило, рассчитаны были на специалистов, а раскопки велись от случая к случаю и притом в масштабах весьма ограниченных.
Поразительные и, может быть, даже неожиданные открытия в резиденции нубийских епископов в Фарасе, которые посчастливилось сделать известному польскому археологу профессору К. Михаловскому и его сотрудникам, развернули перед нами если и не совершенно неведомые страницы культурной истории страны, то, во всяком случае, почти еще не читанные. Вот почему «чудо в Фарасе», как эмоционально окрестила пресса обнаруженные там фрески, привлекло внимание всего мира, а сообщения о работах польских ученых неизменно находили отклики на страницах газет и журналов пяти континентов. В результате значительно возрос интерес к коптскому Египту, которому несколько лет назад был посвящен отдельный зал на международной выставке в Эссене, где экспонировались фрески Фараса. В дальнейшем их показывали в Цюрихе, Вене и Париже. К сожалению, у нас, в Советском Союзе, открытия профессора К. Михаловского не получили достойного отклика (если не считать нескольких кратких заметок), хотя начало им было положено еще в 1961 г. и с тех пор опубликованы полные отчеты о двух первых раскопочных кампаниях и предварительные – о последующих[2]. Вот почему перевод книги К. Дзевановского вполне своевременен и оправдан.
Конечно, К. Дзевановский не специалист и, судя по всему, до поездки в Фарас археологией и историей Египта никогда не занимался, но он постарался очень добросовестно вникнуть во все, что увидел и узнал, а несомненная литературная одаренность и большой профессиональный опыт дали ему возможность ярко и наглядно описать и подвижническую работу археологов, которые не только находят памятники минувшего, но и сохраняют их для будущего, и быт археологической экспедиции, и сделанные ею открытия, и людей, с которыми пришлось сталкиваться, и страну, где довелось побывать. В увлекательном рассказе прошлое живо переплетается с настоящим; страницы, повествующие о событиях минувших веков, памятниках искусства и способах их консервации, перемежаются с другими, где речь идет, например, о косности и бюрократизме чиновников – увы! – всех стран мира, когда дело касается средств на ведение археологических раскопок.
Свои наблюдения, сообщения участников экспедиции К. Дзевановский передал точно; правда, иногда он проявляет чрезмерный восторг, но это естественно для журналиста. Однако там, где Дзевановский пытается самостоятельно излагать события прошлого или прибегает к помощи исторических параллелей и сопоставлений, сказывается порой отсутствие специальной подготовки и глубоких знаний, необходимых не только исследователю, но и популяризатору.
К. Дзевановский берет материал из вторых и даже третьих рук. Основным пособием ему служит книга английского журналиста Л. Гринера «Высотная плотина над Нубией»[3]. Но Л. Гринер отнюдь не претендовал на то, чтобы самостоятельно изложить историю древней Нубии – Куша. Его книга – более или менее добросовестная компиляция, изобилующая цитатами из источников и трудов специалистов, отдельные утверждения которых отнюдь не всегда бесспорны. Л. Гринер порой добавляет и свои собственные сомнительные предположения и неточные определения, иногда усугубленные и умноженные К. Дзевановским. Некоторые из них исправлены и оговорены в подстрочных примечаниях при редактировании книги. Но кое-что требует более подробных уточнений и разъяснений.
Кроме того, автор, побывавший в Фарасе в 1963 г., во время третьей раскопочной кампании, длившейся с 23 октября 1962 г. по 10 апреля 1963 г., естественно, не мог описать открытий последующих лет. Сосредоточив все внимание на христианских памятниках, действительно уникальных по своему значению, К. Дзевановский оставляет в стороне памятники иных эпох, менее редкие, но отнюдь не лишенные интереса и раскрывающие отдельные эпизоды истории страны. Все это желательно восполнить.
Вопрос о древнейшем населении Судана, безусловно, очень сложен и весьма далек от окончательного разрешения, но то немногое, что установлено, позволяет решительно опровергнуть все гипотезы, связывающие древних обитателей Куша с выходцами из Малой Азии, Аравийского полуострова, а тем более мифической Атлантиды. Не доказано также, что первые обитатели долины Нила переселились из Абиссинии или Сомали.
Неолитическая культура Северной Нубии, следы которой прослеживаются и к югу от второго порога Нила, так называемая культура А, современная додинастическому и раннединастическому Египту, идентична культуре последнего. Правильнее, быть может, говорить об автохтонности ее носителей, спускавшихся в долину реки по мере высыхания (вследствие изменения климата) степей, какими, очевидно, некогда были ныне бесплодные пустыни. Во всяком случае, наскальные изображения, особенно открытые в последнее время, в том числе и советскими учеными, свидетельствуют о том, что в пустынях обитали тогда племена охотников.
Едва ли правильно утверждение о существовании «тесных и регулярных связей» между Египтом и Нубией в столь отдаленную эпоху. По крайней мере они решительно ничем не подтверждаются. Вероятно, правильнее говорить об однородности этнического и культурного субстрата обеих стран в определенную эпоху и их стадиальной близости к народам и племенам, населявшим соседние области Африки и Азии.
Автор, следуя за Л. Гринером, а точнее, за теми учеными, трудами которых пользовался последний, не может дать ответа на вопрос, почему Египет в своем развитии далеко опередил Нубию, почему между культурами обеих стран образовался подобный разрыв. Но это давно и достаточно обстоятельно разъяснено советскими египтологами[4].
Нубия всегда была бедна пригодной для обработки землей, кроме того, она находилась на южной периферии древнего мира. Иное дело Египет. Сравнительное обилие плодородных земель не ставило границ развитию производительных сил земледельческих общин, где скотоводство поэтому в противоположность Нубии постепенно отходило на второй план. Поля становились основой благосостояния, предметом постоянных споров и причиной вооруженных столкновений между отдельными общинами и племенами, из которых более сильные подчиняли слабейших. Так начиналось объединение. Оно было необходимо, ибо рост населения требовал интенсификации сельского хозяйства. Единственным источником влаги в долине Нила была река, которая при ежегодных разливах приносила к тому же и удобрения. Поэтому возникает потребность в сооружении оросительных каналов для поливки полей и защитных дамб для предотвращения затоплений. С подобной задачей в масштабах страны могли справиться лишь большие, хорошо организованные коллективы. Вот почему в Египте еще в V тысячелетии до н. э. складываются предпосылки для возникновения первичных государственных образований, из которых в результате долгого и, видимо, мучительного развития к самому началу III тысячелетия формируется в конце концов единое централизованное государство, принявшее наиболее естественную для него в данных условиях форму восточной деспотии. Относительная близость к другим странам благоприятствовала обмену, хотя первоначально и в самых ограниченных рамках. Всего этого не было в Нубии, которая значительно отстала от своего северного соседа и в конечном итоге на долгие столетия подпала под его политическую и культурную зависимость.
До сих пор мы применяли к стране, расположенной южнее Египта и занимающей северные области современной Республики Судан, название Нубия. Однако исторически оно не оправдано, так как впервые засвидетельствовано лишь в X в. н. э. Египтяне и другие народы, а также сами жители, как это видно из сохранившихся надписей, именовали ее Куш. В последние годы специалисты все чаще предпочитают это название, перемежая его соответственно с терминами «Напатское царство» для VIII-VI вв. до н. э. и «Мероитское царство» для VI в. до н. э. – IV в. н. э. (по названию обеих столиц – Напата и Мероэ, сменивших одна другую).
Что касается племен так называемой культуры С, то, как справедливо отмечает К. Дзевановский, о ней «нам известно очень мало». При современном уровне знаний можно лишь сказать, что они жили, очевидно, к востоку и западу от долины Нила[5]. На протяжении последующих столетий новые выходцы с запада, востока и юга оседали на берегах Нила, ассимилируясь, смешиваясь с теми, кто жил здесь прежде, воспринимая их язык и обычаи. Возможно, современные нубийские диалекты восходят к этому времени, как указывает наличие в них слов, заимствованных из египетского языка. Поэтому вполне допустимо, что еще задолго до формирования Напатского царства, т. е. до VIII в. до н. э., население Куша по своему этническому составу было сходно с населением современной Нубии, причем на юге сильнее сказывалась примесь негроидных элементов.
Более чем сомнительна гипотеза о влиянии наскальных изображений мезолитической эпохи Испании на наскальные рисунки, обнаруженные в районе Вади-Хальфы. Такие прямые и тесные связи между двумя отдаленными друг от друга на тысячи километров областями решительно ничем не подтверждаются. Что касается сходства, то оно объясняется стадиальным соответствием.
Далеко не всегда удачны, как уже говорилось, исторические аналогии и параллели, когда К. Дзевановский, очевидно для вящей наглядности, сопоставляет события и факты далекого прошлого с современными. Например, что общего между политикой Египта в покоренном им «презренном Куше», как называли его в своих победных реляциях фараоны, и политикой капиталистической Англии в Индии? В равной степени неопределенно и сравнение крепостей, воздвигнутых египтянами вдоль берегов Нила южнее первого порога, с «линией Мажино». Они создавались в совершенно разных условиях и преследовали абсолютно разные цели, потому что и противники, и задачи, стоявшие перед строителями, ничего общего между собой не имели. Подобного рода примеры можно умножить.
То ли по неосведомленности, то ли желая еще сильнее подчеркнуть значение открытий польской археологической экспедиции, которые и без того не оспариваются, К. Дзевановский пишет, что при первых, по сути дела, разведочных изысканиях, проведенных в Фарасе в 1909 г. известным английским египтологом Ф. Гриффитсом, помимо некоторых древнеегипетских памятников (о них еще будет сказано), удалось исследовать лишь «небольшую христианскую церковь... так называемую... церковь у ворот над рекой. И это все». Далее автор задает вопрос, что побудило К. Михаловского избрать именно Фарас для работ возглавляемого им коллектива: «Была ли это простая случайность? Или внезапное откровение? Или, быть может, результат большого опыта? Профессор молчит». Думается, что ответить на этот вопрос не так уж сложно, если основательно ознакомиться с литературой предмета, как, несомненно, и сделал при подготовке к экспедиции К. Михаловский. От серьезного и добросовестного ученого иного ожидать было трудно.
Еще до Ф. Гриффитса, в 1908-1909 гг., в Фарасе, так же как и в ряде других древних поселений этого района, побывала экспедиция Музея Пенсильванского университета, в которой принимали участие английские ученые. Один из них, архитектор Д. Майльхем, специально занимался изучением средневековых церквей Нубии, точнее, их руин[6]. В Фарасе он описал, измерил и нанес на план две церкви, которые назвал «Северной» и «Южной». Кроме того, в развалинах крепости были открыты две часовни со следами фресок, изображавших святых или апостолов. Установить это точнее оказалось невозможным, так как фрески почти не сохранились[7].
Кроме того, на основании письменных источников было известно, во-первых, что в Фарасе в VI в. н. э. обосновался принявший христианство царь племени нобатов, или нубатов (они-то и дали название всей стране), Силко. Владения его простирались от первого до третьего порога Нила[8]. Во-вторых, и это также не подлежало сомнению, Фарас избрали своей резиденцией епископы одной из нубийских епархий[9]. Наконец, в-третьих, в описаниях некоторых путешественников и историков, в частности французского ученого Э. Катрмера, упоминалось о множестве христианских памятников, имевшихся в Фарасе; одних разрушенных церквей, не считая часовен, насчитывалось семь.
На противоположном, восточном берегу Нила в Аддендане, т. е. на расстоянии 2,5-3 километров по прямой от Фараса, Д. Майльхем обследовал руины еще двух церквей, причем в одной из них видны были явные следы фресок. К сожалению, от изображенных фигур уцелели лишь ноги и нижний край одежды.
Сам К. Михаловский в последнем опубликованном им отчете, подводящем предварительные итоги раскопочного сезона 1963/64 г., пишет: «Принимая во внимание, что проведенные 50 лет назад исследования Ф. Гриффитса дали с точки зрения археологии общее представление об этом районе, которые впоследствии были дополнены работами У. Адамса, Л. Кирвана и Ж. Веркутте, мы решили начать с раскопок Большого холма внутри ограды, так как представлялось, что она окружает наиболее важные руины древнего Фараса»[10].
Таким образом, профессор К. Михаловский имел все основания надеяться на более или менее значительные находки в месте, избранном им для работ экспедиции. Конечно, известный риск был, но он неизбежен при археологических раскопках. Кроме того, – и это очень существенно – раскопки следовало организовать так, чтобы по возможности скорее добиться существенных результатов и привлечь к ним интерес, что обеспечит приток средств, которые, как правило, далеко не щедро ассигнуют археологам. И здесь нельзя не воздать должного знаниям, чутью и организационным талантам К. Михаловского, сноровке и энтузиазму его сотрудников, открытия которых действительно прославили польскую науку, ибо они оказались в числе наиболее значительных, сделанных за последние годы в рамках кампании ЮНЕСКО по спасению памятников древности в зоне затопления.
Теперь мы вправе утверждать это со всей определенностью, так как уже опубликованы два первых тома подробного отчета (третий вскоре должен выйти в свет) о работах экспедиции, охватывающих 1961-1962 гг., а также предварительные сообщения о том, чего удалось достичь в последующие годы.
И вновь следует отметить большую заслугу К. Михаловского, сумевшего столь оперативно поделиться с научной общественностью результатами своих исследований. Подавляющее большинство полных отчетов других экспедиций до сих пор не издано, в основном из-за недостатка средств. Видимо, решающее значение имеет преимущество социалистической системы, не принимающей во внимание одни лишь меркантильные соображения, когда речь идет о науке.
Согласно первоначальному плану, исследования польской археологической экспедиции, приступившей к работам в Фарасе в феврале 1961 г., были рассчитаны на два года. Однако достигнутые результаты заставили удлинить этот срок, и не только потому, что консервация найденных фресок заняла много времени. Были все основания надеяться на новые, быть может, и не столь значительные, но все же существенные находки. В какой степени оправдались эти надежды?
О третьей раскопочной кампании мы узнаем из книги К. Дзевановского. Постараемся вкратце рассказать о дальнейшей работе польских археологов, которые основной своей обязанностью считали, как и раньше, спасение уникальных фресок епископского собора Фараса.
Размах и темпы строительства Асуанской плотины, воздвигаемой при непосредственной помощи Советского Союза, неотвратимо приближали время затопления страны. Поэтому с октября 1963 г. по апрель 1964 г., когда длилась четвертая раскопочная кампания, была завершена работа по снятию и предварительной консервации фресок. Всего упаковали и отправили в Хартум и Варшаву в соответствии с соглашением, заключенным с правительством Судана, 69 фресок. Общее количество памятников монументальной живописи, найденных и спасенных польскими учеными, достигает 170, причем отдельные композиции имеют весьма внушительные размеры – 7 метров длины и 4 метра высоты.
Обеспечив сохранность фресок, археологи приступили к разбору тех стен собора, которые были сложены из вновь использованных плит эпохи Нового царства и мероитского времени.
Неожиданное открытие посчастливилось сделать в последние дни работ. Под полом алтарной части собора была расчищена покрытая белой штукатуркой абсида, а в траншее, вырытой вдоль восточной стены, – стена, сложенная из кирпича-сырца, подле найдены чаши времени так называемой культуры X, которую теперь отождествляют с культурой нобатов. Еще глубже замечены следы какой-то древнеегипетской постройки.
При раскопках под собором были выявлены остатки довольно большого фундамента, сложенного из неотесанных камней на том же уровне, что и внутренние основания стен церкви с тремя приделами, высившейся на этом месте до собора. Найденные под стенами церкви сосуды времени культуры X, а также последовательность расположения культурных слоев доказывают, что и фундамент и основания стен относятся, очевидно, к позднемероитскому периоду. Как известно, именно тогда в долине Нила активизируются нобаты. До сих пор, кроме гробниц их вождей или царьков, не было обнаружено принадлежащих нобатам монументальных сооружений. Возможно, здесь под собором скрыто первое из них, ставшее известным.
Тщательное исследование и анализ архитектурных деталей и руин позволили не только восстановить историю отдельных сооружений, но и проследить общий ход истории Фараса и последовательность некоторых событий, а также определить отдельные даты, хотя далеко не всегда с абсолютной точностью.
В V в. н. э. здесь на развалинах какого-то древнеегипетского здания, скорее всего храма из кирпича-сырца, христиане построили часовню с абсидой. После вторжения нобатов она была снесена, площадка выровнена, выбоины заполнены щебнем и песком. Место освободили для дворца какого-то правителя нобатов – вождя или царька, решившего тут обосноваться. Прямоугольный в плане дворец, который, возможно, украшали найденные при раскопках мероитские карнизы, просуществовал около 200 лет и в свою очередь подвергся разрушению. Это произошло, очевидно, на рубеже VI и VII веков.
С середины VI в. в стране официально было введено христианство. Одновременно Пакхорис, как тогда назывался Фарас, стал столицей Нобатии. Быть может, для царской резиденции дворец показался недостаточно обширным, а местоположение – неподходящим. Во всяком случае, его сменила церковь с тремя приделами. Произошло это до 707 г., когда епископом стал Павел, развивший активную строительную деятельность.
Церковь воздвигли нарядную, какую и подобало иметь столице. Своды ее поддерживали колонны из красного песчаника с превосходной работы резными капителями, среди которых не было и двух одинаковых. Стены, очевидно, тогда еще не расписывали фресками, так как никаких следов их не обнаружено. Скорее всего, довольствовались иконами, хотя и их здесь пока найти не удалось. Быть может, на позднейших фресках окруженные рамками композиции из нескольких фигур написаны в подражание иконам.
Как видно из посвящения епископа Павла, в 707 г. церковь подновили и расширили. Вероятно, именно она служила ему и его преемникам собором. К основному зданию пристроили еще два придела. Колонны из красного песчаника заменили гранитными с такими же капителями. Старые капители использовали как строительный материал. Из базилики с плоским перекрытием храм превратился в собор с куполом. Он был посвящен богородице и архангелу Михаилу. К этому времени относятся и древнейшие фрески, следы которых открыли в абсиде. Фигуры на них оконтурены фиолетовым и желтым. К. Михаловский называет поэтому ранний период фресковой живописи Фараса «фиолетовым». К нему относятся расчищенные под древнейшим слоем штукатурки изображения святой Анны и какой-то царицы, охраняемой архангелом Михаилом. Любопытно, что последнему приданы типично нубийские черты. Это уникальный случай: облик Михаила никак не соответствует предписанной канонами строгой красоте ангелов и святых.
В дальнейшем, очевидно до XI в., снова производился ремонт или частичная реконструкция: над более древним полом настлали пол из красных кирпичей. Примерно к этому же времени относятся фрески «белого стиля», на которых изображен, в частности, епископ Кир, несомненно нубиец. Так как он занимал кафедру с 865 по 902 г., то фрески нетрудно датировать второй половиной IX в. В белые одеяния облачены персонажи и на других фресках, например дьякон в южном приделе или Иоанн Златоуст. Интересен портрет епископа Григория (1062-1097), надгробная стела которого была обнаружена при раскопках предшествующих лет.
По мере распространения и закрепления ислама в Судане ослабевало влияние христианства и, следовательно, сокращалось число верующих и церквей. Собор в Фарасе был заброшен, очевидно, в XII в. При раскопках в 1964 г. профессора Д. Пламлея в Каср-Ибриме, расположенном между первым и вторым порогами Нила, т. е. несколько севернее Фараса, была вскрыта неразграбленная гробница епископа, в которой обнаружены два кожаных свитка длиной 5 метров каждый. Они содержали коптскую и арабскую версии документа, доказывающего посвящение епископа в сан в 1372 г. Там он назван епископом Фараса и Ибрима. Таким образом, подтвердилось предположение К. Михаловского о времени запустения собора Фараса, история которого, так же как и прилегающей области, стала значительно яснее в результате работ польских ученых.
Некоторым археологическим экспедициям других стран, принимающим участие в кампании по спасению памятников Нубии, также посчастливилось обнаружить древние христианские фрески, хотя, они, конечно, ни по количеству, ни по сохранности, ни в большинстве случаев и по качеству не идут ни в какое сравнение с фресками из Фараса.
Так, сотрудники французского Института восточной археологии при раскопках храма Рамсеса II в Вади-эс-Себуа (в 140 километрах южнее Асуана) установили, что в VI в. копты оборудовали тут церковь. Ученым удалось расчистить фрески, которые были сильно повреждены. В числе прочих композиций можно разглядеть Христа с апостолами, апостола Петра, череп как символ мученичества и т. п.
Археологическая экспедиция Римского университета, руководимая профессором С. Донадони, исследовала поселение в Тамите. К шести известным прежде церквам она добавила еще две. Все они изучены и описаны. Настенная живопись обнаружена в двух храмах, где уцелели на стенах целые композиции, дающие наглядное представление о местной художественной школе, достигшей значительных успехов; таковы изображения архангела Рафаила, вызволяющего человека из пасти дракона, епископа Мена между этим же архангелом и святым Иоанном, Вседержителя, некоторых святых. Выявлены и надписи – коптские и старонубийские.
Не менее значительными оказались успехи голландского египтолога А. Классена, открывшего в Шокане, севернее известного пещерного храма Рамсеса II в Абу-Симбеле, 84 фрески VIII-XI вв., созданные под значительным воздействием византийских художественных канонов. Более древние фрески, где палитра художника еще довольно однообразна, написаны на белом фоне, позднейшие, отличающиеся сравнительным богатством красок и некоторой свободой в передаче движений, – на розовом.
Самые совершенные фрески обнаружены в находившейся в центре города церкви, стены которой частично сохранились до уровня сводов. Особенно выделяются высоким мастерством живописи образы Иисуса Пантократора (Вседержителя) и Иоанна Златоуста. После консервации на месте фрески сняли со стен и, тщательно упаковав, отправили в Каир для дальнейшей обработки. Любопытная деталь: у многих фигур были уничтожены глаза. Профессор С. Донадони объясняет это суеверием местных жителей, боявшихся «злого глаза». К сожалению, об этой интересной и важной находке имеются пока лишь краткие предварительные сообщения[11].
В Судане, за вторым порогом, на острове Касар-Ико стены исследованных церквушек, скорее даже часовен (размеры самой большой не превышают 7,6х7,5 метра), некогда были украшены фресками. Уцелели лишь жалкие фрагменты, по которым можно судить, что изображены были Иисус Вседержитель, святой Иосиф, богородица, возможно, апостолы. Точно так же как и в соборе Фараса, художники отдавали предпочтение желтым тонам[12].
Таким образом, в результате совместных усилий ученых ряда стран – в первую очередь Польши – заполняется малоизученная страница истории и истории искусства средневековой Нубии. Конечно, потребуется еще не один год, чтобы досконально изучить все вновь найденные памятники, сопоставить их между собой и с известными прежде, а также с письменными источниками и сделать исчерпывающие выводы и обобщения. Тогда, конечно, наука обогатится новыми фактами, но и предварительные заключения, как мы видели, дают уже много ценного и интересного[13].
Когда профессор К. Михаловский избрал район для работы руководимой им экспедиции, от Службы древности Судана, ведающей охраной памятников прошлого и надзирающей за раскопками, он получил карту местности, где были обозначены уже установленные, в большинстве случаев Ф. Гриффитсом, археологические объекты. Всего на территории польской концессии, занимавшей 7 квадратных километров, их значилось 34, причем ровно половина – 17 – приходилась на памятники христианские. Остальные распределялись так: времени культуры А – 2, культуры С – 3, эпохи Среднего царства Египта – 1, Нового царства – 7 и мероитской эпохи – 4. Многие объекты были более или менее тщательно исследованы. Как мы знаем, К. Михаловский избрал холм, на который Ф. Гриффитс в свое время обратил внимание. Ф. Гриффитс высказал предположение, что большая часть холма скрывает сооружения мероитского периода и времени Нового царства, в том числе и остатки храма фараона Тутмоса III. Сам Ф. Гриффитс не раскапывал холм. Это выходило за пределы его возможностей, так же как и тех, кто работал здесь после него. Основное внимание археологи уделяли древностям дохристианским, преимущественно египетским.
Вполне закономерно поэтому, что К. Михаловский занялся памятниками христианскими, а так как его старания были щедро вознаграждены находками, имеющими непреходящее научное значение, то, естественно, почти все усилия были отданы расчистке и консервации фресок, отодвинувшим на второй план все остальное. Правда, пока не удалось обнаружить ни от эпохи Нового царства, ни от мероитского времени чего-либо выходящего за рамки обычного, однако в совокупности с тем, что было найдено прежде, данные польской экспедиции дополняют наши знания по истории Куша.
В течение четырех лет из стен собора и дворцов епископов извлечено 497 обломков камней и плит, частично покрытых иероглифами, орнаментами и рельефами. К ним следует прибавить еще 128, открытых прежде Ф. Гриффитсом, У. Адамсом и Ж. Веркутте. Подавляющее большинство их происходит из стоявшего здесь некогда храма Тутмоса III – прославленного фараона-завоевателя; на одной плите начертано имя Тутанхамона. Остальные 17 принадлежат фараонам XX династии – Рамессидам.
На существование поблизости от собора святилища Тутмоса III указывает именно количество принадлежавших ему камней. Однако местонахождение храма до сих пор не установлено. Руины скрыты где-то под слоем песка и мусора или под фундаментами позднейших сооружений, куда проникнуть не удалось из-за инфильтрации вод Нила. Все эти блоки и плиты – части архитравов, карнизов, перекрытий, т. е. верхней части храма. Плит с рельефными изображениями – они обычно помещались ниже – сравнительно мало. Таким образом, не исключена возможность, что храм Тутмоса III еще будет найден. Судя по сохранившимся обломкам архитектурных деталей и величине иероглифов, он должен быть внушительных размеров. Как предполагает К. Михаловский, храм следует искать в основании холма.
Что касается мероитской эпохи, то она также представлена преимущественно архитектурными памятниками. Как можно заключить на основании фрагментов архитектурных украшений, главным образом карнизов, использованных в качестве строительного материала при сооружении собора и арабской крепости, в Фарасе в I-II вв. н. э. имелись небольшие святилища. Некоторые орнаменты явно указывают на влияние античного искусства. И это вполне объяснимо; первые века нашей эры совпадают с расцветом Северной Нубии, по которой проходил один из важнейших торговых путей, соединявший Египет, находившийся тогда под властью римлян, с Мероэ, откуда вывозились в Рим всевозможные экзотические товары: благовония, слоновая кость, шкуры диких животных и, конечно, черные рабы.
Другие архитектурные детали – обломки резных оконных решеток, наличники дверей и тому подобное – украшали, вероятно, дома местной знати. Несколько домов экспедиция расчистила еще во время первого сезона раскопок. Обычно дома имеют по четыре комнаты и отделены друг от друга узкими проходами или улочками. Фрагменты керамики позволили датировать их с достаточной степенью точности. Характерно, что при постройке этих жилищ не были использованы камни и плиты храма Тутмоса III. Возможно, его еще не разрушили. В дальнейшем удалось выявить следы более монументальных сооружений позднемероитского времени, т. е. III-IV вв. н. э., а также обнаружить две мероитские надписи, правда сильно поврежденные.
Хотя раскопки памятников эпохи Нового царства и мероитского времени еще весьма далеки от завершения, все же допустим вывод, что уже тогда в Фарасе существовало более или менее значительное поселение. Место для него выбрано, очевидно, не случайно. Скалы, тесно окаймляющие русло Нила, здесь несколько отступают от его берегов, оставляя больше земли, пригодной под пашни, сады и огороды. В эпоху Нового царства Фарас избрали своим местопребыванием наместники фараонов, носившие титул «царских сыновей Куша». Быть может, поэтому Фарас впоследствии стал столицей Нобатии и резиденцией епископов.
Будущие исследования Фараса, возможно, принесут новые открытия – ведь здесь, судя по всему, таятся еще многие свидетельства прошлого, которые помогут восстановить насыщенную бурными событиями историю Северной Нубии. Но надо торопиться. Расположенный лишь немного выше нынешнего уровня Нила Фарас при заполнении водохранилища Асуанской плотины одним из первых навеки скроется под водой, и с ним навсегда исчезнут бесценные памятники минувших тысячелетий.
И. С. Кацнельсон
От автора
Нил затопит Нубию –
И нам надо забыть о прошлом.
Река дает жизнь –
И она же несет смерть.
(Песнь нубийцев 1964 года)
«Мы многим обязаны польским экспертам...»
(«Таймс», 1963)
О чем эта книга?
Это репортаж о людях и фресках, рассказ о событиях новейших, а также древнейших времен. В ней говорится о людях, которые, работая в пустыне в исключительно тяжелых условиях, изнывая от удушливой жары и песчаных бурь, сделали необыкновенные открытия, прославившие их самих и их родину, Польшу. В книге идет речь и об очень древней стране, одной из старейших обитаемых стран мира, история которой исчисляется не то что столетиями, а целыми тысячелетиями. Но к тому времени, когда наша книга попадет в руки читателя, история этой страны придет к концу. Ибо через три года от нее не останется и следа. Наступит потоп.
Книга рассказывает также о людях из более чем двадцати других стран. В песчаной пустыне они вместе с поляками составили подлинный интернационал ученых. Со времени Эйнштейна известно, что наш мир существует в четырех измерениях. Но можно также сказать, что и жизнь в мире протекает в четырех измерениях. Три из них – экономика, политика, идеология – были известны издавна. В нашу эпоху возникло и четвертое – наука. Только учитывая все эти измерения, можно составить себе полную картину современного мира.
В стране, о которой идет речь в нашей книге, – в Египетской и Суданской Нубии – все это сплелось в один узел. С эпохи фараонов и вплоть до времен Насера политическое развитие в долине Нила предопределялось экономикой. Фараоны посылали на юг экспедиции за золотом, древесиной, рабами. На дорогах, ведущих за нильские пороги, они строили крепости и храмы. Нищета и перенаселенность в современном Египте побудили правительство Насера приступить в первую очередь к строительству высотной плотины в окрестностях Асуана. Однако жизнь в нашем мире протекает под знаком острого идеологического конфликта. Его влияние сказывается на каждом важнейшем предприятии. Дошло поэтому и здесь до конфликта и драматических событий, связанных с национализацией Суэцкого канала и суэцкой войной. Впоследствии Советский Союз предложил свою помощь в строительстве плотины. Нубия очутилась под угрозой потопа, но не библейского, а вызванного человеком. И тогда началась всеобщая мобилизация ученых.
Экономика, политика и идеология, древнейшая история человечества и его сегодняшний день – таков общий фон, на котором разыгрываются события, описанные в нашей книге.
Когда эта книга выйдет в свет, толпы посетителей Национального музея в Варшаве будут с любопытством разглядывать уникальные произведения живописи: чужие, с тонкими чертами смуглые лица, словно опаленные жарким, непривычным для здешних мест солнцем. Люди будут останавливаться перед стенной росписью, аннотированной: «Фрески из Фараса». Фрески эти проделали длинный путь. Найденные в песках Судана, они плыли на парусных лодках по Нилу, переправлялись по железной дороге до Порт-Судана, небольшого города на побережье Красного моря; укутанные покрывалами, плыли на кораблях через многие моря. Но знаменательно не это. Их история куда более замысловата. Взять, например, вот этого архангела с мечом, у которого столь почтенный, но в то же время добродушный вид. Сколько трагедий, сколько драматических событий должно было разыграться, прежде чем он оказался здесь! Какая масса конфликтов, – а впоследствии какой яркий пример международной солидарности! В его судьбе отражены история развития цивилизации и соперничество между великими державами, столкновение двух самых динамичных религий в мире – христианства и ислама, наконец, столкновение двух социальных систем. Какой необычайно сложный узел!
В этом сплетении трудных проблем, волнующих событий, примечательных находок, великолепных произведений древней живописи и чудесных людей и оказался журналист. Он стал свидетелем того, как было открыто «чудо в Фарасе».
И вот что он может об этом рассказать.
Глава первая. В спешке
27 марта 1963 года, вечером, без пяти минут семь, по опустевшему длинному залу огромного аэровокзала в Каире бежал запыхавшийся человек. Вид у него был потешный, хотя ему самому было вовсе не до смеха. Он бежал все медленнее, напрягая силы, было заметно, что он выдыхается. Нагрузился бедняга неимоверно: в одной руке тащил чемодан с одеждой, обувью и книгами, в другой – еще один тяжеленный чемодан, битком набитый металлическими коробками с кинопленкой; на ремне, перекинутом через плечо, висел киноаппарат в объемистом футляре. С другого плеча свисала сумка с фотографическими принадлежностями. Но это не все: в той же руке, в которой он нес чемодан с личными вещами, человек тащил также вместительную, мягкую юфтевую сумку, какие продаются в Каире. Сумка также была заполнена до отказа. Но и это еще не все: под мышкой он нес большой, тяжелый штатив. Не удивительно, что бежал он все медленнее. Пот струился по его лицу ручьями. Казалось, что длинному залу не будет конца. Он совершенно опустел, все разошлись, не было ни одного носильщика, которых здесь всегда достаточно. Бегущий понимал, что эта пустота могла означать только одно: его самолет уже улетел или сделает это через мгновение. Все пассажиры заняли свои места. Кассы и окошки, где оформляют отправление пассажиров, закрылись. Исчезли носильщики. Он опоздал. И тем не менее человек бежал. Или, вернее, теперь уже не бежал, а с трудом двигался сам и тащил свой багаж. Он понимал, что не смеет опоздать. Если он не улетит сегодня, все пойдет прахом: двухлетние хлопоты, длительная подготовка и журналистские планы. Словно, переплыв море, он утонул бы у самого берега, притом в момент, когда все складывалось, казалось, как нельзя более удачно.
Одним словом, это было бы верхом невезения.
Но вот уже кончился зал. Стеклянная дверь. Последним усилием обремененный поклажей человек протискивается через дверь и выбегает – нет, просто выходит, еле держась на ногах, – на бетонную площадку. В ста метрах от него стоит четырехмоторный самолет. Его двигатели заведены, винты разрезают воздух. Главный трап – для пассажиров – уже отодвинут. Через мгновение самолет тронется с места, сделает поворот и покатится на взлетную полосу. Но злосчастного пассажира уже заметили. Кто-то окликает его. Двое людей хватают его багаж. Человек пробегает последние сто метров. Его вталкивают через вход для членов экипажа. Перед тем как захлопнуть дверь, швыряют его чемоданы. Никто уже не проверяет билета и не выдает багажной квитанции. Наш пассажир пробирается между рядами кресел на свое место. Он совершенно мокр от пота. И бормочет себе под нос:
– Журналист не должен быть ослом... Не должен... ослом... Не должен... ослом...
Тут каждый, кто мало-мальски знаком с журналистикой, несомненно, скажет: пустые шутки! Журналисту не подобает писать ни о том, что кто-то думал про себя, ни о том, что тот бормотал себе под нос. Это чистый вымысел, проверить который никак нельзя.
Все это верно, но в одном случае журналист вправе писать так: когда он пишет о себе и рассказывает о собственных приключениях, когда вспоминает о том, что он бормотал себе под нос...
Самолет, четырехмоторный «Виккерс-Вайкаунт», летел по направлению к Луксору, легендарному городу фараонов, который в ту эпоху назывался Фивами[14]. Это грандиозный комплекс, где сосредоточено множество интереснейших памятников древности, способных пленить воображение всякого. Огромный храм в самом Луксоре, двумя километрами дальше – поражающий своими масштабами Карнак[15], этакий древнеегипетский Манхэттэн, на противоположном берегу Нила – колоссы Мемнона, дальше – Рамессеум[16] и опять колоссы, храм Хатшепсут[17] и, наконец, «Долина царей» – многоярусные подземные гробницы со скрытыми в них несметными сокровищами. Об этой «Долине» сложены самые фантастические легенды.
Если вы турист и летите туда, то неизбежно будете приятно возбуждены. Именно такое настроение и овладело пассажирами четырехмоторного «Вайкаунта». Полные мужчины сняли пиджаки и сияли белизной сорочек, перечеркнутых резкими линиями подтяжек. Худощавые дамы сбросили шали и сверкали оголенными плечами. В воздухе стоял запах духов и сигар. Слышен был рокот моторов и приглушенный шум светских разговоров. Когда внизу мелькали редкие огоньки, все оживлялись и поворачивались к окнам. Через несколько минут самолет снова летел в полной темноте.
Из 60 пассажиров лишь я один нарушал гармонию. Прежде всего я был совершенно мокр и долгое время не мог отдышаться. Я пыхтел как паровоз. Я, безусловно, не был туристом. Окружавшие меня люди летели, чтобы увидеть закат, упадок, распад. Знаменательный и занимательный, – но только закат. Я же летел, чтобы увидеть воскрешение. Несмотря на усталость, несмотря на то что рубашка прилипла к телу, точно пластырь, наложенный на сломанные ребра, на душе у меня было радостно. Мы летели на высоте тысячи метров. Мне кажется, в тот вечер на этой высоте не было человека счастливее меня. Ибо я все-таки не оказался неудачником. Наоборот, мне сопутствовала удача.
Целых два года хлопотал я об этой поездке. Не стану перечислять здесь всех переговоров, писем, телефонных звонков, заявлений, протекций. Всякий, кто пытался уладить какое-либо важное официальное дело, знает, каких трудов это стоит. Тем более если речь идет о валюте, в данном случае о некоторой, хотя и небольшой сумме египетских фунтов. Игра шла с переменным успехом. То мне удавалось забросить мяч в угол охраняемых именитым вратарем валютных ворот, то вновь, как плохой голкипер, я упускал мяч из рук. Несколько раз мне казалось, что я безнадежно проигрываю. Министерство культуры умело передавало мяч на свой край нападения. Раз за разом сыпались оттуда жестокие контратаки в виде решений комиссий, постановлений, распоряжений и разъяснений. Раз за разом я был вынужден бросаться под ноги нападающих, чтобы выудить оттуда маленький и противно скользкий круглый мяч. Это был мой шанс. Шанс на выезд – в качестве единственного польского журналиста – в Нубию, где происходили знаменательные события и где польские ученые сделали открытия, прославившие их имена на весь мир. В Фарас, где работали поляки, ездили уже многие иностранные журналисты. А из Польши до сих пор никто еще не приезжал. Я боролся поэтому, точно лев, и, как пишут спортивные обозреватели, восполнял технические недостатки своим рвением. А недостатков этих у меня было немало, и прежде всего мне не хватало опыта в улаживании официальных формальностей. Вот почему я срывался и путался в игре. Мои подачи были неточными, да и удары – не всегда меткими. Наконец, рефери, которым был сам министр Галиньский, дал финальный свисток. Результат – 3:0 в мою пользу. Что означало: получишь, братец, деньги на три недели пребывания. Однако противник был силен и в последнюю минуту сумел свести на нет один из забитых мною голов. Окончательное решение последней инстанции гласило: выдадим тебе разрешение на три недели пребывания, но командировочные получишь только за две недели. И это все! Впрочем, я заранее знал, что, если мне вообще удастся добраться до Нубии, я пробуду там значительно дольше. Даже сам Киш[18] не сумел бы написать книгу о стране после двухнедельного пребывания в ней. Так или иначе, я мог теперь отправиться в путь, а это было главное.
Я вылетел в Каир. Но приземлился на польской территории. Ночевал в польском доме и ел польский завтрак. Происходило это в помещении Польского центра средиземноморской археологии, разместившегося в столице Египта. В доме хозяйничают молодые, чрезвычайно милые супруги Кубяк, которые в отсутствие профессора Михаловского пользуются здесь высшей властью. Профессор Михаловский руководит Центром, но делит свое время между раскопками в Судане, Египте и Сирии и занятиями в Варшавском университете, где руководит курсом археологии Средиземноморья. Кроме этого, он – заместитель директора Национального музея в Варшаве, сотрудничает с Польской академией наук и выполняет много других функций. Поэтому повседневной жизнью Центра руководит магистр Владислав Кубяк. Центр занимает дом в районе Гелиополис в Каире. Когда кончается сезон раскопок, здесь живут все члены нашей археологической экспедиции. В доме есть также двое слуг-египтян. Последний жилец – Рексик, милый пес, предки которого были, очевидно, немецкими овчарками, но сам он успел усвоить все арабо-мусульманские повадки, хотя и понимает по-польски. Из окон видны зелень и цветы. Гелиополис – очень красивый район города. Однако у меня не было времени любоваться прелестью весеннего Каира. Я должен был сразу же следовать дальше. Но это оказалось совсем нелегко...
Швейцарская пресса писала о «чуде в Фарасе». Известный французский еженедельник «Пари-матч», один из наиболее популярных иллюстрированных еженедельных журналов в мире, направил туда собственного корреспондента, наняв для него специальный самолет, чтобы скорее доставить его на место. Приехали корреспонденты американских журналов «Лайф» и «Нэйшнл джиогрэфикл мэгэзин». Прибыли и немцы. Только в польской прессе царило почти полное молчание. Ни один польский журналист не добрался пока до Фараса, где перед самым потопом произошло воскрешение, «авторами» которого были поляки. Это плохо, очень плохо. Зато для меня хорошо... Я – первый, кто едет туда. Не стану скрывать: это огромная ответственность, и я опасаюсь ее. Но она же окрыляет. И в самом деле, чтобы долететь туда, нужны крылья.
Я прилетел в Каир в понедельник 26 марта 1963 года. А на следующий день все должно было решиться. Мне нужно было получить деньги в банке, но это не так уж трудно, хотя и занимает много времени. Я должен был также обеспечить себе место в самолете до Луксора, чтобы добраться туда в тот же день и переночевать там. Это было уже труднее. Из Луксора раз в неделю отправляется самолет в Вади-Хальфу в Судане. Он вылетает туда как раз по средам. Стало быть, если мне не удастся сразу же полететь в Вади-Хальфу, я сумею это сделать лишь 3 апреля. А работы в Фарасе заканчиваются в первую неделю апреля. Может поэтому случиться, что, став первым польским журналистом, получившим возможность прибыть в Фарас, я явлюсь туда слишком поздно. Два года я добивался этой поездки. Два раза я, казалось, уже должен был ехать, но каждый раз все шло прахом. Теперешняя попытка – третья. Бог троицу любит! Я добрался наконец до Каира, так неужели мне предстоит застрять здесь? Вообще-то говоря, это не так уж страшно. В Варшаве теперь еще мороз, а здесь все цветет, ходишь налегке, в брюках и рубашке. В Варшаве – март, но холодно, как в феврале. А здесь – май или даже июнь. Но ведь я прибыл сюда, чтобы стать свидетелем последних дней перед потопом, а не для того, чтобы упиваться запахом цветов.
Но откуда эти грустные размышления? Для этого были причины. Оставалось уладить самое трудное, что могло сорвать все планы, – получить суданскую визу. Супруги Кубяк сразу высказали мне свои сомнения. Суданскую визу получить вообще нелегко, а уж добиться ее в один день совершенно невозможно. То же самое сказали и в польском посольстве.
– Не стоит и пытаться, – безапелляционно заявили мне, – не может быть и речи, чтобы вам выдали ее сегодня. Да и вообще неизвестно...
Кроме того, возникал вопрос и о деньгах. В моем блокноте были записаны подробные инструкции, которые профессор Михаловский дал мне перед своим вылетом из Варшавы в Судан: «Долететь до Вади-Хальфы. Послать телеграмму. По прибытии взять такси в аэропорту и поехать в гостиницу „Ниль-отель“. Там переночевать. Это стоит около двух с половиной фунтов. На следующий день утром пойти в местный музей к г-ну Шерифу. Переговорить с ним. Быть может, будет попутная машина в Фарас. Если нет, то взять такси, но достаточно мощное: предстоит проехать 50 километров через пустыню по бездорожью. Это обойдется более чем в три фунта. Нанять фелюгу. Переправиться на западный берег Нила. Там расположен лагерь». Итак, включая деньги на такси из аэропорта, нужно минимум 6 фунтов, что составляет 18 долларов. Кроме того, нужно немного денег на пребывание в Фарасе и на обратную дорогу. А у меня всего 6 долларов. Повторяю: 6! Все остальные деньги я получил в Варшаве в египетских фунтах, которые ни вывезти из Египта, ни обменять нельзя. Даже контрабандным путем вывозить их нет смысла, так как в Судане их все равно не принимают. А что я могу сделать, если Фарас расположен на суданской территории, пусть даже в одном километре от границы? Не могу же я присоединить его к Египту! Но деньги – это еще полбеды. Важнее всего виза. Пока я получил деньги в банке и побывал в польском посольстве, уже наступил полдень. Суданцы, как мне сказали, принимают только до часу. В пять минут первого я подъехал к воротам суданского посольства.
Но ворота были заперты. Когда я постучал, выглянул привратник.
– Закрыто, – сказал он. – Только до двенадцати. После закрыто.
Ворота были крепкими, привратник – тоже. Не могло быть и речи о том, чтобы преодолеть обе преграды. Впрочем, если бы это даже удалось, как добиться приема у консула? Да и вообще, там ли он еще? Казалось, будто я медленно проваливаюсь в какую-то бездну. В кармане у меня лежало письмо от Польского археологического центра, адресованное суданскому консулу. Я вынул его и показал привратнику.
– Как жаль, – сказал я, – а у меня очень важное письмо к консулу. Было бы гораздо лучше, если бы консул мог прочитать его сегодня.
Я не врал. Разумеется, было бы гораздо лучше, если бы консул мог это сделать сегодня. Ведь я не уточнил, для кого именно было бы лучше. Привратник попался на удочку. Взял письмо и сказал, что отнесет его консулу. Прошло довольно много времени. Ожидая на тротуаре, я с беспокойством раздумывал о том, что же, собственно говоря, я стану делать в Египте, если не добьюсь визы в Судан. Весь план составления репортажей и книги о большой спасательной кампании в Нубии пошел бы насмарку. Можно было бы, правда, посмотреть, что делается в египетской Нубии, но уже без Фараса. Без чуда в Фарасе, сотворенного руками польских ученых. Все хлопоты пропали бы даром. Наконец привратник вернулся. Лязгая замком, открыл ворота.
– Консул вас ждет, – заявил он.
Ошеломленный, я вошел в здание. Консул ожидал в своем кабинете. Сердечно пожал мне руку и начал подробно расспрашивать о моей миссии. Она была достаточно обстоятельно изложена в письме Польского археологического центра. Я рассказал обо всем, что хотел бы увидеть и сделать. Консул терпеливо слушал. Но вот я дошел до самого щекотливого вопроса: время! Я старался как можно лучше объяснить, что виза мне необходима сегодня же.
– Ах, так, – сказал консул. Взял мой паспорт и вышел.
Я ждал, исполненный тревоги. Как все это понять? Он не сказал «да», но не сказал и «нет». Я успел рассмотреть огромную карту Судана, висевшую на стене, и витрину с суданскими почтовыми марками. В канцеляриях посольств всех арабских стран выставлены витрины с почтовыми марками. Прекрасный обычай!.. Вдруг консул вернулся в кабинет, держа в руке анкеты, которые мне надлежало заполнить для получения визы. Я сделал это в мгновение ока и осмелился спросить:
– Я получу визу?..
– Посмотрим, – сказал консул. Его лицо стало непроницаемым. Он снова вышел из комнаты.
Надежда, мелькнувшая было несколько минут назад, начала гаснуть. Я подумал: «Скорее всего не дадут. Во всяком случае, наверное, велят прийти завтра. А завтра мне вообще уже незачем будет приходить».
Консул снова вернулся и сказал, что я должен заплатить полтора фунта. Да, пожалуйста, с удовольствием. Все меньше понимаю: будет виза или не будет? Проходит еще некоторое время. Жду. Наконец открывается дверь. Входит консул, теперь исполненный какого-то достоинства, лицо расплылось в широкой улыбке. Он держит мой паспорт.
В паспорте виза!
Пожимаю руку консулу и готов расцеловать его. Я ничего не пожалел бы для него в эту минуту. Консул дает мне понять, что я всем обязан польским археологам. Их очень ценят в Судане. Без их письма было бы совсем иначе.
Все продолжалось полчаса! Как безумный выбегаю из посольства. На дворе жара и неумолчный, истинно каирский рев автомобильных гудков. Но в душе у меня все поет. Теперь побыстрее в кассу агентства воздушных сообщений! Но это уже не суданское консульство. Предстоят мытарства с польским авиабилетом, выданным агентством «Лёт» в Варшаве, причем, как уже неоднократно со мной случалось, оформленным неправильно. Мытарства с билетом продолжаются долго, очень долго. Место в самолете от Луксора до Вади-Хальфы находится. А из Каира в Луксор вылетают ежедневно два самолета. Один отправляется сегодня в семь вечера, а следующий – завтра на рассвете. Я предпочел бы вылететь завтра, но, увы, билетов уже нет. Все места заняты. Зато есть место на сегодня. Да, но переписывание и многократный, кропотливый перерасчет суммы, причитающейся за билет, тянется до бесконечности долго. В Варшаве, конечно, ошиблись. Египетские служащие в агентстве воздушных сообщений работают более аккуратно, чем их польские коллеги, но зато очень медленно. До вылета остается только два часа. Я прошу египетскую служащую, чтобы она ускорила выдачу билета. Она смотрит на меня с изумлением.
– Не могу скорее. Я должна сделать все, как положено. У вас слишком мало времени, и вы вряд ли успеете. А если не успеете, то просто не полетите сегодня. Сможете тогда спокойно, без спешки полететь через неделю. Что это вы, европейцы, всегда так спешите?..
Я прошу ее, заклинаю, умоляю. Как объяснить ей, что ни потоп, ни чудо не станут меня ждать? Бедняжка начинает нервничать, руки у нее трясутся, в результате все тянется еще дольше. В конце концов соображаю, что лучше замолчать и просто терпеливо ждать. Но не могу оторвать глаз от стрелки часов. Остается только полтора часа... Уже больше четырех часов сижу в агентстве воздушных сообщений. Наконец служащая улыбается и вручает мне готовый билет. Все сделано. Номер места? Нет, брони на сегодняшний самолет нет. Слишком поздно. Остается лишь поехать и попытаться попасть на борт самолета. Она ни за что не ручается. До вылета остается всего 70 минут.
Теперь надо ехать в Гелиополис за вещами. Поездка на такси из центра города до помещения Археологического центра занимает около получаса. А ведь нужно еще уложиться. Затем поехать в аэропорт. Это займет не менее 20 минут. А там придется еще уладить все формальности, взвесить багаж. Да и неизвестно еще, будет ли свободное место. В такси потею, как мышь, но не от жары, а от страха. Что делать, если на улице произойдет несчастный случай или возникнет пробка? Каирские водители не считаются ни с какими правилами, едут, как им вздумается, ежедневно происходит масса столкновений, и у большинства автомобилей – погнутые крылья и оцарапанные кузова. Но не могу же я уговаривать водителя, чтобы он ехал тише. Наоборот, я вынужден торопить его. Не полететь теперь, когда я получил визу!..
Дома укладываюсь за несколько минут. Одни вещи кидаю в чемодан, другие выбрасываю из него. Результаты сумею определить лишь завтра. Тогда окажется, что я захватил плащ, который в Нубии мне ни к чему, зато оставил легкие бумажные брюки, которые там просто необходимы. С уложенным таким образом чемоданом сажусь опять в такси. Приезжаем на аэродром. Огромный зал пуст. Окошко агентства воздушных сообщений закрыто. Негде зарегистрировать билет или багаж. Нет даже носильщиков. Нет никого.
Вот почему вечером 27 марта 1963 года, без пяти минут семь, по опустевшему длинному залу огромного аэровокзала в Каире бежал запыхавшийся человек. Вид у него был потешный... Но об этом уже говорилось.
Теперь пришло время рассказать, что же, собственно, побудило этого человека так спешить. Но это будет уже рассказ не о суданском консуле, о польском авиабилете и агентстве воздушных сообщений, а о сложном и полном драматизма ходе событий, которые привели к не имевшей до сих пор прецедента «нубийской кампании». В событиях, которые нам предстоит теперь описать, принимали участие фараоны, мероитяне, арабы, нубийцы, апостолы из Константинополя, феллахи и, наконец, сыгравшие далеко не последнюю роль советские инженеры. Итак, в происходившем участвовало немало персонажей, но ведь и масштабы этих событий огромны.
Глава вторая. Сорок веков
Глядя сверху, с самолета, трудно понять, о чем, собственно, идет речь? Все имеет такой жалкий, такой убогий вид. Все, за исключением пустыни. Пустыня величественна, ее рельеф весьма разнообразен. Все пространство под самолетом до самого горизонта – это пустыня: песок и скалы. Скалы голые и похожи на скелеты животных. Свисая с горных хребтов, торчат огромные скалистые ребра. Между ребрами тянутся извилистые ущелья, высохшие «вади»[19], по которым иногда, во время ливней, течет вода. Но дождей, не говоря уже о ливнях, здесь почти никогда не бывает. В метеорологических сводках, когда речь идет об осадках в Нубии, чаще всего попадается слово «незначительные». И тем не менее вся пустыня, насколько хватает глаз, покрыта похожими на корыта речными ущельями. Может показаться, что весь этот край омывается водой. Однако, когда самолет несколько снижается или когда ветер рассеивает постоянно несущиеся над пустыней облака пыли, в ущельях видны камни и песок. Но не заметно никаких следов воды.
Вода есть только в Реке. Так называют Нил. Нил – единственная река здесь. И, когда кто-нибудь говорит: «Река», все понимают, о чем идет речь. Взяв курс на юг, по направлению к Вади-Хальфе, самолет чертит в воздухе прямую линию, зато Река поворачивает время от времени то влево, то вправо, и поэтому она не всегда видна. А когда самолет пролетает над ее руслом, то открывается не очень импозантное зрелище: серая полоска воды, обрамленная узенькими зелеными каемками. И так вся Нубия: немного зелени на обоих берегах Реки, иногда шириной в два или три километра, но чаще всего лишь в сто или двести метров. И это все. Как если бы вся обжитая территория Польши ограничивалась одними лишь привислинскими бульварами в Варшаве. На Черняковской, Косьцюшковской и Гданьской набережных – жизнь, а на Новом Свете[20] – уже пустыня.
А ведь эта узкая полоска зелени, на которой поддерживается жизнь, тянется от Средиземного моря до самых степей Центральной Африки, на протяжении почти трех тысяч километров, из которых пятьсот приходится на Нубию, расположенную между первым и четвертым порогами Нила. На этих ста или пятистах метрах зелени жмутся друг к другу селения и маленькие городишки. Их много, порой Нил протекает через одно большое селение длиной свыше десяти километров. Белые и серые хижины, вылепленные из нильского ила, без окон, крытые тростниковыми циновками и редко когда с кровлей. Скрипучие водоподъемные колеса – сакие – над Рекой, приводимые в движение длинноухими буйволами. Канавы, а вернее, маленькие канавки, через которые весь день сочится вода, черпаемая сакией. Крохотные участки, засаженные кукурузой, фасолью, лубией, тыквой и дынями. Ослы, козы, иногда верблюды. Посреди селения – укатанные дворики, на которых в пыли, рядом с навозными кучами резвятся дети. В стороне – неизменная кофейня на терраске, где собираются мужчины. Большую часть года – ужасная, изнуряющая жара. Температура достигает тогда 45-48 градусов в тени. На солнце термометры ведут себя как ошалелые, показывая 60 градусов, а то и больше.
Вот и все. Ряд убогих селений, втиснутых между Рекой и пустыней. Население, трудолюбиво обрабатывающее маленькие клочки земли, эмигрирующее в поисках работы в Каир, в район дельты или в Хартум. В Каире нубийцы попадаются на каждом шагу. Они работают привратниками, домашними слугами, официантами, водителями такси. Их очень ценят за чистоплотность, честность и скромность. Проработав 20-30 лет в Каире, они возвращаются со сбереженными деньгами в родную Нубию. Теперь можно беззаботно сидеть в кофейнях, играть в кости, смотреть на Реку – и так до конца своих дней. Вот почему в нубийских селениях господствуют женщины, преобладает подлинно матриархальный строй. Женщины работают на крохотных полях, растят детей, чинят глиняные стены своих хижин. Мужчины большую часть своей жизни проводят вдалеке отсюда, хотя многие приезжают иногда повидаться с семьями, обычно раз в два или три года. Нубия бедна, и разлука здесь – следствие бедности. Эмиграция в поисках работы особенно развилась в XX веке, когда уровень Реки стал повышаться. Он рос скачками, каждые 10-20 лет, по мере того как надстраивалась плотина, сооруженная в Асуане в период владычества англичан. Плотина надстраивалась несколько раз, и каждый раз вода затопляла селения и поля. Селения отступали на новые места, расположенные поодаль, на расстоянии 100 или 500 метров. Нубийские хижины, вылепленные из ила, – это не европейские каменные дома: их нетрудно разломать и соорудить заново. Хуже с полями. Селение, которое переводили на полкилометра дальше, оказывалось вдруг не в плодородной долине Нила, а в пустыне. Приходилось заново копать оросительные канавы, обрабатывать новые участки земли, удобрять их, добиваться, чтобы земля, или, вернее, песок, плодоносила. Но семью нужно было кормить сейчас, а не через несколько лет. Глава семьи поэтому эмигрировал.
Река стала набухать в XX веке. Однако бедность всегда была уделом этой страны. Мы знаем, что в войнах, которые вели фараоны, они охотно пользовались нубийскими наемниками. Это также была одна из форм эмиграции. Нубия и тогда, должно быть, бедствовала.
История постепенного перемещения Нубии на полкилометра в глубь пустыни была лишь кратковременным эпизодом в развитии страны. Больше это не повторится. До сих пор уровень Реки подымался постепенно и медленно. Теперь она взорвется, выльется из берегов, создаст настоящее море, величайшее искусственное море в мире. Под воду уйдут все селения, все городишки на территории длиной в пятьсот километров. Нубия перестанет существовать.
Однако если речь идет о такой, в сущности, малости, как узкая полоска земли, лишенная каких-либо богатств и даже каменных домов, то почему предстоящая гибель Нубии вызвала столь бурную реакцию во всем цивилизованном мире, почему она стала объектом большой международной кампании, начатой Организацией Объединенных Наций, и даже темой, увековеченной на почтовых марках.
Чем объяснить весь этот шум и переполох?
Чтобы ответить на такой вопрос, необходимо отрешиться от свойственного всем нам образа мыслей. Если мы привыкли исчислять время неделями и месяцами, самое большее – кварталами, а причины разных касающихся нас явлений искать в том, что Икс сказал или сделал пару дней назад, то в данном случае мы должны приспособить наш ум к иным масштабам и перспективам. Речь здесь идет не о том, что Икс сделал месяц назад, а о том, что группа людей, которых мы назовем Икс, совершила... шесть тысяч лет назад.
Перенесемся мысленно в IV или, быть может, V тысячелетие до нашей эры. В долине Нила появляется какой-то неизвестный народ с бронзовым оттенком кожи, народ ловкий и смышленый, выносливый и проницательный. В это же время в двух с половиной тысячах километров отсюда шумеры создают на берегах Тигра государство, положившее начало грядущему Вавилонскому царству, которое в эпоху Шумера было еще отдаленным, неведомым будущим. Далеко на востоке, на расстоянии многих тысяч километров, возникает китайское государство. Это были первые центры человечества, человечества цивилизованного, а не обитающего в пещерах. Но никто тогда еще не слышал и не имел представления о таких появившихся позднее творениях, как фонетическая письменность, как пирамиды или Библия... Это было еще только самое начало.
Народ с бронзовой кожей появляется в долине Нила. Откуда же он? Этого мы не знаем. Ученые строят разные предположения. Быть может, народ этот пришел из Малой Азии, возможно, – с Аравийского полуострова. Некоторые утверждают, что эти люди явились из поглощенной впоследствии океанской пучиной Атлантиды – уже цивилизованные, образованные, с высокоразвитой культурой[21]. Наконец, есть ученые, которые разделяют мнение греческого историка Диодора Сицилийского, писавшего: «Эфиопы, как говорят историки, были первыми людьми... а большинство обычаев египтян, как утверждают они, эфиопского происхождения». Итак, из Эфиопии. Многие ученые считают, что Диодор был прав. Они полагают, что праегиптяне действительно прибыли из Абиссинии, а точнее, из Сомали[22]. Там же находят и загадочную, легендарную страну Пунт, о которой многие древнеегипетские иероглифические тексты отзываются как о далекой, богатой и счастливой стране, куда древнеегипетские мореплаватели и караваны устремлялись в поисках золота и других сокровищ.
Существует также гипотеза, что как египтяне, так и вавилоняне произошли от одного общего колена – какого-то третьего народа. Этот народ, если только он вообще существовал, обитал, по всей вероятности, в Пунте, то есть в Сомали[23].
Затем он, возможно, подался на север по берегу Красного моря, который в ту эпоху не был столь высохшим и пустынным, как сегодня. Впоследствии этот народ достиг, видимо, Нила, переправившись через перевал близ нынешнего небольшого порта Эль-Косейр на Красном море. На египетских рисунках ранней додинастической эпохи обнаружены ладьи. Вполне возможно, что подобные рисунки удалось бы найти и в Сомали, если бы там когда-либо производились широкие археологические исследования.
По всей вероятности, в Египте вначале поселился тот же самый народ, что и в Нубии[24]. Ранние обитатели этих стран выделывали одинаковую керамику, использовали одни и те же мотивы в своих орнаментах. В далеком прошлом, которое даже в эпоху пирамид, сфинкса и колоссов Мемнона считалось уже глубокой древностью, между территориями нынешнего Египта и современной Нубии существовали, видимо, самые тесные и разнообразные связи. Впоследствии, однако, эти связи ослабли. Обе страны пошли в дальнейшем разными путями. Путь Египта нам известен относительно хорошо. Это путь построения централизованного государства, создания цивилизации, не имевшей себе равных в течение многих столетий и характеризовавшейся развитием архитектуры и астрономии, математики и поэзии, скульптуры и живописи, юриспруденции и царепочитания. Впоследствии из этой цивилизации целыми пригоршнями черпала древняя Греция, от которой многое заимствовали мы сами. Зато Нубия задержалась в своем развитии. Когда в Египте на смену глиняным пришли каменные и медные сосуды, в Нубии все еще лепили глиняные горшки. Когда в Египте изобрели гончарный круг и начали производить красивые керамические изделия, восстановив былую роль глины, но значительно облагородив ее, в Нубии продолжали выделывать керамику вручную. Раскопанные могильники свидетельствуют, что нубийцы сопротивлялись новшествам, приходившим с севера. Пропасть между двумя культурами росла. Но почему? Этого мы не знаем.
Вот что пишет в своей книге «High Dam over Nubia» («Высотная плотина над Нубией»[25]) Лесли Гринер – английский исследователь, археолог, журналист, офицер и художник в одном лице, который много лет провел в Нубии (мне удалось познакомиться с ним в Дейр-эль-Бахари близ Луксора, где он осматривал храм царицы Хатшепсут, реконструированный поляками).
«Интересно отметить здесь то обстоятельство, что, хотя египтяне додинастической эпохи, возможно, и позаимствовали искусство выделки керамики у населения территорий, расположенных к югу от нильского порога, лишь очень немногие следы их заново усвоенного мастерства проникли обратно в верховья Нила, за его порог. Два народа, к северу и к югу от последнего, стали все больше обособляться друг от друга. Это объясняется, возможно, не только преградой, какую создавал порог Нила (мы видели уже, что она никогда не была непреодолимой), но также и суровым характером страны, расположенной на юге. Все это в сочетании с постепенным увеличением сухости климата чрезвычайно затрудняло сообщение со страной Куш[26] и территориями, расположенными южнее. Кроме того, к этому не было никаких стимулов. Ведь в конечном счете у народов неолитической и додинастической эпох не было еще таких побуждений, как у нас, к продвижению торговли и мореходства в наименее гостеприимные уголки земного шара. Рейснер[27] и другие, производившие археологические изыскания в 1907 году, накануне первой надстройки Асуанской плотины, не нашли практически никаких следов орнаментированной египетской керамики выше нильских порогов.
Они обнаружили, однако, следы другого народа коричневой расы, который несколько позднее вел торговлю с египтянами эпохи I династии...»
Но прежде чем рассказывать об этом другом народе, появляющемся на исторической сцене в Нубии, остановимся на поразительном открытии, сделанном в последние годы. Открытие это ставит перед нами прямые вопросы, касающиеся самой колыбели человечества: где, когда, кто?
В 50-х годах нашего века в столице Судана Хартуме, то есть значительно южнее Нубии, тогдашний суданский комиссар по археологическим вопросам профессор А. Аркелл, англичанин, предпринял археологические раскопки. Он открыл следы существования в древнейшие времена негроидной народности «копьеметателей», пользовавшихся керамикой, украшенной волнистыми узорами, и копьями с костяными наконечниками. Все находки относились, очевидно, к более ранней эпохе, чем аналогичные предметы, обнаруженные в Египте и употреблявшиеся египтянами додинастической эпохи. Это обстоятельство озадачило египтологов и заставило их склониться к гипотезе, что исконные обитатели Египта, возможно, проникли сюда с юга. Чтобы решить этот вопрос, необходимо обследовать весь Судан, уделив особое внимание двум открытым недавно культурам: культуре рифленой керамики и культуре моста в Омдурмане (названной по имени места, где были найдены ее следы). Речь идет о том, чтобы выяснить, не является ли одна из этих культур делом рук народа коричневой, а не черной расы, так как в противном случае вопрос о том, откуда явились египтяне, остался бы покрытым мраком неизвестности.
В дальнейшем был сделан ряд открытий в русле высохшей реки Азавак, которая некогда впадала в Нигер. Там также были найдены остатки сосудов, аналогичных тем, какими пользовались представители трех упомянутых выше культур. А ведь эти места расположены на три тысячи километров западнее! Наконец, подобные памятники были обнаружены в районе Красного моря и... в Северном Ираке. Каким образом одна и та же керамика получила распространение на столь обширных территориях? Этого мы не знаем. Аркелл предполагает, что ее могли перенести из Азии и распространить по Африке рыбаки и охотники. В те времена Нил, видимо, разливался сильнее, чем сейчас, и образовывал обширные болота. Сахара не была еще пустыней, а представляла собой животворную, поросшую зеленью территорию. Об этом свидетельствует сделанный при помощи изотопа углерода С-14 анализ найденных здесь останков животных, который позволил установить, что это останки зверей, живших за 7-7,5 тысяч лет до нашей эры. На скалах, расположенных на территории Нубии, в 10-20 километрах от Вади-Хальфы, кроме того, обнаружены изображения слонов, жирафов, носорогов – зверей, которые давно уже тут не обитают, а перебрались на юг, в менее засушливые районы Африки.
Была открыта также рифленая керамика, соответствующая наскальным рисункам; как удалось установить, она относится к V тысячелетию до нашей эры. И, что интереснее всего, исследователи пришли к поразительному выводу: все эти изображения возникли под явным влиянием мезолитических рисовальщиков, пришедших с территории нынешней Испании!
Аркелл писал: «Пока история и предыстория Судана – в отличие от Египта – остается неизвестной, нет возможности связать археологические находки в других частях Африки с открытиями, сделанными в Египте, а значит, и отнести их к сколь-либо точным датам». Дело в том, что мы в состоянии уже относительно точно определять даты, касающиеся истории Египта, хотя и здесь, когда речь идет о начальном периоде египетского государства, расхождения между отдельными теориями достигают тысячи лет...
Стало быть, история Нубии – это своего рода мост между историей Египта и историей остальных частей Африки. Кроме того, в Нубии, быть может, кроются ответы на вопросы, касающиеся истоков самого Египта. Но это еще не все: обстоятельное исследование Судана может пролить свет на истоки цивилизации вообще: на связи между Египтом, с одной стороны, и Шумером и Вавилоном – с другой, на существование общего для всех них звена и так далее.
Но вот ситуация в долине Нила меняется. В Египте возникает государство с царской властью, создается система управления, постоянная армия – одним словом, новая, величественная цивилизация. Это происходит приблизительно за три тысячи лет до нашей эры, хотя нет полной уверенности, не происходило ли все это пятью столетиями раньше или... позже[28]. Так возникает то, что мы привыкли называть Древним царством. Хотя у нас пока нет уверенности в датировке, тем не менее нам уже известно многое об этой эпохе. Мы знаем имена многих царей, мы нашли пирамиды, гробницы, храмы. Знаем, что существовала египетская письменность, что Древнее царство достигло высокой ступени развития.
Приблизительно в то же самое время в Нубии появляется новая культура. Обнаружены могильники, принадлежавшие ее носителям. Они образованы погребениями овальной или прямоугольной формы длиной и глубиной около метра; умершие захоронены в скорченном положении, то есть так же, как в погребениях додинастического Египта. Была найдена керамика, относящаяся к этой культуре. В двух исследуемых некрополях обнаружены памятники, вне всякого сомнения также принадлежащие к ней. Не найдено, однако, никаких следов письменности, которой могли пользоваться носители этой культуры. Поэтому она осталась безымянной, хотя порядка ради получила название «культуры группы А», или просто «культуры А». Так неизвестно откуда явившаяся культура была зарегистрирована, подобно простому орнитологическому образцу.
От культуры А осталось немного следов, или, вернее, немного ее следов нам удалось найти. Зато деятельные и уже хорошо организованные в то время египтяне оставили о ней значительно больше сведений. Небольшие племена, примитивные первобытные общественные образования обычно мало интересуются своими соседями. Но положение меняется, когда возникает государство. Каждое такое государство всегда проявляет активное внимание к своим соседям: не желая попасть к ним в рабство, оно само стремится их подчинить. Естественно поэтому, что Египет вскоре заинтересовался своими южными соседями. Подобно тому как иное современное государство нуждается в иностранных машинах для своей промышленности и в заграничных автомобилях и винах для своих властителей, так и древнеегипетское царство нуждалось в рабах, а также в золоте, слоновой кости и благовониях. Где было искать их? Вопрос решался просто: на юге! Дорога на юг, в страну Куш и дальше, вела через Нубию. Фараоны начали поэтому отправлять экспедиции сперва в чисто мирных, торговых целях, – как стали говорить через пять тысяч лет англичане, «торговля следует за флагом». Существует запись, относящаяся к временам VI династии, с перечислением товаров, которые Египет экспортировал на юг. Некий Сабни получил от царя разрешение отправиться на юг за останками своего отца Мекху, скончавшегося во время «путешествия по служебным делам». Сабни взял с собой сотню ослов, навьюченных «мазями, медом, одеждой и изделиями из фаянса». Известно, что Египет импортировал взамен слоновую кость, дорогие сорта древесины, некоторые виды зерновых, ароматические вещества и шкуры леопардов.
Около Бухена, к югу от Вади-Хальфы, высится холм, носящий название Гебель-шейх-Сулиман. На вершине этого холма была найдена стела с высеченным на ней по приказу фараона Джера рельефным изображением. Мы видим на нем типичную для периода I династии ладью, вздымающуюся над телами убитых врагов. С носа ладьи свисает тело повешенного нубийского вождя. Дальше высечено символическое изображение Нубии со связанными руками и, наконец, гордое имя фараона-победителя. Сверх того, имеются еще два знака, изображающие названия двух покоренных нубийских городов. В общем, если судить, исходя из наших современных обычаев, не хватает лишь эмблемы полков и дивизий, совершивших все эти подвиги. Неизвестно также, не приказал ли фараон Джер выбить памятную медаль «За Нубию».
Что было причиной древней «полицейской операции»? Этого мы не знаем. Однако можно предположить, что кто-либо из вождей племен культуры А не сумел сдержать своей жадности и напал на торговый караван египтян или отказался платить дань, которую (кстати говоря) ему пытались навязать. Зато, исследовав так называемый «Палермский камень»[29], легко можно установить, к каким осязаемым результатам привела одна из следующих экспедиций этого рода, предпринятая в эпоху царя IV династии Снофру. Вот что написано там рядом с именем царя: «Год опустошения страны чернокожих, захвата 7000 пленных, мужчин и женщин, и 200 000 голов скота, овец и коз». Стало быть, речь шла уже не только о том, чтобы покарать разбойников, мешавших вести торговлю, но и о том, чтобы добыть рабочие руки и сырье. Понятие «кровных интересов государства» развивалось вполне логично... Обеспечение неприкосновенности линий коммуникаций с югом стало для Египта вопросом защиты государственных интересов, подобно тому как сорок пять столетий спустя интересы другого государства требовали обеспечения неприкосновенности его линий коммуникаций с востоком, с Индией, через территорию Египта и Суэцкий канал. Вот почему на дороге, ведущей через Нубию на юг, началось сооружение фортов, баз и складов. Древнейшая военно-торговая база этого рода была найдена в Икуре, к югу от Асуана. Впоследствии создавались и другие, еще более мощные базы.
Лесли Гринер пишет:
«То обстоятельство, что Икур был только торговым складом, заставляет думать, что в те времена, когда знаменитая пирамида Хеопса еще сверкала своей новизной, жители Северной Нубии были слишком слабы, чтобы представлять собой угрозу для египтян. Они были, скорее всего, небольшим и убогим народом, в значительной мере сохранявшим еще свою неолитическую культуру; занимавшие господствующее положение египтяне должны были смотреть на них как на жалких дикарей, предпочитая не вспоминать о своих общих с ними расовых корнях. В конце концов египтяне построили так называемые „Ворота Элефантины“ и установили официальную государственную границу близ Асуана, на первом пороге, скорее как оплот против более воинственных посягателей из расположенной южнее страны Куш. Таким образом, Северная Нубия была „ничейной территорией“, подверженной передвижениям войск и вооруженным, вторжениям с обеих сторон – с юга и из Египта. Подобные условия делали невозможными материальное преуспеяние или культурный прогресс. Итак, египтяне пользовались находящейся ныне под угрозой затопления нубийской зоной в качестве линии коммуникаций в торговых и военных целях. Из немногочисленных дошедших до наших времен источников явствует, что они появлялись на этих путях часто и с обеими целями».
Сохранились некоторые источники, свидетельствующие о том, как это происходило. Известный египтолог XIX века О. Мариэтт открыл, например, близ Абидоса в Среднем Египте гробницу некоего Уны. На ее стенах было высечено его жизнеописание. Вот что, в частности, говорится там:
«Когда я был дворцовым ачет[30] и носителем сандалий (фараона), царь Верхнего и Нижнего Египта Меренра, мой господин, который, да живет вечно, назначил меня местным князем и начальником Верхнего Египта от Элефантины на юге до Афродитопольской области на севере, так как я пользовался расположением его величества, так как я был угоден его величеству, так как его величество полагался на меня».
«Его величество послал меня в Ибхат доставить саркофаг „Ларь живущего“ вместе с его крышкой и драгоценной и роскошной верхушкой для пирамиды „Является и милостив Меренра“ госпожи».
Уна отправился в путь на шести грузовых и трех перевозочных судах.
«Никогда ни в какие времена не посещали Ибхат и Элефантину за одну экспедицию».
«Его величество послал меня прорыть пять каналов в Верхнем Египте и построить три грузовых и четыре перевозочных судна из акации Уауата. При этом правители Ирчет и Меджа поставляли для них дерево. Я выполнил все это за один год. Они были спущены на воду и нагружены до отказа гранитом для пирамиды „Является и милостив Меренра“»[31].
В другой гробнице, высеченной в скале под Асуаном и исследованной в 1885-1886 годах, найдем еще более подробный отчет об экспедициях в эпоху Древнего царства. Эта гробница Хуфхора, царского чиновника времен того же царя Меренра, хранителя царской печати, «друга единственного»[32] царя, жреца и каравановожатого. Он был также правителем южных номов Египта и совершил несколько экспедиций за пределы страны, на юг. Возвратившись из второй экспедиции в страну Иам, Хуфхор писал, что отправился далеко в неведомые края на юго-западе и что «никогда не находил я, (чтобы) совершил (подобное) какой-либо „друг“ или начальник переводчиков (?), вышедший в Иам прежде». Во время третьей экспедиции в Иам (он отправился туда через Элефантину, а значит, через Нубию) Хуфхор узнал, что местный правитель направился в страну Темех, чтобы разрушить эту страну «до западного угла неба». Однако Хуфхор счел, видимо, эти действия самовольными, предпринятыми без согласия могущественного египетского соседа. Он отправился поэтому вслед за самовольным правителем и «умиротворил его, чтобы он славил всех богов за государя»[33]. Возвратившись из этой экспедиции, Хуфхор доставил ко двору трехсот ослов, нагруженных благовониями, черным деревом, зерном, шкурами барсов, слоновой костью и многими другими товарами. Когда Хуфхор возвращался к царскому дворцу, фараон направил ему навстречу в верховья реки начальника купален с кораблями, груженными финиковым вином, пирожками (?), хлебом и пивом. Видно, Хуфхор хорошо послужил своему властелину.
Вскоре после этого царь Меренра скончался; однако Хуфхор продолжал служить и при следующем фараоне, Пепи II, которого называют также Пиопи II, Хуфхор совершил тогда свою четвертую экспедицию, которая, как он считал, снискала ему наибольшую славу. На обратном пути он получил указ царя. Хуфхор придал этому документу столь большое значение, что велел перестроить часть своей уже готовой в ту пору гробницы, чтобы найти место для воспроизведения полного его текста. В результате до наших времен дошел единственный полный текст указа фараона времен Древнего царства.
«Печать самого царя, 2-й год царствования, 3-й месяц Половодья[34], 15-е число.
Царский указ „другу единственному“, херихебу[35], начальнику переводчиков (?) Хуфхору:
„Я знаю слова твоей этой грамоты, составленной тобой для царя во дворец, чтобы дать знать, что ты спустился благополучно из Иам вместе с войском моим, что с тобой. Ты сказал в твоей грамоте, что ты доставил всякие дары, великие и добрые, данные Хатхор[36], владычицей Имемау (?) для души царя Верхнего и Нижнего Египта Неферкара[37], да будет он жить вечно, вековечно.
Ты сказал в твоей этой грамоте, что ты доставил карлика (для) плясок бога из страны Ахтиу (?), подобного карлику, доставленному казначеем бога Баурдедом из страны Пунт во времена Исеси[38]. Сказал ты моему величеству, что никогда не было доставлено подобного ему кем-либо другим, проходившим Иам прежде... Ступай же на север в столицу тотчас, посылай (донесения?). Да доставишь ты с собой этого карлика, которого ты привел из страны Ахтиу, живым, целым и здоровым для плясок бога, для увеселения, для развлечения царя Верхнего и Нижнего Египта Неферкара, да будет он жить вечно. Если он будет спускаться с тобой в лодку, то назначь людей отменных, которые будут постоянно находиться позади него на обоих бортах. Берегись, (если) он упадет в воду. Если он будет спать ночью, то тоже назначь людей отменных, которые будут спать позади него в его палатке. Проверяй десять раз за ночь. Мое величество желает видеть этого карлика более, чем дары рудников и Пунта. Если ты достигнешь столицы, а этот карлик будет с тобой живым, целым и здоровым, то сделает мое величество для тебя больше, чем сделанное для казначея бога Баурдера во времена Исеси, согласно желанию моего величества видеть этого карлика“»[39].
Как видно, указ этот исходил не от примитивного, полудикого властителя первобытного государства. Это был указ утонченного, жаждущего забав, любознательного монарха. Однако, хотя сей властитель не отказывал себе в роскоши и развлечениях, на которые не жалел средств, он не забывал и о государственных интересах. Это он повелел другому вельможе «погубить Уауат и Ирчет», строптивые и бунтующие племена, принадлежащие к культуре А. Приказ был выполнен, вождей схватили и доставили к царскому двору. Очевидно, приказ был осуществлен со всей скрупулезностью, так как с тех пор мы не встречаем уже больше никаких следов носителей культуры А[40].
Перейдем теперь к культуре С.
И об этой культуре, так же как о предыдущей, нам известно очень мало. Установлено лишь, что ее носители сооружали погребения овальной формы. Внутри каменной ограды рыли яму, куда клали умершего, всегда в скорченном положении. После этого яму засыпали песком. Впоследствии вместо ямы стали делать нечто вроде каменного саркофага, а затем туда же помещали некое подобие жертвенника, который находился в обращенной к востоку части погребения. Здесь приносили жертвы. Начали также сооружать каменные столбы, на которых высекали изображения животных. Такие столбы и изображения были найдены в западной части Сахары, вдалеке от описываемых нами мест. Из этого опять-таки следует вывод, что в те времена Африка, возможно, представляла собой более единое целое, чем позднее. Гринер пишет: «Это еще один пример единства Африки в археологическом отношении. Потеря ключа, находящегося в Нубии, навсегда закроет перед нами многие двери в самых отдаленных местах».
Откуда пришли эти люди, о которых мы знаем так мало, что не можем даже назвать их? По всей видимости, с юга, а быть может, и с запада. Такие миграции были, несомненно, связаны с прогрессирующей засушливостью климата, в результате чего зона африканских степей сокращалась, а зона пустыни неуклонно росла. Люди, принадлежащие к культуре С, безусловно, были вначале кочевниками. Лишь прибыв в долину Нила, они перешли на оседлый образ жизни. Это было, впрочем, непреложным правилом в течение тысячелетий. Каждый народ, который прибывал сюда, оставлял кочевой образ жизни, переходил на оседлый и раньше или позже цивилизовался. Так было и с египтянами и с племенами, принадлежащими к культурам А и С, а впоследствии и с носителями культуры X, так было и с арабами. Есть что-то в этой долине, что привлекает кочевников, приковывает их к себе и больше уже не отпускает. Когда пришельцы с обширных, высохших и опаленных зноем территорий добирались до Реки и видели ее проточную воду и зеленые берега, они оставались здесь навсегда. Такова история племен культуры С. Они сумели захватить себе место на берегу Реки, пользуясь временным ослаблением могущества Египта, которое вошло в историю под названием первого периода распада. Возможно, что люди культуры С были потомками народа Темех, о котором писал Хуфхор. До сих пор в этих краях обитает народ Тама. По предположениям некоторых ученых, и нынешнее племя Урти происходит, возможно, от народа Ирчет, почти полностью истребленного в царствование фараона Пепи II.
Пользуясь слабостью Египта в первый переходный период, племена культуры С поселились в Нубии и сумели проникнуть далеко на север. Один из их могильников был найден ниже первого порога Нила, то есть на территории, которая всегда считалась исконной территорией Египта.
Однако в эпоху Среднего царства Египет возродился заново, став еще более могущественным, чем прежде. Фараоны XI династии Ментухотеп I и II совершили ряд экспедиций, целью которых было (прибегая к современной фразеологии) «вразумить этих варваров и привить им уважение к закону, власти и порядку». Их политику продолжили фараоны XII династии Аменемхет I и Сенусерт I. Мощные и отлично оснащенные войска египтян справились со своей задачей и «приучили варваров к порядку». В результате было истреблено множество людей культуры С, а остальных заставили покориться и «петь хвалу богам во славу царя».
Линия коммуникаций с югом была вновь создана. Чтобы обезопасить ее, египтяне построили длинную цепь мощных укреплений. Однако это не были фортификационные сооружения, вроде «линии Мажино», имевшие целью оградить государство от агрессоров. Это были укрепления, которые сами являлись продуктами вторжения. Если французская «линия Мажино» располагалась вдоль границы и должна была защищать ее, то линия египетских укреплений вела от границы в глубь чужой страны, вдоль Нила. Ее целью было оградить транспорты и торговые экспедиции египтян. Пользуясь опять аналогией с современностью, можно сказать, что она напоминала скорее цепь укрепленных постов, создаваемых для охраны линии железной дороги.
Против кого же сооружались все эти укрепления? Мы снова вынуждены промолчать, так как у нас нет точных источников и материалов о культуре С. Археологи не могут пока похвастаться сколь-либо значительными достижениями в этой области. Кроме упомянутого могильника в Верхнем Египте, в 1931 году были исследованы еще два могильника, на этот раз уже в Нубии. Следы культуры С были найдены в Фарасе, по обеим сторонам Нила, в Дибейре и в Фирке и, наконец, в Коше – местности, которой достигнет водохранилище, когда разольется Нил; однако пока не удалось тщательно исследовать все эти места. Дальнейшие следы существования культуры С обнаружены южнее, на территории, которой не угрожает предстоящее затопление Нубии. Зная о культуре С так же мало, как и о культуре А, мы можем получить о ней более полное представление, лишь изучив все следы и памятники египтян. Источник, правда, импонирующий, но ненадежный! Как если бы в наше время мы пытались судить о населении стран, оккупированных в период второй мировой войны, исключительно на основе источников, оставленных оккупантами. А что делать? Есть, впрочем, некоторая разница. Египтяне не были только оккупантами, хозяйничавшими в короткий период военных действий. Они господствовали в Нубии ряд столетий и играли роль колониальной державы. Это, разумеется, меняет положение вещей, хотя данные о местных жителях, извлеченные из памятников, оставленных колонизаторами, также не очень надежны.
Посмотрим все же, что сохранилось от египтян, например, в местности Икур, откуда ответвлялась дорога к золотым приискам в Восточном Судане, а как полагают некоторые, – и к легендарной стране Пунт. Еще в период Древнего царства здесь существовала торговая фактория, по-видимому вместе с военным постом. Впоследствии все это попало в руки кочевников, принадлежащих к культуре С. Наконец фараон Сенусерт I (около 1970 года до нашей эры) построил здесь торговую базу. Но не ограничился только этим. На противоположной стороне реки он возводит крепость. Но какую! Она была явно рассчитана на то, чтобы раз и навсегда отбить у неосмотрительных смельчаков охоту вмешиваться в сферу жизненных интересов его государства. Шестьдесят лет назад египтолог Артур Вэйголл следующим образом описал свои впечатления от осмотра крепости Кубан, расположенной напротив «центральной товарной базы» в Икуре: «Руины крепости – одно из наиболее впечатляющих зрелищ в Нубии. Они пленяют воображение, приоткрывая завесу над давно минувшими временами так, как этого не мог бы сделать ни один из храмов. Мрачные, разваливающиеся стены, все еще громоздящиеся на значительную высоту, обрушившиеся эскарпы и контрэскарпы, ров и крытые проходы – все это наводит на мысли об оживленной деятельности в древнем Египте».
По мнению Вэйголла, стены были выложены из крупного, высушенного на солнце кирпича (так строят в Нубии и по сей день; этот строительный материал отличается большой прочностью, разумеется только в зоне, где вовсе нет дождей). Толщина стен составляла шесть, а высота – восемь метров. Ров был вырыт в скале, однако не известно, заполнялся ли он водой. На северной и южной стороне имелись ворота, укрепленные башнями, а входы в крепость были всего три метра шириной. Доступ к реке обеспечивался через крытый проход, укрепленный крупными каменными глыбами.
Так выглядела крепость Кубан. Окружающая ее среда, как и сама крепость, пока еще детально не исследована. Во всяком случае, положение крепости, ее мощные стены, башни и ров могли преследовать лишь задачу защищать египетский гарнизон от племен культуры С. В те времена никто другой не проникал так далеко. И хотя, как мы уже говорили, подобные рассуждения не совсем верны, тем не менее кое-какие выводы, безусловно, можно сделать.
Кубан – лишь одна из целой цепи крепостей. Следующая была сооружена южнее, в местности, именуемой ныне Аниба. Ее выстроил, по-видимому, тот же Сенусерт I. Еще одна крепость возникла, как предполагают, в том месте, где сейчас находится селение Фарас, которому суждено вскоре исчезнуть под водой. Фарас – это название будет часто повторяться в нашей книге, ибо здесь произошло то «нубийское чудо», навстречу которому я спешил вопреки всем препятствиям. Однако об этом позднее. А пока отметим, что, судя по древнеегипетским источникам, где-то здесь должна была существовать крепость, прозванная «охватывающей обе страны». Почему? Потому что Нил, видимо, тут раздваивался, образуя остров, на котором стояла крепость.
Еще одна крепость высилась в Восточной Серре, в каких-нибудь 15 километрах дальше к югу. И, наконец, – Бухен, напротив Вади-Хальфы, самая известная и, пожалуй, самая могущественная из всех «египетских Дуомон»[41]. Кроме крепости здесь находятся руины двух храмов. Весь этот комплекс был исследован в 1910 году англичанами Рэндолл-Макайвором и Леонардом Вулли, а в последнее время, начиная с 1957 года, там работала другая английская экспедиция, под руководством известного археолога профессора Эмери.
Крепость в Бухене состояла из мощных стен, рва, эскарпов и контрэскарпов. Кроме того, там были круглые бастионы, откуда скрытые в них лучники могли метать стрелы во все стороны. Каждый, кому вздумалось бы штурмовать стены этой крепости, должен был бы сперва спуститься по откосу контрэскарпа и начать взбираться по эскарпу. Причем все это ему приходилось бы, разумеется, проделывать под обстрелом. Оказавшись теперь на дне шестиметрового рва, он должен был бы противостоять ураганному обстрелу из луков и пращей – камни сбрасывали бы ему прямо на голову сверху и с флангов. Если бы, однако, ему удалось преодолеть и эти препятствия, он очутился бы на открытом участке под обстрелом с главного сооружения высотой десять метров. Чтобы взять эту часть крепости, нужно было бы или разрушить ее массивные стены, или пробраться туда сверху, или форсировать входные ворота, что опять-таки было связано с необходимостью вторгнуться через коридор шириной три метра с крепкими двойными дверями и мостом, разводимым посредине.
Те, кто видели Бухен, утверждают, что этот древнеегипетский Сингапур был в то время, несомненно, не меньшим достижением военной техники, чем его подобие в XX веке. Однако разница между ними в том, что Сингапур оборонялся лишь 40 дней, а Бухен (если не ошибаемся), не был взят никем в течение... почти 400 лет! Нас такая цифра ошеломляет, но египтян... Несмотря на такую разницу, есть и некоторое сходство. По мнению профессора Эмери, после 400 лет независимого существования крепость Бухен была наконец взята. Слой пепла указывает на то, что победители предали Бухен огню. А так как следы огня выступают наиболее явственно вблизи ворот, Эмери пришел к выводу, что штурмующие вторглись в крепость именно этим, самым трудным путем. Однако, как и в Сингапуре, это свидетельствует не об исключительной силе атакующих или о слабости крепости, а просто... о слабости ее гарнизона, ибо Бухен пал только тогда, когда весь Египет покачнулся и едва не исчез в сумраке истории. А произошло это в результате так называемого вторжения гиксосов. Мы до сих пор мало знаем о происхождении гиксосов. Нам неизвестно также, кто в действительности брал штурмом ворота Бухена. Зато достоверно установлено, что в тот период Египет пережил глубокое потрясение, подобное испытанному Польшей в период ее разделов. Крепость пала не столько в результате превосходящей мощи чужеземных захватчиков, сколько вследствие слабости и деморализации самих египтян.
Такая же участь постигла и все остальные форты той цепи, первым звеном которой был Бухен. Цепь эта тянулась от нынешнего города Вади-Хальфы на юг, вокруг второго нильского порога, и вместе с ним создавала непреодолимую преграду – непреодолимую, разумеется, только тогда, когда форты оборонялись храбрыми и послушными приказам гарнизонами. Но не следует пренебрегать стойкостью египтян. Вспомним, что до своего падения Среднее царство свыше 400 лет сохраняло никем не оспариваемое господство над всей Нубией[42]. Это больше всего периода существования Британской империи. Кроме того, нужно помнить, что во времена XII династии Среднего царства укрепления строились в местах, где уже стояли раньше сооружения времен I и VI династий Древнего царства.
Гринер пишет: «Шейх кочевников патриарх Авраам разбивает свои шатры... на берегу той, другой реки в Месопотамии, размышляя над долгим походом к земле Ханаан. Он, разумеется, не слышал, что где-то там, в верховьях Нила, строятся форты против подобных ему кочующих скотоводов. А строители этих фортов также не придали бы никакого значения сообщению, что еще один именитый кочевник-скотовод покидает Вавилон в поисках счастья где-нибудь в другом месте...»
Я привел эту цитату, так как, на мой взгляд, она удачно характеризует два момента: как давно все это происходило и на сколь небывалую для того времени высоту поднялась цивилизация Египта. А вот еще одно доказательство этого, причем более убедительное, чем руины укреплений и храмов.
Несколько лет назад в развалинах огромного храма Рамессеум под Луксором были обнаружены два документа. Один из них представлял собой полный список египетских крепостей в Нубии, содержащий множество названий, причем некоторые из них не уточнены до сих пор и нам неизвестно, к каким конкретно местам они относятся. Установление точного нахождения всех этих мест – интересная, хотя и трудная задача, стоящая перед археологами.
Другим документом, найденным в Рамессеуме, была книга рапортов, которые высылались из крепости Семне (выдвинутой далеко на юг, выше второго нильского порога, и бывшей одной из последних укрепленных позиций египтян), а также из других крепостей. Происходило это приблизительно в 1844-1841 годах до нашей эры, в период правления фараона Аменемхета III.
Таким образом, документы, найденные в Рамессеуме, составляли, так сказать, часть архивов египетского генерального штаба или министерства национальной обороны. Вот содержание некоторых из этих рапортов:
«Нехси прибыли в 3-м году, 4-м месяце, в 7-й день, в вечерние часы, чтобы вести торговлю. То, что они привезли, было продано... Они поплыли вверх по реке до места, откуда прибыли, им дали хлеб и пиво... Сим уведомляю об этом событии. Все дела царства в полном порядке, все дела Господина – да будет он жив, здоров, благополучен – в полном порядке...»
«Эти два стражника и семьдесят людей – меджаев[43], которые направились по этому пути в 4-м месяце, 4-го дня, прибыли ко мне в этот же день в вечерние часы, чтобы подать рапорт, и привели этих людей – меджаев (видно, какую-то другую группу), сказав: „Мы нашли их к югу от края пустыни, ниже надписи в Шеме, а также трех женщин“, – так сказали они. Я начал затем допытываться у меджаев: „Откуда вы прибыли?“ На что они ответили: „Мы пришли от колодца в Ибхете“».
А вот рапорт из крепости «Отпор меджаям» (по-видимому, в Серре):
«От командира Амени, что находится в крепости „Отпор меджаям“ в качестве сообщения из одной крепости в другие. Это донесение Господину – да будет он жив, здоров, благополучен – о том, что стражник из Иераконполя и стражник из Чебу прибыли утром на 2-й день 4-го месяца 3-го года, чтобы сообщить этому слуге (т. е. Амени) следующее: дозор, что отправился в разведку на край пустыни... в последний день 3-го месяца 3-го года прибыл к нам и сообщил: „Мы нашли следы тридцати двух людей и трех ослов, которых они вели“. Таково извещение об этом происшествии. Все царские дела – да будет он жив, здоров, благополучен – в полном порядке».
И еще один рапорт, на этот раз из крепости на острове Элефантина:
«Настоящим одна крепость извещает другую. Примите к сведению, что двое мужчин-меджаев и три женщины... прибыли из пустыни 27-го дня 3-го месяца 3-го года. Они сказали: „Мы пришли служить Великому дому (т. е. фараону) – да будет он жив, здоров, благополучен“. Их спросили о положении в пустыне. Они сказали: „Мы ничего не слышали, но пустыня умирает с голоду“. Вот что они сказали».
По-моему, эти повседневные рапорты тех времен, когда все «царские дела были в полном порядке», свидетельствуют о великолепной организации и развитии египетского государства лучше, чем памятники, высеченные из камня.
Египетские крепости, в которых командиры занимались обыденной штабной работой, тянулись далеко на юг. Укрепления находились в нынешней местности Кор у второго порога, а также на расположенных на самом пороге островах Мейнарти, Доргонарти и Дабнарти. Тут же рядом стояла крепость Миргисса. Никто не был в состоянии проскользнуть через порог. Торговые транспорты всегда оказывались в поле зрения одного из гарнизонов. Дальше находились крепости Шалфак и Уронарти, еще дальше – Семне. В этой последней была найдена стела с надписью, которая гласила, что в 8-м году правления царя Сенусерта III здесь проходила государственная граница и что пришелец с юга не вправе ее перейти ни по суше, ни по воде, за исключением тех, кто прибыл торговать. С ними предписывалось хорошо обращаться, но не следовало допускать, чтобы когда-либо какой-нибудь чужой корабль проплыл близ Семне вниз по реке. Так должно было быть навеки.
Итак, мы дошли до места, где кончалась территория египетского государства в один из периодов его наибольшего могущества. Подавляющая часть Нубии находилась тогда под его властью. Кроме гарнизонов фараона, здесь обитали в то время племена культуры С. Об этих племенах мы знаем немного и можем судить о них лишь на основании следов, оставленных оккупантами. Египетские стелы, папирусы, надписи в храмах характеризуют местных жителей как убогих бродяг, мелких торговцев и достойных жалости существ. Но мы не должны заблуждаться. Оккупанты никогда не отзывались об угнетенных иначе. Сами факты опровергают спесивые утверждения командиров фараона. Достаточно сослаться хотя бы на эту самую цепь оборонительных сооружений, протянувшихся на сотни километров в длину. Кто же стал бы создавать ее, если бы в этом не было надобности? Ведь не строят же, в самом деле, Сингапуров там, где живут одни лишь бродяги. Для этого достаточно обыкновенного полицейского поста.
Так что же представляла собой культура С? В поисках ответа на этот вопрос ученые натолкнулись на потрясающую находку. Повсюду южнее Семне, а значит уже за пределами египетского государства, обнаружены следы культуры С: рисунки, высеченные на скалах и изображающие скот; кроме того, разные черепки и могилы. Но то потрясающее открытие, о котором идет речь, было сделано в Керме, приблизительно в трехстах километрах на юг от Семне, если считать по берегу реки. Раскопки здесь вел известный американский археолог Джордж Рейснер. Он обнаружил огромный могильник, в котором были захоронены останки умерших. Но не только умерших...
Могильник состоял из необычайно крупных погребений. Самое большое из них занимало поверхность 490 квадратных метров, и лишь одно было меньше 100 квадратных метров. В могильнике насчитывались сотни таких крупных погребений. Но важно не это. Поразительнее всего было то, что в каждом погребении были захоронены останки сотен людей[44]. После тщательного исследования большей части погребений открылась ужасающая истина: в этих массовых могилах был похоронен только один мертвец, все остальные были погребены заживо.
В обращенной к югу части могилы лежали останки того, кого хоронили после смерти. По-видимому, это был вождь племени, вельможа или другой именитый, влиятельный человек. Его останки покоились на нарядном ложе: ноги были скорчены, правая рука подпирала щеку, На ложе находился плюмаж из страусовых перьев. Вокруг ложа складывались личные вещи умершего, а также многочисленные сосуды – глиняные и бронзовые. Поблизости обычно хоронили в качестве жертвы некоторое количество живых баранов.
Рядом с останками вельможи в каждой могиле покоились останки других людей, несомненно погребенных заживо. В крупнейшей из них насчитывалось около 400 человеческих жертв. В самой маленькой – около десятка. Все эти люди были преданы земле живыми в день похорон их властелина или главы племени. Особенно жутко то, что люди не приносились в жертву насильно – они сами жертвовали собой. Их не связывали, не загоняли в могилу, они забирались туда сами, добровольно. В последнюю минуту, когда уже было слишком поздно и сверху сыпались груды песка, многие пытались прикрыть лица, забирались под ложе умершего, старались защитить себя чем попало. Одна из женщин, например, прижимала к лицу плюмаж из страусовых перьев. Объятые ужасом, в отчаянии, давясь и задыхаясь, с ноздрями и горлом, набитыми песком, они теряли прежнюю решимость и стремились спастись. Но люди, сыпавшие на них песок сверху, понимали это и действовали быстро, исправно и неумолимо. И тем не менее они не были палачами, а лишь выполняли волю тех, кто находился в яме. Ведь были же обнаружены и примеры необычайного самообладания, выдержки или фанатизма: люди приняли смерть, не сделав ни единого движения, и возлежали в той же позе, что и усопший вельможа, которого они стремились почтить. Таких примеров немного, но они были.
Все это было потрясающим открытием, и не только из-за страшной бесчеловечности, но и потому, что оно совершенно опрокидывало наши знания. Нигде в Египте или в погребениях людей культуры А и С не обнаружено никаких следов подобного церемониала. Однако в египетских гробницах были найдены некоторые доказательства того, что когда-то, в очень далеком (даже по отношению к древнему Египту) прошлом, такой обычай мог существовать[45]. Египтяне помещали в своих гробницах рисунки, барельефы и статуэтки, изображавшие их близких, слуг, солдат, рабов. Не были ли все эти изображения, а также надписи с именами, заклинаниями и молитвами заменой живых жертв? Этого мы не знаем. Знаем только, что в Керме нам неожиданно открылось страшное зрелище мира четырехтысячелетней давности, зрелище, от которого стыла кровь в жилах исследователей.
И тем не менее... Тут уместно сделать две оговорки. Во-первых, открытия в Керме не столь далеки от наших времен, как это может показаться. Ведь в Индии, например, сжигание вдов на кострах усопших супругов было запрещено лишь в 1829 году, причем порой приходилось прибегать даже к силе, чтобы помешать женщинам предать себя самосожжению. Во-вторых, Рейснер, которому его собственные открытия не давали покоя, писал, что не известно, как все это преломлялось в умах тогдашних обитателей Кермы. По его мнению, они могли полагать, что лучше было отправиться в последний путь вслед за своим опекуном и вместе с ним, чем позднее – самим и без чьей-либо опеки. А если так, писал Рейснер, то люди, возможно, считали эту страшную церемонию не «чем-то жестоким и бесчеловечным, а лишь выражением покорности и актом лояльности».
Дальнейшее историческое развитие Нубии не изменило характера этой страны как промежуточной территории, как линии коммуникаций для войск и купцов. Но теперь уже другое государство стало считать ее областью, где затрагивались его кровные интересы. Этим государством был Куш – загадочная страна на юге, находившаяся на территории нынешнего Судана, вверх от третьего и даже четвертого нильского порога. Как и о Нубии, нам мало что известно о Куше. В свое время он был могущественной державой. На несколько десятилетий его властители даже сумели подчинить себе Египет, дав начало, правда кратковременной, «эфиопской» династии. Именно под этим названием она оказалась увековеченной в истории, хотя ныне известно, что «эфиопские» фараоны были на самом деле царями Куша. Впоследствии в результате неизвестных нам перипетий внутренней борьбы столица страны была переведена из Напаты в город Мероэ. Государство Мероэ достигло тогда вершины своего могущества, стало одним из сильнейших в мире. Нубия находилась всецело под влиянием Мероэ. Таково было положение, когда в Египте появились римляне. Они проникли далеко на юг. На землю Нубии ступили римские легионы.
Отношения между Римом и Мероэ складывались по-разному. Дело доходило до взаимных вторжений, перемежаемых длительными периодами мира. Наконец карательные экспедиции Рима сумели ликвидировать мероитскую угрозу.
Приблизительно во II веке нашей эры в Нубии появился какой-то новый народ. И опять-таки мы знаем о нем так мало, что наши историки не сумели даже дать ему название. Его именуют просто народом культуры X. Оставшиеся после него многочисленные могильники по обоим берегам Нила исследовались раньше лишь частично, от случая к случаю. И только недавно были начаты более широкие исследования. Но об этом пойдет речь ниже. Ибо прошло еще много лет и разыгралось немало драматических событий, прежде чем Нубия привлекла внимание разных государств и народов, хотя на этот раз уже не в связи с их кровными интересами.
Ограничимся пока замечанием, что носители культуры X были прямыми предками жителей христианских государств, возникших в VI и VII веках на территории древнего царства Мероэ. Когда в Египте появились новые захватчики – арабы, эти государства объединились и несколько столетий оказывали упорное сопротивление агрессорам. Лишь в XIV веке мощь арабского оружия, которое нанесло поражение Византии и привело последователей Мухаммеда в Испанию и даже Францию, сломила сопротивление нубийцев. В Нубии установилось господство ислама.
Глава третья. Здравствуй, фата-моргана!
Рано утром самолет, стартуя из Луксора, летит в Вади-Хальфу. По этому маршруту самолеты летают только один раз в неделю. Можно добраться туда и иначе: поездом из Каира в Асуан – 950 километров; здесь курсируют отличные спальные вагоны венгерского производства, оборудованные кондиционерами; дальше из Асуана – пароходом по Нилу. На пароход садятся в порту Шеллаль, выше Асуана и первого порога, а высаживаются в Вади-Хальфе, ниже второго порога. Еще около 500 километров. Путешествие на пароходе продолжается трое суток. Это излюбленный маршрут богатых туристов.
Летим над долиной Нила. Слева и справа – бесконечная масса всхолмленных песков и скал. Только посредине сверкает узкий ручей – одна из самых знаменитых рек в мире. По обеим сторонам ручья тянутся зеленые полоски, порой несколько шире, порой уже его, а подчас почти совсем невидимые. Именно здесь создавалась история древнейшей цивилизации, сооружались храмы и крепости, жили и гибли племена культур А, С и X.
Самолет летит над пустыней, удалившись от реки. Он сокращает себе путь, ему нет надобности держаться поближе к воде. Кроме экипажа самолета и нас, пассажиров, все живое в здешних местах льнет к реке. Пески, над которыми мы летим, мертвы.
Но вот двигатели меняют тон, затихают. Далеко впереди мелькают слабые отблески – это снова Нил. Снижаемся. Под нашими крыльями опять появляется редкая зелень, лишь кое-где попадаются пальмы. Лепящиеся к берегам домики. Прямоугольные – каждый с садиком посредине, между стенами, – они напоминают ограды для овец в Татрах. А дальше – город. Но какой это город? Несколько узеньких улочек, белая свеча минарета, станция железной дороги, проложенной через пустыню из Хартума, какие-то мастерские. Самолет все больше снижается, но город остается позади. Снова пустыня, голые пески, перечеркнутые полоской бетона. Садимся.
Настоящего аэродрома в Вади-Хальфе нет. Есть лишь бетон и песок. На горизонте вырисовываются скалы – бурые, причудливой формы, с плоскими, горизонтальными верхушками, словно срезанными ножом. Невдалеке от места, где садится самолет, – несколько домиков-бараков. Какой-то автомобиль. Кругом вертятся люди в длинных до пят белых рубахах, с худощавыми, почти черными лицами. Полицейский в шортах и в черной широкополой шляпе, обутый в кеды, поверх которых повязаны обмотки. На мачте – полосатый трехцветный флаг: зеленый, желтый, лиловый. Судан! Граница здесь проходит там же, где и в древние времена. В нескольких десятках километров на север отсюда начинается Египет, а здесь, у второго порога, – Судан, наследник древнего Мероэ.
Выхожу из самолета, торжествуя. Я почти на месте назначения. Но у меня нет денег. Как добраться до Фараса? Тех шести долларов, которые у меня в кармане, хватит лишь на такси до гостиницы и на оплату одних суток пребывания в ней. А тем временем придется найти какую-то возможность добраться до польского лагеря – бесплатно или в кредит. Быть может, профессор Михаловский сжалится надо мной и уплатит за проезд до его лагеря.
Иду в сторону барака, где, очевидно, помещается пограничный и таможенный контроль. Сперва нужно перейти границу, а потом уже беспокоиться обо всем остальном. От небольшой группы людей, собравшихся у барака, отделяется высокий, худощавый человек и направляется в мою сторону.
– Мистер Деуаноуки?
– Простите, не понял? Он повторяет:
– Мистер Деуаноуки?
Ах, речь идет обо мне... Да, нелегкая же у меня фамилия для иностранцев. Да, это я. Высокий человек мило улыбается, протягивает мне руки и называет свою фамилию:
– Шериф...
Итак, я могу считать себя дома. Знаю, конечно, это директор археологического музея в Вади-Хальфе. Музей здесь – сборный пункт и информационный центр для всех экспедиций, работающих в Суданской Нубии. Музей принимает и доставляет почту, улаживает разные официальные дела археологов, принимает гостей, помогает в погрузке и выгрузке, достает билеты на пароход или самолет и обеспечивает места в гостинице. Это своего рода археологическое министерство связи, путей сообщения, снабжения, социального обеспечения, а также министерство иностранных дел. Это единственный стационарный пункт в бескрайних песках, единственное место с постоянным адресом. Директор Шериф только что получил телеграмму с уведомлением о моем приезде, которую супруги Кубяк послали из Каира. Он приехал поэтому на аэродром. И, хотя я сам свалился, так сказать, с неба, а он приехал по земле, мне кажется, будто дело обстоит наоборот: это он словно свалился мне с неба... Счастливая находка! Он для меня – вроде шерифа из ковбойского кинофильма, появляющегося в последнюю минуту, чтобы спасти попавшую в беду деву.
Шериф сразу начинает заботиться обо мне, спрашивает: быть может, мне хочется закусить, остановиться в гостинице или я предпочитаю тут же поехать в Фарас? Мне стыдно сознаться, что не может быть и речи о том, чтобы остановиться в гостинице да еще закусить в придачу. Объясняю, что я вовсе не голоден, что в гостинице мне незачем останавливаться, что охотнее всего я поехал бы сейчас в Фарас. Но удастся ли это сделать? Осторожно зондирую почву: можно ли нанять автомобиль, сколько это будет стоить, очень ли все это сложно?
– Вам ничего не нужно нанимать и ни за что не нужно платить, – гласит ответ. – Просто сядете в машину и поедете. Как раз сегодня идет машина в Фарас. Кстати, захватите с собой телеграмму, извещающую профессора Михаловского о вашем приезде.
Это моя собственная телеграмма, которую я послал из Луксора. Я нагнал ее по дороге. Машина отправляется через час. Счастье действительно сопутствует мне. В этом положении могу себе позволить немного закусить...
Итак, мои вещи отправляются в музей, я же сам еду в знаменитую гостиницу «Ниль-отель» в Вади-Хальфе. Небольшое здание утопает в цветах. Вокруг – хорошо ухоженный сад с аллеями, скамейками и беседками, спускающийся вниз до самого Нила. Когда-то в этом саду устраивались красочные приемы, сияли белые колониальные фраки, блистали вечерние туалеты. Как в эпоху XII династии, так и много позднее, во время правления королевы Виктории, королей Георга V и Георга VI, это был выдвинутый далеко на юг форпост «большого света». Зимой в Египет съезжалось великосветское общество: лорды, бывшие министры и премьер-министры, отличившиеся в различных кампаниях генералы, промышленные магнаты, родственники монархов, сами монархи и владетельные князья... По Нилу плыли украшенные, ярко освещенные суда, на которых по вечерам играли восточные и европейские оркестры. На обедах в «Луксор-отеле» или в «Катаракт-отеле» в Асуане можно было познакомиться с людьми, которые в течение одиннадцати месяцев в году вершили судьбами Европы, да и всего мира, а большую часть зимних каникул проводили в Луксоре и Асуане. Это считалось хорошим тоном и более свидетельствовало об изысканном вкусе, чем отдых на Ривьере. Но одна неделя посвящалась обычно экскурсии на юг, туда, где кончался цивилизованный мир. А он кончался как раз здесь, в этом саду и в этой гостинице. Тут же, за садом, видны на реке черные, скалистые острова. Это начало второго порога. Джентльмены во фраках глядели в ту сторону – точно так же, как давным-давно чиновники Аменхотепа. Дальше было царство мрака: пустыня, туземцы, дикие звери – словом, Африка. А здесь все же играл великолепный оркестр, подавали отменное пиво и настоящее виски. Вернувшись, можно было рассказывать в клубе и дома:
– Когда я был в Африке, понимаете, в тропиках, на этом черном континенте...
В гостинице – прохладные, просторные номера с отличной ванной. Обслуживающий персонал вежлив, двигается бесшумно. Пиво подается охлажденным, в запотевших бокалах. На окнах, прикрытых ставнями, которые защищают комнаты от яркого солнца, цветут магнолии и розы. Когда откроешь окошко, в комнату проникает аромат цветов, развеваемый лопастями вентиляторов, которые подвешены под потолком.
Внешне все обстоит так, как и раньше. В гостинице полно постояльцев. Однако на этих новых постояльцах нет фраков, нет даже галстуков: они носят шорты и даже обедать приходят в шортах, чего раньше здесь никогда не бывало. Это обыкновенные туристы: чиновники и мелкие предприниматели из Германии, студенты из Италии, мясники и агенты пароходных компаний из Швеции. А также рантье и пенсионеры из Франции, Бельгии, Голландии и США. Как и раньше, в саду полно цветов, но с гостиничных стен осыпается штукатурка, с оконных косяков и ставен слезает масляная краска, не действуют некоторые электрические контакты.
Гостиница отживает свой век. Ремонтировать ее уже не стоит. Пройдет еще год, и через окна в комнаты вольется вода. Глазурь ванных покроется бурым нильским илом. Над аллеями в саду будут сновать рыбы, быть может, и крокодилы. У стойки бара усядется разве лишь варан – огромная ящерица. Это будет концом Вади-Хальфы. Вот почему в гостинице царит атмосфера запустения, которая раньше была бы немыслима. Здесь происходят события, напоминающие гипотетическую историю Атлантиды. Поспешим поэтому с нашим обедом (а пообедать здесь все еще можно прилично) и отправимся скорее в музей, чтобы принять деятельное участие в последних днях Нубии.
В музее – истое светопреставление. Директор и его помощники в галабиях мечутся, словно угорелые. Беспрерывно звонит телефон, а в арабских странах он поглощает особенно много времени. Разговоров, подобных нашим европейским, – здравствуйте, говорит такой-то, у меня вот какое дело, да, понимаю, до свидания – здесь вообще не бывает. Каждый разговор должен продолжаться по меньшей мере минут десять. Было бы невежливо сразу заговорить о деле, а затем распрощаться с абонентом. Нужно обменяться с ним всеми последними новостями, нужно подробно расспросить о его самочувствии, а также самочувствии всех членов его семьи, после чего необходимо поговорить еще о всех общих знакомых, затем нужно... Ах, о чем только не приходится говорить по телефону! Каждый разговор поэтому тянется бесконечно долго. А между тем в музее уйма работы. Распределяют почту для всех экспедиций, работающих у реки. Прибыл как раз транспорт с оборудованием для англичан. Одновременно скандинавы укладывают пожитки и заставили ящиками добрую половину музея. Входит какой-то бородатый немец и просит достать билет на пароход, но только обязательно, так как опаздывать ему нельзя. Другой бородач просит помочь в таможенных делах. У кого-то затруднения с фотопленкой, он просит разрешить расположиться с ней в находящейся рядом лаборатории. Нагромождение ящиков, посылок, писем, фотокассет. Здесь же снуют какие-то бородачи. Среди тюков проглядывают капители колонн, плиты с надписями времен фараонов и мероитян, обломки каменных рельефов. Это ведь музей! Маленький музей, помещающийся в таком же домике из обожженной солнцем глины, как и все кругом. Однако... он же – штаб большой кампании, ведущейся вдоль реки.
Тем временем к воротам музея подъезжает вездеход и громко сигналит. Из окна кабины высовывается водитель. Вездеход похож на пресловутый «джип», только он несколько больше и у него деревянный кузов. Вид у вездехода неказистый, но это неоценимая машина. Ее могучий двигатель никогда не стопорится. Специальный рычаг позволяет приводить в движение все четыре колеса. Другой рычаг включает дополнительную передачу – машина движется тогда медленно, но как танк, преодолевая все препятствия. Мне приходилось ездить на вездеходе по болотистым участкам саванны в верховьях Белого Нила, у границы Конго и в сыпучих песках над Голубым Нилом, и поэтому я знаю все его достоинства. На этой машине и с этим водителем мне предстоит теперь ехать в Фарас.
Грузим мои вещи и трогаемся в путь. В Вади-Хальфе есть только две улицы, покрытые чем-то напоминающим узкую полоску асфальта. Вне этого – только песок и утрамбованная глина. Но Вади-Хальфа остается вскоре позади. А затем без всякого перехода въезжаем прямо в пустыню.
Дороги нет. Некоторое время, еще невдалеке от города, едем по следам, оставленным другими автомашинами. Затем следы поворачивают в сторону Нила, а мы едем дальше, прокладывая себе дорогу сами. Слева от нас река. Воды уже не видно, но все еще тянется на горизонте темная полоса зелени – пальмы и тростник. Вскоре исчезает и это. Едем теперь по обширному пространству каменистой, твердой земли бледно-желтого цвета, мимо изредка попадающихся кустов и крупных скоплений валунов и булыжников. Грунт ровный и очень твердый. Мчимся так, что только ветер посвистывает в щелях деревянного кузова вездехода: 60 или даже 80 километров в час. Никогда не думал, что можно развить такую скорость, проезжая через пустыню. Основательно трясет, и нужно крепко упираться ногами, чтобы не выпасть из машины. Очень жарко, и хотя ветер несколько охлаждает, он же и сушит. Уже после 10-20 минут езды начинает сохнуть во рту.
На горизонте маячат горы. Они выглядят совершенно иначе, чем то, что мы привыкли называть горами. Они вырастают прямо из равнины, без всякого перехода; горы совершенно голые, нет никаких следов растительности. Их верхушки срезаны, не остроконечны, а плоски, они похожи на каменные многогранники, устанавливаемые у наших шоссейных дорог, только они настолько же больше их, насколько пространство, по которому мы едем, шире полосы асфальта. И хотя мы мчимся очертя голову, тем не менее приближаемся к ним очень медленно. Видимость очень хорошая, и все кажется ближе, чем в действительности. Подъезжаем наконец к подножию скал, и я начинаю сомневаться, можно ли вообще ехать дальше. Между скалами – песчаные перевалы. Нанесенные ветром пески создают огромные насыпи. Водитель-араб разгоняет вездеход и – бух! врезаемся в насыпь длиной метров двести. Машина сразу замедляет ход, но водитель включает вторую скорость, а затем первую. Автомобиль ревет как ошалелый, однако нам удается все-таки проскочить. Затем следует вторая насыпь и третья. Какая чудесная машина! Временами кажется, что она вот-вот выдохнется, но каждый раз удается благополучно проехать. Любая известная мне автомашина неизбежно завязла или забуксовала бы здесь, или по меньшей мере в ее радиаторе закипела бы вода. А этой все нипочем!
Жара становится все сильнее. Нет уже такой хорошей видимости. В воздухе несется мельчайшая пыль, он вибрирует от жары; пейзаж становится нечетким, смазанным. Едем большими зигзагами, чтобы объехать торчащие тут и там скалы. Большой полукруг влево, сразу другой вправо и опять влево. Постепенно теряется ощущение направления. Даже солнце перестает быть хорошим ориентиром, так как висит почти вертикально над головой. Нет никаких следов, скалы похожи друг на друга, словно близнецы, а реки не видать. Поражаюсь, как мой водитель находит дорогу. Или, может быть, он ведет наугад? Однако никаких признаков озабоченности на его лице нет, он кажется абсолютно уверенным в себе. Всякий раз, ощутив под колесами несколько более твердый грунт, он дает полный газ, и мы мчимся, словно на крыльях. А через мгновение опять попадаем в песок и вездеход начинает «плавать», будто байдарка в сильном течении. Но он не останавливается. Самую большую радость водитель испытывает, форсируя песчаные участки. Когда двигатель, работая на пределе, начинает натужно реветь, черное лицо водителя светится истинным удовлетворением. Время от времени, словно стремясь усилить и без того несусветный шум (в пустыне нас слышно, наверное, на расстоянии 10-20 километров), суданец сигналит, хотя, насколько хватает глаз, не видно ни одной живой души. Только высоко в небе парит одинокий сип. Но шум – это стихия, в которой араб чувствует себя лучше всего.
Езда начинает меня занимать. Ведь я сам автомобилист. Поражаюсь молниеносной ориентировке водителя. Как он швыряет машину среди песчаных завалов то влево, то вправо, чтобы хоть одним колесом зацепиться за кусок более твердого грунта! Он врывается прямо в кустарник, и мы катимся от одного куста к другому. Их корни представляют собой опору, и водитель резко кидает вперед вездеход. Лишь бы только машина не остановилась! Если бы она стала, то в мгновение ока зарылась бы в песок до самых осей. Но она не останавливается. Чудесная забава!
У меня отличная машина и превосходный водитель. Могу поэтому спокойно наслаждаться этой безумной ездой. Однако...
Несколько лет назад недалеко отсюда разыгралась трагедия. Произошло это всего в 6 километрах от селения, в котором расположилась теперь наша экспедиция. Всего в 6 километрах от Фараса! Четверо студентов – двое французов и двое американцев – выехали из Асуана на юг через пустыню. Ехали они на двух автомобилях марки «ситроен», называемых в народе «жестянками». Машины эти не были приспособлены к поездке через пустыню. Однако никто особенно не удивлялся. За последние годы мы были свидетелями стольких сумасбродных экспедиций: в бочке через Ниагару, на мотороллере через Анды, на «сирене»[46] через Альпы... Можно и на «жестянке» через пустыню.
Оказалось, однако, что нельзя. Студенты выехали из Асуана, захватив с собой проводника-араба. В пути они застряли. Их крошечные автомашины не могли пробраться через пески. Что хуже всего, они потеряли ориентировку. Так по крайней мере предполагали потом. Когда в назначенное время студенты не прибыли в Вади-Хальфу, о них начали беспокоиться. Снеслись с Асуаном. Но пограничная полиция стала открещиваться. Путешественники знали, что полиция не советовала им отправляться в путь. Они поехали на собственный страх и риск. Их предупреждали об опасности. Но они заупрямились. Однако взяли с собой проводника.
Когда дело затянулось сверх всякой меры, студентов начали разыскивать. Но никаких следов не обнаружили... Тогда усилили поиски. Патрули на верблюдах и автомобилях стали прочесывать пустыню. Через три месяца, в октябре, проходивший по пустыне патруль египетской пограничной стражи наткнулся на почти засыпанный песком автомобиль с французским опознавательным знаком «F». С заднего сиденья автомобиля свисал труп человека в бедуинской одежде, с разбитым черепом. Неподалеку от автомобиля на раскладной кровати лежал еще один труп. В некотором отдалении от него – третий. Потрясенные солдаты стали искать дальше. В нескольких десятках метров от места разыгравшейся трагедии они обнаружили ключ от французского замка со следами крови. Вокруг автомобиля стояли пустые бачки для питьевой воды.
Двумя километрами дальше солдаты обнаружили другой автомобиль, а под ним еще один труп. В руках умершего нашли небольшую записную книжку. На одной из страниц начальник патруля прочитал следующие слова, начертанные явно ослабевшей рукой: «Проснулся десять минут назад. На небе сверкает еще несколько звезд. Воды больше нет, нет и надежды. Смерть все ближе...»
Тела умерших были растерзаны дикими зверьми и высушены солнцем до такой степени, что опознать их удалось лишь благодаря найденным документам, одежде и другим личным вещам. В то же время, однако, закрались подозрения. Как установили власти, человек с проломленным черепом был проводником. У него был коричневый цвет кожи. У погибшего двадцатипятилетнего француза Жана Пиллю были поломаны руки. На руке француза Томми Мартэна оказались часы американца Армстронга. Было похоже, что Мартэн и другой американец, Шэннон, убили проводника и изувечили Пиллю, забрали всю оставшуюся воду и уехали. Они оставили также Армстронга. Все это произошло, когда закончилась ожесточенная борьба за воду. Томми Мартэн также умер. Зато Дональд Шэннон исчез. Его труп не был найден. Не погиб ли он по дороге? Египетские патрули на верблюдах обнаружили близ границы следы человека. Быть может, ему удалось добраться до людских поселений? Но тогда должен был остаться живой свидетель этих ужасных событий. Или он лежит где-то засыпанный песком?
Впоследствии сестра одного из французов сообщила египетским властям, что четверо туристов были убиты проводником или его соучастниками. Она заявила, что перед отъездом из Каира Шэннон приобрел себе арабскую одежду. Между тем останки троих белых доставили в Асуан, там опознали и похоронили, а мнимый бедуин был похоронен в пустыне. Никто из членов семейств погибших студентов не видел его останков. Не было ли все это убийством с целью грабежа? Однако египетские власти решительно отвергли подобное предположение. По их заявлению, не было никаких сомнений в том, что первый обнаруженный труп – именно труп араба-проводника. Это было установлено совершенно точно. Проводника похоронили в пустыне, близ его родного оазиса. Четвертый студент исчез.
Все это происходило всего в 6 километрах от Фараса.
Продолжаем ехать по пустыне. Спускаемся и снова поднимаемся. Когда отъезжаем с одного из холмов, вижу вдали реку. Какая большая река! Вижу ее изгиб, массу блестящей воды, на обоих берегах – коричневые скалы, над самой водой – скудную растительность. Едем прямо в ту сторону. Неужели уже Фарас? Но какая странная река! Дальше, за скалами, она разливается, словно море. Повсюду отливает серебром необъятное зеркало воды. А берега, которые до сих пор были отчетливо видны, как-то стираются и исчезают. Приближаемся. Реки больше нет, зато остались скалы, а то, что я принял за изгиб Нила, оказалось просто очередным песчаным перевалом. И никаких следов растительности. Это был лишь мираж в пустыне.
Еще несколько раз вижу призрак реки. Но когда в какой-то момент из-за холма показывается вдруг Нил, уже настоящий, я сразу узнаю, что это не фата-моргана. Мираж можно принять за действительность, но спутать последнюю с миражем нельзя. Реальный пейзаж слишком отчетлив, в нем слишком много деталей, что, впрочем, относится не только к пустыне.
Съезжаем вниз. Теперь уже видны пальмы. Несколько белых домиков, больше десятка домов цвета высохшего ила. Один из белых домиков стоит на самой верхушке взгорья. Рядом высится мачта, на которой развевается флаг Судана. Это пограничный полицейский пост. В одном километре отсюда – территория Египта. Подъезжаем к берегу. Водитель долго, ритмично сигналит. Река пустынна, блеск ее ослепляет, лишь с трудом можно глядеть на противоположную сторону. Наконец что-то задвигалось на воде. Это фелюга – широкодонная нильская лодка с высокой мачтой и большим парусом, воплощение красоты и покоя. Повсюду, от Дельты и до самого Хартума, плавают по Нилу фелюги, везде одинаковые, их формы не меняются столетиями. Фелюги и почитавшиеся в древнем Египте ибисы – два опознавательных знака Нила. В отличие от ибисов фелюги никогда не считались священными, зато они отличнейший сюжет для фотографов и художников.
Фелюга плывет теперь в нашу сторону. Дует слабый ветер, как это обычно бывает здесь в полдень, и лодка движется медленно. Целых 20 минут добирается она до нашего берега. За рулем сидит пожилой, темнокожий, худощавый и чрезвычайно жилистый нубиец. Спрашиваю его по-английски о профессоре Михаловском и поляках. Но он не понимает. К счастью, мой водитель объясняет лодочнику, о чем идет речь.
Переправляемся через Нил на западный берег. Плывем долго и тихо. После шумной езды на вездеходе эта тишина убаюкивает. Вода блестит как никелированная.
Взбираюсь на высокий берег. Лодочник помогает нести мой багаж. С трудом бреду по песку. Вот несколько пальм и низкая глиняная стена. На стене белой краской начертан большой круг – знак эвакуации. Этот дом будет вскоре покинут.
Открываю скрипучую деревянную дверь; я вынужден нагнуться, чтобы не удариться головой о косяк. Во внутреннем дворике растут пальмы и стоят шезлонги. Пусто. Наконец появляется нубиец в длинной, ниже колен белой рубахе. Спрашиваю о польской экспедиции. Нубиец исчезает, словно проваливается сквозь землю. Не знаю, что это значит. Жду. Замечаю стоящие у стены обломки каменных плит, фрагмент какой-то стелы с древнегреческими надписями, рядом – понтон и весла. На веревке, протянутой между двумя пальмами, сушится чья-то рубашка.
Вдруг из низкой двери, ведущей в середину дома, появляется профессор Михаловский. Горячие приветствия. Вижу, что профессор хочет расцеловать меня, но сдерживается. О нет, профессор Казимеж Михаловский не принадлежит к числу людей, легко проявляющих свои чувства. Где бы он ни находился – в чинном ли кабинете Института археологии Варшавского университета или в глинобитном нубийском домике в Фарасе – всюду профессор одинаков: спокоен, сдержан, деловит. Как англичанин. И в то же время как истый поляк.
Из Варшавы в Фарас я добрался за двое суток. Говорят, это абсолютный рекорд. С мороза я попал в сорокаградусную жару. Итак, наконец я здесь. В месте, где накануне потопа совершилось чудо.
Я прибыл как раз к обеду. Повар-араб Мохаммед величает его ленчем, но поляки говорят – обед. В длинном помещении без окон, где вместо пола ощущаешь под ногами зыбкий песок, собрался за столом весь коллектив польского лагеря. Так, были здесь профессор Михаловский и его супруга Кристина, имеющая уже довольно значительный археологический стаж: она помогала мужу в его изысканиях в Пальмире, при раскопках в Крыму и в Египте, а теперь работает здесь, в Фарасе. Однако она не всегда может сопровождать мужа, так как в Польше – дом, дети. Кроме супругов Михаловских, за столом сидел профессор Тадеуш Дзержикрай-Рогальский, известный антрополог. Затем – Юзеф Газы, скульптор и хранитель древних памятников, сотрудник Национального музея в Варшаве. Антони Остраш – архитектор, замещающий профессора Михаловского в его отсутствие в качестве руководителя лагеря. Вторая женщина в лагере – Камила Колодзейчик, египтолог. Марек Марциняк – египтолог. Стефан Якобельский – коптолог, специалист по дешифровке надписей. И, наконец, Мечислав Непокульчицкий – фотограмметрист, исполняющий обязанности фотографа экспедиции.
Все пристально присматривались ко мне. Момент, когда присоединяешься к группе незнакомых людей (за исключением профессора Михаловского, я никого здесь не знал), людей, сжившихся друг с другом и, естественно, вначале выступающих сплоченным фронтом против стороннего пришельца, – этот момент всегда очень труден. Так было в школьные годы, когда ты приходил, бывало, в незнакомый тебе класс, так бывает на новом месте работы или в новой воинской части. Многое зависит от этого первого мгновения.
– Вы, вероятно, проголодались, – сказал профессор Михаловский, – и хотите пить.
– Да...
– Так, перед тем как начать рассказывать, что там слышно в Варшаве, закусите немного... Вот сардины, вот тунец, рядом – красный перец, а там лимоны. Пьем мы здесь лимонад. Правда, не со льда, но ничего не поделаешь. У нас нет электричества.
Каюсь, люблю поесть – хорошо и плотно. Стол прельстил меня. В Варшаве редко когда ешь сардины и тунца. Я подумал, что хотя домик экспедиции окружен песками и нет электричества, но живется здесь неплохо.
Однако нехорошо все время молча жевать.
– Думаю, – пошутил я, – вам стоило бы продолжать раскопки. Вы нашли бы еще кое-что из памятников, а я бы немного поел. Мне очень нравятся все эти закуски.
Тут я заметил, что допустил какую-то бестактность. Все замолчали. А затем кто-то, не помню кто именно, сказал голосом, в котором прозвучала затаенная злость:
– Так оставайтесь здесь один. Сможете тогда есть и копать. А мы вернемся в Каир!
О, как нехорошо получилось! Но чем объяснить это возмущение? Понять это мне суждено было лишь позднее.
Потом я долго и обстоятельно рассказывал обо всем, что случилось за последнее время в Варшаве. Большую сенсацию, в частности, вызвал мой рассказ о морозах. Ведь дело происходило в марте пресловутой «зимы столетия». Когда я вылетел, стоял еще мороз. Но здесь это трудно было даже представить.
После обеда мы вышли в садик. Северный ветер шевелил длинные листья пальм. Было очень жарко. Все разлеглись на шезлонгах. Мохаммед подал кофе. Я был страшно счастлив, что добрался наконец до места.
Теперь предстояло познакомиться с «чудом в Фарасе».
Глава четвертая. В 50 метрах от Сахары
Просыпаемся в 6 часов утра. Во дворе нашего дома еще чувствуется приятная прохлада. Веет, как обычно, северный ветер: это пассат, тот самый, который испокон веков мчит арабские парусники на Красном море, в Аравийском заливе и Индийском океане. Наш дом такой, как все дома в Нубии: он вылеплен из нильского ила, прямоуголен, с обширным двориком посредине. За каждой из четырех стен дома находится одно или два помещения для жилья. Окон нет. Вместо крыши – тростниковые циновки. Со стен и циновок сыплется пыль. Нет и полов, их заменяет утрамбованная земля. Чтобы защититься от пыли, наша экспедиция поставила здесь большие, по меньшей мере шестиместные, палатки. Таким образом, у каждого есть своя собственная комнатушка, только в исключительных случаях в одной палатке живут два человека. Две палатки стоят во дворе. В одной живут супруги Михаловские, в другой – профессор Рогальский.
Во дворе стоят шезлонги и зиры, глиняные кадки для воды. Воду охлаждают и фильтруют, так как она очень грязная – ее черпают прямо из Нила. Мохаммед и его помощник должны следить за тем, чтобы зиры были всегда наполнены водой, которую они приносят прямо из реки в канистрах из-под бензина. Повсюду в Нубии канистры заменили древние амфоры. Женщины носят их на голове, их движения исполнены изящества и грации, что было столь естественно в эпоху амфор и что так шокирует в сочетании с канистрами. Под каждым зиром, у которого дно пористое, стоит кувшин. В него стекает вода. Она становится тогда чище и прохладнее, если только не застаивается слишком долго в кувшине. Во дворе у стен лежат фрагменты раскопанных каменных предметов: капители колонн, плиты, стелы, обломки рельефов.
Наружу ведет дверь из толстых досок и с высоким порогом. Такая дверь, наверное, одна из самых дорогостоящих частей дома. Ведь, кроме пальм и тамарисков, в Нубии нет никаких деревьев, да и тех не так уж много. Дерево поэтому очень дорого. Но примечательнее всего затвор в этой двери: могучая балка служит засовом, нет ни одного куска железа. Когда дверь закрывается, засов входит в отверстие, выдолбленное в стене. Дверь низка, входя в нее, нужно сильно нагнуться. Так, по-видимому, были устроены входы в дома в эпоху фараонов.
В первом помещении у входа живет раис, то есть руководитель рабочих-арабов. Раис – важная и почитаемая персона. Он должен обладать опытом и авторитетом. Не всякий может стать раисом. Чтобы быть посредником между рабочими и начальником экспедиции, нужно иметь изрядный стаж работы на раскопках. Хороших раисов берегут как зеницу ока, чтобы их не переманили другие экспедиции.
Над входной дверью висит тряпка, свернутая наподобие венка. Это кружок, некогда принадлежавший предыдущей жене владельца домика. Она клала его на голову, под тяжелые кувшины, заполненные водой, или под канистры. Когда она умерла, владелец дома повесил кружок над дверью. Таков местный обычай.
Входная дверь и помещение, где живет раис, находятся в восточной части дома. За северной стеной расположены кухня и столовая. За западной – склад, служащий одновременно умывальней, а также рабочая комната. В последней стоят чертежные доски для изготовления архитектурных чертежей, письменные столы и две полки с книгами. В рабочей комнате нет двери, и по вечерам она кишит мошкарой. Южная часть дома – это длинное жилое помещение, где стоят палатки, которые разделяют его на ряд комнатушек, что создает иллюзию уединения. Разумеется, если кто-нибудь кашляет, его слышат все.
Вот и все наше владение. Приземистый, похожий на бункер арабский домик.
В шесть часов утра в Фарасе пьют кофе. Затем все отправляются на «ком», что по-арабски значит холм. Завтрак подается позднее. Холм – это место, вокруг которого сосредоточивается вся жизнь. Именно здесь произошло «фарасское чудо». Хотя еще рано и солнце только-только взошло, оттуда уже доносится пение рабочих. Чтобы добраться до кома, нужно пройти метров двести по песчаным буграм. Рано утром это приятная прогулка, но в полдень – настоящее мучение.
Но о холме я еще успею рассказать. А пока посмотрим вокруг. Холм поднимается над самой рекой, а дом находится на краю пустыни. Собственно говоря, пустыня примыкает вплотную к западной стене дома. Через песчаные бугры выходишь к каналу, у которого растут редкие кусты и расположено несколько крошечных полей, обрабатываемых жителями Фараса. Канал узок, его можно перескочить, да и перейти вброд легко, так как глубина не превышает полуметра. Здесь растет несколько пальм, а во второй половине дня и вечером квакают хором лягушки. Одна из них особенно славится среди участников экспедиции, так как никто в Польше никогда не слышал, чтобы лягушка плакала человеческим голосом. А она в самом деле так плачет. Должно быть, это очень старая и заслуженная лягушка, много видавшая на своем веку, иначе она вряд ли плакала бы человеческим голосом. Мы неоднократно отправлялись на канал, чтобы ее послушать.
У канала очень красиво. А дальше – еще чудеснее. За каналом тянется твердая равнина, усеянная мелкими камешками. Порой попадаются великолепные кремни, кварцы, куски гранита изумительной формы, иногда можно найти и осколок агата. Недалеко отсюда расположено почти совершенно высохшее соленое озеро. Его берега покрыты толстой коркой белой соли, а посредине вместо воды зияет черное болотистое месиво. Когда ветер меняет направление и начинает дуть с запада, – что случается, правда, редко, – до лагеря доносится тошнотворный запах гниющих растений, смешивающийся с запахом тамарисков. Когда-то вокруг озера был густой лес. Но теперь почти все тамариски засохли, их ветви и пни рассыпаются в прах, издавая причудливый, удручающий нас запах.
Некоторые мертвые тамариски не свалились наземь, как пристало мертвецам. Осыпаясь, прах их мертвых ветвей и игл смешался с песком, нанесенным ветрами. В результате возникли холмы, достигающие порой свыше десяти метров в высоту. Внешне – песчаный холм, но если его раскопать, то окажется, что это могила дерева.
Дальше, за соленым озером, нет больше ничего, кроме пустыни. Отсюда начинается выжженная, пустынная территория, протянувшаяся до самого Атлантического океана. Здесь начало Ливийской пустыни, сливающейся с Сахарой. В сущности, это одна оплошная пустыня. Отправившись из Фараса по прямой на запад, вряд ли найдешь вплоть до самого океана хотя бы одно людское поселение, в лучшем случае – лишь палатки какого-нибудь каравана. Поэтому, когда смотришь из дома нашей экспедиции на запад, кажется, что видишь море. Ближайший обитаемый берег – Америка.
Впервые я увидел это «море» вечером после приезда. Профессор Михаловский взял меня с собой в церковь на холме – туда, где были найдены фрески. В багровом свете заходящего солнца на стенах виднелись темные лики нубийских царей и епископов, светлые лица нубийских богородиц. Последние словно витали на старых, обветшалых стенах, сохранив свой юный облик и протягивая в благословении руки. Показывая сокровища гостям, профессор испытывал огромное удовольствие и поэтому всегда сопровождал гостей сам. После осмотра фресок мы вскарабкались по ветхим ступенькам на верхушку одной из стен. С древних стен, в которых сохранились каменные плиты эпохи фараонов с загадочными надписями, открывался величественный вид на реку и пустыню. На западе, за соленым болотом, начинались горы. Из плоской чаши песков вырастали причудливой формы скалы, похожие то на пирамиды, то на дома, то на огромные шляпы. Буровато-красные, они стояли особняком, одна за другой. Между ними – желтый песок. Скрываясь за горами, заходящее солнце бросало лиловые отсветы на песок, как на плохоньких картинах, продаваемых в наших антикварных магазинах и изображающих богатых шейхов и полуобнаженных гурий. Темная зелень прибрежных пальм, желтый песок, красноватые горы и фиолетовые отблески солнца – все это на картине выглядело бы убогим, но, будучи творением гения, каким является природа, захватывало своей красотой.
Повсюду царит полная тишина. Эта тишина в Фарасе могла бы стать темой особого исследования. Лишь время от времени ее прерывает звук кем-то брошенного в церкви камешка или шорох просыпавшейся струйки песка. Изредка в селении залает собака. Или где-то взвоет шакал. Но все это лишь единичные звуки, отмечающие, словно точки, окончание отдельных периодов тишины.
Потом, солнце зашло, краски исчезли и стало еще тише. Сумерек здесь нет, закат быстр и внезапен. Но до наступления вечера в Фарасе тянется долгий трудовой день, о котором я уже начал рассказывать.
Итак, с утра на холме распевают рабочие. В мягких тростниковых корзинах они выносят песок. С корзинами на плечах они идут степенно, медленным шагом. Один ряд – в одну сторону, другой, с порожними корзинами, – в другую. Босые ноги вздымают облака пыли. Другая волна пыли поднимается над насыпью. Туда и обратно, два расходящихся ряда – монотонный, непрерывно движущийся людской конвейер. Так, наверное, выглядели рабочие, воздвигавшие пирамиды. Пыль, песни, корзины, палящее солнце. В котловане несколько человек сгребают лопатами землю в подставленные корзины. О чем поется в песнях, которые затягивают рабочие? О тяжелом труде, о доме, о разных других вещах. Мелодии все время остаются те же, меняется лишь содержание песен. Порой это импровизации: о раисе, о профессоре Михаловском, об археологе, дежурящем сейчас на холме, о вчерашних событиях в селении, о гостях, прибывших в Фарас.
В период первых трех кампаний часть рабочих была завербована в самом Фарасе, другие прибыли из дальних селений и даже из Египта. Это «даже» звучит, возможно, преувеличением, так как территория Египта находится всего в одном километре отсюда. Граница проходит тут же, близ самого Фараса. Во время четвертой, последней кампании жители местного селения были уже эвакуированы, а поэтому всех рабочих приходилось привозить издалека. Нубия перестает существовать, и нубийцы покидают ее.
В половине одиннадцатого в лагере завтракают. Теперь уже очень жарко. Кувшины с водой, в которую выжимают лимоны, сразу опорожняются. Рабочие-арабы откладывают в сторону мотыги и корзины, рассаживаются группами в тени тамарисков. Часть из них исчезает в «хилтонах». Это громкое название польские археологи присвоили трем тростниковым шалашам, установленным на полпути между холмом и лагерем экспедиции. В шалашах помещаются кофейни, созданные местными ловкачами специально для обслуживания рабочих, занятых на раскопках. Без кофеен араб не мыслит себе жизни. Рабочие вербуются из окрестностей Вади-Хальфы, а некоторые из них приезжают из Балланы – местности, расположенной в 20 километрах отсюда, уже на территории Египта. В течение нескольких месяцев они лишены дома. Но так как нубиец проводит порой вне дома не месяцы, а целые годы, то жить на чужбине этим людям не привыкать стать. Приезжие рабочие живут в двух или трех больших помещениях, снятых экспедицией, однако большую часть своего свободного времени они проводят в «хилтонах». Название это, как легко догадаться, происходит от известной гостиничной фирмы «Хилтон», которая владеет, в частности, роскошным отелем в Каире, на берегу Нила. Местные «хилтоны» преуспевают, их владельцы – оборотистые дельцы. Они открывают, разумеется, кредит своим клиентам, а затем, в день получки, появляются с тетрадями в руках и скрупулезно взимают все долги до последнего пиастра. Некоторые рабочие попросту отдают всю свою получку владельцу кофейни, ибо название «кофейня» не отражает истинного положения вещей. По вечерам шаткая походка и сиплые голоса некоторых завсегдатаев этих заведений наглядно свидетельствуют о том, что кофе не единственный напиток, распиваемый в «хилтонах».
К завтраку в столовой нашего дома собираются все участники экспедиции. Разговор идет об очередных событиях на холме. Сегодняшний день сулит удачу. Профессор Рогальский вместе с рабочими-арабами вскрыл могилу одного из фарасских епископов. Исследование его останков должно подтвердить или опровергнуть достоверность портрета, обнаруженного в одном из приделов церкви. У портрета и на могиле удалось дешифровать надписи, свидетельствующие, что речь идет об одном и том же человеке. Результаты исследований станут известны завтра. А тем временем мы перенесли останки епископа, сложенные в три бумажных мешка, в рабочее помещение нашего дома. Несколько необычно – не так ли? – но, по словам Рогальского, покойника, умершего тысячу лет назад, нельзя уже рассматривать просто как мертвеца, он стал объектом научных исследований. Право же, работа профессора может порой привести нервного человека в дрожь. Я слышал, как кто-то в доме спросил:
– Где профессор Рогальский?
Ему ответили:
– Рогальский? А он в могиле!..
Из-за Рогальского и я пережил однажды несколько жутких минут.
Когда я присутствовал при вскрытии одной из могил, Рогальский поднял найденный им череп, внимательно осмотрел его, а затем вытряхнул оттуда какой-то небольшой коричневый комок.
– Подержите, пожалуйста, – сказал он.
– Что это? – спросил я, беря комок в руку.
– Высохший мозг...
Профессор сказал это с улыбкой, ожидая соответствующей реакции. Должен сознаться, что я чуть не выронил комок на песок. С трудом удержался, чтобы не кинуть его.
Сегодня под церковью был обнаружен коридор. С виду он кажется совершенно пустым, а обследовать его более тщательно нельзя, так как древняя стена грозит обвалом. Впоследствии, когда археологи захотят проверить, что находится под церковью, стену придется разобрать. Это сделают – если позволит время – тогда, когда все фрески будут уже сняты со стен.
После завтрака работы возобновляются и должны продолжаться до половины второго. Но неожиданно возникает помеха. Перед домом выстраивается очередь одетых во все черное нубиек. Когда я выхожу из столовой, среди женщин возникает паника. Они отворачиваются и закрывают лица. Понимаю, я чужой, они еще ни разу меня не видели. Однако почему они прикрывают лица, ведь в Нубии женщины не носят чадры?
Тут подходит повар Мохаммед и указывает рукой на висящий у меня на груди фотоаппарат. Я прячу его, и женщины снова выстраиваются в очередь. Их восемь, очередь, как в страховую кассу. Женщины пришли за медицинским советом. Они являются обычно после полудня, впрочем, для здешних жителей время – свое и чужое – не проблема. Времени у них много. Зато врача в Фарасе нет.
В этих условиях европейским археологам приходится самим заниматься врачеванием. Среди них, впрочем, тоже нет медиков, но в лагере есть солидный запас лекарств. Есть у археологов и здравый смысл, позволяющий им излечить не одну серьезную болезнь. Лечить местных жителей очень легко. Они никогда не принимали никаких лекарств, а поэтому обыкновенный полопирин творит здесь чудеса. Я был свидетелем, как женщине, жаловавшейся на продолжительные боли в области печени и много дней уже не встававшей с постели, дали новальгин. Было решено в то же время, в случае если боли возобновятся, направить ее в больницу в Вади-Хальфе. Однако уже на следующий день ее муж явился в лагерь, рассыпаясь в благодарностях. Больная встала с постели, боли прекратились. Мы подумали тогда, что это результат самовнушения, слепой веры во всемогущество наших порошков. Мы полагали, что не позднее следующего дня боли появятся вновь. Но они не появились. По селению разнеслась весть еще об одном чудесном исцелении.
Однажды явились трое полицейских с пограничного поста, находящегося на расстоянии нескольких сот метров от нас. Они кашляли, жаловались на слабость, не знали, что с ними, и потеряли интерес к жизни. Мы дали каждому из них по пять таблеток акрона. Опасались, однако, что безрезультатность лечения может осложнить наше положение. Как-никак полиция всегда остается полицией. Но уже на следующий день не было конца благодарностям.
Другой раз я стал свидетелем того, как одной инъекции пенициллина оказалось достаточно, чтобы вылечить тяжело больного человека. На руке у этого пациента были страшные нарывы, из которых сочился гной. Трудно было установить причину заболевания, от самого больного ничего нельзя было узнать.
– Так случилось, – твердил он только, – так захотел Аллах.
Казалось, лишь ампутация в состоянии спасти его. Ему сделали укол пенициллина и велели прийти на следующий день. Мы надеялись, что, убедив больного в ограниченности наших возможностей, сумеем направить его завтра в больницу. Однако на следующий день не понадобились уже ни больница, ни ампутация. Случилось то, чего никто из нас не ожидал: рука начала заживать! Только один человек был уверен в этом с самого начала – сам больной нубиец. После второго укола нарывы полностью зажили.
Итак, польская экспедиция снискала себе в окрестностях Фараса такую же громкую славу в медицине, как и в археологии. Не обходится, однако, и без злоупотреблений. Некоторые пациенты являются лишь для того, чтобы хитростью выманить несколько порошков. Они продают их затем в «хилтонах». Польский полопирин считается там большой ценностью.
Археология, таким образом, оказывается замысловатой профессией. Она требует знакомства с методами раскопок, глубоких знаний в области истории данной страны, ее материальной культуры, архитектуры, скульптуры, керамики, знакомства с древними языками, письмом и обычаями, умения ориентироваться в нумизматике и античном праве, в истории религии и кораблестроении, в военном деле и антропологии. Кроме того, она требует всесторонних дипломатических способностей, чтобы уметь поддерживать хорошие отношения с правительствами стран, где приходится производить раскопки; сноровки в банковском деле, чтобы справляться с непрерывными финансовыми осложнениями; лингвистических способностей и умения вести себя в обществе, чтобы обеспечить хорошие отношения с местным населением, без доброжелательства которого нельзя было бы вести работы. Нужно быть специалистом по вопросам транспорта и улаживанию таможенных формальностей. Нужно уметь фотографировать и делать архитектурные чертежи. Надо также уметь лечить людей.
Чрезвычайно важно поддерживать хорошие отношения с местным населением. Нельзя стать хорошим археологом, не относясь доброжелательно к людям. А ведь столковаться с ними нелегко. Нубийцы весьма честные люди и не настроены враждебно к чужеземцам. Но они также очень горды, и их легко обидеть. Нужно приспособиться к их обычаям, складу ума и даже к манере спорить. Вот один из примеров. Все мы понимаем, как неприятно забираться в переполненный автобус, и знаем, как это происходит в Польше. А вот как выглядит такая сцена в одном из селений близ Вади-Хальфы, где проходит автобус – этакая допотопная развалина, руль которой прикреплен проволокой и в которой рычаг переключения скоростей подпирается вилкообразной палкой, так как иначе он вывалился бы на первом же ухабе. Автобус курсирует редко, всегда донельзя переполнен, так что пассажиры едут на крыше. Но вот какой-то человек в посеревшей от грязи джибе поднимает руку. Автобус останавливается. Прохожий обращается к водителю:
– Ради Аллаха, брат, захвати меня с собой!
– О Аллах, не могу взять тебя, нет места...
– Все же возьми меня ради Аллаха, – продолжает неугомонный пешеход, – я должен ехать, ведь я обещал Али быть в Вади!
– Я охотно взял бы тебя, и поверь мне, что мне неприятно отказывать тебе, но у меня нет места. И мне некогда с тобой разговаривать, так как я очень спешу.
– Возьми же меня, мне необходимо ехать.
– Я охотно взял бы тебя, конечно, но ведь видишь сам, что нет места.
– Ради Аллаха, возьми меня!
– О Аллах! Никак не могу!
– Но я должен ехать. Иначе что же я скажу Али?
– Брат! У меня нет места, и я очень тороплюсь.
– Ради Аллаха, возьми меня.
– О Аллах, не могу!
– Что же мне сказать тогда Али?
– Прекрасно понимаю тебя, но видишь сам, что никак не могу...
– О Аллах, сделай, чтобы этот человек перестал мне противиться!
– О Аллах, сделай, чтобы этот человек перестал ко мне приставать!
– Так ты не хочешь меня взять?
– О Аллах, не могу!
– Да будет обмаран тогда твой дом!..
Автобус трогается, а проехав с километр, вновь останавливается, потому что уже кто-то другой так же машет рукой. Спор повторяется.
А мы, привыкшие к тому, что подобные споры разрешаются значительно быстрее, вынуждены признать, что в Африке, как и на Востоке, время не принимается в расчет, хотя о нем и говорят порой.
Об этом надо всегда помнить. Особенно потому, что у археологов, работающих в Нубии, которая вскоре уйдет под воду, каждый день на счету.
А сегодня как раз нам помешали работать. Очередь облаченных во все черное женщин терпеливо дожидается медицинской помощи. Отказать им нельзя, поэтому приходится отложить все другие дела.
Четыре из них явились в лагерь, страдая от кашля. Обыкновенная простуда. Хлопот с ними мало: полопирин, акрон – это все, что им нужно. Одна принесла ребенка с сыпью. Здесь достаточно будет талька и какой-нибудь смягчающей мази. За этой женщиной сидит на корточках другая – молодая и красивая. Нубийки могут сидеть на корточках целыми часами, а поэтому никого не удивила ее поза, тем более что ее смуглое, красивое лицо не выдавало никаких чувств, и, уж во всяком случае, на нем не видно боли. Но когда подошла ее очередь, то оказалось, что у женщины острые боли в области живота. Беременность? Ее муж, феллах из Фараса, отрицает это. Ну, конечно, вряд ли кто-нибудь из нубийцев станет морочить голову белому человеку из-за беременности своей жены. Дети в Нубии рождаются веками, и никогда для этого не требовалось помощи белых. В чем же тогда дело? Неизвестно. Боли у женщины начались вчера. Она не в состоянии выпрямиться. Феллах заикается, путает. Он явно смущен, стесняется рассказывать о страданиях жены. Разве мужчине подобает так переживать из-за этого? Но он волнуется, смотрит на нас умоляюще, на глаза навертываются слезы, хотя он их и стыдится.
Расстилаем надувной матрац и предлагаем женщине лечь. Странно выглядит эта импровизированная амбулатория в садике под пальмами. Женщина ложится на матрац лишь тогда, когда муж кивком головы разрешает ей это. Сразу возникают затруднения. Ведь ее необходимо осмотреть. Больная обвита несколькими слоями черной ткани, под которой ничего нельзя прощупать. Рогальский и Якобельский, исполняющие в нашей экспедиции обязанности врачей, разъясняют мужу, что он должен разрешить обнажить живот жены. В отчаянии он оглядывается кругом, словно ища помощи. Остальные женщины делают вид, что ничего не поняли. Мужчина сам должен принять это неслыханное решение. Но позволить чужим людям обнажить живот жены и, больше того, щупать его! Может ли нормальный мужчина допустить подобное? Нет, это невозможно – и феллах отказывает. Но он боится, что потеряет жену. В его душе идет борьба. Если он не разрешит, жена может умереть. А если разрешит, то остальные женщины, несомненно, разгласят это по всему селению и он будет навсегда обесчещен. Что делать? Парень приходит в исступление, перестает владеть собой, по его щекам текут крупные слезы, которые столь не к лицу мужчине. В конце концов любовь к жене берет верх над мужским самолюбием. Он кивает головой. Да, он согласен.
Наши лекари приоткрывают смуглый живот женщины. В ногах у нее уселась теперь какая-то старуха, вероятно родственница, и придерживает одежду, чтобы, избави бог, не обнажилось что-нибудь лишнее.
Диагноз затруднителен. Ничего определенного установить нельзя. Мнения лекарей расходятся. Один утверждает, что это печень или какое-то женское недомогание, другой предполагает аппендицит. Кто-то вспоминает, что во время приступа аппендицита нужно предложить пациенту поджимать и выпрямлять ноги, так как это вернейший способ проверки. Только не можем вспомнить, не в состоянии больной поджать или, наоборот, выпрямить ноги. Во всяком случае, он не может проделать одно из этих действий. У нашей пациентки ноги все время поджаты. Нужно предложить ей поэтому попытаться выпрямить их.
Она не понимает нас. Потрясенный муж также не может понять. Нужно показать. Газы, мужчина солидной комплекции, в шортах и майке ложится неподалеку на песок и ритмично поджимает и выпрямляет ноги, показывая мощные, мускулистые бедра. Больная поворачивается к нему лицом и внезапно начинает хохотать. Она хохочет по-детски, до слез, несмотря на боль. Мы следуем ее примеру, а вслед за нами начинают хохотать все. И так мы стоим под пальмой над лежащим на песке Газы, который упрямо продолжает свои гимнастические упражнения. Наконец женщина поняла, в чем дело, но выпрямить ноги не может.
Осмотр больной окончен. Нубиец одевает жену и помогает ей встать. Она встает, согнувшись в три погибели. В консилиуме участвуют все поляки. Вывод единогласен. Если это печень, то у нас есть средства, могущие принести облегчение. Но если это не печень, а аппендицит, то каждый час промедления чреват смертельной опасностью. Нельзя поэтому рисковать. Женщину нужно немедленно отвезти в больницу в Вади-Хальфе. К счастью, есть автомобиль, который через несколько минут должен тронуться в обратный путь. Нужно отправить ее именно на этой машине.
Когда объявили решение, муж больной заревел белугой. Тщетно объясняем ему, что вряд ли следует пугаться, что через неделю жена будет уже ходить и самое большее через десять дней вернется домой. О нет, он понимает, что не миновать несчастья. Отдать жену в больницу, в руки чужих людей, далеко от дома – все это может означать лишь одно: он больше ее уже не увидит. Он всхлипывает и причитает:
– Такая молодая, такая хорошая жена... какое несчастье...
Никакие утешения здесь не помогут. Антек Остраш, казначей экспедиции, выдает феллаху два фунта в счет его заработка на холме. Злосчастная пара садится на вездеход и отправляется в путь. Можно снова приняться за работу.
Археологи идут на холм, а я, чьи обязанности здесь сводятся главным образом к наблюдениям, отправляюсь побродить по селению и по берегу Нила. Селение невелико, оно состоит из десятка-другого домов, которые, как близнецы, похожи на дом, занимаемый нашей экспедицией. Дома строят на песке, чтобы не пропадал ни один участок годной к возделыванию земли. У них нет окон, а над деревянными воротами блестят вделанные в глиняную стену фарфоровые тарелки с розовыми и голубыми цветочными узорами. Каждый дом в Нубии украшен такими вот тарелками – это стародавний обычай, сохранившийся с незапамятных времен. Что с того, что тарелки, украшающие нубийские дома, изготавливаются в Германии; зато над некоторыми дверьми висят украшения уже бесспорно местного происхождения: огромные, длиной в целый метр ящерицы-вараны. Высушенные на солнце, они скалят зубы, отпугивая змей и злых духов.
Внутренность домов в Фарасе поражает своей простотой. Никакой мебели, кроме широких кроватей, в которых вместо сеток натянуты ленты из пальмового волокна. Кое-где в таких домах попадаются кухонные столы, но шкафы здесь – величайшая редкость. Стены совершенно голы, хотя иногда на них висят вырезанные из газет фотоснимки. В одном из таких домов я увидел большой цветной портрет Софи Лорен в платье со смелым декольте, а рядом – снимок сидящих в парикмахерской женщин с сушилками в виде шлемов на головах. Мне так и не удалось узнать, почему этот снимок был признан столь интересным, что его сочли нужным повесить на стену. Не знаю также, какое значение придавал ему хозяин дома.
Направляюсь затем к реке. Ее берег густо зарос зелеными кустами, есть здесь и пальмы. Когда зимой уровень воды в Ниле падает, из ила выступают корни пальм, а когда вода прибывает, то кажется, что пальмы бродят по воде, словно цапли. На берегу пахнет водорослями и гниющим тростником. Веет освежающий ветер, здесь прохладнее. Прыгают в реку лягушки, ползают ящерицы, а порой попадаются и змеи. Можно усесться здесь и часами смотреть, как течет река. Дальше к югу, в двух тысячах километрах отсюда, над рекой поднимаются болотистые испарения, а по ее поверхности плывут тысячи островков. Это густые клубки водяных гиацинтов – подлинное бедствие в верховьях Нила. Они затрудняют навигацию, загромождают речной фарватер, обволакивают плотины. Сюда они не попадают, путь им преграждает плотина в центральной части Судана и пять нильских порогов. Поэтому фарватер реки здесь чист, хотя вода стала бурой от ила. Ее поверхность переливается на солнце. По воде снуют арабские фелюги с огромными, достигающими подчас пяти этажей в высоту, неописуемо красивыми парусами. Паруса парят бесшумно и очень медленно, будто взвешивая каждое свое движение. Над рекой пролетают крупные птицы: цапли, фламинго, сипы и ястребы. Порой в воздухе промелькнет характерный силуэт священного для египтян ибиса – белой птицы с крыльями, посаженными далеко сзади, длинной шеей и изогнутым клювом. Священная птица несколько напоминает реактивные самолеты типа «каравеллы».
Всего в 50 метрах отсюда начинается Сахара, здесь же царит покой и глаз ласкает пейзаж, какой возникал в моем воображении в годы детства, когда я читал о далеких южных морях.
Если смотреть вдоль реки на север, в ту сторону, куда текут ее воды, то можно увидеть территорию Египта. Те же пески, та же узкая прибрежная полоска зелени на берегу, те же рыжие скалы. Пейзаж не отличается ничем. Это все тот же край – та же Нубия. Однако этот край всегда разделяла граница – но не в географическом, а в политическом и культурном смысле.
Менее чем в километре от польского лагеря расположен суданский пограничный пост: белый двухкомнатный домик, построенный на холме, откуда открывается вид на реку и пустыню. Второй точно такой же пост находится на противоположной стороне реки. У дверей обоих домиков всегда стоит часовой: в широкополой черной шляпе, в шортах, с патронташем у пояса и карабином. На ногах – кеды и зеленые обмотки, которые годились, быть может, некогда в окопах под Ипром, но тут выглядят анахронизмом. Часовой и флаг Судана на мачте – единственные признаки того, что здесь осуществляют надзор. Остальная часть личного состава поста, те полицейские, которые свободны в данное время от службы, хотя и стоят на вахте над Нилом, ничем не напоминают, однако, «вахты над Рейном». Они сбросили свою форменную одежду и облачены теперь в джеббы, так же как их соседи из селения. Они лежат на кроватях, играют в карты, пьют чай. Если кто-либо из польской экспедиции, выйдя прогуляться, заглянет на пост, его гостеприимно пригласят зайти в дом, угостят чаем, кофе или даже кока-колой, взамен чего он должен предложить хозяевам сигареты. Время течет, полицейские дремлют. Так, вероятно, проходила служба в древней крепости Бухен в те времена, когда «все дела Господина были в полном порядке».
Однако у полицейских в Фарасе есть и свои заботы. Много лет уже продолжается массовый перевоз контрабанды через эту границу. Египетское правительство ввело многочисленные ограничения импорта, а в Судане – полное изобилие всевозможных товаров: от английского виски и безопасных бритв до японских транзисторных радиоприемников и американских и немецких автомобилей. Как обычно в таких ситуациях, контрабандисты пытаются использовать изъяны в государственной экономической политике. Контрабандная торговля процветает. До недавнего времени главной магистралью, ведущей в Египет и обратно, был Нил. Ночью тяжело груженные фелюги с темными, чтобы не бросались в глаза, парусами проскальзывали под боком у полицейских. Ширина реки достигает километра или даже больше, поэтому при некоторой ловкости и удаче можно проскользнуть незамеченным. Иногда дело доходит до перестрелок между контрабандистами и береговой полицией. Однако теперь власти снабдили полицию в Фарасе большим двухпалубным моторным катером, оснащенным мощным рефлектором и пулеметом, а главное, несравненно более быстроходным, чем фелюги. С тех пор река перестала играть роль магистрали для контрабандистов, но преступники отнюдь не бросили своего ремесла. Просто взамен нильских «кораблей» они стали пользоваться «кораблями пустыни». Они грузят свои сокровища на спины верблюдов и обходят полицейские посты, делая широкий круг по пустыне. Если после захода солнца вскарабкаться на один из холмов, виднеющихся на западе, то при лунном свете можно заметить длинные караваны, тянущиеся с юга на север или в обратном направлении. Ведь полиция есть только близ реки, и, хотя время от времени посты высылают в глубь пустыни ночные патрули, они, видимо, не заходят слишком далеко. Поймать контрабандистов вообще не так-то легко. С течением времени контрабандисты богатеют и отправляются тогда в путь уже не на спинах верблюдов, а на тяжелых, мощных грузовиках. Постепенно они становятся все смелее, и порой в ночной тишине фарасского лагеря раздается рокот автомобилей, проезжающих невдалеке от селения. Впрочем, ночью все звуки в пустыне слышны издалека.
Но вот наступает пора обеда. В час прибывают с холма уставшие люди; их лица серы от пыли, а в горле пересохло от жары. Умывшись, они садятся за стол. Обед состоит из закусок – обычно тех же рыб, что подаются к завтраку, фасолевого супа, бульона, затем баранины в виде шашлыка, кебаба или котлет, реже – домашней птицы и, наконец, десерта – какого-нибудь английского пудинга. За этим следуют кофе и фрукты, если только их успели доставить. Повар Мохаммед прошел хорошую школу под бдительным оком пани Михаловской и старается изо всех сил. В понятливости ему отказать нельзя.
Теперь всех одолевает невероятная сонливость. В послеобеденное время жара сильнее всего. Все близлежащие камни и стены домов раскалились донельзя, ветер стихает, глаза слипаются так крепко, что их не разомкнет даже зажженная спичка. Хотя послеобеденный отдых начинается на шезлонгах в садике, все по очереди исчезают внутри дома. Садик пустеет. Перед домом, под пальмами, окружающими «хилтоны», дремлют живописными группами рабочие-нубийцы. Спят и крупные желтые собаки, породнившиеся с шакалами. Так проходит один час.
Затем некоторые участники экспедиции возвращаются на холм. Другие приступают к лечению пациентов, обычно прибывающих в эту пору из селений. Остальные садятся в рабочей комнате за чертежные доски, принимаются за картотеку фотоснимков, сортируют керамику и выполняют всю ту кропотливую работу, без которой не могут обойтись никакие раскопки.
Наступает вечер. Становится немного прохладнее. Во дворе перед домом вьются тучи мошкары. Маленькие крылышки жужжат так сильно, что оттуда, где мошкары особенно много, как, например, под тамарисками, доносится шум, способный заглушить разговор. Жужжание переходит в сплошной гул. Каждый раз, открывая рот, проглатываешь мошек, они попадают в чай, в мгновение ока образуя блестящий чернеющий налет. Достаточно открыть книгу, чтобы ее белая страница сразу оказалась засыпанной черным скопищем мошкары. В воздухе снуют летучие мыши, собирая обильную жатву.
Повар-суданец и его помощник зажигают большие керосиновые лампы, горящие ярким, режущим глаза светом. Свет ламп вырывает из мрака стволы пальм и черные, блестящие лица зажигающих лампы людей. Лампы ставят около шезлонгов, и сразу вокруг огня начинают кружиться сверкающие рои мошек. На песке растет слой насекомых с опаленными крыльями. Приходится сидеть как можно дальше от света.
Постепенно работа в лагере подходит к концу. Повара легли уже спать, пустеет рабочая комната. Все собираются в садике. Располагаемся на шезлонгах. Веет легкий северный ветерок. Разогретое дневной жарой тело требует более теплой одежды. Поэтому, несмотря на то что даже вечером здесь так тепло, как в Польше в летний полдень, надеваем свитеры и длинные брюки.
Разговор вращается вокруг самых разнообразных тем, словно мошкара вокруг ламп.
– Раньше, когда я только начинал еще раскопки в Египте, – говорит профессор Михаловский, – было совершенно иначе. Ныне Египет постепенно превращается в столь же протоптанную туристическую тропу, в такую же оживленную магистраль, как Закопане или города Италии. В те времена в Египет приезжали сливки тогдашнего света: князья, бароны, жены министров, премьер-министры, даже короли. Три недели в Луксоре, две в Асуане, одна в Вади – так проводили зиму джентльмены. Кроме того, нужно было уделить немного времени Каиру и Александрии. Разумеется, туристов было мало, хотя достаточно, чтобы заполнить несколько самых дорогих отелей. О таких экскурсиях, поездах и кораблях, заполненных студентами, мелкими чиновниками или рантье, какие мы видим сейчас, не могло быть и речи. Поэтому и работа археолога была овеяна значительно большей таинственностью и экзотикой. Это были экспедиции в подлинном смысле слова... Сегодня из Варшавы в Каир можно долететь за 8 часов. А из Парижа реактивным самолетом – всего за 6 или 7 часов. И можно лететь в кредит, выплачивая по нескольку десятков франков ежемесячно.
– Да, – говорит кто-то другой, – Египет стал сегодня прихожей Европы. Вскоре в мире окажется больше ученых-египтологов, чем полицейских в Египте. А это многовато.
– Интересно, как это повлияло на состояние египтологии в самом Египте, – продолжает профессор. – Раньше египтяне вели широкие исследования, а ныне почти забросили их. Их заменяют другие[47]. Впрочем, это характерная черта всей истории Египта. Он никогда никому не приносил жертв.
Затем пани Михаловская начала рассказывать, как она была шокирована, когда вместе с мужем нанесла визит одному выдающемуся, высокообразованному и почитаемому профессору Каирского университета. Прием был великолепен, отличался изяществом и хорошим вкусом. Но за столом собрались одни мужчины. Правда, присутствие польки никого не стесняло, она была принята как нечто естественное. Но жена профессора и жены остальных египтян не были представлены гостям и вообще даже не показывались.
– Я не знала, – рассказывала пани Михаловская, – чувствовать ли себя польщенной, что ко мне относятся как к мужчине, или оскорбленной, что меня не считают женщиной. В конце концов я сама выразила желание навестить хозяйку дома, что было принято с чувством облегчения. Меня провели в комнату, где находились женщины и где не было ни стола, ни даже стульев. Женщины разговаривали стоя, поминутно смеялись и, видимо, считали свое положение вполне нормальным. Снующие по всему дому дети приносили время от времени что-нибудь со стола мужчин: банан, стакан апельсинового сока или конфету... Я вернулась в «мужскую» комнату, благодаря бога, что могу выступать в двойной роли.
Марек Марциняк, самый большой любитель джаза и песен в нашей экспедиции, стал возражать:
– Но это исключение. Это встречается все реже. Египтяне покоряют Европу. Далида, Орланда, Боб Азам! Они становятся все моднее.
Затем завязывается разговор о певцах и фильмах, об Африке и Европе. Уже поздно. Удивляюсь, что никто еще не ложится спать, ведь все, должно быть, устали, а завтра с утра снова предстоит работа. Но никто не спешит отправляться на покой. Так хорошо растянуться в шезлонге и болтать о чем придется.
Наконец кто-то включает транзистор, и я сразу понимаю, почему никто не спешит ложиться. В полночь, а точнее, без пяти минут двенадцать, можно услышать радиопередачу из Варшавы. В это время кончает свои передачи одна из каирских радиостанций, работающая на смежной волне. И тогда, если все пойдет хорошо, раздастся голос варшавского диктора, читающего последние известия. Вот почему все дожидаются этого часа, борясь с одолевающим их сном. Так интересно узнать о событиях на родине! Впрочем, важнее всего не известия; когда происходит какое-либо событие, узнать об этом можно и через другие радиостанции. Но Варшава передает и прогноз погоды. А ведь так странно лежать в шезлонге, рядом с пальмой, среди роящейся кругом мошкары, и слышать, что там заморозки и водителям автомашин следует остерегаться гололеда...
В третьем часу ночи можно увидеть на горизонте Южный Крест. Ведь мы находимся в тропиках. Но никто уже не дожидается этого. Надо вставать рано утром.
Из селения доносится тошнотворный запах тамарисков. Со стороны пустыни слышен лай шакалов. Они подходят порой к самому дому.
В совершенно черном, искрящемся от звезд небе пролетает на большой высоте самолет. Он летит в Хартум, в глубь Африки. Разговор затихает. Один за другим встаем с шезлонгов и исчезаем в палатках.
Так проходит один из будничных дней в Фарасе.
Глава пятая. Воскрешение
Пора теперь вспомнить обо всем, что происходило здесь раньше, то есть до моего приезда в Фарас.
9 января 1960 года президент Египта Насер, стоя на украшенной флагами трибуне, воздвигнутой среди мрачных скал в 10 километрах к югу от Асуана, перед застывшей в немом ожидании толпой высших чиновников, офицеров и простой публики, нажал на кнопку. В этот же момент задрожала земля, над скалами взметнулось ввысь и стало взвиваться к нему облако дыма – единственное облако на безоблачном небе. Воздух порывисто рвануло, раздался сильный гром, а затем протяжный грохот. Но это был не атомный взрыв, как можно было бы судить из нашего описания. Нажав на кнопку, президент взорвал 20 тысяч тонн скальных пород, положив начало строительству канала, по которому устремятся воды Нила, когда на его основном русле будет сооружена Высотная плотина. Это было одновременно и началом строительства плотины.
Через два месяца после взрыва был провозглашен Международный призыв правительств Египта и Судана. Взрыв явился предвестником того, что Нубия скоро будет затоплена. 8 марта 1960 года в кампанию включилась крупнейшая международная организация ЮНЕСКО, одна из задач которой и состоит как раз в том, чтобы сводить до минимума ущерб, причиняемый всякого рода потопами и катаклизмами. ЮНЕСКО обратилась с Международным призывом к правительствам всех стран, к общественным и частным организациям, а также к отдельным людям доброй воли. Вот выдержка из этого обращения:
«Через пять лет средняя часть долины Нила превратится в огромное озеро. Воды его грозят поглотить значительные памятники, одни из самых чудесных на земле. Плотина сделает плодородными огромные пространства пустыни, но за освоение новых земель для сельского хозяйства, за новые источники энергии для будущих заводов надо заплатить дорогую цену.
Правда, когда на карту поставлено благополучие людей, облегчение их страданий, тогда, если это необходимо, гранитные и порфирные изображения должны быть без колебаний принесены в жертву. Но сделать такой выбор, пойти на эту жертву без чувства боли нельзя...»[48]
В этих патетических выражениях крупнейшая организация взывала о помощи, об участии в спасении того, что еще удастся спасти в Нубии – одной из древнейших обитаемых стран мира. Так ЮНЕСКО суждено было стать современным Ноем, а археологии – его ковчегом. Обращение было провозглашено на специальном торжественном заседании в Доме ЮНЕСКО в Париже. Председательствовал на заседании министр культуры Франции Андрэ Мальро. Был создан Международный почетный комитет под председательством шведского короля Густава VI.
Вот как откликнулась ЮНЕСКО на призыв, с которым обратились к ней правительства Египта и Судана. Оба правительства не были в состоянии взять на себя все бремя этой задачи. Оба взывали о помощи, о спасении нубийских памятников старины, а суданское правительство просило дополнительно о проведении широких исследований с целью выяснить ряд проблем, касающихся прошлого Нубии. Таких исследований вскоре нельзя уже будет проводить. Правительства обеих стран объявили единодушно, что половина археологических находок, сделанных каждой экспедицией, будет передана в собственность страны, которая направила своих ученых. Это обстоятельство также подчеркивало исключительность данной ситуации. Правительства не разрешают обычно вывозить памятники старины из своих стран. Стоит напомнить, что одной из причин, побудивших ЮНЕСКО обратиться со своим призывом, был отчет польских археологов о разведочных раскопках в Нубии, проведенных в январе 1958 года. Отчет был представлен министру культуры Объединенной Арабской Республики.
На заседании в Париже огласили послание премьер-министра Судана. Вот что, в частности, он писал:
«Судан – одна из древнейших цивилизованных стран в мире. Это возлагает на него бремя двойной ответственности: во-первых, перед суданским народом – за сохранение свидетельств и памятников его прошлого, во-вторых, перед международной общественностью. История Судана – это частица истории всего человечества. Вот почему Судан несет ответственность перед всем остальным миром за памятники, находящиеся на берегах долины Нила в пределах его территории.
С 1955 года Служба древностей Судана проводила работы в районе, подлежащем затоплению. Раскопки велись в Дибейре, Серре, Фарасе и Семне. Кроме того, были предприняты предварительные изыскания с воздуха и на земле, чтобы определить количество и значение археологических объектов и памятников, которые исчезнут под водами нового водохранилища.
В настоящее время отмечено уже более ста пунктов, представляющих интерес для археологии. Среди них следует назвать четыре храма, большое количество могил и молелен, высеченных в скалах, 14 древних крепостей, построенных четыре тысячи лет назад, 20 христианских церквей, 7 античных городов, множество некрополей, наскальных рисунков и надписей. 47 памятникам из числа этих 100 грозит затопление уже в 1963 году. Служба древностей Судана не может своими силами провести в течение оставшихся трех лет столь обширные работы по сохранению памятников; в связи с этим я обращаюсь ко всему миру с просьбой помочь нам.
Тем, кто нам поможет, мы готовы передать по меньшей мере 50 процентов предметов, которые будут найдены во время раскопок. Поскольку Нубия – страна малоисследованная, эти находки могут представить огромный интерес[49].
ЮНЕСКО всегда сознавала, какую большую опасность для древних памятников в Нубии представит строительство Высотной Асуанской плотины. Исчезнут бесценные в художественном и историческом отношении сокровища, составляющие часть культурного наследия человечества. В соответствии с постановлениями, на которых основана деятельность ЮНЕСКО, в обязанность этой организации входит охрана именно таких ценностей. Поэтому генеральный директор ЮНЕСКО решил оказать всемерную помощь Нубии. Судан чрезвычайно обязан ему за всю вложенную в это дело работу и за решение Исполнительного комитета обратиться с Международным призывом...
Я рад возможности сообщить, что еще до официального опубликования Международного призыва ряд государств и учреждений уже выразили желание оказать нам помощь...»
Отклики на призыв превзошли все ожидания. Из всех частей света стали поступать заявки. Готовность начать работы изъявили группы археологов следующих стран: США (несколько университетов и филантропических организаций), СССР, Австрии, Аргентины, Бельгии, Чехословакии, Дании, Финляндии, Франции, Ганы, Испании, Голландии, Индии, Югославии, Канады, ГДР, ФРГ, Норвегии, Швеции, Великобритании и Италии.
Одной из первых откликнулась Польша, а точнее, Польский центр средиземноморской археологии Варшавского университета, работающий в Египте в сотрудничестве с Польской академией наук. Другими словами, профессор Михаловский и возглавляемая им экспедиция.
В Нубию поспешил подлинный интернационал ученых. Кампания преследовала благородные цели, учеными руководило прежде всего стремление спасти древние памятники, а также выяснить многочисленные загадки прошлого, пока это было вообще еще возможно. Однако археология, подобно искусству, не может обойтись без публичной поддержки. Времена частных исследователей, таких, как Шлиман, гениальный самоучка, открывший Трою и сам финансировавший свои исследования, или лорд Карнарвон, который организовал и оплатил экспедицию, прославившуюся открытием гробницы Тутанхамона, – эти времена миновали. Каждое государство или филантропическая организация, финансирующие археологические исследования, стремятся что-либо получить взамен. Когда-то Томас Лоуренс, пресловутый «лорд пустыни», проводя археологические исследования на территории Турции, одновременно доставлял британскому штабу в Каире карты дорог, размещения колодцев и районов, занимаемых отдельными кочевыми племенами. Сегодня никто уже не требует этого от археологов. От них требуется лишь одно: находки, примечательные открытия.
Поэтому сразу развернулась борьба за приобретение самых выгодных концессий, чтобы получить возможность вести работы в таком месте, которое сулило бы максимальный успех.
Вот что писал об этом американский еженедельник «Тайм» 12 апреля 1963 года:
«Чтобы добыть больше денежных средств, министр культуры Египта Абдель Кадер Хатем предлагает древние произведения искусства и даже целые храмы взамен пожертвований в фонд спасения храма в Абу-Симбеле. Разумеется, никакого прейскуранта или подобных вульгарных вещей не установлено и заявки принимаются лишь от правительств или крупных, солидных организаций. И все же на пять храмов объявлены публичные торги. Три из них – Дендур, посвященный цезарем Августом двум утонувшим героям; Дебод, сооруженный одним из нубийских царей; Тафе, построенный в древнеримскую эпоху, – уже разобраны и перенесены в безопасное, высоко расположенное место. Два других – Эллесия, воздвигнутый Тутмосом II 3500 лет назад, и Дерр, сооруженный Рамсесом II, – придется отрезать, подобно храму Абу-Симбел, от скалы и перенести в другое место. Говорят, что храмом Эллесия интересуется группа итальянских организаций, тогда как США жаждут заполучить Дерр. Город Индио в Калифорнии стремится перевезти этот храм в долину Коачелла, которая похожа на египетскую пустыню».
Поляки, откликнувшиеся одними из первых, а кроме того, уже снискавшие себе добрую славу раскопками, проведенными ими до войны в Эдфу, а после войны в Телль-Атрибе и в Александрии, имели некоторое преимущество перед другими конкурентами. Профессор Михаловский решил вести работы в Суданской Нубии, археологически мало изученной стране. Ему принадлежал приоритет в выборе места. Но на что именно решиться? Важнейшим и почти единственным источником, проливающим некоторый свет на тайны, скрытые в Суданской Нубии, были исследования англичанина Гриффитса, проведенные им полвека назад весьма тщательно, всесторонне и с большой затратой труда. Кроме того, эксперт ЮНЕСКО доктор У. И. Адамс составил в 1960 году опись местностей в Нубии, которые, по его мнению, стоило исследовать. Кратковременные пробные исследования велись тогда и в Фарасе.
Три года назад здесь находился обыкновенный холм, каких немало над Нилом. На его верхушке торчали ничем не примечательные руины – остатки арабской оборонительной крепости сравнительно недавнего происхождения. Гриффитс производил тут раскопки в 1909 году. С тех пор было известно, что где-то поблизости должны находиться остатки египетского храма фараона Тутмоса III, так как Гриффитс обнаружил несколько блоков с картушами эпохи фараонов. Было также известно, что здесь же находятся и мероитские погребения. Наконец Гриффитс исследовал небольшую христианскую церковь, расположенную близ холма, тут же над Нилом, так называемую «Ривер-гэйт черч», то есть церковь у ворот над рекой. И это все.
Профессору Михаловскому было нелегко принять решение в такой исключительной ситуации. Выбрать место значило поставить все на одну карту. Допущенную ошибку исправить уже будет нельзя. На поиски гробницы Тутанхамона в Долине царей можно было затратить пять или даже десять лет. Но тут каждый потерянный месяц был равнозначен потере единственной возможности.
В конце концов, изучив все наличные источники, было решено выбрать Фарас. Концессия в Фарасе охватывала территорию, равную 7 квадратным километрам. Но где именно вести раскопки? Большинство специалистов утверждали, что следует исследовать два могильника эпохи культур А и С, находящиеся на краю пустыни. Это казалось более надежным, чем совершенно не изведанный еще тогда «ком» – холм над рекой. Внутри холма вполне могло ничего не оказаться. Гриффитс, внимательный и тщательный исследователь, ни до чего там не докопался. Кроме того, чтобы проникнуть внутрь холма, нужно было удалить торчащие на его вершине остатки арабской крепости времен Махди, что требовало много времени и средств. Ситуация напоминала положение, когда, вступая в бой, военачальник обязан решить, в каком именно пункте все его силы должны ударить по врагу. Если он распылит свои войска, он не добьется победы. Он не победит также, если выберет для удара неправильное место. Победа возможна только тогда, когда военачальник прикажет наступать всеми силами в нужном месте. Он понимает это и отдает себе также отчет в том, что, коль скоро приказ дан, изменить его уже больше нельзя... Профессор Михаловский не прислушался к советам тех, кто, учитывая, сколь велик риск, предлагали вести раскопки на могильниках. Он принял иное решение.
Была ли это простая случайность? Или внезапное откровение? Или, быть может, результат большого опыта? Профессор молчит. Видно, был и четвертый момент, возможно важнейший из всех, – честолюбие. Честолюбие, стремление превзойти своими достижениями и славой всех соперников, присущая великим ученым и исследователям радость преодоления препятствий – все это всегда играло первостепенную роль в жизни Казимежа Михаловского. Думается, Михаловский рассуждал следующим образом: исследование могильников культуры А и С – работа, которая может принести значительные научные результаты, но она никогда не станет сенсацией, не привлечет к себе внимания польской общественности и международного сообщества ученых. Археолог должен быть стратегом. Чтобы вести дальнейшие исследования, добиться поддержки общественного мнения и официальных учреждений, одним словом, чтобы обеспечить себе, своей экспедиции и Центру в Каире возможность дальнейшей работы, нужны реальные успехи. Исследование древних могильников – ценная с научной точки зрения работа, но она не в состоянии пленить воображение непосвященной публики. Решение вести раскопки на холме было большим риском, но в случае удачи гарантировало такой успех, какой разжигает воображение непосвященных: сокровища, обнаруженные в песках, волнующие открытия, тайны древнего холма. Разумеется, в случае удачи. Но... риск – благородное дело, а медлительные, нерешительные люди, не способные принять смелое, рискованное решение, сами обрекают себя на неудачу. Казимеж Михаловский не таков. Его стихия – это риск и дерзание...
Одно можно сказать с уверенностью: никто не знал, что скрывается внутри холма. Это был один из тех моментов, которые на много лет, а порой и навсегда определяют жизнь человека. Если этот момент поведет его в сторону успеха, то обычно говорят: ему везет в жизни. Если наоборот, то об этом человеке ничего уже больше не говорят. Так обстояло дело и здесь. Если бы решение, принятое Михаловским, было ошибочным, то польская экспедиция стала бы одной из многих, о которых мало или вовсе ничего не говорят. А так как всегда легче разрушать, чем создавать, то любой чиновник мог бы в любой момент прекратить все работы. Получилось, однако, иначе. И сегодня среди археологов говорят о поляках: им исключительно повезло. Ибо польская экспедиция уже не является одной из многих, работающих в Нубии. Она та, что «попала в самую точку».
Профессор решил атаковать холм с единственного доступного пути, не прегражденного арабской крепостью. Этот путь шел в направлении с востока на запад, то есть лежал на обращенном в реке склоне холма. Кампания началась 2 февраля 1961 года. В первые несколько недель были раскопаны каменные блоки эпохи фараонов, вероятнее всего из храма Тутмоса III, о котором в свое время упоминал Гриффитс. Нашли 165 таких блоков, покрытых иероглифами и рельефами, изображающими танцы или жертвоприношения. Некоторые камни были покрыты росписью. Находок собрали много, но самого храма не обнаружили. Не удалось установить даже, существовал ли вообще когда-нибудь такой храм. Возникла другая гипотеза, разумеется также не проверенная: возможно, блоки заготовили для строительства храма, который в конечном счете не был сооружен. В таком случае это был бы склад строительных материалов эпохи фараонов. И, как обычно бывает со складами строительных материалов, владельцы которых перестали интересоваться строительством, сразу нашлись другие люди, использовавшие эти материалы в своих собственных целях. Когда, продолжая раскопки, археологи нашли фрагменты стен мероитских сооружений, то оказалось, что в них вставлены подобные блоки. Но могло быть и иначе. Возможно, эти блоки уже были использованы дважды, а затем их собрали, намереваясь употребить в третий раз? Проведенные до сих пор работы не дали ответов на все эти вопросы.
Раскопки продолжались. Около ста рабочих-арабов под руководством польских ученых вгрызались мотыгами в скат холма, выносили землю в плетеных корзинах, сбрасывали ее на берегу Нила, затягивали песни. Однако все еще не было обнаружено ничего достойного внимания. Нашли немного керамики, принадлежащей к различным периодам, попадались и остатки домов, относящихся, по-видимому, к мероитской эпохе. Никаких захватывающих открытий в этом не было. Казалось, что и Фарас будет причислен к местностям, о которых в научных трудах пишут: раскопки там вела такая-то экспедиция. И только.
Тем временем прокладываемая в скате холма траншея все удлинялась и углублялась, пока не достигла наконец 33 метров в длину, 6,5 метра в ширину и 10 метров в глубину. По пути были обнаружены остатки стен арабской крепости, которые уходили вглубь дальше, чем сперва предполагалось, а также остатки домов, которые к ней жались. Чтобы получить возможность продвигаться вперед, нужно было их разобрать. Это опять заняло некоторое время. Однако до сих пор еще не было найдено ничего, что оправдывало бы предпринятые усилия. Нужно было удалить огромные количества песка. Сыпучий нубийский песок и пыль выветрившихся кирпичей из ила, которые приходилось разрубать мотыгами, а затем выносить в корзинах, – все это образует в Фарасе тучи пыли, весь день витающие над холмом. Облака пыли и десятки движущихся людей создают издали впечатление подлинных батальных сцен. Со всех сторон сыпется песок. Незадолго до конца кампании он начал осыпаться так сильно, что пришлось увеличить количество рабочих и расширить фронт работ.
Когда все препятствия устранили и продолжили прокладку траншеи внутрь холма, обнаружили какое-то удивительное строение прямоугольной формы с куполом наверху. Как выяснилось впоследствии, это была гробница. За ней шли две молельни, совершенно засыпанные песком. За молельнями оказалась стена. Как записано в одном из первых отчетов о работах экспедиции, эта стена была единственным памятником монументальной архитектуры в Фарасе. Вскоре оказалось, однако, что это был не единственный, а лишь первый ее след.
Все сооружения начинались в 30 или 40 сантиметрах ниже стены крепости. Сердца археологов исполнились новой надежды. Выемку углубили и расширили. Можно было ожидать теперь, что, кроме гробницы и двух молелен из кирпича-сырца, внутри холма кроется нечто значительно более интересное. Раскопали часть большой стены, часть коридора, наконец, окно, ведущее в неизвестность...
И вдруг однажды...
Когда стали удалять песок, заполнявший обе молельни, на стенах начали вырисовываться изображения двух голов, написанных прямо на стене; краски поражали свежестью, они прекрасно сохранились. Одна из голов была выполнена в золотисто-коричневых, другая – в красивых красных тонах; обе были увенчаны ореолами. Все участники польской экспедиции застыли в немом удивлении. Скрестились взгляды – наших земляков 1961 года и древних, тысячелетней давности образов. Сбежались рабочие-арабы.
Так началось великое открытие в Фарасе!
Очистив молельню от песка, стали кисточками осторожно расчищать роспись. Это были две фрески. Одна изображала архангела Михаила с огромными крыльями, украшенными павлиньими перьями, то ли с палкой, то ли с посохом, увенчанным крестом, и в богатом, красочном одеянии. На голове – диадема в виде золотого перстня с драгоценными камнями. Тонкий, узкий нос, овальное лицо с высоким лбом; вокруг головы – ореол, выполненный в желтом, красном и темно-красном тонах. Архангел облачен в белую тунику, украшенную коричневыми лентами, и в нечто вроде ризы или плаща желтого цвета. Ясно виден пояс со вставленными в него драгоценными камнями и жемчугом. Плащ застегнут на плече брошью, также сверкающей жемчугом и драгоценными камнями. Превосходный, отлично выполненный образ произвел огромное впечатление на открывших его археологов.
А вот другая фреска – богоматерь с Иисусом. Эта роспись оказалась более поврежденной, чем первая. Глаза богоматери выцарапаны, черты лица Иисуса также стерты. Вся фреска имела форму круга, но нижняя ее часть уже осыпалась. Круг – пурпурно-коричневого цвета, с орнаментами. Богоматерь облачена в голубоватый плащ с нашитыми на него двухцветными лентами. Младенец – во всем белом.
Нетрудно было распознать стиль этой росписи. Она, несомненно, византийского происхождения и относится к эпохе бурного расцвета искусства Византии; это творение зрелого художника или нескольких художников, хорошо владевших своим мастерством и посвященных во все его тайны. Это были отнюдь не те беспомощные произведения коптской живописи, которые можно было ожидать встретить в этих краях, а творения высокоразвитого, законченного искусства.
Но что же все это могло означать?
Далеко на юге, близ второго нильского порога, там, где некогда господствовали египетские боги, а впоследствии восторжествовал Аллах, бог мусульман, выглянули из-под песков христианские святые.
Причем это было только начало.
Когда окончательно очистили обе молельни от песка, оказалось, что в стене, недалеко от фресок, находится пять надгробных стел с греческими надписями. На одной из стел был обнаружен следующий текст, старательно выписанный декоративными буквами:
«Боже душ и всего живого, победивший смерть и низвергший ее в ад, дающий живот миру, упокой душу слуги твоего – Иоанна, епископа Пахораса, на лоне Авраама, Исаака и Якова, в месте сияния, в месте зелени, в месте успокоения, там, откуда уходят заботы, боль и стоны.
Отпусти ему все грехи, учиненные словом, действием или мыслью. Ты, иже еси добр и милосерден, прости, ибо нет человека, который жил бы и не грешил.
Ты один безгрешен, и твоя справедливость вечна. Господи, всякое твое слово есть правда.
Ты – упокой и воскрешение слуги твоего Иоанна, епископа, и мы славим тебя – Отца, Сына и Святого Духа, отныне и во веки веков. Аминь».
Под этим текстом стояла дата кончины епископа – год 1006, а также его возраст в день смерти: 82 года.
Рядом находились стелы четырех других епископов Пахораса, то есть древнего Фараса.
Это была сенсация. И подлинно историческое открытие. Перед глазами польских археологов предстали люди, о которых ничего не было известно, воскресла история, совершенно позабытая и, в сущности, до сих пор в Европе совсем неизвестная.
И произошло это в самый последний момент. Однако еще не было слишком поздно.
Чем объяснить, что в песках холма в Фарасе скрывался архангел? Почему из-под руин арабской крепости, из-за каменных блоков эпохи фараонов и мероитян выглянула богоматерь с младенцем?
Чтобы ответить на этот вопрос, приходится вернуться к прерванному рассказу об истории Нубии. Это обширная тема, ее хватило бы не на одну книгу.
Итак, в Египте появились римляне. Они не имели тогда себе равных, их империя охватывала весь древний мир. В 29 году до нашей эры римские легионы подошли к границам Нубии. В окрестностях первого порога, близ нынешнего Асуана, стали их пограничные посты. И, хотя так называемый «Пакс романа» («Римский мир») благословлялся многими народами, тем не менее соседство Рима никогда не сулило мира. Уже четыре года спустя римский наместник Петроний руководит экспедицией против царства Мероэ и разрушает его древнюю столицу Напату. Граница отодвигается еще южнее. Нубия оказывается в пределах Римского государства, где и остается до 297 года нашей эры, когда император Диоклетиан решил эвакуировать оттуда римские гарнизоны. Времена были неспокойные, с юга или, возможно, с востока появились новые захватчики – блеммии, которые совершали частые набеги на Верхний Египет. Диоклетиан поступил тогда так, как это неоднократно делали впоследствии создатели «римской империи XIX века» – англичане. Для борьбы с блеммиями он использовал другой народ – нобатов, которые под крылышком римлян расселились на территориях, расположенных между первым и третьим порогами. И предоставил обоим народам, враждующим друг с другом, самим сводить между собой счеты.
Два народа вели долгую, упорную и ожесточенную борьбу. Помирились они лишь перед лицом общего врага – арабов. А до этого они беспрерывно воевали друг с другом, но о ходе этой войны нам известно очень мало. Из надписи, найденной в Калабше и датированной приблизительно 530 годом, мы знаем, что царь нобатов Силко, величавший себя «Базиликос», то есть присвоивший греческое царское звание, победил блеммиев или по крайней мере похвалялся этим.
Но вскоре действие переносится в Константинополь.
Наступает 540 год. Со двора императора Юстиниана отправляется в далекие и незнакомые края апостольская миссия с целью распространять веру в ее православном, византийском толке. Вслед за ней посылается вторая миссия. Первая миссия пользовалась поддержкой самого императора, вторая – императрицы Феодоры. В религиозных взглядах императрица расходилась со своим именитым супругом. Она была сторонницей монофизитского учения, которое еще сто лет назад, в 451 году, на Халкидонском соборе, было признано еретическим.
Обе миссии направляются далеко на юг. Они оставляют позади обращенный уже в христианскую (коптскую) веру Египет. Именно в те времена на острове Филэ, под Асуаном, был официально отменен культ богини Исиды, покровительницы Верхнего Египта (ныне этот остров затоплен, и только во время максимального спада вод Нила можно увидеть выступающие из воды колонны его прекрасного храма; сейчас продолжаются работы по переносу храма в другое место). Но теперь уже миссиям здесь нечего делать. Зато дальше...
Дальше, на территории между первым и третьим порогами, находилось царство Нобатия со столицей в Фарасе. К югу от него располагалось царство Макурия, столицей которого была Старая Донгола. Еще дальше к югу лежало царство Алоа (или Алодия) со столицей в городе Соба.
Именно туда направлялись обе миссии из Константинополя. О деятельности православных миссионеров нам мало что известно: можно строить лишь догадки, несмотря на то что их деятельность пользовалась поддержкой самого императора. Об еретиках сохранилось больше сведений. Их хронистом стал Иоанн Эфесский, который описал экспедицию, возглавляемую священником Юлианом. Последний прибыл в Нобатию приблизительно в 543 году. Он добился здесь, видимо, больших успехов, коль скоро, покидая через два года эту страну, счел свою миссию законченной. Иоанн Эфесский оставил свидетельство, что в Нобатии и Фарасе в те времена стояла такая же жара, как и сейчас. Иоанн писал: «Он (Юлиан) говорил, бывало, что с девяти часов утра до четырех пополудни он вынужден был хорониться в пещерах, где было достаточно воды и где он сидел раздетый, в одной лишь холщевой рубахе, какие носят люди в этой стране».
После Юлиана в Нубию прибыл Лонгин, но это произошло лишь в 569 году. Лонгин пробрался туда тайком, переодетый, так как иначе его не выпустили бы из Константинополя. Будучи лысым, он, убегая, надел парик и в таком виде явился в Нобатию. Оттуда Лонгин отправился дальше на юг, в Алоа. Но путь оказался трудным. Царство Макурия относилось к нему явно враждебно. Возможно, что оно было обращено уже в христианскую веру соперничающей миссией. Во всяком случае, на пути в Алоа Лонгину пришлось обойти Макурию стороной. В конце концов он добрался до Собы и, подобно своему предшественнику в Фарасе, добился успеха.
Все эти сведения, переданные Иоанном Эфесским, представляются, однако, не вполне достоверными. Хронист, видимо, преувеличивал, описывая преимущества своих единоверцев. Надгробные надписи, найденные в Нубии, составлены большей частью на греческом языке, а содержащиеся в них молитвы принадлежат православному толку. По всей вероятности, дело обстояло сложнее; возможно, обе церкви действовали параллельно, а поэтому приписывать обращение тех или иных царств в христианскую веру только одной из них нельзя.
Таким образом, весь район от Асуана до нынешнего Хартума перешел в VI веке в христианскую веру. Там возникли три христианских царства, связанные многочисленными узами с Византией. Столь сильного влияния в Африке Европа не имела с тех пор в течение целых тринадцати столетий, вплоть до эпохи пара, электричества и современного империализма.
Однако в 640 году контакт с Византией был внезапно прерван. Причиной этого было событие, значения которого в то время никто, очевидно, не сумел должным образом оценить, но которое оказало впоследствии огромное влияние на судьбы Африки, а также Европы и всего мира, – Египет был завоеван арабами. В долину Нила прибыли кочевники из забытых богом и людьми песков Аравии, но они шли вперед с учением нового пророка в сердцах, гласящим, что высшая заслуга перед богом есть борьба с неверными. Кроме того, их летучие боевые отряды применяли такие формы нападения, противостоять которым не могли ни персидские, ни византийские воины.
Впервые арабы напали на Нобатию в 641 году. Нубийцы сражались храбро и с самого начала снискали себе уважение арабов. У них были замечательные лучники, наловчившиеся простреливать глаза врагам. Первая война скоро закончилась. Был заключен «багт» (от греческого слова «пактон», то есть пакт). В нем предусматривалось, что нубийцы будут ежегодно поставлять четыреста рабов, а взамен получать из Египта продовольствие, одежду и другие товары. Таким образом, это было соглашение, в котором обе стороны пытались установить основы мирного сосуществования. Но мир продолжался недолго. В 652 году арабы вновь напали на нубийцев. История этой войны нам известна только из арабских источников. Так, хронист Макризи рассказывает, что арабы достигли Старой Донголы, то есть столицы второго по очереди царства – Макурии. На этот раз силы арабов были значительнее и они добились более веских успехов. Арабы победили. В Донголе они уничтожили главную церковь камнями, которые метали из катапульт. Царь Калидурут был вынужден просить о мире. Борьба была, видимо, ожесточенной, так как один из арабских поэтов писал: «Никогда еще я не видел такой битвы, как под Донголой...»
Но арабы отказались от мысли оккупировать страну и опять отошли на территорию Верхнего Египта. Они, должно быть, сильно пожалели об этом впоследствии.
После 710 года Нобатия и Макурия объединились. Как это произошло, неизвестно. Если царь Меркурий, оставивший надпись в Тафе, в Нубии, и есть тот самый Меркурий, царь Донголы, о котором другие надписи говорят как о «новом Константине», значит, Макурия покорила Нобатию. Но, поскольку в это же самое время в стране устанавливается господство монофизитской церкви, может быть, все было как раз наоборот, так как в Макурии господствовала православная церковь. Итак, мы не знаем, кто кого в конце концов покорил, и нам это сейчас безразлично, хотя не было, разумеется, безразлично тогдашним жителям Нубии. Как бы то ни было, остается фактом, что это объединение дало им возможность оказать сильнейшее сопротивление арабам и исламу. В Нобатии находился теперь правитель – епарх, известный арабам как повелитель гор, «саиб эль-гебель». Объединенное царство было достаточно могущественным, чтобы в 745 году вторгнуться под предводительством царя Сириака в Египет для защиты плененного александрийского патриарха. Войска Сириака дошли до самого Каира, пройдя более тысячи километров долиной Нила. Наместник Египта Абд эль-Мелек ибн Муса был вынужден уступить силе и выпустить плененного патриарха. Нубия достигла вершины своего могущества. Вплоть до IX века арабы не осмеливались задевать ее. Она считалась одной из крупнейших держав тогдашнего мира и направляла своих послов даже в Багдад, ко двору калифа.
Но в Европе даже не подозревали, что где-то в глубине Африки существует христианское государство.
В X веке положение меняется. Усиливается проникновение мусульманских племен. В поисках золота арабы появляются даже на суданском побережье Красного моря. Один из них, Абу Абд эль-Рахман эль-Омари, основывает независимое государство в горах восточнее Нила и ведет бои с нубийцами. Однако нубийцы все еще остаются грозной силой. Они совершают много набегов и военных экспедиций против арабов. Атакуют оазисы, находящиеся в их владениях, и даже завоевывают Асуан и весь Верхний Египет. Как и в VIII веке, царь Нубии считается покровителем александрийского патриаха.
От этой эпохи дошло некоторое количество текстов на нубийском языке. Во всяком случае, нубийский язык имел в то время письменность. В науке он носит название старонубийского языка и родствен современному диалекту, на котором говорят жители Нубии от первого до третьего порога. В основе письменности лежала коптская форма греческого алфавита. Однако использовались не все буквы коптского письма, зато были введены три собственные буквы, позаимствованные, вероятно, из мероитской письменности, для обозначения звуков, которых не было ни в греческом, ни в коптском языках. Возможно также, что в конце X века нубийский язык заменил греческий в религиозных текстах, хотя греческим продолжали пользоваться в надгробных надписях.
В 1171 году Нубию постигла катастрофа, вызванная просчетом в соотношении сил. Нубийская армия вновь вторглась в Египет и завоевала Асуан. Но царь Нубии не учел того существенного факта, что во главе арабской империи в то время стоял Саладин, который в период крестовых походов успешно сражался с объединенными армиями Европы. Саладин пришел в ярость и послал своего брата покарать легкомысленных нубийцев, что тот не преминул скрупулезно выполнить. Он разбил нубийскую армию, вторгся на территорию противника и разместил арабский гарнизон в важном стратегическом пункте – городе Ибриме. Главная церковь в этом городе была заменена мечетью. Однако, когда брат калифа удалился, нубийцы сумели вновь вынудить арабов уйти из Ибрима.
Затем наступили сто лет мира. По сегодняшним понятиям это великолепное достижение. Через сто лет нубийцы предприняли последнюю в истории своего государства наступательную кампанию. Теснимые мусульманским населением, они напали на арабов в городе Айдхуб на побережье Красного моря. С тех пор началось неуклонное отступление, впечатляющие следы которого найдены теперь в Фарасе. Кроме того, происходила внутренняя борьба за трон. Один из претендентов даже призвал на помощь арабов и при их поддержке пришел к власти. Попутно мусульмане уничтожают одну из крупнейших церквей Нубии в Донголе. Вскоре после этого в Нубии происходят удивительные события. На трон вступает царь Семамун. Но арабы против него. Их войска вступают в Нубию, Семамун бежит, и нубийским царем становится ставленник арабов, кстати говоря, племянник Семамуна. Но у арабских войск много других забот, поэтому они вскоре уходят, надеясь, что их подопечный самостоятельно справится с положением. Тогда Семамун возвращается и прогоняет племянника. В ответ на это арабы появляются вновь; Семамуну приходится опять спасаться бегством. И так четыре раза подряд. Если допустимо подобным образом говорить о царях, ставших уже историческими фигурами, Семамун оказался истинным ванькой-встанькой. У него не хватало средств для защиты своих прав, но настойчивости было достаточно. Однако в конце концов, как и можно было ожидать, он потерпел неудачу. После него правили еще несколько христианских властителей, которые все больше попадали в зависимость от калифа.
В 1323 году господство христианских владык в Нубии кончилось. Царство Алоа продержалось дольше – до 1504 года. С тех пор в Нубии установилось господство ислама и она потеряла свою независимость.
В то время как европейские крестоносцы воевали с мусульманами за святые места в Палестине, а римские папы, святые и короли призывали к борьбе с неверными, в Европе и не подозревали, что на другом краю «государства басурманов» существовало царство под знаком креста, которое вело полную трагизма борьбу против засилья мусульманства. Узнали об этом в Европе лишь недавно, когда никто уже не придавал значения тогдашним делам, сражениям, призывам и присягам.
И только теперь из-под песков выглянули архангелы, богоматери и нубийские цари. И, что еще любопытнее, их возвращению способствовали ученые одной из социалистических стран.
Глава шестая. Археологи
Это было еще только начало.
Фрески, обнаруженные во время первой кампании, пришлось вновь засыпать песком. Снять их было нельзя, как нельзя было подвергать действию солнца и ветра. Вот почему глаза архангела и богоматери вновь прикрыл песок. Но лишь на короткое время. Первая кампания кончилась в марте, а осенью археологи вернулись в Фарас. Летом никто не ведет раскопок в Нубии. Для европейцев работа там просто невозможна, жара доконала бы их. Днем температура воздуха достигает 50 градусов, ночью она несколько падает, но не ниже 35 градусов. Кроме того, весной просыпается и выходит из своих укрытий целое сонмище опасных врагов – скорпионов и змей. Землекопные работы, без которых не может обойтись археология, становятся тогда весьма опасными. Поэтому археологи ежедневно берут с собой на холм аптечки с сывороткой против змеиного яда, чтобы не пришлось бежать, если ужалит змея, в лагерь и обратно (всего 400-600 метров). Потеря времени может оказаться роковой... Но и зимой можно наткнуться на опасную змею. До сих пор (тьфу-тьфу, не сглазить!) змея еще ни разу не ужалила археолога. Зато с рабочими было два таких случая. Сыворотка была под рукой, и их удалось спасти.
В следующую кампанию, осенью и зимой 1961/62 года, разобрали арабскую крепость и срезали всю верхушку холма, в результате чего было раскрыто все, что находилось внутри. Археологи добрались до тайн, скрытых за большой стеной и за пробитым вначале «окошком». Теперь одна сенсация следовала за другой. Как вспоминают наши археологи, это было нечто совершенно невиданное, фрески сыпались как манна небесная, ежедневно из Фараса шли на весь мир донесения: уже 10 фресок, 15, 30...
Холм стал значительно ниже. На берегу Нила возникла огромная насыпь. Зато внутри холма начало вырисовываться какое-то внушительное здание. Обнаруживались все новые и новые фрагменты стен и наконец картина стала ясна. Внутри холма находилась засыпанная песком христианская церковь, а рядом с ней – монастырь. Весь ансамбль относился к эпохе христианства в нубийском царстве до нашествия арабов, когда Фарас назывался Пахорасом и служил местопребыванием епископов. Когда удалили песок, обнаружили свыше ста фресок. Все стены церкви были покрыты росписью. Некоторые фрески были повреждены солями или человеком, другие почти невредимы. Так нашли крупнейшую в мире коллекцию произведений ранневизантийского изобразительного искусства, составляющую одно целое и сосредоточенную в одном месте. Фрески из Фараса, их стиль и мотивы неопровержимо свидетельствовали, что между нубийским царством и Византией существовали некогда тесные узы, лишь впоследствии окончательно прерванные мусульманским нашествием. Это подтверждалось многочисленными греческими надписями, найденными на территории церкви. Древние нубийцы любили писать на стенах. В Фарасе обнаружили около тысячи таких надписей.
Оба здания были без кровли, однако их стены, а также некоторые дверные арки и лестничные ступеньки почти полностью сохранились. Сильно выветрившиеся серые стены покоятся на мощном фундаменте из каменных блоков, относящихся ко временам фараонов и мероитян. Рядом с изображениями богоматери – египетские иероглифы и украшенные резьбой плиты мероитского периода. Многократное использование одних и тех же камней хорошо известно всем археологам, исследующим цивилизации средиземноморских стран. В середине церкви уцелела штукатурка – огромные серо-белые пласты, изготовленные весьма примитивным способом, однако оказавшиеся очень прочными и неподвластными времени. На штукатурке – фрески. Куда ни глянешь, всюду видны причудливые темные лики епископов и царей и светлые лица богоматери, святых и архангелов. Старые мистера живописи в Фарасе руководствовались правилом: лица живущих людей – темные, а лица святых – светлые, почти белые. Самая красивая из всех фресок – «Рождество». Светлолицая, облаченная в темную полосатую одежду богоматерь возлежит на роскошном, достойном самого византийского императора, широком и мягком ложе, какого никто, несомненно, не имел в Фарасе. Рядом с ней – ясли, а в них – младенец с лицом взрослого, завернутый в белые пеленки. Задумывался ли художник над тем, почему мать, покоящаяся на столь великолепном ложе, уложила свое дитя в ясли? Над яслями – ослик и африканский горбатый вол с длинными рогами. Вокруг толпа людей. Прибывают трое царей на конях. Кони прекрасны, арабской породы, гнедые в белых яблоках. Дальше – ангелы, а внизу – простолюдины. Огромная фреска, во всю стену. Написана она в религиозной манере: величина фигур не зависит от плана, на котором они находятся. Фигуры простых людей – небольшие даже на первом плане. Зато изображение богоматери очень крупное. Вот и ослик – также больших размеров, не меньше, чем три царя с их конями.
Многие композиции повторяются, особенно изображения богоматери, а также сцены, в которых она или святые благословляют нубийских царей или фарасских епископов. У некоторых фигур не хватает глаз, у других – частей тела или одежды. Кое-где под одной фреской виднеется другая. Ибо в церкви два слоя штукатурки – более ранний и более поздний. Церковь перестраивалась.
Богоматерь с нубийским князем, епископ Петр, благословляемый святым Петром, епископ Мариан, много изображений богоматери с младенцем, потом снова епископы, святые, цари... Святой Онуфрий, культ которого в этих краях возник непосредственно из культа Осириса[50], одного из важнейших богов Египта. Свыше ста фресок...
В Фарас стали прибывать ученые из всех экспедиций, работавших в Нубии. Начали приезжать иностранные журналисты.
Известный французский еженедельник «Пари-матч» писал: «Этого никто не ожидал. Съехавшиеся со всего света археологические экспедиции предприняли раскопки в песках Нубии, которые будут затоплены водами Нила... Польской экспедиции очень повезло. В пустыне, близ небольшого оазиса Фарас, в 300 километрах от плотины, была обнаружена великолепная византийская церковь, находившаяся в неприкосновенном виде и погребенная под песками, в которые она медленно погружалась в течение десяти столетий...
...В результате достигнутого успеха количество рабочих удваивается. И вскоре раскапывается вся церковь: подлинный собор с центральным нефом, колоннами и нартексом, целиком расписанный византийскими фресками».
А секретарь и директор Британского королевского географического общества Л. П. Кирвэн писал в «Таймсе»:
«Исследуя в 1960 году возможности ведения раскопок для Службы древностей Судана, доктор У. И. Адамс из ЮНЕСКО и я обнаружили ряд доказательств, подтверждающих предположения Гриффитса, который считал, что этот холм не образован целиком природным путем. Профессор Михаловский разрешил вопрос столь характерным для него энергичным образом. Удалив форт дервишей, он повел раскопки глубоко внутрь холма, и неожиданно в облаках пыли, подымаемой его рабочими-нубийцами, показались очертания базилики со стенами из красного кирпича, покоящимися на чудесной каменной кладке из песчаника и достигающими пятнадцати футов в высоту...
Но впереди было еще более неожиданное открытие. Когда из внутренних стен был удален нанесенный ветрами песок, археологи стали находить множество фресок, сверкающих яркими красками и снабженных греческими и нубийскими надписями...
Мы многим обязаны польским экспертам, которые сумели так хорошо снять эти тонкие памятники старины, умело обращаясь не только с их хрупкой поверхностью, но также и со слоями более ранних фресок, расположенных снизу. Только некоторые из последних удалось спасти; одна из них изображает архиепископа Игнатия из Антиохии. Эта фреска имеет большое значение, так как она свидетельствует о влиянии Сирии на христианскую Нубию. В перечне епископов ей соответствует дата – 802 год. Это дает приблизительное представление об эпохе, в которую был создан второй слой фресок, и еще больше подчеркивает исключительное значение польских открытий. Они принадлежат к важнейшим во время кампании, связанной с сооружением Высотной плотины».
Польские археологи завоевывают себе громкую славу во всем мире. Приезжают ученые разных национальностей, чтобы повидаться и побеседовать с ними. Поляков приглашают принять участие в работах других экспедиций. Предлагают продолжительные научные командировки в Британский музей. Профессор Михаловский неоднократно говорил, бывало:
– Я запродал Остраша американцам... Продал Газы Адамсу... Продал Кубяка...
Это не значит, конечно, что профессор устроил генеральную распродажу польской экспедиции. Просто в летний период, когда наступает перерыв в кампании раскопок, отдельные участники экспедиции принимают порой предложения поработать в иностранных научно-исследовательских организациях, ведущих изыскания на территории Египта или Сирии. Для молодых людей это шанс завязать ценные научные связи, возможность ознакомиться с работой других и, наконец, возможность несколько поправить свои финансовые дела, ибо работа в польской экспедиции не приносит больших доходов... Но когда начинается очередная кампания, все участники экспедиции должны находиться на своих местах.
Вот почему теперь эти «эксперты», о которых столько пишут и которым директор Британского королевского географического общества выражает глубокую признательность в «Таймсе», ведут раскопки в Фарасе, глотают облака пыли, обливаются потом, а затем стирают в тазах во дворе грязные рубашки, штопают носки, ставят заплаты на брюки. Ибо брюки страшно рвутся на раскопках. К концу кампании весь состав экспедиции становится похож на скопище парижских бродяг.
Кто же эти люди? Начнем, разумеется, с руководителя.
В 1924 году профессор Львовского университета Буланда предложил одному из студентов стать ассистентом на кафедре классической археологии. Студент был поражен, он удивляется этому и по сей день. Он откровенно признается, что его знания тогда были невелики. Но Буланда был настойчив. Профессор положил перед смущенным студентом стопку книг и сказал: «1 сентября вы станете ассистентом. За время каникул прочтите вот эти материалы. Через два года должны стать докторантом».
Профессор Буланда отличался настойчивостью, но настойчивость была также одной из основных черт нового ассистента. Время каникул не было потрачено впустую, и осенью студент Михаловский вступил на тернистую, но прекрасную стезю археологии. Незаурядно одаренный, он вскоре отличился настолько, что Министерство вероисповеданий и народного просвещения назначило ему стипендию для продолжения научных занятий за границей. Он отправился в Берлин, затем в Гейдельберг и, наконец, в Мюнстер. Занимался там под непосредственным руководством самых знаменитых немецких археологов, а немцы находились тогда в авангарде мировой археологии. Стипендия была мизерной, студентам с трудом хватало на жизнь. Но Михаловский умудрялся даже откладывать из нее деньги на путешествия. «Я ездил четвертым классом, – вспоминает он, – так как пятого не было...»
Он побывал в Париже и Лондоне, осматривал коллекции в немецких музеях. Начал также публиковать свои работы. Знал, что ему надо спешить. Опасался, что в любой момент его могут лишить стипендии: широко задуманные научные планы зависели от решения какого-нибудь заурядного чиновника в министерстве. Такова уж судьба археолога: крупнейшие открытия всегда зависят от доброй воли соответствующего чиновника. Вот почему Михаловский работал, не давая себе ни малейшей передышки. Каждые три месяца он публиковал новую работу в иностранных археологических журналах. Было необычным, что молодой человек, никогда не принимавший участия в археологических раскопках, так часто печатается в научных периодических изданиях. К тому же это был молодой человек из Польши, где классической археологии по-настоящему не существовало. Всякий раз, когда нужно было переслать в Варшаву очередное заявление с просьбой продлить стипендию, к письму прилагался оттиск новой публикации. Это производило должное впечатление.
Михаловский понимал: или ему удастся завязать как можно больше знакомств в мире науки и впитать в себя как можно больше знаний, или придется вернуться на родину, причем не известно еще, сможет ли он вообще работать там по своей специальности. Это была борьба за выигрыш во времени, а заодно и за то, чтобы удержаться на поверхности, получить возможность посвятить себя работе, которая полностью захватила его. Михаловский отправляется в Рим, где приступает к занятиям в римской «Эколь франсэз» – известном археологическом центре. Одновременно хлопочет о приеме в «Эколь франсэз» в Афинах. Прием в это учебное заведение равноценен посвящению в рыцарское звание, но иностранцу было трудно попасть туда, особенно гражданину страны, которая не имела никаких традиций в области классической археологии. Но в конце концов Михаловскому это удается. Он впервые получает возможность принять участие в раскопках. Работает на острове Делос, затем – на острове Фасос, а впоследствии – в Дельфах. Он публикует в это время работу на тему о греческих портретах, которая по сей день цитируется специалистами, а затем – книгу под заглавием «Дельфы», которая дважды переиздавалась после войны.
Он писал в ней: «Язык руин всегда красноречив, но его трудно понять. Глядя на руины, мы поддаемся неотразимым чарам, расточаемым древностями, покрытыми пылью веков и овеянными обаянием легенд, и все это на фоне пейзажа, которому они придают своеобразный колорит. Однако нам нелегко в такой момент отделить субъективные психические ассоциации от совокупности голых фактов. Руины воздействуют на нас прежде всего своей романтикой».
Казимеж Михаловский, да и никто другой в Польше не мог тогда предполагать, что вскоре нам суждено было очутиться среди руин, лишенных как очарования, так и романтики.
В 1929 году Михаловский приезжает на три месяца во Львов и защищает диссертацию на звание доцента. В следующем году он получает кафедру археологии в Варшавском университете. Ему было в то время всего 29 лет.
Михаловский снова откладывает деньги на путешествия, на этот раз уже из профессорского жалованья. В 1934 году он впервые направляется в Египет, где работает на раскопках в Дейр-Медине в качестве члена французской экспедиции. Но уже в 1936 году удается организовать совместную польско-французскую экспедицию. Раскопки ведутся в Эдфу, в Центральном Египте. Через год Михаловский стал руководителем работ в Эдфу. В Варшаву начали прибывать ящики с памятниками древности, полученными за участие в раскопках. Они стали основой для созданного в Национальном музее отдела древнего искусства, что всегда было одной из заветных целей Михаловского.
В августе 1939 года Михаловский был призван в армию. Последние дни перед началом войны обернулись для него драматически. В Берлине проходил тогда IV Международный археологический конгресс. Профессор получил увольнительную из полка и отправился туда. В Берлине царила ужасная атмосфера, профессор столкнулся с открытыми угрозами. Однако прощание с представителями подлинной немецкой науки было волнующим. Старые немцы всплакнули, когда вечером 26 августа Михаловский уезжал из Берлина, возвращаясь в Польшу, в свой полк.
Он участвовал затем в сентябрьских боях и попал в плен. Находясь в лагере, преподавал археологию в лагерном университете. В феврале 1945 года вернулся в Варшаву и вновь оказался среди руин, но уже совсем других!
«Когда на следующий день после возвращения, – рассказывал он, – я направился на Старе Място[51], меня стала неотступно преследовать мысль, что мне удалось разгадать тайну надписей, найденных в Помпеях, но сделанных уже после гибели города. В Варшаве также были подобные надписи: „Мы в Милянувке[52] – Ковальские“. Но Помпеи больше не возродились. В тот момент я не предполагал, что Варшава сумеет возродиться».
Тем не менее Михаловский принимал участие в восстановлении университета. А когда друзья из Сорбонны предложили ему поехать работать в Париж, а также выехать на раскопки, он отказался. В Польше в ближайшие годы не могло быть и речи о таких выездах. Город и его университет восставали из руин, но с научной точки зрения эти годы были потеряны для Михаловского. Лишь в 1956 году он получил приглашение от директора Эрмитажа в Ленинграде принять участие в совместных советско-польских раскопках в Крыму. Весь сезон велись работы на территории бывшей греческой колонии Мирмекея, где были сделаны ценные открытия. В этом же году Михаловский вернулся после семнадцатилетнего перерыва в Египет.
Что означал для него этот семнадцатилетний перерыв в научной работе? Трудно ответить на такой вопрос, но можно с уверенностью сказать одно: это была подлинная катастрофа. Другой человек, возможно, махнул бы на все рукой, отказался бы от чаяний молодости и удовлетворился положением, которого достиг на родине. Ведь Михаловский как-никак профессор и руководитель Центра средиземноморской археологии Варшавского университета, член президиума Польской академии наук и заместитель директора Национального музея. Но всего этого Михаловскому было недостаточно. Он стремился участвовать в раскопках, проводить ночи в палатках, а днем, в пыли, вздымаемой босыми ногами рабочих-арабов, совершать открытия, публиковать свои работы и поражать мир разгадкой волнующих тайн, скрытых в песках.
Высокий, худощавый, с фигурой спортсмена, с выправкой военного, брызжущий энергией, Михаловский ни минуты не раздумывал, когда вновь пришлось сменить свой комфортабельный кабинет в университете или музее на простой камень, на котором он сидит теперь в Фарасе, диктуя описание открытого им древнего собора. С 1956 года он не пропустил ни одного сезона раскопок. Михаловский руководит работами в Телль-Атрибе в Дельте, в Александрии, а также в Пальмире (Сирия) – в этом единственном в своем роде мертвом городе, забытом среди песков пустыни. Михаловский сплачивает вокруг себя группу молодых сотрудников, и они совместно добиваются все больших успехов. Он публикует много работ и становится общепризнанным авторитетом в области археологии Средиземноморья. В момент, когда ЮНЕСКО обратилась с Международным призывом, польская археология и египтология имели хорошую репутацию. Уже возник к тому времени Польский центр средиземноморской археологии в Каире. Мерилом его достижений может служить хотя бы то, что Польша пользовалась приоритетом при выборе места в Судане. Место было выбрано удачно...
Замечательный рассказчик, человек безупречных манер. Михаловский создает, однако, в экспедиции атмосферу железной дисциплины строгой ответственности и, прежде всего, напряженной работы. Задания всегда очень велики, а времени для их выполнения остается мало. Профессор никогда не участвует во всей кампании целиком.
Он приезжает обычно на один месяц осенью, потом снова на один месяц в январе или феврале и, наконец, на два месяца или больше весной. В остальное время он выполняет свои многочисленные обязанности в Варшаве, а кроме того, участвует в научных конгрессах и съездах. В августе выезжает на отдых на польское взморье. Дома, в Лесной Подкове, лишь гостит. Но когда приезжает в лагерь в Нубии или Египте... Тогда уже не до шуток. Работа мчится во весь опор, словно лошадь, подстегиваемая кнутом. Царит атмосфера, напоминающая отчасти монастырь, отчасти спортивный лагерь, а отчасти полигон, на котором упражняются отряды «командос». Игра в бридж запрещается, так как, по мнению профессора, затягивающаяся допоздна игра мешает работе. Впрочем, как найти время в такую пору для бриджа? Столь же отрицательное отношение встречают, разумеется, и спиртные напитки. Купание в Ниле запрещено в Фарасе с тех пор, как кто-то, искупавшись, подцепил нечто вроде парши. Запрет никем не нарушается, хотя в нубийскую жару река издевательски манит людей своим видом и плеском прохладной воды. Лишь я один нарушил запрет, правда, все обошлось благополучно. Но, во-первых, я искупался на противоположном берегу, где вода значительно чище, а во-вторых... Во-вторых, это происходило в лагере американской экспедиции в Гебель-Адда, в нескольких десятках километров от Фараса.
Таков руководитель нашей экспедиции.
Он женат. Его жена, Кристина Михаловская, сопровождает мужа на раскопках, когда позволяют ее домашние обязанности в Варшаве, а точнее, в Лесной Подкове, где у них осталось двое детей. Когда она находится в лагере, ее присутствие несколько смягчает его суровую атмосферу, вносит тепло в глинобитный дом и создает в нем некоторый домашний уют. Сердечная и милая Кристина Михаловская заботится обо всех и готова терпеливо выслушать все жалобы. Кроме того, она помогает в работе экспедиции, зарисовывая найденные фрагменты рельефов, капителей, стел и другие памятники старины, которые нельзя передать на фотоснимках столь же хорошо, как на рисунках.
В отсутствие профессора руководство экспедицией переходит или к научному секретарю каирского Центра Владиславу Кубяку или к архитектору Антонию Острашу. В 1963 году профессора замещал Остраш. Но даже и тогда, когда профессор бывал в Фарасе, Остраш ведал всеми финансовыми вопросами, отвечал за сотрудничество с раисом и рабочими и за снабжение лагеря. У него мы могли приобретать папиросы и лезвия для бритв, мыло, а порой, в особо торжественных случаях, и спиртные напитки. Небольшого роста, брюнет, похожий на француза или итальянца, Антек Остраш отличается невозмутимым спокойствием, исключительной добросовестностью и скрупулезностью. Уговорить его продать бутылку виски из лагерных запасов – одна из труднейших задач среди многих трудных проблем, которые приходится разрешать участникам экспедиции.
Подобно большинству ее участников, Остраш очень молод. Диплом магистра он получил в 1957 году. Учился на архитектурном факультете Варшавского политехнического института, был ассистентом на кафедре, по окончании учебных занятий работал при кафедре истории архитектуры и искусства, руководимой профессором Беганьским. В 1960 году Казимеж Михаловский предложил ему выехать на полгода в Египет. Как это произошло?
– Я должен был выехать только на полгода, – рассказал мне Остраш. – А остался дольше. Но через год я был уже готов возвращаться, так как имел обязательства перед кафедрой. Но, понимаешь, тут затягивает как в омуте. Я остался и нахожусь здесь с 1960 года и за все это время был едва полтора месяца дома.
Началось с того, что сейчас же после приезда в Каир Остраша по соглашению с Михаловским откомандировали во временное распоряжение итальянцев. Профессору Гаццола, автору проекта сохранения храма в Абу-Симбеле, требовался архитектор. Это было первое испытание Остраша на международном поприще. После этого он отправился в Нубию в составе экспедиции, ставившей себе целью осмотр памятников и разработку способов их сохранения. Он провел затем в Нубии еще два месяца при разборке храма в Тафе. Подобно нескольким другим храмам, находившимся на территориях, подлежащих затоплению, храм в Тафе был разобран таким образом, чтобы можно было, если найдутся на это средства, собрать его в новом месте, сохранив первоначальный вид. Для этого при разборке храма необходимо составить чрезвычайно подробную документацию. Без помощи архитектора здесь не обойтись.
Затем Остраш работал вместе с инженером Лешком Домбровским при разборке храма в Дабоде. И, наконец, – Фарас, первая кампания в 1961 году. Из Фараса он направился в Пальмиру (Сирия). После этого – вторая кампания в Фарасе. В перерыве между обеими польскими кампаниями Остраш провел работу в египетском Центре документации, который находится в Каире и занимается сбором всевозможной документации, касающейся памятников старины на территории Египта. По поручению Центра он составил полную документацию храма в Дакке, который также будет разобран. Это огромная работа: нужно было составить детальные планы, описать каждое изваяние, каждый рельеф и каждую надпись. Но это еще не все. Необходимо было описать каждый камень и присвоить ему порядковый номер, чтобы те архитекторы, кому предстоит разбирать храм, и особенно те, кто будет собирать его заново, могли должным образом ориентироваться во всем этом материале.
После этого снова Пальмира, а вслед за ней – третья кампания в Фарасе, о которой идет речь в нашей книге. Накопив немалый опыт, недавний неоперившийся ассистент политехнического института стал искушенным архитектором-археологом. Экспедиции других стран стремятся привлечь его к сотрудничеству. Он не забывает при этом и о строго научной деятельности, готовит работу, касающуюся проекта восстановления храма в Тафе, а также другую, задуманную в более широком плане, – об архитектуре христианских храмов и других строений в Фарасе.
– Видишь ли, – втолковывал он мне, – в глубине души архитектор всегда мечтает о том, чтобы проектировать и строить. Он мечтает о больших свершениях. Я так же не составляю исключения, хотел бы проектировать. Здесь же я занимаюсь другими делами. Однако восстановление старинных храмов, раскрытие тайн, на которые наталкиваешься при этой работе, – все это тоже затягивает. Это тоже дает некоторое удовлетворение профессиональных чаяний архитектора.
Остраш не женат, что облегчило его положение, так как он смог благодаря этому продлить свою полугодичную отлучку до четырех лет, а быть может, он пробудет здесь и еще больше.
– Порой это облегчает положение, а иногда осложняет, – признался он мне однажды, – бывает по-всякому...
Самые молодые участники экспедиции – Марек Марциняк и Стефан Якобельский, оба 1937 года рождения. Марек – единственный подлинный знаток джаза в экспедиции и знает почти всех певцов мира. Кроме того, он единственный участник экспедиции, умеющий по-настоящему танцевать твист, хотя Стефан яростно соперничает с ним в этом. Путь Марека в египтологию довольно замысловат: он был сперва танцором в оперном балете. Впоследствии окончил университет, специализируясь в египтологии. Отличается большими способностями и сразу обратил на себя внимание профессора Михаловского. В Египте он уже три года. Не часто бывает, чтобы в возрасте 25 лет человек самостоятельно руководил раскопками, однако Марек Марциняк может уже похвастать этим. Он руководил работами в Телль-Атрибе и был даже некоторое время руководителем работ в Фарасе. Кроме того, принимал участие в работах в Александрии, Пальмире и Дейр-эль-Бахари, где поляки реконструируют знаменитый и необычайно красивый храм царицы Хатшеп-сут. Марек Марциняк уже стал специалистом, которого очень ценят. Его также привлекают к работе экспедиции других стран, и у него нет недостатка в интересных и выгодных предложениях. Он исключительно работоспособен и отлично организует свою работу.
Марциняк очень молод и дорожит всеми благами жизни. Кроме музыки и танцев увлекается кино. Лишь за время своего пребывания в Египте он успел, пожалуй, посмотреть больше картин, чем я за всю свою жизнь. А если учесть, что в течение года он проводит по меньшей мере семь месяцев на раскопках, где о кинофильмах можно в лучшем случае лишь рассказывать, то легко себе представить, как сильно у него это увлечение. Любит хорошо одеваться и вкусно поесть.
Нередко целыми вечерами он забавлял нас рассказами о разных каирских, александрийских или бейрутских лакомствах.
Стефан Якобельский – человек иного склада, хотя тоже очень молод. Он – олицетворение серьезности. Стефан не вынес бы, если бы все вокруг него не были убеждены, что он серьезен, деловит и знает свое дело. Чтобы сильнее подчеркивать это, он – единственный из всех участников экспедиции – отпустил длинную бороду. Бывают, правда, мгновения, когда борода хоть и остается, но маска, которую носит Стефан, спадает, и тогда оказывается, что он так же любит развлекаться, как и другие. Он танцует тогда твист и великолепно подражает Луису Армстронгу.
Диплом магистра Стефан Якобельский получил в 1960 году. Его специальность – коптский язык, последний этап развития языка древних египтян. В Польше не хватает специалистов в этой области.
По окончании учебных занятий Стефан начал работать в отделении профессора Михаловского при университете, а впоследствии – в аналогичном отделении при Польской академии наук. Темой его магистерской диссертации был каталог коптских рукописей, находящихся в польских коллекциях. Некоторое время Якобельский работал также в отделении древнего искусства Национального музея. В 1961 году он получил стипендию от египетского правительства (Египет выделил несколько стипендий молодым польским научным работникам в обмен на такие же стипендии, выделенные Польшей египтянам). Работал в Фарасе, Телль-Атрибе и Пальмире, где приобрел практический опыт в археологии.
– Фарас – идеальное место для меня, – говорит Стефан. – Где еще можно найти сразу 500 надписей, которые нужно впервые дешифровать? Других таких мест нет. А тут – 90 исписанных плоскостей и на некоторых из них – по 25 надписей...
Стефан Якобельский собирается писать докторскую диссертацию о надписях, обнаруженных в Фарасе. Этой теме позавидовали бы даже ученые в странах, известных своими достижениями в области археологии и филологии. Для молодого ученого это в самом деле уникальная возможность. И Стефан полон решимости хорошо использовать ее. Стоило посмотреть, с каким интересом слушали его Адамс из ЮНЕСКО или американские археологи. В конце 1963 года Якобельский отправился в Лондон, в Британский музей, чтобы ознакомиться с коллекциями коптских рукописей этого богатейшего в мире музея. В Лондон его пригласили англичане, в частности тот самый секретарь и директор Королевского географического общества Кирвэн, который писал в «Таймсе» об открытиях, сделанных в Фарасе.
Второй женщиной в лагере во время моего пребывания там была Камила Колодзейчик. Молчаливая, но всегда готовая помочь другим, она незаметно взяла на себя обязанности хозяйки дома. Она заботилась о том, чтобы в любое время дня и ночи у нас были лимонад, кофе или чай, чтобы никто не оставался голодным. В 1956 году Камила окончила университет по курсу археологии. До того в период учебных занятий, а также ранее – работа в «Горпроекте» в Варшаве. После окончания учебных занятий была зачислена в штат Института средиземноморской археологии Польской академии наук. Некоторое время находилась в Венгрии и Болгарии на стипендии, чтобы ознакомиться там с работой местных университетских археологических центров. Наконец, в начале 1961 года приехала в Каир и приняла участие в двух кампаниях в Фарасе. Специализируется в области керамики и... древнеримских бань на территории Египта. Древнеримские бани – это тема докторской диссертации, которую она готовит. У польских археологов накопилось много материала по этому вопросу, так как именно они раскопали большую и хорошо сохранившуюся баню, построенную римлянами в Александрии.
В Фарасе Камила Колодзейчик отвечала за все мелкие предметы, найденные на месте раскопок, – за керамику, блоки, фрагменты скульптур и так далее. Она вела подробный инвентарь всех таких находок. Это кропотливая и очень утомительная работа, но без нее обойтись нельзя, ее необходимо вести повседневно, так как иначе можно потеряться в потоке мелких находок. А ведь каждая из них важна! Они описываются в очередных томах издания «Фарас», выпускаемых после каждой кампании Государственным научным издательством Польши на французском языке.
Жизненный путь Камилы Колодзейчик был очень трудным.
– Мой отец был во время войны летчиком, – сказала она. – Он неоднократно рассказывал мне о том, что он видел. Поэтому и меня тянуло в широкий свет. Но когда мне исполнилось 18 лет, я должна была начать работать. Заниматься в университете я стала тайком от матери. До третьего года занятий она не знала, что я хожу на лекции. Она никогда бы не дала своего согласия на это, учитывая плохое состояние моего здоровья.
Колодзейчик перенесла в детстве тяжелую болезнь сердца. А теперь здесь, в этой жаре, в полевых условиях...
– Я нахожусь здесь непрерывно уже пятый месяц, – сказала мне Камила. – И за все это время у меня не было никаких срывов.
Мечислав Непокульчицкий – сильный, загорелый, само воплощение здоровья. Во время кампании, в которой мне довелось участвовать, он был фотографом экспедиции. Это очень важная функция. Каждую деталь, а тем более каждую фреску необходимо увековечить на снимках. Нужно фотографировать отдельные этапы работы, документировать места, в которых были обнаружены те или иные памятники. Это особенно важно в Фарасе, где все, что не удастся вывезти, и, в частности, сама церковь, уйдет под воду.
Но у Непокульчицкого иная профессия. Он фотограмметрист.
В 1956 году Непокульчицкий окончил геодезический факультет Варшавского политехнического института, специализируясь в фотограмметрии. Затем стал ассистентом при кафедре профессора Пясецкого, работая в отделении фотограмметрии. В 1958 году начал работать в коллективе, занимавшемся исследованиями польского средневековья под совместным руководством Варшавского политехнического института и Варшавского университета. Бок о бок там трудились представители технических и гуманитарных наук: два архитектора, археологи, антропологи и он. Они исследовали ряд памятников, найденных на юге Келецкого воеводства, впервые производя полную фотограмметрическую документацию: составляли фотографические схемы, делали снимки, обеспечивавшие точное, фотографическое определение местонахождения памятников, наконец, снимки, полностью заменяющие рисунки, сделанные архитекторами. Фотограмметрия бывает как плоской, так и объемной. Оперируя аппаратом, можно получить трехмерное изображение, можно, наконец, пользоваться фотоаппаратом и как измерительным прибором. В процессе работы Непокульчицкий опубликовал несколько работ в «Геодезическом вестнике». Следует отметить, что специалистов в этой области в Польше немного. Затем были предприняты фотограмметрические измерения могил в Вислице. Непокульчицкий работал над фотограмметрической документацией вислицкой плиты, обнаруженной под местной соборной церковью. Там был проведен, в частности, эксперимент по фотографированию в инфракрасных лучах. Речь шла о двух небольших плитах, найденных под алтарем. На них был орнамент, выцарапанный на желтой штукатурке и замазанный черной пастой или краской. Но все это стерлось и воссоздать орнамент не представлялось возможным. Однако снимки, сделанные в инфракрасных лучах, отчетливо выявили стертые узоры. Использованные тогда технические приемы могут найти широкое применение в археологии, позволяя во многих случаях дешифровать надписи, до сих пор считавшиеся безвозвратно потерянными.
Опубликованные Непокульчицким работы и высказанные им взгляды привлекли внимание Михаловского. В июне 1962 года Михаловский предложил Непокульчицкому отправиться в Египет.
– Выйдя из кабинета профессора, я прошел всю дорогу до дома танцуя, – рассказывает Непокульчицкий.
Во время кампании 1963 года Непокульчицкий работал в Фарасе не столько фотограмметристом, сколько фотографом. Не было никого другого, кто мог бы этим заняться. В предыдущие годы в Фарасе находились поочередно два превосходных фотографа – Романовский и Беневский. На этот раз не было никого. Условия работы для фотографа здесь тяжелые: отсутствие электрического света, высокая температура воды, примитивное затемнение, а точнее, палатка из черного сукна, установленная на складе и застегиваемая замком «молния». Если во время работы, в полдень, пленка в аппарате сорвется, как это случилось однажды со мной, и придется закрыться в темноте, вас там ждут муки, которые трудно описать. В полдень температура в палатке достигает 50 градусов, там неимоверно душно. В висках стучит. Выйти нельзя, так как можно засветить пленку. Нужно работать быстро, иначе легко упасть в обморок. А в спешке все валится из рук.
Во время последней кампании в Фарасе, зимой 1963/64 года, фотографом экспедиции был мой брат Анджей; условия там сейчас несколько лучше, так как туда доставили движок и провели электричество. Но жара, конечно, остается...
Когда я был в Фарасе, в составе экспедиции находились еще два человека. О Юзефе Газы, скульпторе и хранителе памятников Варшавского национального музея, я расскажу позднее. О профессоре Тадеуше Дзержикрай-Рогальском – в следующем разделе.
С утра веет сильная «хала» (так называется по-арабски ветер). Свирепствует песчаная буря, пальмы в нашем садике шумят, словно деревья в бору. В воздухе несутся облака мелкой пыли. Буря застигает меня врасплох. Вчера вечером, когда я ложился спать, небо было, как всегда, усеяно звездами, дул, как обычно, легкий северный ветерок и ничто не предвещало сегодняшней бури. Я страшно устал за день, и мне очень не хотелось убирать все фотопринадлежности в пластмассовые мешочки и большой кожаный футляр. А сегодня все это оказалось засыпанным песком. Пластмасса несколько защищает от пыли, зато кожаный футляр не в состоянии оградить от нее. Пыль проникает повсюду, даже в закрытые чемоданы. Когда такая буря настигает караван в пустыне, то люди ложатся за спинами верблюдов, обертывают головы холщовыми повязками и молятся о спасении. Буря сыплет мельчайшим песком и иссушивает последние капли влаги. Если существует абсолютный холод, то существует также и абсолютная сушь. Вот что такое песчаная буря. Правда, здесь, под Вади-Хальфой, она не так страшна, как «хабуб», свирепствующий в окрестностях Хартума. Хабуб приближается тихо, бесшумно, без малейшего дуновения ветерка. Только на горизонте возникает черная, медленно надвигающаяся туча. Когда она появляется на небосклоне, слуги в садах хартумских вилл с паническим криком убирают все кресла и зонты, стараясь спрятать их в домах. Напрасный труд! Через мгновение начинается буря. Порывистый ветер бушует в городе. Его окутывает темнота. Все кругом становится буро-рыжим. Видимость не превышает одного-двух метров. Пыль проникает повсюду: в нос, рот, глаза, за рубашку, в комнаты с закрытыми окнами и ставнями, в шкафы, письменные столы и чемоданы. Она столь мелка и въедлива, что нет от нее спасения. Однажды в Хартуме я вошел после хабуба в ванную комнату, в которой не было окна, а была лишь крепкая и плотно закрывающаяся дверь. Несмотря на это, белая ванна оказалась совершенно рыжей от покрывавшего ее слоя пыли толщиной в несколько сантиметров.
Песчаная буря в Вади-Хальфе – не то же самое, что хабуб в Хартуме, зато она продолжается дольше. Хабуб обычно прекращается через час. Буря в Фарасе может длиться трое суток. Пыль, повсюду пыль, и даже палящее солнце Судана скрыто в облаке пыли.
Из палаток выходят люди, кляня разбушевавшуюся стихию. Они пробуют умыться, но тщетно, так как, пока человек вытирается, пыль успевает прилипнуть к влажной коже. Пытаюсь побриться. По правде говоря, мы делаем это не так уж часто, но я уже слишком оброс. У меня лезвия «Жиллет», известные своей остротой и прочностью. Первое лезвие как-то не берет, закладываю второе, но и оно оказывается тупым. Третье – тоже. Соображаю наконец, что помочь ничем нельзя, так как пыль, смешанная с мылом, притупляет лезвия.
– А «хала»...
Над рекой, словно над Балтикой, дует острый, пронизывающий ветер, только он намного теплее. Церковный холм окутан облаками пыли. Из дома его еле видно, хотя он расположен вблизи. Но работы продолжаются. Времени остается так мало...
Профессор Рогальский занялся с самого утра своим хамелеоном, который до этого сидел на пальме. Он перенес его в палатку.
– Измученный бурей, он уснул теперь на моей койке мертвецким сном, – заявил профессор.
Хамелеон был куплен у мальчиков-арабов за целых пять пиастров. Теперь он один из важнейших членов экспедиции. Ежедневно собирается консилиум, решающий, что любит и чего не любит хамелеон. Особенно горячие споры вызывает вопрос, любит ли хамелеон купаться.
Сам зверек хранит молчание, и никто не может сказать об этом ничего достоверного.
Затем Рогальский принялся за останки одного из епископов. Он только что вынес из рабочей комнаты какой-то коричневый череп и докладывает теперь профессору Михаловскому.
– Это череп Петроса, – говорит он. – Епископ был, безусловно, негритянского происхождения. Это совпадает с портретом. Череп разваливается, правда, но склеивать его теперь я не буду, он и так дойдет до Варшавы. Здесь нет хорошего клея, и на такую работу уйдет дня два. Но этот череп ставит новые проблемы. Швы несколько моложе, чем вытекало из имевшихся у нас данных (по сохранившимся сведениям, епископ Петрос умер в возрасте 53 лет). Зато нижняя челюсть старческая, беззубая. Любопытно, что все наши епископы весьма похожи на здешних жителей. Возможно, все они местного происхождения? Или таков был обычай?
– Вряд ли, – отвечает Михаловский.
Затем Рогальский приносит другой череп – Игнатия. У того высокий лоб и узкое основание носа.
– Нет доказательств, что Игнатий был белым, но он мог им быть. Ничто не исключает подобной возможности. Зато Петрос был наверняка черным.
– Для нас важнее всего, – говорит Михаловский, – что это подтверждает портретную достоверность фрески.
Так был заполнен еще один пробел в фарасской картине, которую пытается воссоздать экспедиция. В результате исследования фресок, надписей, содержимого погребений всплывает образ древней, позабытой метрополии епископов, древнего Пахораса, резиденции христианских наместников в те времена, когда никто еще не слышал ничего о Польше.
Уже в третий раз Рогальский находится в этих краях. В 1958/59 и 1962 годах он принимал участие в польско-египетских антропологических экспедициях: сперва в Мерса-Матрухе на побережье Средиземного моря и в оазисе Сива, а затем – в оазисе Файюм и в Дельте. Профессор особенно интересуется палеопатологией, то есть исследованием болезней и причин смерти в прошлом. В оазисе Сива, например, ему удалось обнаружить очень интересные данные, свидетельствующие о продолжительности жизни людей в древнем Египте. Большинство женщин умирали в возрасте 16-17 лет, не удивительно поэтому, что население страны росло чрезвычайно медленно. Мужчины жили несколько дольше, от 30 до 40 лет. Много женщин умирало при родах. Детская смертность была также очень велика. Ныне мужчины в оазисе Сива живут приблизительно столько же, сколько и тогда, зато женщины живут дольше. Однако детская смертность все еще большая. Летние поносы и острые заболевания пищеварительного тракта, вызываемые главным образом нашествием мух, косят население.
Профессор Михаловский – сторонник комплексных исследований. Еще до войны, в Эдфу, он обеспечил себе сотрудничество антрополога. Поэтому он и пригласил Рогальского в Фарас. Задача последнего – антропологическое исследование останков епископов. Это интересная работа, так как священники были людьми, вошедшими в историю. Первые же партии обнаруженных скелетов навели на интересные мысли. Например, у двух из пяти скелетов, найденных в так называемой гробнице Иоанна, были обнаружены изменения костяка, окостенения позвоночника, деформирующий артрит. Эти люди были не в состоянии сгибаться, а один из них был всегда сгорблен.
– Не исключено, – утверждает Рогальский, – что увечье и деформация были тогда неизбежным уделом священников. Они обнаружены у епископов Игнатия, Тамера, Матфея и других. Так как эти деформации у всех одинаковы, то следует предполагать, что они возникли под влиянием местного климата. Быть может, воды Нила были широко разлиты в те времена? Солончаковое озеро не высохло еще в такой степени, как сейчас, и церковь была окружена болотами. Не подлежит сомнению, что этим болезням способствовали и антигигиенические условия жизни.
Исследование погребений свидетельствует и о житейских неприятностях. Жизнь епископа Аарона, например, была, несомненно, отравлена его искривленным зубом мудрости, против чего тогда не было средств. Этот зуб, безусловно, причинял ему неустанную боль, а поэтому епископ жевал пищу одной только стороной челюсти. Зубы на этой стороне были совершенно стерты.
Возраст епископов, установленный в результате исследования их скелетов, совпадает, по мнению Рогальского, с историческими данными, хотя профессор отмечает, что физиологический возраст не обязательно всегда должен был соответствовать этим данным. В те времена не было записей актов гражданского состояния и дата рождения не всегда определялась точно.
Важное значение имеет подтверждение портретной достоверности фресок. Епископы на фресках изображены, как правило, черными; то же самое относится и к изображениям «трех царей» и пастырей. Это не случайно и не вызвано манерой письма. Большинство обнаруженных черепов отличается явно выраженными негроидными чертами. Можно констатировать, что портреты были максимально верными, насколько позволяла тогдашняя техника живописи. Кроме погребений епископов, Рогальский исследовал в Фарасе два могильника, находившиеся на расстоянии нескольких километров от лагеря в глубь пустыни. Он исследовал также необычный могильник новорожденных, относящийся к XVI или XVII веку. Их хоронили в горшках – обычай, сохранившийся кое-где в этих краях и поныне. Рогальский проводил, наконец, исследования и антропологические измерения населения современного Фараса. Ежедневно пополудни, когда перед нашим домом выстраивалась очередь, словно перед страховой кассой, Рогальский принимался за измерения пациентов. Он сажал каждого под пальмой и начинал колдовать над ним. Измерительные приборы ярко блестят в лучах суданского солнца, а пациенты твердо уверены, что измерения их лбов, носов, бород и черепов составляют неотъемлемую часть лечения. Ведь медицина, по их понятиям, – это, безусловно, колдовство...
Рядом с рабочей комнатой, где по вечерам трудятся Остраш, Колодзейчик и Якобельский, находится склад. Позади него имеется еще одно помещение, в которое мы частенько заглядываем. В нем, на кирпичном возвышении, стоит жестяная бочка из-под бензина. К бочке прилажен кран, к крану прикреплена резиновая трубка с ситечком. Это душ. Профессор Михаловский запретил купаться в Ниле, но не запретил мыться. Поэтому Газы соорудил душ, за что все его благословляют. А Мохам-мед обязан следить, чтобы бочка была всегда наполнена водой. По нескольку раз в день мы принимаем душ. Это приносит облегчение, правда ненадолго. Здесь же, около импровизированной душевой, стоят бумажные мешки, а в них... Все это несколько противоестественно, но когда имеешь дело с антропологами, нужно привыкать ко всему. И так, в мешках сложены остатки скелетов епископов: черепа, берцовые кости, ребра. В первый раз, конечно, испытываешь странное чувство: обмываешь под душем собственное тело, зная, что рядом лежат человеческие кости. Эффект прямо как на картине Альбрехта Дюрера. Но я вскоре перестал обращать на это внимание. Оказалось, однако, что не все привыкли...
Однажды я направился в душевую около полуночи. Проходя мимо рабочей комнаты, я заметил, что там горит лампа. За столом сидела Камила и работала. Она не заметила меня, когда я проходил мимо. Я оставался в душевой довольно долго, с полчаса пожалуй, а затем отправился спать. На следующее утро Колодзейчик выглядела усталой и невыспавшейся. Кто-то спросил ее, не больна ли она.
– Нет, – ответила она, – но сегодня ночью я пережила жуткие минуты. Несколько часов я не отваживалась выйти из рабочей комнаты. Боялась сдвинуться с места.
– Но почему?
– На складе происходило что-то ужасное...
– Но что? – спрашиваю, начиная немного догадываться.
– Не знаю. Мерцал свет, что-то бренчало, слышны были шум и какое-то бормотание. Не знаю, что это могло быть, но все это было страшно!
Я с трудом разъяснил бедняжке, что это вовсе не епископы щелкали своими берцовыми костями, а просто я совершал омовение своего грешного живого тела. Однако окончательно разубедить ее не удалось, и с тех пор она не хотела больше оставаться в рабочей комнате одна.
Рогальский насмехается над нашими предубеждениями в отношении человеческих костей. Он обращается с ними довольно бесцеремонно. Даже жена Михаловского – и та заявила однажды с досадой:
– Не хотела бы иметь мужем антрополога.
Во время обеда Рогальский говорит:
– Некоторые останки епископов я захвачу с собой в Варшаву.
– Как так?
– Да в чемодане...
– Но таможенники в Окенце[53], – говорю, – сейчас же позвонят в прокуратуру. За вас возьмется Интерпол!
Рогальскому действительно нужно захватить с собой останки епископов в Варшаву. Там, в Институте антропологии, они будут исследованы более тщательно, чем это возможно в полевых условиях в Фарасе. Тут же со всех сторон посыпались мрачные шутки. Кто-то говорит:
– В случае катастрофы с самолетом у вас все перемешается, ваши собственные позвонки с позвонками Игнатия. В день страшного суда вы не сумеете выпутаться из этого положения.
На что Рогальский отвечает:
– Пустяки, как-нибудь сумею объясниться и с таможенниками в Окенце, и на страшном суде. Будет хуже, если по дороге утону в Ниле. Когда-нибудь найдут скелет, который нес в чемодане часть другого скелета. Вот будет работа ученым!..
Постепенно становится известно все больше и больше, комплексные исследования проливают свет на многие загадки. История церкви, еще покрытая мраком неизвестности, вырисовывается все более отчетливо Подобно тому как из-под песка показались изображения богоматери, так и из тьмы веков всплывает история этого здания.
Когда именно была построена церковь, определить точно нельзя. Произошло это, вероятно, в VIII или, быть может, в VII веке. Фарас уже в те времена был столицей северного нубийского государства Нобатии и резиденцией епископов, расположенной на крайнем севере Нубии. Он подвергался особенно большой угрозе арабских нападений. Известно, что церковь перестраивалась, а затем была частично разрушена; верующие спускались в нее, словно в катакомбы, так как она была уже засыпана песком. Церковь имеет длинную и, должно быть, бурную историю. Когда ее перестраивали? Определение этого момента имеет важное значение, а используемый метод рассуждения напоминает разрешение детективной загадки. В главном нефе церкви, около самого алтаря, обнаружена большая надпись. Когда ее прочли, оказалось, что она содержит список епископов из Фараса. Шестнадцать первых имен написаны одним и тем же человеком, остальные – разными людьми. Многочисленные фрески на стенах церкви представляли собой портреты епископов. Кроме того, как нам уже известно, были найдены и гробницы некоторых из них. Вот три отправные точки, исходя из которых наши археологи стали строить свои выводы. Их заключение гласит: церковь перестраивалась в 990-1030 или в 1006-1035 годах. Не раньше чем в 974 и не позднее чем в 1058 году.
В церкви обнаружены три слоя штукатурки, относящиеся к периоду, предшествовавшему перестройке, и один, относящийся к периоду после перестройки. Это легко установить. Во многих местах церкви осуществлены значительные переделки – заделаны или пробиты двери, заново написаны фрески. Там, где отчетливо видны следы переделок, заметен лишь четвертый слой штукатурки. Но кое-где находятся так называемые «блокажи». Это места, где заделана часть старой стены. Именно там, после того как археологи разобрали более поздние стены, удалось обнаружить скрытые под «блокажами» фрески, созданные до перестройки.
Проследим за дальнейшими рассуждениями ученых. На одной из фресок изображен или епископ Меркурий, или епископ Мариан. Рядом с портретом записано имя Мариана. Неизвестно, однако, что находилось под надписью, так как штукатурка здесь повреждена. Зато на самом портрете нет имени, а написано лишь: «Духовный сын епископа Иоанна». Такого прозвища нет ни у одного из остальных епископов. Возможно, что ниже надписи с именем Мариана находился еще какой-то другой портрет, хотя для этого, собственно говоря, оставалось слишком мало места. Не подлежит сомнению, однако, что рядом с надписью «духовный сын епископа Иоанна» стояло также имя, которое не сохранилось. Кто же в таком случае изображен на портрете? В списке епископов нет Мариана. Зато есть Иоанн, который умер в 1006 году. Вслед за его именем в списке оставлен пробел, и лишь тридцатью годами позднее упоминается имя Меркурия. Не он ли был «духовным сыном Иоанна»? И не он ли изображен на портрете? Однако епископ Мариан, несомненно, существовал. Его имя повторяется четыре раза в надписях, обнаруженных в церкви. Один из текстов гласит: «Мариан, епископ Пахораса, да живет он в веках». Весьма вероятно поэтому, что именно он был епископом в Фарасе в период между кончиной Иоанна и началом епископства Меркурия. Только в этом периоде находится для него место. Почему в списке оставлен пробел? Может быть, потому, отвечают археологи, что епископ умер не в Пахорасе, а где-то в другом месте, у хрониста не было точной даты его рождения и смерти, и он ожидал более подробных данных. А быть может, церковь в то время перестраивалась и епископ жил не здесь, поэтому его имя и не попало в список.
Дело в том, что спорный портрет, подобно надписи, касающейся Мариана, написан уже на новой штукатурке. На других портретах, выполненных на этой штукатурке, изображены епископы более поздней эпохи, когда – в соответствии со списком – не находилось места для Мариана. Таким образом, даты, относящиеся к периоду епископства Мариана (или Меркурия), если бы все-таки это был он, обозначают время окончания перестройки церкви. Мы имеем здесь две даты. Если перестройка была закончена в эпоху Мариана, то ее окончание приходилось бы самое позднее на 1039 год. Ибо в этом именно году на епископский престол вступил Меркурий, дата смерти которого (1058), а также продолжительность правления (19 лет) хорошо известны. Однако портрет вряд ли писался перед самой смертью Мариана, поэтому датировать его можно приблизительно 1030 годом. Вторая дата – 1058 год. Ее следовало бы признать самой поздней, если бы на портрете был изображен Меркурий, однако и в этом случае фреска писалась, вероятно, несколькими годами раньше. Вот как обстоит дело с предполагаемой датой окончания перестройки церкви. А ее начало – дата, перед которой церковь, безусловно, не подвергалась еще переделкам? И здесь археологам пришлось рассуждать так, как это делал, бывало, Шерлок Холмс.
В том же нефе церкви есть другая фреска, на которой изображен епископ Петр. Рядом находится еще одна фреска, несомненно той же кисти, изображающая богоматерь, покровительницу царя Георгия. Все это мы узнаем из надписи, находящейся рядом с фресками. Только начало надписи соскоблено до самых кирпичей, чтобы оставить место для арки, сооруженной во время перестройки церкви. Не подлежит поэтому сомнению, что фреска была написана еще до перестройки. Однако который это по счету епископ Петр и который по счету царь Георгий? В списке есть два епископа Петра. Один умер в 999 году, а другой – в 1062 году. Но в годы епископства Петра II не было царя Георгия. Сомнительно, чтобы художник написал портрет уже давно умершего царя; к тому же надо принять во внимание, что художник изобразил его живым человеком с темным лицом, как изображались все живые люди, портреты которых были обнаружены в Фарасе. Из истории известно, что в годы, когда в Фарасе епископствовал Петр I, у власти в стране находился царь Георгий II. Кажется поэтому несомненным, что именно с него писал портрет неизвестный художник. Стало быть, обе фрески были написаны до смерти Петра I, то есть до 999 года, но не раньше 974 года, когда Петр стал епископом.
Таким путем дата перестройки церкви была установлена с точностью до 84 лет, а расхождение в датах вряд ли превышает 56 лет. Принимая во внимание, что все это происходило тысячу лет назад и что вплоть до последнего времени церковь, скрытая внутри холма, была вообще неизвестна, следует отдать должное значительной точности всех этих расчетов. Уместно привести здесь результаты исследований профессора Рогальского, который вскрыл гробницу епископа Петра и установил, что он умер в более пожилом возрасте, чем его изобразили на фреске. Таким образом, он позировал художнику, грубо говоря, до 999 года, хотя необходимо, разумеется, сделать некоторую поправку на типичную для придворных художников склонность к приукрашиванию.
А вот список епископов, как его удалось прочесть на стене церкви в Фарасе. Стефан Якобельский пртратил немало дней и ночей, чтобы разгадать все загадки списка, так как текст был частично поврежден. Некоторые даты, приведенные при именах, удалось установить, когда были найдены надгробные стелы, другие определены на основе дополнительных источников.
1. Детий (имя могло быть другим)
2. Сарапион
3. .......е
4. П.....
5. Павел+707
6. Мена+731
7. Матфей+765
8. Игнатий+802 (на престоле 34-36 лет)
9. Иоанн+809 (?), на престоле 7 (?) лет.
10. Иоанн
11. Марк (на престоле 12 лет)
12. Хаэль+827 (?)
13. Фома+862 (на престоле 35 лет)
14. Иисус+866 (?), на престоле 4 года
15. Аб...+902 (?)
До сих пор список написан одним почерком. А вот его продолжение, написанное уже разными почерками:
16. Андрей+903
17. Коллуте+923 (на престоле 20 лет)
18. Стефан+926
19. Элиаш+953
20. Аарон+973
21. Петр+999
22. Иоанн+1006
23. Мариан (?)+1039 (?), на престоле 33 (?) года. Именно здесь в списке епископов оставлен пробел.
24. Меркурий+1058 (на престоле 19 лет)
25. Петр+1062
26. Георгий+1097
27. Хаэль+1124
28. Иисус+1169
29. Тамер+1181
На этом список епископов кончается. Впоследствии церковь была или разрушена (есть некоторые следы этого), или, во всяком случае, превратилась в род цитадели, находившейся фактически в условиях постоянной осады. Впрочем, в конце списка содержится еще одна загадка. Так, в гробнице епископа Тамера обнаружены останки другого человека. Был ли это какой-то неизвестный фарасский епископ эпохи вражеского вторжения, когда не было уже ни времени, ни средств, чтобы похоронить его в отдельной гробнице? Или это останки какого-то еще человека? Неизвестно...
Исследованием надписей в церкви занимается, как я уже писал, коптолог магистр Якобельский, бородатый Стефан. У него масса работы. Пока что обнаружено несколько сот разного рода надписей, от подписей под фресками и евангельских текстов до выцарапанных острым орудием имен строителей. Некоторые совершенно незаметны, и, лишь когда лучи солнца освещают их под определенным углом, можно обнаружить, что некогда в этом месте было что-то написано. Как раз сегодня один из участников экспедиции нашел новую надпись, видную лишь ранним утром, чем немало смутил Стефана.
– Целых полгода всматриваюсь я в эту стену, но ничего так и не заметил...
Исследование надписей – это вопрос времени. Каждую стену приходится разглядывать месяцами, в разное время дня и при различном освещении. И всякий раз там открывается что-то новое.
Когда-то, до моего приезда в Фарас, Якобельский целыми неделями разыскивал следы епископа Мариана. Помогал ему в этом англичанин Шор, научный сотрудник Британского музея, прикрепленный своим учреждением к нашей экспедиции (красноречивое свидетельство славы, которую она успела снискать). У обоих археологов эти поиски превратились постепенно в подлинную одержимость. Ни о чем другом они не могли уже говорить Как вдруг однажды, когда Якобельский оперся рукой на одну из стен церкви, произошла маленькая катастрофа – сорвалась часть штукатурки. Изумленные исследователи обнаружили, что там что-то написано. Под штукатуркой виднелась новая, неизвестная надпись, очень отчетливая и удобочитаемая. Лица у обоих зарделись. Они углубились в чтение. Там было написано:
«Господа Якобельский и Шор! Ау-ау! Ищите меня на небе. Епископ Мариан».
Все это вызвало сенсацию в лагере. И лишь веселая улыбка Юзефа Газы, специалиста по снятию фресок и обработке старой штукатурки, свидетельствовала, что... надпись эта, возможно, вовсе не тысячелетней давности.
Глава седьмая. Смерть в Фарасе
Событий этих двух дней я скоро не забуду. На всех нас они произвели тяжелое, удручающее впечатление. Мы как-то сразу забыли, что мы – археологи или журналисты, что приехали из далекой Европы и должны вернуться туда, что мы здесь чужие. Вспомнить о том, что мы не только специалисты в своих областях, но прежде всего люди, было необходимо, жаль лишь, что это произошло в результате трагического случая. Если бы не это...
Европеец, приезжающий в Африку, должен неустанно, неусыпно следить за собой, за своими мыслями и поведением. Здесь нельзя раствориться в толпе, исчезнуть, жить только своей личной жизнью и ничем не отличаться от окружающей среды. Белый всегда выделяется среди других людей. У него другой цвет кожи, другая одежда, иное поведение и иные привычки. Никогда, будь то на улице или в кафе, в поезде или на речном пароходе, в гостинице или в археологическом лагере, – никогда европеец не остается незамеченным. За ним внимательно наблюдают. Чаще всего с любопытством, иногда благожелательно, а нередко и враждебно. Но наблюдают за ним всегда. Человек, который у себя на родине привык быть скромным и незаметным, здесь возбуждает всеобщий интерес, становится важной персоной, на которую все обращают внимание. Он понимает, что он вовсе не такая уж важная персона, что эти люди просто терпят его. Он знает это, но может вскоре забыть о том, что знает. Его быстрее и вежливее обслуживают в ресторанах; когда он входит в магазин, все замолкают, а когда на железнодорожной станции он просит билет второго класса, то приводит в изумление кассира, полагающего, что европеец должен ездить только первым классом. Европеец должен жить в самых лучших отелях, должен есть самые лучшие блюда в самых лучших ресторанах, должен путешествовать с наибольшим комфортом. Европеец должен всегда давать всем понять, что он приехал в Африку по необходимости, что он не мог поступить иначе. Когда представится к этому возможность, когда обязательства, которые он несет по отношению к своей собственной родине, не будут больше требовать его пребывания в этой ужасной, дикой и жаркой стране, тогда европеец снова вернется восвояси, где будет жить без забот, в условиях мягкого климата, где нет пыли и грязи, среди культурных и образованных людей, каждый из которых, представьте, говорит по-английски.
Таким должен быть европеец, так как других белых здесь нет, попросту иначе не бывает, по крайней мере никогда не было до сих пор. Ну, а если этот европеец совсем другой человек? Если у себя дома он не был лордом, если он не богат и у него нет никаких аристократических замашек и, самое главное, если он никогда не принимал свой белый цвет кожи за нечто выделяющее его среди других людей и дающее ему особые права, соблюдения которых нужно добиваться всегда, при всех обстоятельствах, считая их основой всех основ и чем-то само собой разумеющимся? Такой белый человек вызывает подозрения. Думают, что он неискренен, притворяется, стремится достигнуть каких-то скрытых целей, а поэтому нужно быть с ним настороже, нужно обращаться с ним, как со всеми другими белыми, но не дать себя обмануть, смотреть в оба, ибо здесь что-то не так: среди белых не бывает таких простых, прямых людей, ничего не скрывающих, не имеющих денег, связей, больших возможностей. Так не бывает. Никогда раньше не бывало.
Итак, белый человек прибывает в Африку. Он далек от мысли, что его родина – это лучшая страна в мире и что его континент и все существующие на нем порядки и есть вершина того, чего в состоянии достигнуть человек. Он прибывает сюда и с самого начала чувствует, что его окружает именно такая атмосфера традиционного отношения к белым. Это сквозит в глазах людей, с которыми он разговаривает, и тех, которые с ним не разговаривают, а лишь присматриваются к нему. Он ощущает направленные на него пытливые взоры. Как же он поступает в этих условиях? Если у него есть здравый смысл, он стремится вырваться из такой атмосферы, но, чтобы достигнуть этого, требуется много ума. Этого нельзя добиться словами, или крепко пожимая протянутые руки, или даже уступая место старшим, или подчеркивая, что вам все это нравится. Вам не поверят. Нужно здесь долго жить и работать и всегда поступать так, как у себя дома, при условии, что дома вы поступали умно и справедливо, честно и дружелюбно.
Утром пришла хорошая весть. Из Вади-Хальфы вернулся муж женщины, которую мы осматривали в садике, когда Газы проделывал свои гимнастические трюки. Он прибежал, рассыпаясь в благодарностях. Глаза его светились радостью. Хотя мы и мало сведущи в медицине, но оказались правы: это был аппендицит. Когда женщину привезли в Вади, врачи сразу положили ее на операционный стол. Оказалось, что она подоспела чуть ли не в последний момент. Через несколько часов было бы уже поздно. Не удивительно поэтому, что нас распирала гордость. Молодой нубиец видел женщину после операции, она чувствовала себя хорошо, не было никаких болей, а врачи сказали, что через неделю она вернется домой. Мы добились успеха. Дело не только в том, что укрепилась вера в наши способности и слова, – мы достигли большего, убедив людей, что в случае тяжелой болезни спасения следует искать в больнице. Эта истина отнюдь не очевидна для жителей Фараса.
Мне рассказывали, каких высот достигает порой домашняя традиционная медицина здешнего населения; это вам не заклинания или шаманство старух, которые встречаются, разумеется, здесь, так же как они встречаются и в польских деревнях. Иногда это подлинная мудрость. Говорили, что нубийцы не боятся скорпионов. Редко бывает, чтобы отвратительное насекомое ужалило кого-либо из местных жителей, но даже когда это случается, то не влечет за собой никаких тяжелых последствий. Почему? Вот что я узнал. За достоверность не ручаюсь, но рассказывал мне об этом человек, хорошо знающий здешние края.
Итак, когда нубийскому младенцу уже около года, его родители отправляются на поиски скорпиона. Долго искать не приходится. Но это должен быть маленький, молодой скорпион, у которого еще небольшой запас яда. Найдя такого скорпиона, родители кладут его в постель ребенка и следят, чтобы скорпион не сбежал. Они ждут до тех пор, пока скорпион не ужалит дитя. Ребенок хворает после этого день или два, но смерть ему не грозит, так как скорпион был очень молод. Эту же процедуру повторяют, когда ребенку исполняется восемь или девять лет, но и скорпион должен быть тогда несколько старше и более ядовит. В третий раз это проделывают, когда ребенок подрастает и ему уже около 15 лет. Тогда выбирают более крупного, хотя и не совсем еще взрослого скорпиона. Пройдя смолоду через три такие «прививки», нубиец приобретает иммунитет против яда этой пакостной твари. Так мне рассказывали, но не знаю, верно это или нет. Не подлежит, однако, сомнению, что нубийцы не боятся скорпионов, и никогда не приходилось слышать, чтобы кто-либо из них серьезно занемог от их укуса. Другое дело змеи. Они опасны для всех, а в Нубии их очень много.
Итак, день начался с хорошей вести. Позднее, около полудня, в наш лагерь приехали американцы – археологи, работающие в 30 километрах ниже по Нилу, в местности Гебель-Адда, находящейся уже на территории Египта. Всего прибыло 14 американцев во главе с доктором Миллетом из Американского исследовательского центра в Каире. Все молодые, веселые, смеющиеся, но исполненные глубокого уважения к профессору Михаловскому и к работе поляков. Миллет, 28-летний мужчина, худощавый, с военной выправкой, не отходил от профессора ни на шаг, внимательно прислушиваясь к его словам и задавая ему множество вопросов. Американцы встретили искушенного домохозяина и прирожденного дипломата. Поэтому им не сразу показали церковь и фрески. Сперва состоялся ленч, во время которого впервые за много недель был снят запрет на спиртные напитки. Гостям дали изрядно выпить, а так как все они оказались людьми со здоровой печенью и не избегали спиртного, то атмосфера стала вскоре по-настоящему сердечной. Произносились тосты, все очень сдружились, и наш глинобитный домик наполнился гомоном, который был бы больше под стать уютной квартире в Варшаве, где празднуется какое-нибудь семейное торжество, чем глинобитным стенам, привыкшим к атмосфере напряженной работы или тихих вечерних бесед.
Лишь после того, как все поближе познакомились друг с другом, вся компания отправилась на холм. Слегка подвыпившие американцы (среди них, впрочем, были двое немцев, двое швейцарцев, двое англичан и даже одна женщина с Ямайки) вели себя шумливо, их смех раздавался далеко, и привыкшие к тихому образу жизни поляков нубийцы смотрели на них с удивлением. Американцы смеялись, шутили, много фотографировали. Они выглядели, словно беззаботные люди, отправившиеся на воскресный пикник за город, а не как серьезные археологи. Это впечатление усиливалось от того, что среди них находились три девушки, из коих две были очень миловидны. Древняя церковь еще никогда не видела ничего подобного, по крайней мере после раскопок. Гости были молоды и, казалось, совершенно равнодушны к почтенным памятникам старины.
Но так продолжалось лишь до тех пор, пока развеселое шествие во главе с профессором Михаловским не добралось до церкви. Когда мы вошли внутрь и на заокеанских гостей глянули лица богоматери и епископов, шум сразу оборвался, будто его рукой сняло. Веселье сменила сосредоточенность. В полной тишине гости внимательно прислушивались к каждому слову Михаловского, как если бы он сам был одним из фарасских епископов. Они были похожи теперь не на участников пикника, а на слушателей каких-нибудь воскресных курсов... Когда Михаловский кончил свои пояснения и повел гостей осматривать все памятники древности – церковь, монастырь, епископский дворец и гробницы, они разделились на группы и окружили отдельных участников нашей экспедиции: коптологи – Якобельского, египтологи – Марциняка, архитекторы – Остраша. Доктор Миллет не отходил от профессора. Американцы не уставали спрашивать. Когда мы вернулись с холма в лагерь, гости продолжали засыпать поляков десятками вопросов. Они были явно ошеломлены великолепием находок, сделанных поляками. И одновременно всячески старались выразить им свое почтение. Это было приятно, волнующе и наполняло нас гордостью. Стоило только посмотреть на выражение лица Стефана или Антона!
Завершающий удар самоуверенным американцам был нанесен вечером. И нанес его слепой случай. Мы проводили гостей к берегу. Прощание было сердечным и продолжалось долго. Солнце зашло, и, как всегда бывает в этой части света, сразу наступил полный мрак, черная африканская ночь. Наконец американцы сели в свои моторные лодки и оттолкнулись баграми от берега, чтобы не повредить винтов, а затем стали запускать двигатели. Одна попытка, вторая, третья, десятая... Никаких результатов! Двигатели, которые дергали веревками (чтобы запустить двигатель моторной лодки, его дергают веревкой), даже не фыркнули. Обе лодки были уже далеко от берега, и течением их стало уносить на север. Они плыли, таким образом, в нужном направлении, но бездействие двигателей не позволяло управлять рулем. Положение становилось угрожающим: темнота, стремительное течение Нила, беспомощные, не имеющие навигационного опыта археологи. Что делать? Якобельский, Непокульчицкий и Мохаммед помчались бегом домой. Понтон! Только наша надежная шлюпка, похожая на проколотый воздушный шар, – только она могла помочь в этом положении. А тем временем остальные поляки, собравшиеся на берегу, поднимали вверх керосиновые лампы и карманные фонарики, стремясь помочь оказавшимся в руках слепой судьбы гостям, которые дрейфовали в темноте и никак не могли запустить двигатели. Так продолжалось довольно долго. Обе лодки были уже на середине реки. Несмотря на усилия гребцов, их унесло далеко вниз по течению реки. Американцы работали веслами как одержимые, ибо пока лодки не отплыли слишком далеко, они могли еще остаться и заночевать у нас. Но если бы они дали течению унести себя, то очутились бы в темноте, не имея шансов добраться до Гебель-Адда или вернуться в Фарас. И, что хуже всего, нарушили бы тем самым пограничные правила. Отплывая от нас, они должны были зарегистрироваться на пограничном посту, находящемся на противоположном берегу. Если бы они этого не сделали, то поставили бы себя и поляков в весьма затруднительное положение. Суданская пограничная стража согласилась на то, чтобы американцы посетили нас без виз, выражая этим свое доверие к польской экспедиции, но они могли бы не поверить в историю с испорченными двигателями.
В конце концов, пыхтя и кляня все на свете, Стефан и Мечислав, с помощью двоих нубийцев притащили понтон на берег. Его сейчас же спустили на воду. Оба поляка схватили весла и прыгнули в лодку. Третьим в понтон сел механик-нубиец, который случайно в этот день оказался в Фарасе, он был в гостях у родственников. Привлеченный необычным шумом, он прибежал теперь из селения. Через мгновение понтон исчез в темноте.
И сразу же раздался мощный рокот мотора. Одновременно темноту прорезал луч рефлектора. Сильная струя света описала дугу по реке и застыла, осветив одну из американских моторных лодок. Стоявшие около нас нубийцы начали кричать и махать руками. Стук мотора приближался, а свет становился сильнее. Теперь мы все поняли. Суданские полицейские с пограничного поста, обеспокоенные криками и световыми сигналами, подававшимися с берега, пустили в ход свою моторную лодку или, вернее, катерок и двинулись на помощь. Вскоре они оказались около американцев. В это же время наш понтон приплыл к ближайшей из двух моторных лодок. Теперь начал действовать механик. Не прошло и трех минут, как двигатель первой лодки загудел на высоких тонах. Лодка дрогнула и начала кружить по воде. Через пять минут отозвался и другой двигатель. На берегу раздались громкие приветственные возгласы.
Измученные необычным днем, мы возвращались домой. Было уже поздно. Над рекой раздавался густой бас полицейского катера. День кончился. Мы не знали тогда, что полицейской моторке предстояло еще сегодня сыграть большую роль.
Вернувшись домой, мы поужинали, а потом, уже около одиннадцати, устроились, как всегда, в садике на шезлонгах. Воздух казался густым от вибрирующей, звенящей, немилосердно жалящей серебристо-черной тучи мошкары. Все натянули длинные брюки. Мы приходили в себя, усталые после долгого и жаркого дня. Как всегда, мы ждали радиопередачу из Варшавы. Три или четыре транзисторных приемника, работающие на батарейках и настроенные на соответствующую волну, застыли в немом ожидании. Все, кто приезжает на продолжительное время в пустынный Фарас, раньше или позже приобретает в Вади-Хальфе такой аппарат. Было совершенно тихо, только мошкара жужжала, будто заведенная. Из деревни доносился лай собак. Со стороны пустыни им порой отвечали шакалы. Все вокруг уже спали. Спала, пожалуй, также и богоматерь в древней церкви в 300 метрах отсюда.
Но действительно ли все спали?
В два часа ночи, когда мы улеглись в наших палатках, сначала тщательно осмотрев постели в поисках пауков и скорпионов, и, несмотря на жару, уже заснули, со стороны селения донесся бешеный собачий лай. Собаки лаяли неистово, без перерыва, упорно и все сразу. Мы, конечно, проснулись. В тишине пустынной ночи этот шум был необычным. Собаки лаяли, как будто чем-то испуганные. Что-то случилось. Приподняв голову, я увидел, что на соседней кровати Стефан Якобельский тоже прислушивается.
– Неужто в селение ворвался лев или еще что?
Шум продолжается, но, в конце концов, какое нам дело? Нужно спать. Пытаемся уснуть, но собаки не перестают лаять. Проходит около четверти часа. Как вдруг кто-то стучит в дверь нашего дома. Сажусь на кровать. У меня такое ощущение, словно надвигается нечто неизбежное, неотвратимое. События разыгрываются, как в греческой трагедии. Сперва этот собачий хор, от которого мы пытались отмахнуться, так как сон одолевал нас и мы старались внушить себе, что все это нас не касается. А теперь стук в дверь. Может быть, это все-таки не к нам? Слышим, как хозяин отпирает дверь. Я уверен, что пришельцы появятся сейчас в нашей палатке. Но кто это? И что им нужно? Да, они пришли к нам. В нашей палатке становится светло. У входа стоит черный человек, который держит керосиновую лампу. Он говорит что-то Стефану.
– Доктор Стефано!..
Стефана все величают здесь доктором. Черный человек у входа трясется так, что ему трудно удержать лампу в руках. Он дрожит и только с трудом может что-то выдавить из себя, повторяя все время:
– Доктор Стефано!..
Стефан хорошо говорит по-арабски, но он не может понять, что же нужно пришельцу. Он несколько раз велит арабу повторить сказанное. Но тот лишь невразумительно бормочет. Все еще неизвестно, что случилось. Наконец Стефан поднимается и начинает одеваться.
– В чем дело? – спрашиваю. – Ты что-нибудь понял?
– Не знаю, кажется, в деревне что-то приключилось. Кого-то парализовало или что-то в этом роде.
Стефан – «лейб-медик» экспедиции. Будучи коптологом и специалистом по надписям, он никогда не изучал медицины, но его жена – медицинская сестра, кроме того, он прекрасно справляется с врачеванием. Выходит теперь, что нужно разбудить профессора Рогальского, который как-никак сведущ в медицине. Размышляю, следует ли мне идти с ними. У меня нет ни малейшего понятия о врачевании, но ведь журналист должен быть всюду, где что-то происходит. Но мне так не хочется выходить. Сон одолевает меня, знаю, что ничем не сумею помочь, впрочем, я уже ходил к больным и представляю всю картину. Пустой дом, никакой обстановки, кроме плетеных кроватей, а у одной из них толпятся родные, которых нужно прогонять силой, чтобы подойти к больному. Все пялят глаза на руки врача. Каждое его движение имеет для них лечебное, символическое значение. Я не иду, а говорю только Стефану:
– Если там окажется что-нибудь особенно любопытное, то пришли, пожалуйста, кого-нибудь за мной.
Засыпаю. Собаки продолжают лаять. Часа через полтора просыпаюсь. В палатке опять светло. Горит лампа, а на соседней кровати сидит неподвижно Стефан.
– Стефан, что случилось?
Стефан поднимает голову. Вижу, что он прямо в полуобморочном состоянии.
– Никогда в жизни не видел ничего подобного, – говорит он изменившимся голосом, а потом добавляет: – И не дай бог когда-нибудь опять увидеть...
Стефан не в состоянии говорить. Нет, не в состоянии. Сидит на кровати и трясется, так же как тот человек с лампой. Но в конце концов берет себя в руки и рассказывает. Там был человек пли, вернее, уже не человек, а сплошной уголь. Весь обожженный, большая часть тела обуглена. Но еще живой. Ночь. Керосиновые лампы. Все жители селения, толпящиеся около дома. Крики женщин. Рев из дома. Запах горелого. Обгорелый человек, непохожий уже на человеческое существо, какое-то жуткое чудовище, вздрагивающее, пытающееся подняться с ложа. Нет, абсолютно ничем уже нельзя помочь. Сделали ему обезболивающий укол. Но как? Ничего не видно на нем – ни тела, ни кожи. Один уголь.
– Не знаю, что делать. Чувствую, что не усну.
Вижу, что помочь может только одно. Встаю. Достаю бутылку виски, которую мы припрятали на всякий пожарный случай. Наливаю рюмку. Стефан не хочет пить один. Наливаю и себе. Пьем – одну, вторую третью. Виски теплое и очень невкусное. Но мы пьем. Стефан продолжает рассказывать. Людям было сказано, что этого человека необходимо немедленно отправить в Вади-Хальфу, так как он не выживет до утра. Он не выживет, разумеется, во всех случаях, но так нужно было сказать, не столько ради него, сколько ради себя. Ему уже ничто не поможет. Отсюда 50 километров, дороги нет, сплошная пустыня, к тому же нет автомобиля. Единственный выход – уговорить полицейский пост выслать в Вади-Хальфу моторную лодку. Но феллахи сомневались, что удастся уговорить полицейских. Они дорожат своей моторкой и вряд ли согласятся. Поэтому наши направились на пост. Появление археологов среди ночи и их категорическое требование сыграло важную роль. И действительно, через мгновение послышался стук двигателя. Постепенно собаки перестают лаять.
А мы попиваем виски. Как же это случилось? Стефан точно не знает, видно, человек напился спирту, лег на кровать, продолжал пить, потом бутылка выпала у него из рук и он облился чистым 90-процентным спиртом. А так как в руке у него была зажженная папироса...
Вспоминаем, как раис рассказывал вчера, что в селении пьют все больше и больше. Он сокрушался и говорил, что раньше этого никогда не было. Ныне же в крестьянских домах гонят самогон и пьют спирт, хотя религия и запрещает это. По словам раиса, так поступают уже давно, но никогда еще не пили столько. С тех пор как стало известно, что селение уйдет под воду и все его жители должны будут переселиться в Кассалу, они больше уже не сдерживаются. Кроме того, раис рассказал:
– Не знаю, почему это так, но когда суданец начинает много пить, то вскоре сходит в могилу. Иншалла... Другим, может быть, это и не вредит, но нас губит.
Зато нам помогает. А поэтому мы продолжаем пить виски. По мере того как мы все больше пьянеем, Стефан приходит в себя, освобождается от кошмара, который его преследовал. Лежим на наших узких койках, подтягивая все время простыни, которые имеют дурацкую привычку сползать на пол. А с пола к нам могут забраться скорпионы. Мы подтягиваем простыни, но через мгновение они вновь сползают. И так всегда; поутру скорпионам открыта удобная дорожка.
Уже занимался рассвет, а мы все еще продолжали болтать. Об Африке и Азии, о людях, которые сроду не читали газет, но пристрастились к алкоголю, и о людях, которые знают всю мировую литературу и тоже пьют спиртное, о невежестве и цивилизации, о том, что люди везде одинаковы...
На следующее утро работа у нас как-то не спорилась. Мы были явно не в духе, что не удивительно. Вскоре, впрочем, мы отправились в Вади-Хальфу: Рогальский, Стефан и я. Там у нас были кое-какие дела. Нужно было переслать почту, закупить для нужд экспедиции консервы, какие-то приправы, батарейки для фонариков, фрукты, писчую бумагу. Кроме того, мы решили заехать в больницу, чтобы узнать о состоянии обожженного. Раз в неделю за нами приезжал автомобиль из музея. Такое соглашение Михаловский заключил с Шерифом, иначе мы были бы отрезаны от внешнего мира.
Покончив со всеми делами в городе и побывав в гостинице, где напились пива со льдом (о чем много дней мечтали), мы подъехали на такси к больнице. У желтоватой стены (дома в Вади-Хальфе преимущественно желтого цвета) сидели несколько десятков людей, расположившихся лагерем и, очевидно, приготовившихся к длительному ожиданию. Мужчины – в галабиях, а женщины – во всем черном.
Увидев, что мы высаживаемся из такси, сидящие у стены пришли в движение, все поднялись со своих мест и окружили нас плотным кольцом. Это были люди из Фараса, родственники, друзья и знакомые обожженного. Как они добрались до Вади-Хальфы? Одному Аллаху известно... Быть может, они приплыли на фелюгах; когда дует попутный ветер, – а он веет почти всегда с севера – такое путешествие занимает семь или восемь часов. Возможно, они дошли пешком до того места, где проходят автобусы. Или, быть может, приехали на ослах. Так или иначе, но они были здесь, образуя небольшую, молчаливую и терпеливую группу. Они глядели на нас дружелюбно, но с тревогой. Мы стремились найти кого-нибудь, кто сообщил бы нам о состоянии больного. Но сидящие у стены люди ничего не знали. Попросту сидели и ждали. Наконец нашелся какой-то больничный служитель. Он вышел и, улыбаясь, заговорил так, чтобы его могли услышать все, даже те, кто не понимает по-английски:
– Не is okay. Quite okay...
«Прекрасно», – подумал я. Но как человек с ожогом третьей или, вернее, четвертой степени может быть «okay»? Мы попросили служителя провести нас внутрь. Исполненный гордости, он подал знак рукой и двинулся вперед во главе нашей группки. Больница в Вади-Хальфе производила неплохое впечатление. Правда, это были лишь одноэтажные строения, а вернее, бараки, но в них соблюдалась чистота и порядок. Внутри не было кондиционеров или даже вентиляторов, которые в Судане встречаются повсюду – в гостиницах, магазинах, ресторанах, поездах и даже туалетах. В больнице были лишь окна, защищенные от солнца. Но, пожалуй, это и лучше, так как если бы здесь больше заботились об охлаждении, то не привыкшие к этому жители умирали бы от воспаления легких.
Наконец служитель проводил нас к молодому, симпатичному врачу. Выслушав, кто мы и зачем прибыли сюда, врач отвел нас в палату, где лежал несчастный из Фараса. Отгороженное ширмой от остальной части палаты, на койке возлежало существо, мало напоминающее человека. Обернутый с ног до головы бинтами, с отверстиями для рта, носа и глаз, больной лежал без сознания, тихо хрипя. Из-под бинтов торчала одна необожженная стопа. Она непрестанно вздрагивала, и в этом, казалось, было что-то противоестественное – обыкновенная человеческая стопа, не отличающаяся от стоп других лежащих в палате больных, и выступающая из белого кокона... В стопу была воткнута игла с резиновой трубочкой-капельницей.
Подойдя к кровати, профессор Рогальский сказал тихо по-польски:
– Он же задохнется под этими бинтами. Но и так ничто уже не спасет его. Ведь у него слезла вся кожа...
Врач-суданец и служитель, который не отступал от нас ни на шаг, внимательно присматривались к нам. Видно, им любопытно было узнать, что скажут европейцы, – ведь слава о наших чудесных исцелениях, несомненно, дошла уже и досюда. Хотя у Рогальского и Якобельского возникли сомнения по поводу методов, примененных в больнице, они понимали, что и в самых лучших клиниках здесь ничем нельзя было бы помочь, а поэтому Рогальский заявил:
– Думаю, что сделано все, что можно было сделать. – Он заколебался на мгновение. – Да, лечение, безусловно, правильное. Но он не выживет...
Служитель, утверждавший, что «he is okay», приуныл. Зато врач-суданец понимал это так же хорошо, как и мы. Он ничего не сказал.
Когда мы вышли из больницы, нас со всех сторон обступили люди. Они пожимали нам руки, улыбались, заговаривали с нами, перебивая друг друга. Зато мы сами чувствовали себя гадко, наши лица выражали смущение. Я не понимал, чему радуются эти люди, ведь мы не могли сказать им ничего утешительного. Но вскоре я понял. Они не рассчитывали, что наше появление вернет здоровье больному и мы скажем: «Все в порядке, все будет хорошо!»
Нет, они не ждали этого. Они просто хотели выразить нам свои дружеские чувства и благодарность за то, что мы приехали. Они сочли, что мы поступили благородно. Видно, мы интересуемся судьбой их больного и она беспокоит нас так же, как и их. Поэтому они пожимали нам руки. Они расспрашивали нас, как мы нашли больного. Мы не хотели их обманывать и в то же время чувствовали, что они верят нам больше, чем больничным врачам. Мы должны были что-то сказать, не порождая тщетных надежд, но внося в то же время некоторое успокоение. Мы сказали:
– В больнице делают все, что возможно. Больше сделать ничего нельзя. Состояние больного очень тяжелое. Все в руках божьих. Иншалла!.. Будет так, как захочет бог.
Но, быть может, у них оставалась какая-то искорка надежды, так как они замолкли, стали серьезными. А затем стали вновь поочередно подходить к нам, чтобы пожать нам руки. Обменявшись рукопожатиями с несколькими десятками людей, мы тронулись в обратный путь.
Вечером в лагере, за ужином, мы услышали крики, доносившиеся из селения и с каждым мигом усиливавшиеся. Должно быть, голосило много людей, к которым присоединялись все новые и новые. Сперва мы подумали, что опять что-то случилось, и у нас мурашки забегали по спине. Но тут же поняли, что ничего нового не случилось, а просто все кончилось. Через мгновение прибежал из кухни Мохаммед, дрожа, как тот человек прошлой ночью. С усилием выдавил из себя, что полицейский пост получил телеграфное извещение о смерти больного. В больнице ничем уже не могли ему помочь.
Над нашим домиком перекатывались волны крика. Это были не единичные крики, а неустанный, катящийся волнами вопль. Мохаммед и его помощник попросили профессора отпустить их в селение. Они оставили наполовину съеденный ужин и, захватив часть керосиновых ламп, сразу отправились туда. Ужин стоял на столе, а у нас пропала охота есть. Решили, что в селение должна отправиться делегация и от нашей экспедиции, чтобы выразить соболезнование семье умершего. Мы живем рядом с этими людьми, их заботы касаются и нас, и мы не должны оставаться безразличными к их несчастьям.
Мы взяли две керосиновые лампы, оставив дом в полной темноте, и отправились – Газы, Якобельский, Непокульчицкий и я – во мраке ночи туда, откуда доносились крики. Мы прошли, пожалуй, больше километра. Увязали в песке, спотыкались о камни и кусты; было тепло и душно, но не жарко. По пути наш кортеж рос, все время к нему присоединялись какие-то люди, которые появлялись в темноте, словно белесые призраки в длинных рубахах до щиколоток, и молча шли в том же направлении, что и мы, пользуясь светом наших ламп. По мере того как мы приближались к цели, у меня усиливалось ощущение, будто идем мы не принять участие в траурных церемониях, а на какой-то футбольный матч. Из селения доносился гомон возбужденного стадиона. Траур – это нечто иное. Траур – это тишина, приглушенные голоса, тихие шаги. А здесь несколько сот людей голосили изо всех сил. Так кричат у нас лишь при радостных обстоятельствах, разве только... Разве только это крик умирающей толпы! Когда это дошло до моего сознания, меня вдруг пронизало холодом, несмотря на теплую ночь.
Постепенно становилось все более жутко, Наш кортеж рос, мы шли медленно, с трудом, прислушиваясь к приближающемуся вою. Мы подошли наконец к жилищу умершего. Перед глинобитным домиком горели десятки светильников. На площади собралась большая толпа одетых во все черное людей с черными лицами. В мерцающем свете сверкали белки глаз и зубы. Здесь было несколько сот женщин, от старух до маленьких девочек. Толпа не стояла, даже не колыхалась. Она содрогалась, бурлила, билась в конвульсиях. И кричала – протяжно и пронзительно. Женщины кидались на землю, рвали на себе волосы и одежду, царапали ногтями землю, посыпали голову горстями песка. Здесь не было никакого притворства, все было искренне. У некоторых кровоточили расцарапанные руки и лица. Эти страшные, искаженные отчаянием и истерией лица! Я всегда считал, что такие сцены наиграны, быть может, даже умело, но все-таки наиграны. Здесь же не было никакой наигранности, а было лишь искреннейшее отчаяние, задевающее за живое и трагичное; так, должно быть, некогда рыдали дочери Израиля, загоняемые в вавилонскую неволю, или дочери Карфагена, когда Сципион разрушал их город. Прямо передо мной оказалась какая-то маленькая, на вид лет семи девочка, которая пищала тонким голоском и кидала себе в лицо кучи песка. По ее грязному личику ручьем катились слезы. Я собрался было подойти к ней, ведомый естественным инстинктом человека из Центральной Европы, привыкшего вращаться среди консультаций для детей, больных и здоровых, амбулаторий, детских садов и родительских университетов; я хотел подойти к ней, взять ее за руку, запретить сыпать песок в глаза, сказать: не делай этого, девочка, это вредно... Но я остановился на полпути.
К нам подошли какие-то мужчины. Все вновь прибывшие становились на освещенной площадке перед домом умершего и застывали здесь на минуту-другую. Но мужчины не голосили, они стояли молча, а потом уходили в направлении, которое указали и нам. Нас провели на огороженный участок, где горело много ламп, а на земле были разостланы циновки. Мы остановились в нерешительности. Но и это было предусмотрено. К нам приблизился один из нубийцев и шепотом подсказал, что нужно сделать. По очереди мы стали подходить к отцу умершего. Подобно всем другим, мы стояли перед ним, не говоря ни слова. Торжественный жест руками, выражающий соболезнование, пожатие руки, глубокий поклон. И ничего больше, тишина, никаких фраз, никаких слов. Затем нас усадили на циновках у стены, рядом с другими мужчинами. И все еще никто не проронил ни слова. Издали доносился гомон с площади. Молчание. Лишь какой-то старик, быть может родственник, тихо плакал, но это был уже глубокий старик. Желтый свет ламп, установленных на земле и освещающих снизу белые одежды людей. А кругом величественные, неподвижные лица нубийцев.
Через десять минут отец покойного поднялся с места, мы тоже. Опять рукопожатия, снова торжественный, исполненный достоинства жест. Отправляемся домой. Позади нас слышится несмолкающий и неослабевающий гомон. На обратном пути раис рассказывает об умершем. Он оставил трех жен и семерых детей, был богат, имел много скота и земли. Занимался контрабандой. Как раз теперь у него дома находилось 40 мешков с контрабандным товаром, и еще 50 были задержаны полицией в Асуане. У умершего были недоразумения с полицией в Хальфе. Он запил поэтому. Чувствовал, что вокруг него сгущаются тучи. Раис говорил о нем: «Спирту» (заспиртованный).
Когда мы проходили мимо одного из домов, теперь темного и пустого, раис сказал:
– Отсюда выходит смерть!
В этом доме гонят самогон.
Уже очень поздно, но мы не ложимся. Всем как-то не по себе. Разговариваем о книгах, автомобилях, о коллекционировании почтовых марок. Реку патрулирует полицейская моторная лодка, слышен стук ее двигателя. Гомон в селении стих, лишь время от времени раздаются еще отдельные крики.
Поутру пытаемся показать нашим рабочим, что мы помним, сочувствуем. Но напрасно, так как их поведение ничуть не изменилось, они работают, поют. В деревне играют дети, женщины несут воду из Нила, жизнь идет своим чередом. Ночь прошла бесследно. Люди улыбаются, а пополудни в шалашах-кофейнях такая же толчея, как и всегда. Нубия – древняя страна, и ее обитатели свыклись со смертью.
Через несколько дней в селении сыграли свадьбу.
Глава восьмая. Святые отправляются на склад
Один только фотограмметрист Непокульчицкий помнил, что сегодня 1 апреля. Решил разыграть нас, сказав, что только что видел огромного тарантула в палатке. Стало как-то не по себе, так как, хотя мы и вспомнили, что сегодня день первоапрельских шуток, тем не менее... Ведь еще только позавчера мы насмехались над профессором Дзержикрай-Рогальским, который утверждал, что в полночь видел в лаборатории тарантула величиной с ладонь; мы сразу провели связь между привидением и страхами Камилы Колодзейчик, шутя заключили, что это, видно, дух тарантула эпохи фараонов или, быть может, просто крупный жук-навозник. Мы смеялись, смеялись, пока вчера вечером...
Мы ждали, как всегда вечером, передачи из Варшавы, чтобы узнать, не потеплело ли в Польше. И услышали, что днем в Варшаве было 18 градусов. Потепление? Здесь при этой температуре у нас бы зуб на зуб не попадал. Мы были вдвоем со Стефаном в нашей палатке и собирались ложиться, как вдруг... К глинобитной стене помещения, в котором стояли наши палатки, мы прибили гвоздями веревку, чтобы вешать на ней брюки и полотенца. Так вот, Стефан дотронулся до висевших на веревке брюк. Дотронулся и... отскочил с криком! Я подбежал. Он осторожно отвернул материю, и тут я увидел, пожалуй, самое отвратительное создание, которое мне когда-либо приходилось встречать. Это был огромнейший паук. Его брюшко было больше монеты в десять злотых – приблизительно такой же величины, как спичечный коробок, только круглой формы. Ноги толстые, противные и невероятно длинные. И в довершение всего он был совершенно розовый – что-то вроде ломтика ветчины или лососины. Я схватил стоявшую вблизи бутылку, чтобы вступить с пауком в бой не на жизнь, а на смерть. Но Стефан удержал меня.
– Нужно позвать Рогальского! – крикнул он.
Мы побежали. Известно, что Рогальский очень интересуется подобными вещами. Услышав, о чем речь, он во весь дух помчался за нами, на ходу натягивая на правую руку кожаную перчатку. Профессор хотел схватить паука живьем, чтобы заспиртовать его. Мы осторожно вошли в палатку. Отодвинули брюки. Чудовище сидело неподвижно! Зрелище было отвратительное. Паук величиной в две соединенные ладони!.. Такое может лишь присниться. Профессор медленно приблизился и протянул руку в перчатке. Но в это же мгновение паук дал стрекача. Вихрем помчался он в угол, где стояли наши чемоданы. Я хотел было прихлопнуть его бутылкой, но не успел. Он исчез.
Так «научный подход» погубил нас. Вместо того чтобы сразу придавить паука, мы дали ему скрыться. Кляня его на чем свет стоит, мы начали тщательно осматривать палатку, выворачивая все чемоданы, костюмы, фото– и киноинвентарь, книги, постель и все, что еще находилось в палатке. Но паука и след простыл! Мы разбудили соседей и предупредили их, что паук мог скрыться у них в палатках. Но и там его не оказалось. Впрочем, наши коллеги не очень-то верили нам, а поэтому сотрудничали с нами не очень охотно, а главное, проклинали нас за то, что мы мешаем им спать. Но не мог же паук провалиться сквозь землю. Не мог и проскользнуть сквозь дверь, так как возле нее стояла стража. Мы осмотрели все палатки, стены и пол. Паук нашел, видно, щель в стене или выполз через тростниковую кровлю. Кто думал, что он окажется столь прытким? Поиски продолжались больше двух часов, и мы окончательно лишились сна. Ибо как лечь в постель, зная, что эта тварь где-то рыскает по палатке.
Хуже всего, что сегодня над нами насмехается весь лагерь, так же как вчера мы смеялись над Рогальским. Трое из нас видели его (это был, вероятно, ядовитый паук-птицеед), но другие не видели. Над нами потешаются всласть. Один лишь Газы утверждает, что разрешил загадку исчезновения паука. Дело в том, что Мохаммед подал к обеду розовое желе, неизвестно из чего приготовленное. И Газы говорит: не удивительно, что мы не нашли паука, он попал попросту в руки Мохаммеда. Повар Мохаммед – ловкий человек. Под крышей, где находится туалет, сидят обычно голуби. Однажды по лагерю разнеслась весть, что какой-то хищник вторгся в туалет через крышу и похитил несколько голубей. Все недоумевали, как могло подобное случиться, но в конце концов выяснилось, что этим хищником был сам Мохаммед. Быть может, и на этот раз...
Итак, над нами смеются. Хотя мы никому не желаем зла, но не имели бы теперь ничего против, если бы кто-либо из этих шутников обнаружил вдруг птицееда в своих брюках. Honny soit qui mal у pense[54].
Рогальский оправдывается, почему не поймал тогда паука:
– Я словно увидел блоху величиной с воробья. Я заколебался. Вы тоже заколебались бы, перед тем как придавить рукой нечто подобное...
Думаю, он прав.
Я уже рассказывал, как Юзеф Газы привел в изумление наших собирателей надписей. Якобельский прислонился рукой к стене, сорвалась часть штукатурки, и из-под нее выглянула отчетливая надпись, высмеивающая наших ученых. У Газы возникают оригинальные идеи. Сегодня за завтраком он хохотал до упаду при мысли, какая заварилась бы каша, если бы в штукатурку под одну из фресок он подложил современную суданскую банкноту в один фунт или папиросный окурок.
– Вся датировка пошла бы насмарку, – потешался он.
Газы по профессии скульптор. У него на счету ряд памятников, например памятник в честь освобождения Радома и много других. Он также автор памятника, воздвигнутого в честь 108 расстрелянных в Вавре[55]. В 1954 году он начал работать в Главном управлении реставрационных работ при «Захенте»[56].
Работая в Управлении, Газы восстанавливал недостающие части колонны короля Зигмунта в Варшаве. С этим связан еще один анекдот. (Газы – неисчерпаемый источник забавных историй.) Однажды некий гид давал у колонны Зигмунта пояснения группе экскурсантов из провинции. Гид сказал:
– А это творение итальянского скульптора!
Присутствовавший при этом сынок Газы заметил:
– Неправда, это сделал мой папа!
– А как зовут твоего папу?
– Газы...
– Вот именно, – заключил, не моргнув глазом, гид. – Итак, пойдем дальше...
Газы работал реставратором при восстановлении собора во Вроцлаве, а также в Калише, в Казимеже и при восстановлении церкви в Пулавах. В 1961 году в Национальном музее устанавливали египетскую колонну, найденную нашей экспедицией при раскопках в Телль-Атрибе, в Дельте. Но колонна оказалась строптивой – ни за что не хотела стоять прямо. Возникло замешательство, все думали, что она рухнет. Тогда хранитель музея Ясевич, который в предыдущую кампанию первым снял несколько фресок со стен церкви в Фарасе, пришел к Газы, чтобы посоветоваться. Газы отправился в музей, заперся в зале, где стояла колонна, и запретил кому-либо входить. Через два часа колонна, представьте, стояла прямехонько как стрела. Проверяли ватерпасом, но не нашли ни малейших отклонений. Так началось сотрудничество Газы с Национальным музеем. Некоторое время спустя устраивали мексиканскую выставку. Там были настоящие колоссы, самый тяжелый из которых весил восемь тонн, а многие весили три или четыре тонны каждый. Пригласили специальную комиссию из Политехнического института, так как опасались, что стропы не выдержат. Колебались. Но Газы нашел стену, на которой их можно было закрепить, не опасаясь последствий. Вскоре директор музея профессор Лоренц предложил ему штатное место, но Газы отказался, так как хотел продолжать заниматься скульптурой. Однако он начал помогать музею. Газы работал, в частности, у Михаловского, на выставке отдела древнего искусства. Так они познакомились. Вскоре Михаловский предложил Газы выехать в Фарас. И, хотя профессор не обещал ему ничего больше, кроме египетской стипендии, Газы согласился. Его привлекала эта работа, и он стремился к экзотике.
С тех пор Газы в Фарасе и развлекает других множеством забавных историй...
– Когда мы начали в октябре раскопки, – рассказывает он, – то стали обнаруживать то крестики, то короны. Под ними, разумеется, были головы. Мы забавлялись как дети, гадая, что же окажется ниже.
Но сегодня до полудня Газы был занят работой, во время которой не до анекдотов. Уже в двадцать пятый раз в Фарасе наступал такой день, когда все участники экспедиции словно замирают, сжав кулаки, и никто не в состоянии спокойно работать. Никто, за исключением самого Газы. Ибо он должен трудиться спокойно. В такие дни успех всей экспедиции в его руках. Порой это продолжается несколько часов, а порой – всего только несколько десятков минут. Но это минуты величайшего напряжения. Слово «открыть» – это еще не все. Остается еще слово «спасти». Нужно произнести и его.
Сначала фреска покрывается специальной смесью, состоящей из воска, канифоли и других химикалий, состав которых зависит от состояния штукатурки. Штукатурка выветривается и легко осыпается. И не удивительно! Варшавская штукатурка начинает осыпаться через семь или десять лет, а местная существует уже тысячу лет. Вот почему во фресках образуются дырки, причем иногда они попадаются и с внутренней стороны штукатурки. Тогда приходится вводить туда гипсовые пломбы. Порой под фреской необходимо просверлить ряд отверстий. Много столетий церковь была целиком заполнена песком. Нубийский песок проникает всюду, даже в закрытые чемоданы, он проник также в промежутки между штукатуркой и стеной. Бывало, что, после того как пробивались отверстия, из-под штукатурки высыпалось целое ведро песка. Поэтому сначала Газы делает анализ фрески и составляет подробный план действий. Ошибка может стать роковой: немного нужно, чтобы фреска оказалась безвозвратно загубленной.
Покрытая воском фреска приобретает более почтенный вид: она становится темнее, краски ее менее резки. Она защищена теперь от действия воздуха и сырости. Восковое покрытие будет снято лишь в музее – в Варшаве или в Хартуме. Эта работа отнимает много времени и требует большой точности. Операция производится следующим образом: рабочие-арабы нагревают на спиртовках небольшие утюжки; подают их наверх на подмостки, на которых стоит Газы; горячим утюжком он размазывает воск по поверхности фрески. Роспись оказывается под темным, стекловидным слоем. Затем фреска прикрывается плотным холстом. Он должен быть прочным и не иметь никаких разрывов или других изъянов. Вскоре на нем повиснет бесценный памятник старины. После этого покрытая холстом фреска еще раз гладится утюжками. Разогретый воск проникает через материю и, остывая, скрепляет ее с фреской. На белом фоне появляются темные очертания, постепенно превращаясь в точное изображение лица богоматери или епископа. Это необычайное зрелище! Затем к холсту пришивается крепкий канат. Его концы привязываются к деревянной стенке, наискось придвигаемой к фреске. Теперь можно приступить к снятию фрески. Наступает день, когда в течение долгих минут будет решаться судьба шедевра.
И вот сегодня с утра Газы занялся великолепной фреской с изображением богоматери, которую наши люди назвали «ловичанкой» из-за полос на ее одеянии[57]. Уже за завтраком атмосфера была напряженной, хотя Газы и пытался шутить, но видно было, что и он волновался. Ведь дело шло о тончайшем слое красок на немногим более плотном слое штукатурки! Таково уже большинство произведений искусства: немного краски, немного штукатурки или полотна, порой несколько листков бумаги – а ведь это византийская фреска, или Монна Лиза, или «Ад» Данте... Сколь хрупко все это по сравнению с пятидесятитонными танками нашего времени, но в то же время сколь долговечнее!
Мы собрались у церкви. Сперва выпили по маленькой чашке кофе, поданного Мохаммедом. Затем столпились у стены, на которой еще вчера красовалась фреска, правда несколько потемневшая от воска. Сегодня уже не было видно фрески, сквозь холст проступали лишь ее контуры, как во время операции проступают под простыней очертания тела лежащего пациента. Все стояли наготове, чтобы помогать, если что-нибудь не будет ладиться. Но ясно, что это был самообман. Если бы Газы ошибся, никто уже не сумел бы ничего спасти. Кроме нас, около стены собрались все рабочие и раис. Царила тишина. В десятый, пожалуй, раз я проверял свою кинокамеру, почтенную «Адмиру-16», действующую безотказно... однако в этой пыли и после песчаной бури вполне возможна и осечка.
Сперва Газы поднялся на подмостки с длинной палкой в руке. Несколькими движениями он выдолбил над фреской продолговатую расщелину, параллельную верхнему краю холста. Та часть стены, что осталась над расщелиной, пойдет под воду, а то, что расположено под ней, будет выставлено в одном из двух музеев. После этого Газы сошел с подмостков и подошел к фреске снизу. Стало еще тише, хотя и до этого никто не подавал голоса. Даже шумливые рабочие-арабы молчали, теснясь вокруг. Было жарко, и немудрено, что лоб человека с пилой в руках покрылся каплями пота. Слышен был шелест пальм, растущих около холма. А затем раздался стрекот моей кинокамеры – и в этот же момент тишину прорезал резкий скрежет. Пила начала вгрызаться в грунт фрески, медленно, сантиметр за сантиметром отрезая ее от стены. Скрежещет пила, из-под фрески сыплются обломки стены, падают в лицо Газы, угрожая поранить его или засыпать ему глаза, но он не отстраняется, не вытирает лица, а лишь лоб и щеки его все больше сереют и по запыленному лицу струится пот. Приближаюсь к нему, снимаю его крупным планом – его лицо занимает весь визир моего аппарата, - затем снимаю его руки и пилу. Газы не замечает меня. Через несколько месяцев, когда я пригласил его посмотреть уже готовый, смонтированный для телевидения фильм, он сказал: «Когда вы снимали все это? А я ничего не заметил...»
Продолжают сыпаться обломки, от стены отстает все больший слой. Впечатление такое, будто стена раскалывается пополам. Тысячу лет фреска была неразрывно спаяна с кирпичом, теперь пришел момент расставания. Пила и ведущая ее рука забираются все выше и выше. Прямо не верится, что все это не рассыплется прахом. Казалось бы, достаточно прикоснуться пальцем... Однако теперь лишь небольшой кусок фрески держится еще на грунте. И наконец... фреска отделяется от стены. Пила, которую ведут очень медленно и осторожно, достигла выдолбленной сверху расщелины. Фреска рассталась со стеной. Она висит теперь на канате, привязанном к придвинутой сюда деревянной стенке. Это самый опасный момент. Если бы воск, спаявший фреску с холстом, не держал ее крепко или если бы сорвался канат или сдвинулась дощатая стенка, фреска свалилась бы на каменный пол церкви. Просуществовав тысячу лет, она погибла бы в мгновение ока.
Но сегодня ничего из всех этих страшных вещей не случилось. И не случилось также в течение тех 24 дней до этого, когда со стен снимали другие фрески. Ибо вместе с сегодняшней снято уже 25 фресок. Тем не менее каждый раз в лагере чувствовалась напряженность.
Деревянная стена медленно отодвигается от каменной. Фреска продолжает висеть на канате и холсте. Теперь все это нужно осторожно положить на заранее приготовленный помост. Пока фреска не ложится на место, напряжение не спадает. Большая группа людей поддерживает с четырех сторон деревянную стену и медленно наклоняет ее к земле. Наконец стена лежит! Фреска находится сверху, обращенная внутренней, шершавой поверхностью старой штукатурки вверх. Победа! Рабочие радуются, как дети, да и остальные участники нашей экспедиции ведут себя не очень-то серьезно. Все обнимают Газы. А он радостно улыбается и вытирает руки, как хирург после удачной операции. Затем становится на колени около фрески и, держа в одной руке напильник, а в другой – щетку, выравнивает штукатурку и удаляет следы солей, осевших за многие столетия на внутренней стороне фрески. Но все это теперь уже мелочи – фреска снята.
Затем рабочие прикрывают фреску специально приготовленными циновками и переносят ее на помост, на котором она будет покоиться до момента вывозки. Это трудная операция. К канату, который пришит к холсту и на котором фреска висела после того, как ее отрезали от стены, привязывают три шнура, два – с краев фрески и один – посредине. Угловые шнуры держит в руках Газы. Руководить переноской должен один человек; если бы это делали двое, они могли бы тянуть неровно, создавая опасное для фрески напряжение. Третий шнур, проходящий посредине, тянется между широко расставленными ногами Газы. Его конец держат рабочие – это, так сказать, приводной трос. Фреска осторожно передвигается на соответствующий помост. Теперь она будет покрыта ватой, на которую накладывают войлочные пластины. Края пластины прибиваются гвоздями к помосту, после чего фреска окончательно упакована. Теперь весь груз можно поднять и наклонить, чтобы он прошел через дверь. Его относят на склад – специально выделенную часть церкви, где сложенная рабочими кровля защищает фрески от солнца. Они лежат там на огромных стеллажах, одни над другими, как на складе настоящего музея.
Более серьезные заботы возникнут лишь при транспортировке. Тем из фресок, которые пойдут в Варшаву, предстоит трудный путь. Сперва нужно будет переправить их из церкви на берег Нила. Это всего 100 или 200 метров, однако опасность возникает сразу, как только фрески начинают передвигать. Защищенные ватой и войлочными пластинами, фрески укладываются в ящики, надлежащим образом защищенные от сырости и обитые толстой жестью. В ящики кладут как можно больше подстилки. В прошлом году, отправляя первые две фрески, которые пришлись на долю Польши и были сняты со стены хранителем музейных памятников Ясевичем, все участники экспедиции, включая профессора Михаловского, пожертвовали свои собственные шерстяные одеяла. Археологи зябли по ночам, зато фрески совершили путешествие в полном комфорте. После переноски на берег фрески погружаются на фелюги или на плавучий понтон. Они плывут вверх по Нилу до Вади-Хальфы. Там их погружают в железнодорожные вагоны. По одноколейной железной дороге груз доставляют в Атбару, недалеко от Хартума, а оттуда – в Порт-Судан на берегу Красного моря. Груз сопровождает, разумеется, кто-нибудь из участников нашей экспедиции. Это утомительное путешествие, оно продолжается очень долго, и никогда нельзя с уверенностью сказать, в какой срок доберешься до места. Ибо если пассажирские поезда в Судане ходят в общем и целом удовлетворительно и опаздывают не больше чем на одни или двое суток (это на самом деле немного, если учесть, что в единственный морской порт Судана отправляются из столицы только два пассажирских поезда в неделю), то движение товарных поездов организовано из рук вон плохо. Электродвижок, высланный из Варшавы в Фарас и доставленный польским кораблем в Порт-Судан, застрял где-то по пути и прибыл лишь... через полгода!
Очередная перегрузка, теперь на польское судно. Наши корабли заходят в Порт-Судан один, а то и два раза в месяц; случается, что и чаще. На них фрески отправляются в Гдыню. Это путешествие длится около месяца и чревато опасностями. Речь идет, разумеется, не о подводных рифах, айсбергах или пиратах. Дело в том, что во фрески может проникнуть сырость. Попав в ящики, морская сырость быстро разделалась бы с живописью. Необходимо поэтому быть постоянно начеку.
Газы знаком и с перевозками произведений искусства. Специалистом в этой области он стал недавно, причем довольно просто. Вот что он рассказывает:
«Когда из Польского национального музея высылались экспонаты на выставку в Эссене (ФРГ), возникла серьезная проблема: как их упаковать и как отправить? Я обратился тогда в „Сполэм“[58] и спросил: как вы отправляете яйца за границу? Мне ответили: автотранспортом. И рассказали как. Я подумал: если даже желтки не взбалтываются в дороге, то и статуя Рамсеса доедет благополучно...»
Таков Газы, профессионал из того клана, что некогда создавал славу крупным городам – Венеции, Флоренции, Амстердаму.
Ловичанку сняли. И тотчас возникла новая задача для наших ученых. Под слоем штукатурки, на которой она была написана, сохранился другой, более древний слой. А на нем оказались надписи, нацарапанные или написанные людьми, жившими тысячу лет назад. Надписи эти необходимо срисовать и сфотографировать, перевести, отметить их положение на плане церкви и включить в общий реестр надписей. Чиновник, получающий очередное письмо, досадует и злится. Археолог приходит в отличное настроение, хотя ему и предстоит больше работы, чем чиновнику. Ба, но это письмо пролежало уже десять веков!.. Даже сухарь-чиновник, вероятно, повеселел бы, читая его.
Обеспечив сохранность снятой фрески, Газы идет выпить вполне заслуженную чашку чаю. Но сначала останавливается перед самой великолепной из всех фарасских фресок, перед огромным «Рождеством». Фреска уже покрыта защитным слоем воска, но будет снята лишь во время следующей кампании[59]. Газы говорит:
– Хорошо бы так же снять «Рождество». Это было бы все равно что выиграть стометровку на олимпиаде...
Глава девятая. Конец чуда
Повседневный ход работы был несколько нарушен сегодня. Наступили последние дни кампании этого года; времени у нас мало, а поэтому мы не можем разрешить себе никаких перерывов в работе. Но на этот раз в лагере повеяло драматизмом, которым прониклась кампания по спасению древних памятников в Нубии и ощущение которого обычно рассеивается в уйме повседневных забот. К нам на автомобиле приехал Шериф, руководитель музея в Вади-Хальфе, поддерживающий по поручению суданских властей постоянный контакт с экспедициями разных стран, – тот самый Шериф, который встречал меня на аэродроме. У Шерифа нелегкая задача. С одной стороны, он представляет интересы иностранных экспедиций, а также интересы Службы древностей Судана. С другой стороны, он – представитель властей. Таким образом, один и тот же человек должен порой по самой сути вещей представлять противоборствующие тенденции. Короче говоря, как руководитель музея и представитель археологов он заинтересован в том, чтобы на кампанию по спасению древних памятников в Нубии было выделено как можно больше денег. А как представитель властей он должен заботиться о том, чтобы все это обходилось как можно дешевле, то есть чтобы эта кампания поглощала меньше средств.
Если не время жалеть розы, когда горят леса, то тем более не время их жалеть тогда, когда леса заливает вода. Это извечная проблема. Когда строилась первая Асуанская плотина, то предполагалось вначале, что она поднимет уровень воды на 30 с лишним метров, однако фактически она подняла его только на 24 метра. Было решено уменьшить высоту плотины, так как ученые-египтологи, а также всякие европейские «романтики», и особенно богатые туристы, подняли громкий голос протеста. Если бы зеркало воды было поднято настолько, насколько это предусматривалось проектом, то вода залила бы остров Филэ и находящиеся на нем храмы – сооружения небывалой красоты. Голос представителей европейской науки и культурного мира, а равно и европейских богачей, которые проводили зимний сезон в Египте, имел тогда значительно больший вес, чем сейчас. Уинстон Черчилль иронически заметил в этой связи: «Принесение в жертву 1 миллиарда 500 миллионов кубических футов воды богине Хатор западными мудрецами – это самая жестокая, подлая и бессмысленная жертва, принесенная на алтарь лжерелигии. Государство должно биться, а люди – умирать с голоду, дабы профессора могли священнодействовать, а туристы – находить место, чтобы выцарапать там свои имена...»
Асуанскую плотину надстраивали впоследствии еще два раза, и вода полностью залила остров. Теперь, после постройки Высотной плотины, вода зальет остальную часть Нубии. Все погибнет. Но сегодня, через 60 лет после строительства первой плотины, многое изменилось. Ни один ученый и ни один художник не решится поднять голос против этого сооружения. Все понимают, что хлеб и работа для голодных и безработных важнее памятников старины, даже самых прекрасных. Да и никто не стал бы слушать сегодня подобных голосов протеста. С одной стороны, это свидетельство прогресса, однако я опасаюсь, что, с другой стороны, это доказывает также исчезновение остатков влияния и уважения, которым некогда пользовалась интеллигенция.
Остается фактом, что ни один ученый, как бы он ни увлекался историей Египта и Нубии, не высказался против строительства плотины. Зато ученые решили сделать все, что в их силах, чтобы спасти как можно больше от уничтожения. Следует привести здесь слова генерального директора ЮНЕСКО Витторино Веронезе: «Эти памятники – их гибель была бы поистине трагедией – принадлежат не только тем странам, где они сегодня сохраняются. Весь мир имеет право на эти вечные сокровища. Они – часть того всеобщего достояния, в которое входят также слово Сократа, фрески Аджанты[60], стены Ушмаля[61] и симфонии Бетховена. Памятники общечеловеческой ценности должны находиться под защитой всего человечества»[62].
День затопления Фараса приближается. Пока точно неизвестно, когда именно это произойдет. В будущем (1964) году раскопки еще возможны, но уже без участия местных рабочих. Их эвакуируют. Известно зато, что фрески будут спасены, поляки успеют снять их со стен церкви. Но это не все. Остается еще вопрос о множестве ценных каменных плит эпохи фараонов и мероитян. Но не скрывается ли еще что-нибудь в глуби фарасского холма? Быть может, там находится храм эпохи фараонов. Ведь именно следы этого храма в виде надписей на разбросанных тут и там каменных плитах привели к нынешним находкам, способствовали открытию древней христианской церкви. В следующем году, когда фрески будут уже спасены, археологи углубятся в нижнюю часть холма в поисках храма. Никто не знает, что еще удастся найти.
Сидя под расщелиной в каменной кладке церкви, профессор Михаловский вел полный драматизма разговор с Шерифом. Он говорил:
– То, что не удастся вывезти заблаговременно, нужно сложить в церкви. Она расположена на высоком месте, вода дойдет сюда позднее всего. Поэтому если даже сегодня нет средств, чтобы спасти все находки, то нужно оттянуть момент, когда они будут уже безвозвратно потеряны. Вы меня поняли?
– Да, понял, – поддакивал Шериф; выражение его темнокожего лица казалось непроницаемым.
– Может быть, через два или три года найдутся какие-нибудь средства, – продолжал Михаловский. – Подумайте только, в каком положении вы тогда окажетесь, если не сделаете все, чтобы эти сокровища не погибли с самого начала. Неизвестно, как долго будет подниматься вода. Никто не знает, какого уровня она достигнет. Нельзя сказать даже, какова будет ширина этого искусственного озера, так как нет достаточно подробных топографических карт. Может быть, через несколько лет эта церковь уже выступит из воды. Никто этого не знает, и вы тоже, не так ли?
– Да, я не знаю, – подтвердил Шериф.
– Вот именно. Необходимо поэтому сложить находки в самом высоком месте. А после этого нужно собрать все фелюги и понтоны и постараться вывезти все, что удастся. Как можно дальше. В какое угодно место, куда вода уже не дойдет, хотя бы в голую пустыню. Вы согласны?
– Да, – согласился Шериф. – Именно так следует поступить...
– Лишь после этого, – продолжал Михаловский, не смущенный неразговорчивостью собеседника, - нужно будет подумать, что делать дальше со всеми этими памятниками. Реставрировать их, перевезти в музеи или, быть может, оставить для будущих исследователей. Если сегодня это кажется вам невозможным, то через двадцать лет все будут вам благодарны. Бесконечно благодарны!.. Нужно спасти, что удастся. Для будущих поколений. Они бы никогда не простили нам, если бы из-за нашей лени...
– Не знаю, право. Все это понятно, но, право же, не знаю. Понятия не имею, удастся ли что-либо сделать, найдутся ли фелюги, найдутся ли люди, чтобы все это проделать, и как будет с деньгами. Даже не знаю, сумею ли сам остаться здесь до конца.
Шериф – симпатичный и разумный человек. Он наверняка хотел бы сделать все как можно лучше, но он понимает, как мало для этого возможностей. Судан – это не Швеция... Темнокожий суданский чиновник глядит на седовласого профессора из далекой страны. Он знает, что профессор и его люди готовы вынести каменные плиты на собственных плечах, лишь бы спасти их от затопления. Но плиты весом в целую тонну не вынесешь на плечах.
Шериф знает, что все фелюги, понтоны, корабли – все плавучие средства будут использованы для эвакуации населения и его пожитков. Этих пожитков не так уж много в Нубии, но нет почти никаких транспортных средств. Не хватает также денег. Судан – страна, где все нажитое тут же проживают. А впрочем, с эвакуацией населения уйдут и люди, которые вели до сих пор по Нилу фелюги с высокими парусами. Чтобы их удержать на какое-то время, нужно им заплатить, притом значительно больше, чем платили раньше. Иначе они не останутся здесь, а поедут в Кашм-эль-Гирбу, куда будет эвакуировано все население Суданской Нубии. Они не захотят оставить свои семьи в трудную минуту, когда в жизни все должно измениться. Кашм-эль-Гирба находится далеко, свыше тысячи километров отсюда, в провинции Кассала на юго-востоке Судана, близ границы с Эфиопией. Люди, которые всю свою жизнь прожили, как и их отцы, деды и прадеды, у Реки, должны будут переселиться в пустыню. Правда, власти предоставляют им для обработки орошаемые районы: Кашм-эль-Гирба – вторая по величине, после знаменитой Гезиры в междуречье Белого и Голубого Нила, ирригационная стройка Судана, тем не менее... Предстоит большая встряска. Все в провинции Кассала – условия, люди, климат, пейзаж, – все другое. А поэтому, чтобы склонить лодочников отправить свои семьи в далекий неизведанный путь, а самим остаться здесь, нужно им хорошо заплатить. Ба, деньги! Дело обстоит так. Египет выплатил Судану 14 миллионов фунтов в качестве компенсации за затопленные районы. Суданские власти использовали эти деньги в первую очередь в Кашм-эль-Гирбе, чтобы подготовить те места к приезду нубийцев, а заодно и вдохнуть жизнь в засушливую провинцию Кассала, у которой все данные стать в будущем столь же плодородным краем, как хлопководческая Гезира. Кроме того, правительству необходимо выплатить компенсацию населению Нубии. 14 миллионов фунтов в этих условиях не столь уж большая сумма... Суданским властям придется еще кое-что к ней добавить. Так откуда же взять деньги?
У Судана их нет, так же как нет их у профессора Михаловского. И тем не менее Михаловский прав: нужно постараться оттянуть момент затопления памятников. Ибо никто не может сказать, найдутся в конце концов деньги или нет. Нубийская кампания началась в 1960 году. Только что была неожиданно сорвана Парижская конференция в верхах, в мире вновь повеяло холодной войной, продолжался рост вооружений, и перспективы были довольно мрачными. В этой ситуации вряд ли можно было ожидать, что те или иные государства станут раскошеливаться, чтобы заплатить за спасение памятников старины в далекой, малоизвестной стране. И тем не менее... Когда полтора года спустя стали подытоживать сумму взносов в фонд нубийской кампании, оказалось, что один только Египет получил 4,1 миллиона долларов. Правительство ОАР выделило на нубийскую кампанию около 11 миллионов долларов. После этого поступили дополнительные взносы. Речь идет здесь о деньгах, предназначенных на сохранение памятников древности в Египетской Нубии. Также и Судан получил на спасение памятников в своей части Нубии некоторую, хотя и менее крупную сумму. Дальнейшие взносы поступили в 1963 году.
Неоценимый вклад своим трудом и умением внес также ряд европейских и американских экспедиций, которые большей частью финансировались пославшими их странами.
Вот почему профессор Михаловский был все-таки прав. Хотя деньги текут лишь жиденькой по сравнению с действительными потребностями струйкой, они все-таки текут. Долг исследователей и Службы древностей Судана – сделать все возможное, чтобы при наличии средств обеспечить сохранение памятников.
Конечно, спасти удастся лишь то, что было найдено в самое последнее время. Можно только догадываться, сколько бесценных памятников, находящихся в не исследованных еще районах, уйдет под воду.
Итак, дела зашли уже далеко! В повседневной работе, среди пыли и мошкары, за фотографированием, писаниной, наблюдениями за производящими раскопки рабочими, дешифровкой надписей, приведением в порядок карточек, вычерчиванием схем и стиркой рубашек – за всем этим мы забыли, что конец уже близок. Снова стали бросаться в глаза намалеванные белой краской круги на стенах домов – эвакуационные знаки. В предыдущие недели мы привыкли к ним и перестали замечать. Потоп казался чем-то очень отдаленным. Теперь мы осознали, что он приближается с каждым днем, медленно, но неотвратимо.
Потоп близок. Спасательный ковчег зовется археологией. Что это за ковчег? Какова его сущность? Когда мы вернулись с холма после беседы с Шерифом, который сел в автомобиль и укатил в Вади-Хальфу, профессор уселся в шезлонг и попросил у Мохаммеда чашку кофе. Я последовал его примеру. Профессор устал. В тот день было очень жарко и даже пани Михаловская упрашивала мужа:
– Не ходи сегодня в церковь, побереги себя!
Но, как всегда, все увещевания оказались тщетными, – впрочем, вряд ли причиной усталости и задумчивости нашего «маршала Фоша» была жара. Он думал, наверное, о том, что раскопки в Фарасе приближаются к концу, что завершается эпопея великих открытий. Предстоит еще много сделать, но многое так и не будет сделано. Археологу больно думать об этом. Я видел, что профессор в плохом настроении. Но, несмотря на все, я должен был задать ему один вопрос, ведь как-никак я репортер.
– Теперь, – спросил я, – когда так много уже сделано, когда достигнуты большие успехи и приближается потоп, расскажите мне, пожалуйста, что, собственно говоря, представляет собой археология? Объясните это, пожалуйста, простыми словами, так, как если бы вашего ответа ждали студенты или радиослушатели...
Профессор очнулся от задумчивости. Одно мгновение мне казалось, что он пошлет меня ко всем чертям. Тоже нашел время для интервью! Но Казимеж Михаловский безукоризненно владеет собой. Вопреки моим опасениям он вступил в разговор.
– Видите ли, – начал он, – говоря кратко, археология – это наука о постепенном прогрессе человечества начиная с древнейших времен. Впрочем, она стала наукой лишь несколько десятков лет назад. Своими истоками она уходит в филологию. Раньше считали, что археология – это просто история искусства. Ведя раскопки, искали произведения искусства, особенно скульптуру, а также фрески. Фрагменты или более крупные образцы изящной архитектуры. Все остальное отбрасывалось. Но это неправильно. В те времена археология не была еще наукой, а была скорее чем-то вроде коллекционирования. Так вели свои поиски в XIX веке первые египтологи или лорд Элджин в Греции. Это было ненаучно.
– Но ведь и теперь ищут произведения искусства и они, собственно, являются венцом раскопок, – заметил я. – Так, например, было и здесь.
– Разумеется, если исследователь находит великолепные произведения искусства, тем лучше для него. Но не это типично для современной археологии. Здесь была исключительная ситуация. Приближается потоп. Времени очень мало. Нужно спешно вести раскопки. У нас не было других возможностей, приходилось хватать то, что ценнее и эффектнее всего. Обычно все обстоит иначе. В наше время задача археологии – это поиски, изучение и истолкование всех скрытых в земле материальных остатков древних исчезнувших культур. Всестороннее исследование прошлого. А это позволяет, как известно, лучше понять современность. Важно все, что найдено, все, из чего можно сделать выводы, касающиеся жизни людей тех времен. Поэтому, ведя раскопки в Телль-Атрибе, мы внимательно исследовали содержимое мусорных ям. И что же? Там были найдены разные интереснейшие с научной точки зрения документы, как, например, глиняные таблички с домашними хозяйственными расчетами, налоговые квитанции или письма. Современная археология исследует не только дворцы или крепости, но также остатки жилых домов, занимается старинными орудиями, санитарными устройствами древних городов, вроде бань, подобно открытой нами бане в Александрии, затем старинными монетами, украшениями, нарядами, обрядами – похоронными, свадебными или приуроченными ко дню рождения, – научными приборами – словом, всем, включая самые незначительные на первый взгляд предметы, какие можно обнаружить в земле. Лишь все это, вместе взятое, дает представление об образе жизни в давно минувшие времена. Археология – это отнюдь не история искусства. Скорее к ней подходит определение «история материальной культуры».
– Но ведь между методами вашей работы и методами работы польских археологов, ведущих исследования в Бискупине, Вислице, Кашубии или в одном из тех трехсот мест, где на территории Польши идут сейчас раскопки, существует, видимо, весьма заметная разница, не так ли?
В садике собрались теперь все участники экспедиции. Садик мал, и, казалось бы, нам должны были мешать. Но нет, одно из основных правил, установленных в Фарасе, гласит: не мешай другому, когда он работает и... когда не работает. В небольшом коллективе, месяцами пригвожденном к крохотному участку без возможности вырваться оттуда или увидеть другие лица, несоблюдение этого правила сделало бы жизнь невыносимой. Я сидел с блокнотом в руке, а поэтому все видели, что мы работаем, никто не мешал, никто не обращался к нам, все занимались своими делами.
– Видите ли, – отвечал профессор, – средиземноморская археология отличается от той, прославленная школа которой возникла в Польше. Условия работы в Польше и здесь разные. Здесь археолог находит крупные комплексы памятников и должен приспособить свои методы к их исследованию. По-разному ведется работа в Пальмире, где в пустыне стоит огромный вымерший город, и в мазурских лесах, где изучаются следы топок, оставленных яцвингами[63]. Но цель везде одна – исследование повседневной жизни населения данного района. И хотя в Пальмире, в Александрии или в Нубии можно скорее сделать пленяющие воображение открытия, тем не менее классический археолог тоже должен производить детальный анализ всех, даже самых мелких находок, должен использовать новейшие достижения науки, как, например, изотоп углерода С-14 или другие методы, которые в последнее время столь обогатили археологию.
Тут профессор позвал Мохаммеда и попросил принести ему еще одну чашку кофе. Но сказал это шепотом, чтобы, боже сохрани, не услышала жена. Ибо сколько чашек кофе он уже выпил сегодня!..
– И еще одно. Из того, что я сказал, не следует, что археология – простое продолжение истории. Разница не только в том, что историки копаются в архивах, а мы – в земле. Мы взаимно дополняем друг друга. История говорит нам, что между VI и XIV веками в Нубии существовало христианское царство. Она приводит имена царей, рассказывает о ходе боев с арабами и о падении этого царства. В тех случаях, когда история той или иной страны лучше изучена, она может рассказать также о социальных движениях, революциях или дворцовых интригах. Но как люди жили, каковы были их жилища и одежда, с кем и чем они торговали, как строили, какими орудиями пользовались – всем этим занимается археология. Естественно, что здесь, в Фарасе, мы не в состоянии еще ответить на многие вопросы. И не потому, что наша наука не справляется со своей задачей, а лишь потому, что работаем мы в необычных условиях. В течение трех лет мы должны исследовать все то, что в нормальных условиях требовало бы десяти–двадцати лет работы. А может быть, и больше...
Не успел профессор кончить, как в столовой раздался звонок на обед. Нужно было прервать беседу. В лагере должен соблюдаться определенный порядок, и даже сам руководитель не вправе опаздывать на ленч. А во время ленча произошел необыкновенный случай...
Один из нас протянул руку за лимоном. С продуктами в Фарасе бывает по-разному. Но, как и в гастрономических магазинах, лимоны «бывают»; это мелкие, местные, зеленого цвета лимончики, имеющие несколько непривычный вкус, но такие же кислые, как и у нас дома. Итак, кто-то взял лимон, выжал из него сок в стакан, потом насыпал сахару и наконец наполнил стакан водой из графина. Помешал ложкой и... остолбенел. Не веря собственным глазам, позвал всех остальных. Но все мы увидели то же самое. В стакане лимонада, резво размахивая хвостиком и сверкая серебром, плавала... маленькая рыбка! Мы быстро перелили в стаканы весь остаток воды из графина. Не было никаких сомнений: в стаканах мы нашли еще две рыбки. Кто-то высказал предположение, что сделано важнейшее открытие – суданских рыбок-лимонниц. Некоторые встревожились. Порядок за обедом был нарушен. Позвали Мохаммеда. Он прибежал, посмотрел, на лице его, как нам показалось, мелькнуло замешательство, но он сразу изрек:
– Мафиш!
Это означает по-арабски «ничего, ничего особенного». Кто-то сказал со злостью:
– Мохаммед! Это не мафиш, а просто фиш! Рыба!
Смущение на лице Мохаммеда объяснило нам, однако, причину этого поразительного явления. Вода, которую мы пьем в Фарасе, берется прямо из Нила. После того как воду приносят из реки, ее переливают в «зиры». Зиры пористые, а поэтому под каждым из них всегда стоит кувшин, в который стекает очищенная таким образом вода. Откуда же взялись рыбки? Дело в том, что воды в кувшинах для всех страдающих от жары и жажды археологов не хватает. А Мохаммед не может отказать полякам, когда им хочется выпить воды. Поэтому, если в кувшины не накапает достаточно очищенной воды, Мохаммед окунает их прямо в зиры. Он знает, что профессор строго-настрого запрещает это, но что из того?.. Мохаммед считает такой запрет одним из обычных европейских предрассудков. Ведь в Нубии все пьют воду, взятую прямо из Нила. Я сам неоднократно ее пил, когда плавал на фелюге, а старый лодочник окунал кубок в холодную речную воду и широким жестом угощал меня. Правда, можно нажить при этом шистоматоз, но Мохаммед вряд ли догадывается об этом.
Вот каким образом в лимонаде оказались рыбки.
Тут я вспомнил, как во время своего первого обеда в Фарасе я наивно восхищался тунцом и сардинами. Теперь я уже не приходил в восторг от них. После десяти дней, когда на завтрак вновь, как ежедневно, подавали сардины и тунца, я все понял. Ах, если бы кусок польской колбасы! Мои товарищи терпеливо дожидались этого момента и, увидя, что я содрогаюсь при виде вкусных, вообще говоря, рыбок, сказали:
– Видишь? Никогда не следует слишком поспешно давать оценки ни людям, ни условиям, ни даже обедам...
Они предупредили меня, что, когда я буду писать о Фарасе, то не должен упоминать ни о сардинах, ни о лимонах, ни о том, что во дворе дома нашей экспедиции стоят шезлонги. Когда кто-то из археологов написал об этом домой, то вскоре в лагерь пришел ответ такого приблизительно содержания: ах, вы отлеживаетесь там в шезлонгах и едите всякие деликатесы, а у нас здесь самая холодная зима за последние сто лет, снег на дорогах и опоздания поездов. Кому-то другому, кто ведет раскопки в Судане, получая за это плату, равную одной трети жалованья шофера посольства, написали: «Когда вернешься домой на автомобиле, деньги на который ты успел накопить?..» Ох, эти поляки, поляки!
Никто из наших археологов не накопил денег на автомобиль. Вообще, как я успел уяснить себе, никто ничего не сумел отложить, ибо откладывать было не из чего. Поездка на раскопки в Судане и Египте – это не путь к тому, чтобы «подработать». Некоторые женщины и мужчины в нашей стране совершенно неправильно представляют себе все эти вопросы. Но в таком случае – могут спросить те же женщины и мужчины – на что же им сдались все эти раскопки? Уже сама постановка такого вопроса затрудняет его обсуждение. Здесь нужно начать с самых основных моментов, найти объяснение которым нелегко. Почему люди, избравшие сферой своей деятельности египтологию или коптологию, ведут раскопки в Судане, несмотря на то что на заработанные там деньги им вряд ли удастся построить себе даже самый скромный домик? А почему другие люди посвятили свою жизнь математике, педагогике или истории, если хорошо известно, что, например, выращивание шампиньонов оплачивается гораздо лучше? Почему, наконец, вся страна не занимается выращиванием шампиньонов, а существуют в ней также почтальоны и машинисты, языковеды, хранители музеев и судьи по делам несовершеннолетних? Большинство участников нашей экспедиции работают вообще без жалованья. Они получают лишь те 36 египетских фунтов, которые составляют студенческую стипендию. Это слишком мало не только для того, чтобы кое-что отложить, но даже для того, чтобы нормально жить. Наши археологи выходят из положения следующими двумя путями. Во-первых, если они проживают в Центре средиземноморской археологии в Каире (в промежутках между отдельными кампаниями, когда приходится выполнять огромную работу, подводя итоги предыдущей кампании и готовя следующую), они не платят за квартиру и ведут общее домашнее хозяйство, что всегда обходится несколько дешевле. Во-вторых, работая на раскопках, они получают небольшую сумму на карманные расходы (35 пиастров в день), которых едва хватает на папиросы. Только три человека – профессор в период его пребывания в Египте, Кубяк, научный секретарь Центра, и Остраш, архитектор Центра, – получают жалованье. Следует отметить, что жалованье научного секретаря Центра равно жалованью шофера посольства.
Находясь в Фарасе и наблюдая, как наши археологи показывают гостям обнаруженные ими фрески, можно без всяких угрызений совести воздержаться от дискуссий с невеждами. Стоит зато поговорить на эту тему с другими людьми. С теми, кто не оспаривает смысла труда отдельных ученых, но задумывается над целесообразностью работы всей экспедиции. С теми, кто говорит: зачем нам вести раскопки в Нубии или в Пальмире, когда мы сами испытываем затруднения с городским транспортом, нехватку жилищ, недостаток средств на самые насущные капиталовложения... Можно при этом оставить в стороне всех тех, кто просто завидует – нет, не деньгам, так как здесь завидовать нечему, но огласке, славе и даже самой поездке за границу. Известно, что зависть – наш национальный порок, но зависть, вызванная поездкой за границу, – это превосходит все, что привелось наблюдать когда-либо. А пришлось повидать немало, ведь находятся же у нас и такие люди, кто не прочь позавидовать иному умершему, которого хоронят за счет государства. Так оставим их в стороне. Речь идет о тех, кто говорит: зачем нам в период собственных хозяйственных затруднений вести раскопки в Судане?
Прежде всего следует отметить, что раскопки в Судане обходятся очень недорого. Соблюдается строгий режим экономии. Ставки заработной платы минимальные и в большинстве случаев складываются из стипендий, ассигнованных египетским правительством в обмен на аналогичные стипендии, выделяемые в Польше египетским студентам. Стоимость содержания Польского археологического центра в Каире не идет ни в какое сравнение со стоимостью содержания любого дипломатического представительства, а, как известно, наши представительства за границей живут довольно скромно. А ведь польские археологи играют в этих странах не менее важную роль, чем дипломатические представительства, но об этом после. Я уже писал, что наша экспедиция в Фарасе, находящемся в 50 километрах от города, в голой пустыне, не имеет даже автомобиля. Это не жалоба или выражение недовольства, а говорится лишь для того, чтобы отвести упреки в расточительстве.
Так обстоит дело с издержками. А теперь о выгодах.
Начнем с голых цифр. Сами фрески, которые после окончания работ в Фарасе окажутся в музее Варшавы, оцениваются в несколько миллионов долларов. Американцы, посетившие церковь, сразу же предложили за них сумму, в несколько раз превышающую эту, но предположим, что они преувеличивали. Ясно, что никто не собирается продавать фрески, но ведь они умножают народное достояние. «Вавельских аррасов»[64] также никто не собирается продавать, однако их стоимость входит в фонд общенародного достояния.
Но научные работы не ведутся только для того, или даже вообще не для того, чтобы исчислять их результаты в деньгах. Классическая средиземноморская археология входит неизменной составной частью в большой комплекс наук, которыми должна заниматься страна, причисляющая себя к современным просвещенным государствам. Средиземноморские археологические экспедиции снаряжаются также и Советским Союзом, Соединенными Штатами Америки, Францией, Англией, ГДР, ФРГ, Чехословакией, Норвегией, Данией, Швецией, Аргентиной и Италией. Археологией занимаются и многие другие страны (взять хотя бы Гану). Из не названных мною стран народной демократии следует отметить Румынию и Болгарию в связи с тем, что в этих странах археология находит богатый материал на местах. Нигде в мире не оспаривают необходимости существования этой науки. А ее существование неразрывно связано с раскопками. Нельзя создать кадры археологов, не предоставив им возможности вести раскопки.
Польша достигла очень высокого уровня в классической археологии, став теперь одной из ведущих стран в данной области. Мы не вправе загубить эти достижения. Растерять их сейчас, когда так много уже сделано, было бы непростительной расточительностью. Издержки, связанные с археологией? Я уже отмечал, что они невелики по сравнению с выгодами. Ведь занятия математикой, атомной физикой, историей, языкознанием и десятками других отраслей науки также стоят денег и не все подобные отрасли дают ощутимые выгоды. И тем не менее никому не придет в голову мысль отказаться от занятий этими науками. Жалкую картину представляла бы собой страна, следующая такой логике. Мало ли что стоит денег, но не приносит осязаемых выгод: реставрация памятников старины и охрана природы, эстетика интерьеров и городские парки, издание произведений классиков и собрания народных песен.
Замечательные результаты, достигнутые польской археологией, способствуют также развитию других отраслей науки. Например, польские научные труды по археологии Средиземноморья пользуются большим спросом за границей, чем способствуют научному обмену и ввозу в Польшу других научных трудов. Они стали обменными ценностями, на которые есть хороший спрос.
И наконец, другие выводы – не финансовые и даже не научные. Дипломатические представительства всех стран, кроме чисто дипломатических функций, обязаны выполнять и другие задачи: популяризировать свою страну, завязывать культурные связи и всесторонние контакты. А также – что, пожалуй, важнее всего – завоевывать общественное мнение и снискивать симпатии своей стране. Доказано, что никакое, даже самое лучшее дипломатическое представительство не в состоянии достигнуть на этом поприще таких результатов, каких достигает археологическая экспедиция, которая тесно связана с жизнью данной страны и ее гражданами, работает вместе с ними, повседневно соприкасается, вызывая в них уважение к себе и убеждение, что представляемая экспедицией страна достигла высокого уровня науки и культуры. Все это неоценимо, а порой в результате определенных трансформаций превращается в измеримые ценности в виде, например, заинтересованности в торговых связях. Вопрос здесь и в престиже того или иного государства. Выражение «престиж» звучит для многих негативно, однако никто не станет возражать против обычая направлять национальные спортивные команды на олимпиады, заведомо зная, что современная олимпиада – это главным образом вопрос национального престижа. Вряд ли найдется много таких олимпийских медалей, которые можно было бы сравнить (если такое сравнение вообще допустимо) с открытиями в Фарасе.
Так обстоит дело с ответом на вопрос, почему мы ведем раскопки в Египте и Судане. Не подлежит сомнению, что польское государство поступает правильно, содействуя этой работе. Почему же тогда я пустился в эти рассуждения? Думаю, что, уж коли я получил от государства деньги на поездку в Фарас, чтобы ознакомиться с ведущимися там работами и написать о них, я должен был заняться и этой стороной медали.
Письма, получаемые археологами в маленьком суданском селении, и вопрос о сардинах, подаваемых к обеду, – вот что убедило меня поговорить и об этом.
Сегодня последний день «больших работ». Кампания заканчивается, завтра рабочие разъедутся по домам. Участники экспедиции задержатся еще на несколько дней в Фарасе, начнут свертывать лагерь, обеспечат сохранность склада, в котором останутся фрески, приведут в порядок найденную керамику и фотоархив, упакуют все оборудование. Но с завтрашнего дня наступит уже тишина, никто не запоет на холме, понемногу развеется пыль.
С самого утра на холме воцаряется необычная атмосфера, настроение приподнятое и праздничное. Колонна людей, несущих полные корзины на отвалы, двигается живее, раис бегает быстрее с одного конца церкви в другой и больше обычного размахивает своей длинной палкой, которой подгоняет рабочих. Раис делает вид, что сечет их по галабиям, но удары не болезненны, это своего рода дань старине, рабочие не ставят их ему в вину.
Все работают как ошалелые. И я тоже – накручиваю фильм, меняю кассеты, делаю снимки. Небольшого роста человек с черным или, вернее, серым лицом, которого мне дали в помощь, пыхтит от натуги, таща штатив, мешок с кинопленкой и объективами или фотоаппараты. Несмотря на жару, у него на голове всегда нечто напоминающее популярные в период оккупации «намордники», то есть длинные чулки с вырезами для глаз, носа и рта, надеваемые на голову и предназначаемые для солдат, зимующих в окопах. Зачем он – рабочий на раскопках, ведущихся под палящим суданским солнцем, – носил такой намордник, я не могу понять. Быть может, Хасан считал его защитой от пыли? Я очень полюбил этого человека. Он был истинным воплощением честности и добросовестности. Всегда готовый к работе, он никогда не давал мне самому нести камеру, если я ничего не снимал. Можно было спокойно оставить на попечение Хасана всю аппаратуру и удалиться на несколько часов: он хранил ее как зеницу ока, что было нелегко в месте, где вертелось около двухсот человек. Впрочем, в лагере никогда ничего не пропадало, за исключением папирос. Видимо, на папиросы смотрели здесь как на общую собственность или считали, что коль скоро поляки всегда угощают ими (это одна из «основных» обязанностей археолога), то не грех и самому угоститься, хотя бы и целой пачкой.
Мой низкорослый помощник вообще бесподобен. Он был одним из немногих рабочих-нубийцев, которые могли объясняться по-английски, а кроме того... побывал в Польше! Хасан сразу похвастал этим. Мне трудно было поверить, но он меня убедил. Так вот, до войны Хасан работал помощником бортпроводника на самолете египетских воздушных линий. Разносил папиросы, сладости, помогал при посадке на самолет. И однажды машина, на которой он летал, направилась в Гданьск. Это произошло лишь один раз, но Хасан великолепно это помнит.
Хасан разбирается в технике и очень быстро освоился с моей аппаратурой. Я немало изумился, когда, желая сменить объектив в камере, потянулся к мешку, а Хасан был уже подготовлен к этому и подал мне как раз то, что я искал.
После двенадцати часов дня в церкви собирается весь состав нашей экспедиции. Завидя профессора, нубийцы удваивают темпы работы. Облака пыли, вздымающейся над отвалом, густеют. Мало что видно, только со стен в середине церкви ярко сверкает красками византийская парча. Еще около 15 корзин с песком, вынесенных с холма, и еще столько же: рабочие стремятся показать в завершение кампании образцы трудолюбия. Они не забывают также, что скоро предстоит раздача бакшиша. В нартексе (сенях) церкви обнаружен сегодня вход в подвал, подземный коридор, расположенный под собором. Из пола вынуто несколько каменных плит. Образовалось зияющее черной пустотой отверстие. Но наши люди уже забрались внутрь с электрическими фонариками и говорят, что, судя по первому впечатлению, там нет ничего интересного. Более обстоятельно подвал будет исследован лишь осенью, когда экспедиция вернется сюда, чтобы снять со стен остальные фрески.
В половине первого протяжный крик извещает об окончании работы. Внезапно обрывается монотонная песня с импровизированными в честь профессора словами, которую распевали рабочие, вынося последние корзины с песком. Ритмичное, безмятежное пение уступает место беспорядочной суматохе. Рабочие бросают корзины и мотыги и сбегаются к входу в церковь. Летят в воздух платки, чалмы, сандалии. Толпа бурлит и клокочет, все хлопают друг друга по плечам. Появление Михаловского вызывает новую овацию. Раис подбегает к нему, размахивая палкой, а приблизившись, церемонно кланяется, затем оба жмут друг другу руки. Все собираются в группу для памятного снимка у стен церкви. На первом плане профессор с женой и раис, рядом другие участники экспедиции, а за ними выстраиваются лестницей ряды рабочих, точно какая-то многочисленная футбольная команда. Снимает группу Непокульчицкий, установив аппарат на штативе: снимок, сделанный с руки, не был бы достаточно торжественным. Знак рукой, щелчок – и вот уже вновь стоит неумолкаемый гомон, так как сбоку подъезжает профессор Рогальский на ослике, подгоняя его палкой. Рабочие приходят в неописуемый восторг.
Мы отправляемся обедать, а рабочие идут в свои «хилтоны», теперь уже в последний раз. Трое владельцев шалашей деловито хлопочут, это горячий для них день: нужно угостить уходящих рабочих, а также взыскать все долги. Сегодня кредита больше не будет. Завтра перестанут существовать и сами «хилтоны». Тростниковые циновки с их стен уже закуплены казначеем экспедиции Острашом, их используют для защиты оставшихся на стенах фресок. Владельцы шалашей-кофеен носятся как ошпаренные, подавая кофе, чай и, видимо, еще кое-что, одновременно листая тетради, в которых велись записи. У двери нашего дома толчея – это Антек Остраш вместе с раисом начали выплачивать деньги. Точно подсчитываются дни работы, выслушивается мнение раиса, и наконец рабочему вручается определенная сумма, округленная бакшишем. А именно: около 30 пиастров, помноженных на число дней, проработанных на раскопках, плюс от пятнадцати до семидесяти пиастров бакшиша, а старшим рабочим – больше. Такие ставки приняты во всех экспедициях и утверждены суданскими властями. Немного, конечно, но для нубийцев это солидная сумма. Работой на раскопках они дорожат, она дает им возможность получить за зиму несколько фунтов (иногда 10), что для многих составляет весьма существенное подспорье. При условии, конечно, что этот заработок не останется в «хилтонах», что порой, к сожалению, случается. Некоторые являются на работу с сыновьями. Мне показывали человека, который получил всю сумму, заработанную им самим и сыном, но сыну дал лишь 10 пиастров.
Под вечер близ нашего дома строится колонна – люди и ослы. Это отправляются в путь жители Балланы – селения, расположенного в 30 километрах отсюда и находящегося уже на территории Египта. Их было здесь несколько десятков. Люди из Вади-Хальфы отправятся завтра, им предстоит более далекий путь. Прощание, суматоха, переклички и сборы кажутся бесконечными. Когда солнце уже склоняется низко над горизонтом, длинная колонна всадников на ослах трогается в путь на север. Люди в развевающихся галабиях едут, волоча худые ноги по песку, купаясь в багровом блеске заходящего солнца. Недалеко уедут они сегодня и будут ночевать в пути. Красивое зрелище: длинный караван, растянувшийся по песчаным барханам на фоне раскаленного неба.
У моих товарищей глаза светятся радостью. Их многомесячное отшельничество близится к концу. Вскоре они поедут в Каир, в большой город, где будут щеголять в белых сорочках с галстуками, ходить в кино, гулять при свете неоновых огней. Они уже соскучились по благам цивилизации. Я – нет. Видно, я не пробыл здесь достаточно долго. Глядя вслед исчезающим вдали всадникам, не могу отделаться от мысли о предстоящей гибели этой страны, от чувства сожаления. Так хотелось бы когда-нибудь опять увидеть Нубию, но я знаю, что это невозможно. Знаю, что уйдут под воду не только селения, пальмы, камни, памятники старины и церкви, но также и те чудесные две недели, которые я провел здесь, – столь необычные, непохожие на все другие, как мраморные стелы, покоящиеся в хмурых, каменных кладовых церкви в Фарасе.
Участники экспедиции еще вернутся сюда осенью, чтобы снять со стен остальные фрески и отправить их в свет. Половина фресок останется в музее в Хартуме, половина уедет в Варшаву. Какие? Вопрос сложный. Решено, что в первую очередь будут поделены те фрески, которые в известной мере повторяются. Стало быть, в Варшаву попадет, очевидно, часть изображений богородиц и архангелов. Но приходится считаться и с принципом неделимости ансамблей, составляющих одно целое. Так обстоит дело, например, с найденными портретами епископов. И еще один момент: памятники неповторимые, уникальные должны остаться в Судане. Задача, таким образом, весьма затруднительная: нужно сделать так, чтобы никто не почувствовал себя обделенным, чтобы все получили, что им принадлежит по праву.
А затем фрески проделают длинный путь. В 1965 году они окажутся в варшавском музее на Иерусалимских аллеях[65]. Иерусалимские аллеи... Какими далекими они кажутся отсюда, как трудно их здесь себе даже представить.
Нужно трогаться в путь. Участники экспедиции еще вернутся сюда осенью. Я уже не вернусь.
Глава десятая. Река
Мое пробуждение в тот день было необычным. Я выглянул через круглое окошко-иллюминатор парохода, который стоял у берега. Уже одно то, что я спал в каюте, казалось удивительным после стольких дней, проведенных на краю самой большой пустыни в мире. Но то, что я увидел через иллюминатор, было еще необычнее: на берегу лежало множество скелетов – черепа, ребра, берцовые кости, зубы, челюсти и позвонки. Жуть, да и только. Скелеты заглядывали в мой иллюминатор, чуть ли не стучали костяными пальцами в стекло. Злобно ухмыляясь, они словно забавлялись моим изумлением. Целое кладбище скелетов. Итак, первое впечатление было тягостным, хотя я оказался в одном из прекраснейших мест, которые мне приходилось когда-либо видеть. Но об этом я скажу несколько позднее, а сейчас вернусь к событиям последних дней.
Я выехал из Фараса, расставшись с участниками экспедиции, которые были заняты завершающими работами в кампании этого года: упаковкой снаряжения, обеспечением сохранности склада, где были сложены снятые фрески, свертыванием лагеря. В безоблачном суданском небе палило летнее солнце, жара достигала такой степени, о которой мы в Польше не имеем никакого представления. В эту пору проснулись уже все змеи, скорпионы и остальные пресмыкающиеся. Раскопки вести больше было нельзя. Рабочие ушли. Первым из состава польской экспедиции из Фараса уехал профессор Рогальский. Вслед за ним – профессор Михаловский. Вскоре после отъезда руководителя экспедиции тронулись в путь и все рядовые ее члены. Непокульчицкий уехал в Дейр-эль-Бахари близ Луксора, где поляки – инженеры Домбровский, Коллонтай и магистр Домбровская – работают над реконструкцией храма царицы Хатшепсут. Остальные отправились в Каир, чтобы после нескольких дней отдыха, заполненных посещением кинотеатров и магазинов (нужно обновить износившийся за время кампании гардероб; на раскопках одежда неимоверно портится!), заняться раскопками в Дельте, в Телль-Атрибе.
В то время как наша экспедиция складывала свои пожитки в Фарасе, я отправился по следам «интернационала ученых», которые прибыли сюда чуть ли не из всех стран мира. Это не преувеличение. Район длиной в 500 километров по обеим сторонам Нила буквально кишит иностранными учеными. В период зимней кампании 1962/63 года в Суданской Нубии работали следующие экспедиции:
франко-аргентинская в Акша, где француз профессор Веркуттэ и аргентинец профессор Розенвассер работали над исследованиями египетского храма эпохи Рамсеса II, а также могильника культуры А;
Ганского университета, руководимая англичанином профессором Шинни, крупным авторитетом в области африканской археологии, и занятая в западной части Серры, где находятся важнейшие археологические памятники, относящиеся к мероитской эпохе;
университета штата Нью-Мексико (США) в Тамра;
испанская (Мадридский университет) в Аргине близ Вади-Хальфы, где были обнаружены мероитские город и могильник;
университета штата Колорадо (США) в южной части Аргины;
английская экспедиция профессора Эмери в Бухене;
польская в Фарасе;
экспедиция из ГДР под руководством профессора Фрица Хинце, который уже седьмой год собирает в Судане мероитские тексты, в Шейх-эль-Гадире;
французская в Миргиссе, великолепной египетской крепости у второго порога, которая высится на скале над рекой и некогда прикрывала вместе с близлежащей крепостью Дабнарти все пути с юга на север;
бельгийская в Семне;
итальянская, из пизанского университета, в Солебе;
скандинавская, созданная объединенными силами археологов четырех государств, в Дибейре, где находится большой некрополь культуры С;
суданская, руководимая доктором У. И. Адамсом, работающим по поручению ЮНЕСКО, в Мейнарти.
Я нанял в Вади-Хальфе такси – старое «шевроле» с удобным, широким сиденьем и кожаной обивкой, которую, казалось, искусал тигр или нубийский лев. Автомобиль был большим и внушал уважение, но только до той поры, пока не тронулся в путь. С этого момента мое уважение к нему быстро растаяло. Пока он шел по узкой полосе асфальта, ведущей к окраине города, еще можно было терпеть. Но вот асфальт кончился и началась глинистая, ухабистая дорога с твердой колеей – тут стало твориться нечто невообразимое. Когда водитель, вынуждаемый к тому крупными выбоинами, сбавлял ход и ехал на второй или первой скорости, изнутри машины, откуда-то из-под ее пола, раздавались завывание и пронзительный скрежет. Все это сопровождалось столь ужасной тряской, что у меня, старого автолюбителя, мороз пробегал по коже. Коробка скоростей «шевроле» находилась, должно быть, во власти нечистой силы, на которую переключение на первую скорость действовало как ладан на черта. Автомобиль сотрясался от отвращения, и казалось, что он неминуемо испустит дух или станет дыбом. И тем не менее... он шел. Мы выехали из города, миновали аэродром с единственной бетонной полосой, протянувшейся среди голых песков, и въехали в пустыню. Горы подступали здесь к реке на расстояние нескольких сот метров, окружали Нил тесным обручем, словно угрожая задавить его. Вскоре мне предстояло убедиться, как немного не хватает, чтобы им это удалось. Мы врезались на нашем неуемном автомобиле в прибрежный песок, в барханы, покрытые пальмами и крохотными возделанными участками, и стали с трудом выискивать тропы, по которым удалось бы пробраться дальше. В конце концов мы очутились на берегу, напротив большого острова, на одну треть заросшего пальмами, – две другие трети занимал песчаный холм, похожий на холм в Фарасе.
За островом, с левой стороны, открывалось грозное зрелище: Нил боролся со скалами за свое право на жизнь. Черные скалы обступали реку со всех сторон, хватали ее за горло, давили. Река была словно покрыта скалистой сыпью. Между остроконечными глыбами протискивались десятки стремительных ручьев. Придавленная река, однако, не поддавалась. Здесь нет, в сущности, Нила, а есть лишь множество извилистых мелких речушек, с водоворотами и водопадами, использующих каждую расщелину, чтобы вырваться на свободу. Это второй порог, прославленное препятствие, которое преградило путь галерам фараона в их плавании на загадочный юг, а также стало поперек пути канонерок лорда Китченера, когда он собирался подчинить английскому владычеству страну, кажущуюся издали дрожащей дымкой в раскаленном мареве.
Перед самым порогом, но уже на спокойной воде, как бы с облегчением вздыхающей после тяжелой борьбы со скалами, высится остров Мейнарти.
Когда в 1895 году археолог Квибелл исследовал одну из гробниц эпохи Среднего царства, находившуюся под храмом Рамессеум в Луксоре, он нашел там папирус, который вызвал немалую сенсацию в археологическом мире. Это был полный список египетских крепостей в Нубии. Папирус был, очевидно, документом, составленным для фараона или какого-то подобия древнеегипетского генерального штаба. Многие из содержащихся в списке крепостей удалось сразу отождествить с современными. Но оставались и загадки. Одной из них был Икен – название, которое в списке фигурировало вслед за крепостью Бухеи. Где же был расположен Икен? Тщательный анализ привел к выводу, что единственным местом, где мог находиться Икен, является небольшой современный населенный пункт Кор, лежащий у самого порога, у подножия горы Гебель-шейх-Сулиман, о которой я уже писал во второй главе. Именно там были обнаружены следы древнеегипетских укреплений, а также какое-то здание, бывшее, вероятнее всего, резиденцией наместника, и наконец, нечто вроде высеченного в скале искусственного порта. Сомнение вызвало лишь то, что стены укреплений в Коре слишком уж слабы и значительно отличаются от стен остальных крепостей. Не обнаружено здесь также храма, а между тем Лесли Гринер пишет: «Храм был столь же непременным атрибутом крепости, как гарнизонная церковь при современных британских казармах». Ученые выдвинули поэтому предположение, что Кор был только торговым складом, станцией на пути, ведущем через второй порог. Но тут же рядом находился остров Мейнарти. Именно здесь, скорее всего, и была крепость.
Сейчас считают, что Икен состоял из двух частей – склада в Коре и крепости на острове Мейнарти. Лишь тщательные исследования путем раскопок могут дать ответ на вопрос, так ли обстояло дело в действительности. Но остров Мейнарти, как и весь район второго порога, будет затоплен.
На остров переплывают на фелюге. Уже издали видно нависшее над холмом облако пыли. С холма доносится пение – неповторимое, монотонное пение рабочих-арабов. В сезон тут работает двести человек: они выносят песок в корзинах, вскинутых на плечо. Рабочие распевают, а когда возвращаются с пустыми корзинами, то приплясывают, несмотря на жару. Это, несомненно, снижает темпы работы и еще больше сгущает облака пыли, но помочь здесь ничем нельзя. Кроме того... это имеет своеобразную прелесть.
В нескольких десятках метров от холма стоит шалаш из тростниковых циновок. У него стены только с трех сторон и кровля, четвертая сторона открытая. Внутри стол, заваленный бумагами, планами, чертежами, а также обломками керамики. На одной из стен висят две походные фляжки. Доктор Адамс, руководящий здешними раскопками, любит подчеркивать свой спартанский образ жизни. Он в полувоенной одежде – легкие брюки и рубашка цвета хаки. Вся питьевая вода, которую можно получить у него, помещается именно в этих фляжках. Никакого кофе или кока-колы, только теплая, мутная вода. Адамс – единственный археолог на острове. Кроме него, здесь есть только рабочие и его помощник-суданец, выполняющий функции не то адъютанта, не то секретаря. Однако американец живет не на самом острове, а в Вади-Хальфе, где находится также его семья, прибывшая сюда из США. Легче, конечно, соблюдать спартанский режим в течение 10, чем в течение 24 часов в сутки, но следует признать, что Адамс, несомненно, твердый человек. Он любит говорить о себе: «I'm an Arizona boy...» («Я – парень из Аризоны»). То же самое говорят о нем и его знакомые.
Хотя Адамс ведет себя по-военному, он щеголяет, однако, и некоторыми ковбойскими замашками. Взять, например, этот огромный красный платок, наполовину высунутый из кармана брюк, который он то и дело вытаскивает, а затем вновь прячет. Типичный жест героев ковбойских фильмов! Из другого кармана торчит лопатка, всегда «на взводе», как кольт. Собственно говоря, Адамс никогда не был археологом, но всегда мечтал им стать. Он занимался этой наукой скорее как любитель. В Америке такое бывает; несколько лет назад, например, в Нубию явилась необычная археологическая экспедиция, состоящая из одних пасторов, причем ни один из них никогда не участвовал в раскопках и даже не изучал археологии. Но, располагая деньгами, они наняли профессионального археолога-египтянина и под его руководством охотно трудились, учась у него и принося в конечном счете пользу.
Иначе обстояло дело с Адамсом. Он изучал в свое время археологию, но до некоторой степени был самоучкой. Несколько лет назад ему представился случай выехать в Судан: ЮНЕСКО предложила ему работу по генеральному обследованию всех мест в Суданской Нубии, где стоило бы вести раскопки. В ЮНЕСКО, как и во всей ООН, действует – еще больше, чем в обычных национальных учреждениях, – правило предоставлять работу не столько тем, кто лучше всего разбирается в ней, сколько по знакомству. В каждом учреждении – во всем мире – существуют личные связи, противоречивые интересы, протекции. Что же тогда говорить о международном учреждении! Но выбор Адамса не был ошибкой. Обеими руками он ухватился за эту возможность. Он выполнил работу добросовестно, быстро и исправно, к удовлетворению суданских властей и самой ЮНЕСКО. Адамс летал на самолетах и делал аэрофотоснимки, разъезжал на джипах по пустыне, плавал на фелюгах, ездил верхом на ослах. Он обследовал каждый уголок в Нубии. Ясно, что это обследование делалось наспех и поверхностно, но ведь иначе и не могло быть. Кроме того, он перерыл не столько кучи песка над строениями эпохи фараонов и мероитян, сколько всю имеющуюся литературу по этому вопросу. Адамс особенно заинтересовался керамикой раннехристианской эпохи. Он стал вскоре специалистом в этой области, а через несколько лет опубликовал исследование по классификации керамики, чего никто до него еще не делал. Оно стало основой для дальнейшей работы. И все это время Адамс мечтал о том, чтобы самостоятельно вести раскопки.
Адамсу предоставили такую возможность, поручив руководство суданской экспедицией, финансируемой Управлением древностей Судана под покровительством ЮНЕСКО. Ему указали и на место работы – остров Мейнарти, песчаный холм, похожий на холм в Фарасе.
На вершине холма находились сравнительно новые арабские сооружения. Их нужно было разобрать. Под ними Адамс открыл шесть ярусов христианских и коптских строений. Польские открытия в Фарасе потрясли его. Говорят, что вначале Адамс относился несколько недоброжелательно к польской экспедиции, а поскольку он уже тогда был официальным экспертом ЮНЕСКО, то его мнение могло иметь известное значение. Но когда Адамс увидел «польские» фрески, то совершенно изменил свое отношение.
Сейчас он горячий поклонник польской экспедиции, постоянно обращается к полякам за советом, а когда у него выдается немного свободного времени, он приходит к ним в гости.
Когда я навестил Адамса в его шалаше на острове, он ковырялся в старых горшках, выкопанных сегодня утром из земли. Как пристало истинному американцу, он ничуть не удивился моему визиту, протянул в знак приветствия свою большую ладонь, пожал мне руку, вынул красный платок, затем вновь спрятал его и наконец предложил мне глоток воды из фляжки. Услышав, что я приехал из польского лагеря, он отодвинул неловким жестом черепки, и мы отправились посмотреть холм, где велись раскопки. В каждом жесте и в каждом слове этого «парня из Аризоны» сквозила гордость, хотя он все время подчеркивал:
– Ну, что ж, у меня скромнее, не то что у вас...
Но ему так хотелось всем похвастать: чудесным видом, открывающимся с острова на нильский порог, фундаментами христианских домов и церковью. Ибо здесь тоже стояла христианская церковь. Почти повсюду в Нубии на развалинах древнеегипетских укреплений и храмов построены христианские поселения и церкви. Видно, население Нубии в ту эпоху было не меньше, а может быть и больше, чем сейчас. Церковка, открытая Адамсом, маленькая по сравнению с церковью в Фарасе. На Мейнарти найдены и фрески. Их немного, и они примитивнее фарасских. Некоторые похожи на рисунки, сделанные детской рукой. Фрески повреждены мусульманскими оккупантами: Христос с выдолбленными глазами, красивое изображение голубя с изрезанной ударами ножа или сабли шеей. Но Адамс гордится фресками, что меня совсем не удивляет. Ведь это его первые самостоятельные открытия! До сих пор он только читал о таких вещах и видел лишь репродукции. Теперь же сам опубликует результаты своей работы. А это большое дело... Фрески – предмет горячей, по-детски восторженной любви Адамса. Он показывал их мне, разгребая руками песок, которым они прикрыты для защиты от солнца и ветра. Больше всего Адамс был озабочен мыслью о том, что же будет дальше? Не подготовившись, как поляки, к своим открытиям, работая в одиночку, Адамс обнаружил фрески, но не мог их самостоятельно спасти. Не мог снять их со стены. Вот почему во время моего пребывания на острове Мейнарти он постоянно повторял:
– Ах, если бы мне удалось заполучить сюда Юзефа Газы. Хотя бы на две недели...
Адамс познакомился с Газы в Фарасе и видел, как польский скульптор и реставратор снимает фрески со стены.
– Нет никого ни среди суданских или египетских, ни среди иностранных специалистов, кто сумел бы это сделать!
Позднее, после моего отъезда из Нубии, в сентябре 1963 года, Газы приехал на Мейнарти, чтобы снять раскопанные Адамсом фрески. Это произошло на основании соглашения, заключенного суданскими властями с Польским центром средиземноморской археологии в Каире. Представляю, как радовался «парень из Аризоны»! Его открытия не погибнут под водой!
Теперь, когда я пишу эти строки, работа у Адамса тоже кончается. Не знаю, чем он займется в дальнейшем. Думаю, что он навсегда посвятит себя археологии. Во всяком случае, можно сказать, что нубийская кампания помогла ему осуществить то, о чем он всегда мечтал.
Меня пригласили затем в Гебель-Адду, где работает экспедиция Американского исследовательского центра в Каире под руководством доктора Николаса Миллета. Это те самые американцы, которые навестили нас в Фарасе и которых вечером на реке так подвела американская техника.
Гебель-Адда расположена уже на территории Египта и на противоположной от Фараса стороне реки. Сперва надо было добраться пароходом по Нилу из Вади-Хальфы в Баллану, где находится пристань. Большой пароход – целая гора, состоящая из палуб, решеток и балюстрад, из рода тех, что невольно вызывают в памяти представление о Миссисипи и «Хижине дяди Тома», – разрезая колесами воду, неутомимо прокладывает себе путь по всем извилинам Нила. Пейзаж не меняется: коричневатые горы, желтый песок, редкая зелень на берегу. Баллана – это всего-навсего несколько десятков глинобитных домиков, несколько лавчонок и типичная маленькая арабская кофейня: крыша, утрамбованный песчаный пол, несколько столиков и стульев. Пароход причаливает носом к берегу, и нужно сходить по узкому, шаткому трапу. На берегу множество детей, торговцы, десяток-другой зевак. Небольшая группа пассажиров высаживается на берег. Их немного, и если бы они выходили не спеша, по очереди, то все заняло бы не больше пяти минут. Но они немилосердно толкаются, тормошат и тянут друг друга, ругаются, упрашивают и взывают к аллаху, наступают друг другу на ноги, тыкают друг друга локтями в живот, хватают за полы галабий – ив результате высадка тянется целых полчаса. Словно предвидя все это, команда парохода сразу же начинает подгонять высаживающихся, осыпает их проклятиями и даже подталкивает, усугубляя этим хаос. Когда наконец после форменного боя все оказались на берегу, я с изумлением увидел, что высаживался не целый батальон, как можно было подумать, а едва лишь пятнадцать или шестнадцать человек. Высадившиеся покричали еще немного, поторговались с перекупщиками, а затем схватили свои вещи и исчезли. Пароход отчалил от берега, и я остался один, окруженный кольцом любопытных.
Я думал, что на берегу в Баллане будет полиция или пограничная стража: как-никак мы перешли границу и прибыли на территорию Египта. Но никого в форме не оказалось. Позднее я узнал, что полицейский участок находится лишь в Шеллале под Асуаном, где пароход заканчивает свой рейс. Здесь же нет никого. И, что еще хуже, не было также никого, кто говорил бы по-английски или мог бы сказать мне, где, собственно, находится Гебель-Адда и как туда добраться. Американцы были извещены о моем приезде, но на пристань никто не явился. Быть может, телеграмма не дошла! Связь работает здесь как придется. Что делать? Большая толпа любопытных, которая меня окружила вначале, поредела. Все еще не было никого, кто говорил бы по-английски. Из опыта моей журналистской работы и разъездов на мотоцикле (у меня некогда был мотоцикл, который порой шел, а порой не хотел двинуться с места) помню, что, когда не знаешь, что, собственно, предпринять, лучше всего присесть и закурить папиросу. Курение стоя не дает таких результатов. Я уселся поэтому на каком-то выступе и закурил. Прошло пять минут. Я перестал уже возбуждать любопытство, все, видимо, решили, что так и должно быть: приехал какой-то чужеземец, уселся и закурил, быть может, он будет сидеть так и курить до утра? Никогда нельзя с уверенностью сказать, что у чужестранца на уме! Когда я сидел так, мои мысли постепенно вошли в свою колею. Вот, подумал я, выкурю папиросу, а затем пройдусь но поселку, зайду в лавчонки, – наверно, найду кого-нибудь, кто говорит по-английски. Быть может, это будет какой-нибудь учитель, отставной военный или еще кто-либо в этом роде. Я сумею тогда узнать, что и как. Предстоит, видно, переночевать в поселке, а к утру что-нибудь решится. К счастью, я имел египетские деньги. Придется, скорее всего, нанимать фелюгу.
Как уже много раз в прошлом, этот прием с папиросой не подвел меня и сейчас. Кто-то вдруг слегка хлопнул меня по спине. Обернувшись, я увидел у своего уха знакомую улыбающуюся физиономию. Я вспомнил: Фарас! Это был инспектор-египтянин из Службы древностей, сопровождавший американцев в их экскурсии. Он выполняет роль связного между властями и Миллетом.
– Уже приехали? – воскликнул инспектор, искренне обрадованный.– Это очень хорошо, доктор Миллет послал меня за вами, сам он должен прибыть на моторной лодке, но его почему-то нет, но это неважно, поедем на фелюге, деньги у вас есть, может быть, суданские фунты, я обменяю их на египетские, не обращайтесь только к перекупщикам, это ужасные воры, зачем им давать, я все сделаю сам, но где у вас эти деньги?
Он трещал словно пулемет и, казалось, что ему нет никакого дела до чего-либо, кроме моих суданских фунтов. Но дело в том, что у меня не было никаких суданских фунтов. Зато у меня были египетские фунты, правда, они находились у меня несколько нелегально. Египетские фунты нельзя вывозить или перевозить через границу, я же вывез и привез их. Опрометью мчась в Фарас, я просто не мог уделить время всем мелочам и внести эти деньги в соответствующий пункт. Впрочем, совесть у меня была чиста. Ничего страшного ведь не случилось: я вывез их в Судан на короткое время и, не вынимая из кармана, привез обратно, поэтому с точки зрения общечеловеческой морали (если не считать соблюдения банковских правил одной из десяти заповедей) я был чист. Однако окажется ли инспектор, который как-никак был представителем властей, достаточно терпимым в моральном отношении? Я предпочел не посвящать его в замысловатую сферу противоречий между официальными предписаниями и моральными нормами. В конце концов я сказал, что фунты у меня есть, но спрятаны в чемодане, а поэтому не лучше ли отложить обмен до утра? Инспектор согласился, правда неохотно. Я почувствовал невольную антипатию к этому человеку, хотя он и избавил меня от необходимости сидеть на каком-то выступе в Баллане, в пыли, вздымаемой проходившими мимо ослами. Впоследствии я убедился, что в нем нет ничего несимпатичного, а просто он ужасный болтун. По образованию он был археологом, хотя ему пришлось стать чиновником, о чем он, впрочем, вовсе не жалел.
Теперь дело пошло живее. Инспектор крикнул – и словно из-под земли выросли два оборванца, которые схватили мои вещи. Затем инспектор крикнул еще раз – и снова появились двое других бродяг, которые вели за собой двух упирающихся изо всех сил ослов. Широким жестом инспектор пригласил меня сесть на спину одного из ослов.
Я попытался возражать:
– Насколько я понял, мы собирались плыть на фелюге?
– О, да, да, но сперва нужно подъехать к фелюге. А до нее километра три. Прошу садиться.
Три километра на осле! Неумолимо, словно в классической трагедии, мы приближались друг к другу: упирающийся всеми четырьмя ногами осел и я, упирающийся только двумя, но использующий также свой дар речи.
– Ах, нет, – твердил я, – это не нужно. Три километра – это пустяки. Я даже рад прогуляться, я насиделся достаточно на пароходе, погода хорошая, стало несколько прохладнее (на самом деле стояла ужасная жара), прогулка лишь пойдет мне на пользу. Если вам хочется, поезжайте, а я пойду сзади.
Но не тут-то было. Инспектор приглашал изо всех сил и чуть ли не подсаживал меня на осла. К нему присоединился погонщик, смекнувший, что я отпираюсь, а поэтому у него ускользает случай подработать. Он усердно подталкивал осла в мою сторону, пиная его ногами и подхлестывая палкой. У меня было такое впечатление, что инспектор охотно проделал бы то же самое и со мной. Вдобавок погонщик обрушил на меня целую лавину слов, твердя, что нет на свете лучшего животного для верховой езды и нет большего удовольствия, чем езда верхом на осле. Наконец инспектор прибег к решающему аргументу:
– Наверное, боитесь прокатиться верхом на осле? Не бойтесь. Он кроток!
Что такое? Я боюсь проехаться на осле? Я, который приехал в Нубию, чтобы писать о международной спасательной кампании, и ради достижения этого не побоялся предстать перед самыми высокими должностными лицами в правительственных учреждениях? Знаешь ли ты, болтливый инспектор, каково преодолеть страх перед высокопоставленными лицами? А я должен бояться какого-то осла?
Мы сдались одновременно. Я приблизился к вислоухому, а он покорно подставил мне спину. И... мы поехали. Библейское животное было костлявым, его спинной хребет немилосердно выпирал, но оно было кротким и – я сказал бы – смекалистым. Мы быстро пришли к соглашению. Осел бежал проворно, но то и дело стремился свернуть то влево, то вправо, тогда как я хотел ехать прямо. В такие моменты нужно было только показать ему палку, которой меня снабдили. Когда осел сворачивал влево, нужно было показать ему палку также слева. Что означало: «Я вовсе не намерен тебя стегать, дорогуша, но если ты будешь сворачивать в ту сторону, то сам понимаешь...»
И осел понимал. Сопровождавший меня погонщик нервничал и пытался уговорить меня всыпать наконец ослу. Но я не хотел этого делать, придерживаясь принципа мирного сосуществования и замечая по взглядам, которые бросало животное, что оно в состоянии, если наши отношения обострятся, выкинуть какое-нибудь коленце – пуститься, например, галопом. А вы не можете себе представить, что такое ослиный галоп! Итак, мы ехали трусцой. У меня довольно большой рост – 186 сантиметров, причем большая часть этой длины приходится на ноги. Мне трудно даже себе представить, как я выглядел во время езды, но это было, несомненно, весьма забавное зрелище, если учесть, что ноги волочились за мной по песку. Осел был без седла и, конечно, без стремян.
Вдвоем мы подымали пыль, точно танковый взвод. Когда я почувствовал, что начинаю понемногу становиться безучастным ко всему, что происходит вокруг, спереди, где во главе нашей кавалькады ехал инспектор, до меня донесся окрик. Одновременно со стороны реки раздался рокот двигателя моторной лодки.
– Едет доктор Миллет! – закричал инспектор.
И действительно, к моему неописуемому счастью, это был Миллет. Он подплыл к берегу, принося извинения за опоздание. Я сразу соскочил с осла и перешел в лодку, предпочитая положиться на двигатель, даже если он и работает с перебоями. Мы описали нашей моторной лодкой ухарскую петлю и поплыли вдоль реки, туда, где вырисовывался высокий горный хребет. Близился вечер, и солнце причудливо окрашивало окружающий пейзаж, как это всегда бывает на Ниле перед заходом солнца. Мы медленно приближались к горной вершине, с одной стороны покрытой позолотой, а с другой стороны уже темнеющей. У подножия горы стояло пришвартованное к берегу небольшое белое судно. Оно служило лагерем экспедиции Миллета. Когда мы подошли к его борту и вскарабкались по трапу наверх, оно показалось мне истинным раем. После глиняного, утопающего в пыли домика в Фарасе чистое, надраенное судно с неким подобием террасы на корме и плюшевыми диванчиками, с несколькими умывальнями, баром и холодильниками, электрическим освещением и рядом жилых кают, где стояли нормальные кровати, казалось мне настоящей сказкой. «Вот это жизнь! – подумал я. – Цивилизация!» За приоткрытыми иллюминаторами плескала, перекатываясь, вода. Я полагал, что на судне, над самой поверхностью проточной, а следовательно, и холодящей воды должно быть свежо и приятно по вечерам. Наверное, с реки веет освежающим холодком, есть и прохладные, остуженные в холодильнике напитки.
Действительность оказалась, однако, не столь привлекательной. Жестяной корпус судна нагревался за день до такой степени, что едва успевал остывать до того, как занимался новый день. Холодильники не действовали, то ли из-за слишком высокой температуры воздуха, то ли из-за неисправности электропроводки. Прохладных напитков не было, а внутри судна стояла жара и неимоверная духота.
Американцы встретили меня радушно. Налили мне стакан теплого виски с теплой водой и повели к реке купаться. Купание вознаградило меня за все. Место было необычным и очень красивым. Выдвинутая в русло реки, высилась скала, к которой нужно было подойти по берегу. В полутора метрах над водой начиналась узкая галерея, по которой можно было пройти до самой верхушки скалы. Тремя метрами выше находилась ниша, вырытая в скале. Туда нужно было взбираться по всем правилам альпинизма. Там находилась «раздевалка», куда я и направился, чтобы переодеться для купания. Уже надев плавки, я обернулся и... остолбенел. В глубине ниши виднелась огромная плита, покрытая египетскими иероглифами. Это был картуш Рамсеса II. Сойдя на галерею, где меня ожидали американцы, я не мог скрыть своего изумления.
– Ничего особенного, – ответили они, – здесь таких полно...
Американцы предупредили меня, что близ скалы появляются крокодилы. Миллет распорядился, чтобы каждый, кто собирается искупаться, понаблюдал сперва минут 16 за поверхностью воды. Говорят, что каждый крокодил должен по крайней мере раз в 15 минут вынырнуть из глубины, чтобы набраться воздуха. Меня это не очень убедило, ибо – подумал я – может ведь найтись столь натренированный крокодил, который выдержит и 17 минут под водой. И что тогда? Но я так и не успел поразмыслить над последствиями, так как, разъяснив мне, как обстоит дело, все прыгнули в воду, не подождав даже трех минут и не беспокоясь о крокодилах. Я сразу последовал их примеру и... остался жив, как видите. Что за блаженство! Темно-зеленая вода здесь холодная и чистая, совсем не то, что у берега в Фарасе, где она бурая и илистая. Плавая в освежающей воде и испытывая несказанное наслаждение, я понял, как много мы теряли в Фарасе оттого, что не могли позволить себе ничего подобного. Мы долго плескались тогда у подножия скалы и не хотели выходить из воды, пока не стало темно.
Так я познакомился с участниками экспедиции Американского исследовательского центра, работающей в Гебель-Адде. Это молодые парни и девушки. Как большинство американцев, они веселы, шумливы и беззаботны. Не все, впрочем, американцы. Один из ребят – швейцарец, не старше 25 лет, по профессии египтолог; он нырял, не снимая часов с руки. Я спросил его, почему он столь ленив и рискует своими часами. Швейцарец взглянул на меня гордо, затем показал часы и сказал:
– The best in the world! (Лучшие в мире!) – и снова нырнул в воду.
Его слова были встречены гомерическим хохотом. Оказалось, что симпатичный швейцарец, с которым мне впоследствии пришлось делить каюту, уже успел получить кличку «The best in the world», так как это было его излюбленное изречение. Все, чего он касался, чем пользовался и что ценил, было, дескать, лучшим в мире. Бородатый арабист экспедиции американец Скэмлоун сказал мне по этому поводу:
– Он запятнал бы, видите ли, честь швейцарца, если бы снял часы перед купанием. Это означало бы, что он не верит в водонепроницаемость швейцарских часов!..
Так началось мое пребывание на судне экспедиции Миллета. На следующий день, ровно в 5 часов утра, в дверь каюты постучал заместитель Миллета, молодой статный англичанин Мине, свежий и побритый. Подъем! Одна из функций заместителя – поднимать по утрам весь лагерь. Делает он это столь безупречным образом и ведет себя в полном смысле слова столь по-джентльменски, что хотя еще темно и вы лежите в пижаме, а ночь была неимоверно жаркой и томительной, уже один вид англичанина заставляет вас подняться с улыбкой на лице и сказать, что вы как раз собирались вставать.
Над Нилом повис туман, противоположный берег едва виден. Когда солнце несколько поднялось, туман развеялся. Около 6 подали завтрак: кофе, овсянку, гренки с джемом. Не очень много и не очень вкусно. Затем все участники экспедиции отправились на место раскопок, а Миллет повел меня в большую палатку, разбитую на берегу, около самого судна. Это его рабочий кабинет. Именно тут, рядом с палаткой, раскинулось кладбище скелетов. Здесь лежали сотни скелетов, которые были перенесены из погребений, обнаруженных на месте раскопок у подножия горы, несколько поодаль от берега. Палатка Миллета просторна, в ней больше места, чем в мастерской в Фарасе, но и духота здесь сильнее. В полдень совсем нечем дышать. В палатке сложены находки последних дней: две мероитские ложки, какие-то предметы из бронзы, мероитский флакон для благовоний, великолепная кухонная посудина – не то сковородка, не то тарелка с длинной ручкой, украшенной головой барана, керамика, обломки зеленой китайской вазы, которая появилась здесь, видимо, в более поздний период.
– Еще два дня интенсивной работы, – говорит Миллет, – и прощай Нубия! Но мы еще вернемся сюда в будущем году.
Порядок здесь образцовый. Документация ведется в ажур. Когда работы на раскопках прервутся, вся документация кампании будет полностью готова. В польском лагере документирование завершается лишь в Каире. Но и людей у Миллета в три раза больше, чем у профессора Михаловского. В то же время у Михаловского на всем лежит отпечаток более богатого опыта. Это проявляется даже в некоторых мелочах лагерной жизни.
Миллету 28 лет. Его отец был американским дипломатом, семья долго жила за границей. Николас Миллет родился в маленьком городке Ричмонд в штате Нью-Хэмпшир. Впоследствии семья уехала в Пекин, где Миллет находился до начала войны. Во время войны он жил в Чили, а с 1945 года – снова в Китае, в Кантоне. Училища для иностранцев там не было. Николас поэтому имел много свободного времени. Он читал. Среди прочитанных им книг было несколько о Египте. Они заинтересовали его. Но в 1948 году, когда Китайская Народная Армия приближалась к городу, все американцы эвакуировались. Семья Миллет переехала в Австралию, где Николас окончил среднюю школу. Потом его отправили в Чикагский университет, где он стал изучать египтологию под руководством известного египтолога доктора Сили (теперь Сили ведет раскопки рядом, в трех километрах отсюда, и живет на судне, пришвартованном против Бал-ланы). В 1956 году Миллет получил первую ученую степень. В 1959 году Миллету дали стипендию, которая позволила ему впервые отправиться в Каир. Он начал работать в экспедиции доктора Симпсона в Тошке.
Миллет впервые руководит экспедицией и ведет самостоятельные исследования. В то же время это первая экспедиция Американского исследовательского центра в Каире, сотрудником которого является Миллет.
– Лишь когда начался этот «нубийский бизнес», – рассказывает американец, – нам удалось достать не много денег на исследования. Мы искали место, где можно было бы предпринять комплексные исследования, где находились бы и могильник и город. Гебель-Адда – идеальное место. Я отобрал несколько человек из тех, кто работал у Симпсона. А некоторых я заполучил из США – молодых стипендиатов, в том числе англичан, шведов, швейцарцев, немцев. Но живем мы неважно...
Экспедиция финансируется Бостонским университетом и из частных источников. Жертвователи не очень щедры.
– Мы бедны, – говорит Миллет.
Фронт работ в Гебель-Адде очень велик. Прежде всего, это могильник, на котором трудятся рабочие. Огромное кладбище, свыше трех тысяч погребений – мероитских и культуры X. К сожалению, все могилы были когда-то разграблены. Куда ни взглянешь – всюду скелеты; некоторые очень хорошо сохранились, на них видны остатки волос и даже кожи; торчат вытянутые руки, скорченные ноги. Жуткое зрелище. Странный контраст: молодые американцы, любители поплавать и потянуть виски, – и уйма мертвецов. Среди могил ходят девушки. Я обратил особое внимание на Джулию Грин, красивую, статную блондинку. Она работает в качестве field supervisor – надзирательницы полевых работ. Рабочие распевают в ее честь импровизированные песни. Я не пою, так как не умею, зато снимаю. Ветер, в воздухе несутся облака пыли. После нескольких первых кадров, на которых я пытаюсь запечатлеть юбки американок, трепещущие над открытыми погребениями, кинокамера отказывает. Только старый, добрый фотоаппарат «Зоркий» продолжает работать безупречно.
Вместе с Миллетом взбираемся на вершину холма, где находятся руины города, окруженного мощной стеной мероитской эпохи. Стена разрушена, но по ней видно, что город был сильно укреплен. Здесь заняты лишь несколько рабочих, производящих так называемые зондажи (разведочные шурфы), – они раскапывают тут и там землю на глубину один-два метра и просто смотрят, что находится внизу. Более тщательные раскопки начнутся лишь в будущем году. Сюда вода не дойдет так скоро, зато могильник внизу будет сразу затоплен.
Из старого города открывается необыкновенный вид. Нужно постараться сохранить его в памяти, чтобы зимой в Польше было о чем вспомнить. Справа, у подножия горы, – белые палатки рабочих. Здесь живут 70 человек, остальные приезжают каждое утро из Балланы по реке. Нил окружает гору дугой. Далеко на горизонте видны скалы Абу-Симбела. На противоположной стороне, на другом берегу, – узкая полоса пальм, дальше – скалы. Ярко-зеленая обширная гладь воды. Порой из нее выныривают, метнувшись серебряной искрой, какие-то крупные рыбы, а быть может, и крокодилы. Слева – могильник с работающими на нем людьми, и белый пароход у берега, и снова скалы. На Ниле расположен большой остров, поросший камышом. А вокруг – пустыня. Взору открывается пространство, пожалуй, в несколько десятков километров, видимость в это раннее утро прекрасная, воздух прозрачен и неподвижен. Оторваться от всего этого нелегко. Остаюсь здесь, объясняя, что должен выждать, пока солнце не поднимется выше, чтобы сфотографировать могильник сверху. Миллет уходит, а я сажусь на отколотый обломок какой-то стены и гляжу. Стоит абсолютная тишина, как в горах, не слышно даже гомона птиц. Лишь изредка с противоположной стороны доносится рев осла. На этом расстоянии его трудно отличить от пароходного гудка. Но на реке не видно ни одного парохода. Только на фоне пальм бесшумно скользит парус фелюги.
Сзади – руины. Как обычно в этих краях, наверху – горстка глинобитных арабских домиков, а под ними – седая старина. Известно, что здесь находится мероитская крепость и город. Холм, господствующий над всей округой и преграждающий путь в Египет, был, несомненно, укрепленным пунктом или крепостью для войск фараонов. Поэтому раскопки сулят много интересных находок. Возможно, что эти молодые люди добьются в конце концов большого успеха. А он им так необходим. Без яркого успеха нечего и мечтать о том, чтобы обеспечить себе непрерывную работу и подходящие условия.
– Мы бедны! – говорит Миллет.
Дело в том, что, хотя в Нубии работает много экспедиций из США, тем не менее ни одна из них не финансируется государством, – все они получают необходимые средства от отдельных университетов, филантропических организаций или даже из частных источников. Общего для всех американских экспедиций стандарта не существует: одни богаты, другие бедны. Поэтому успех им необходим как воздух. Но Миллет и его люди – добросовестные ученые. Они знают, что город может еще подождать, зато могильник находится под угрозой. Вот почему они ведут раскопки внизу, откладывая возможные успехи на будущее.
Около 10 часов жара заставляет меня спуститься с холма. Здесь нет ни одного тенистого уголка, где можно было бы укрыться. Нужно идти вниз, хотя так не хочется уходить отсюда. Открывшееся мне поразительное зрелище убедило меня (если я вообще когда-либо сомневался), что Нил – это единственная и несравнимая река за многие тысячи лет, по сей день почитаемая как божество. Вот она Река, как ее попросту называют местные жители. Говоря так, они понимают, о чем речь. Теперь понимаю и я.
На пароходе второй завтрак – чай и снова гренки с джемом. На палубе – легкий сквознячок, приятная прохлада. На месте раскопок остались только те, кто сегодня дежурит. Все остальные расселись вокруг большого стола, поставленного на корме парохода под полотняным навесом. Скэмлоун диктует что-то машинистке Айлин Мейер, ямайчанке, жене немецкого архитектора Мейера, тоже участника экспедиции. Они познакомились во время учебы в США. Сестра Миллета, Люсия, занята реставрацией древнего мероитского пояса, прекрасно, между прочим, сохранившегося и сверкающего яркими красками. Сбоку на столе лежат две кем-то оставленные книги. Одна из них – «Газали-монастырь в Северном Судане». Другая – Эллери Куин «Девственная наследница – мотивы убийства: месть, страх и... 15 миллионов долларов!»
Тишина и покой! К несчастью, появляется инспектор. Он уже убедился, что у меня нет фунтов, а поэтому не трогает меня. Зато болтает без умолку, то про себя, то обращаясь ко всем.
– Сегодня воскресенье, – тараторит он, – в Каире многие идут в церковь, это христиане, а мы здесь, здесь полно скелетов и горы, и река, и пальмы, и мистер Миллет, и мисс Люсия, и этот поляк, и берег, и фелюги, и пароход, и могилы, и камни... Ах, ха, ха, ха!
Хлопает себя по ляжкам, подпрыгивает и болтает, болтает без умолку. Ударился в поэтику песен, распеваемых рабочими-арабами и часто заканчивающихся бесконечными перечислениями. Это бывает красиво, но инспектор меня решительно раздражает. Даже бородатый Скэмлоун, обычно тоже болтливый, брызжущий юмором и сыплющий анекдотами, теперь молчит, склонившись над камнем, на котором едва видна надпись. Он мажет камень какой-то жидкостью, в результате чего знаки проступают более отчетливо. Кто-то присоединяется к Скэмлоуну, тоже пытается дешифровать надпись, но это дается с трудом. Стоит тишина, только инспектор монотонно, типично по-арабски (ошибиться здесь нельзя) продолжает свои перечисления, хлопает себя по ляжкам, порой хохочет. Наверное, мы ему кажемся мрачными, безнадежными нелюдимами. Кто видел, чтобы мужчины сидели молча? Разве им нечего сказать?
Делаю записи и стараюсь не слушать. Стоит жара, а жара действует на меня усыпляюще. Так проходит время до обеда.
– Алло, мистер! Алло, мистер!
Меня зовет симпатичный, широкоплечий египтянин, выполняющий на судне функции электромеханика. Он обслуживает электродвижок, дающий свет, а также занимается обеими моторками. Нам предстоит плыть в Абу-Симбел. Это недалеко; с судна Миллета не видно, правда, скал, в которых высечен храм, зато они хорошо просматриваются с вершины холма. Меня охватывает какой-то подъем, нетерпение, любопытство, что-то вроде смирения и одновременно радости. Мне знакомо это чувство. Я испытывал его, когда впервые шел смотреть Сикстинскую капеллу, когда первый раз высадился на Виа Аппиа или приехал в Байрёйт на вагнеровский фестиваль. Об Абу-Симбеле я слышал не меньше, чем об этих местах. Издавна мечтал я увидеть необыкновенный храм до того, как произойдет потоп.
Сегодня утром я прочитал на судне следующую заметку в газете «Нью-Йорк геральд трибюн»:
«Нубийские памятники старины. Пожертвования из стран, стремящихся сохранить древние нубийские памятники в долине Нила, достигли едва лишь 7,5 миллиона долларов, а для того, чтобы начать работы, необходимо 42 миллиона. Об этом заявил сегодня в Париже представитель ЮНЕСКО. Речь идет о древнеегипетских храмах, которые уйдут вскоре под воду в связи со строительством Высотной плотины в Асуане. Египет ассигновал для их спасения 11,5 миллиона долларов. Спасение памятников путем поднятия их выше будущего уровня воды обошлось бы в 80 миллионов долларов. Обязательства отдельных государств были еще раз рассмотрены на заседании в Париже, в котором участвовали представители 40 стран. По предложению председателя генеральной конференции ЮНЕСКО Берредо Карнейро (Бразилия), конференция направила по телеграфу „последнее SOS Рамсеса II всему миру“, а именно тем государствам, которые не откликнулись до сих пор на призыв пожертвовать необходимые средства».
Журналист, писавший эту заметку, несколько погрешил против истины. Фактически было собрано около 20 миллионов долларов. Цифра 80 миллионов соответствовала бы действительности лишь в том случае, если бы ЮНЕСКО и египетское правительство приняли французский проект, предусматривающий сооружение вокруг Абу-Симбела огромной дамбы. Однако в тот день в другом органе американской печати, еженедельнике «Тайм», я увидел письмо одного из читателей в редакцию: «Сэр, в Вашей статье ничего не сказано об очень интересном решении, предложенном польскими архитекторами и положительно оцененном египетским правительством. Решение состоит в сооружении полукруглого амфитеатра, охватывающего храм. Проект этот похож на французский, но отличается от него тем, что предупреждает возможность просачивания воды; кроме того, его стоимость не превысит 30 миллионов долларов».
Приятно было прочитать это, однако... Я знал уже, что ни один из поименованных проектов не будет осуществлен – ни польский, ни французский. Сначала казалось, что больше всего шансов у итальянского проекта. В нем предлагалось отсечь весь храм от скал, в которых он покоится свыше трех тысяч лет, и поднять весь ансамбль вверх при помощи гидравлических домкратов. С технической точки зрения это был самый смелый проект. Итальянцы брались поднять груз, равный полумиллиону тонн, на высоту 70 метров! Их замысел понравился египетскому правительству больше других. Но стоимость!.. Она составила бы 66 миллионов! Вот почему проекту не суждено было осуществиться, несмотря на то что он был положительно встречен в Каире и ЮНЕСКО также благожелательно отнеслась к нему.
Польский проект был предложен Центром средиземноморской археологии – на основе концепции профессора Ромуальда Цебертовича (проект имел вариант, разработанный коллективом профессоров Варшавского политехнического института по замыслу главного архитектора Центра Домбровского). По этому проекту весь храм был бы заключен в бетонную чашу; внутрь вели бы шахты с электрическими лифтами, туристы осматривали бы храм при электрическом освещении. Чтобы предотвратить просачивание воды, предлагалось использовать разработанный Цебертовичем и многократно испытанный метод так называемой «цебертизации», состоящий в уплотнении грунта с применением явлений электроосмоса.
И, наконец, английский проект: сооружение тонкой «мембранной» дамбы. Она не была бы, правда, в состоянии сдержать напор воды, но такая задача ей и не ставилась. Давление огромных масс воды уравновешивалось бы давлением воды, которой предлагалось наполнить храм. Но это была бы уже вода другого рода: вместо грязной, илистой речной воды внутри храма находилась бы прозрачная вода, специально очищенная и насыщенная химикалиями, предупреждающими развитие живых существ и водорослей. Никакого течения не было бы, вода стояла бы неподвижно. Также и в английском проекте предусматривалось устроить шахты с лифтами для туристов, которые могли бы любоваться храмом сквозь прозрачную воду.
Однако ни один из этих проектов не был принят. В тот день, когда я сел в моторную лодку, чтобы поглядеть на Абу-Симбел, казалось, что, несмотря на многочисленные конференции, призывы, резолюции и заседания многих комиссий, храму грозит гибель. Доверять жизнь людей или памятников старины международным организациям – дело порой рискованное. Они могут, пожалуй, утопить все в бесплодных разговорах.
Река сверкала, мы плавно скользили по ее поверхности. С правой стороны показался густой пальмовый лес, спускающийся к самому берегу. Стволы передних пальм уходили в воду. Это был верный признак того, что далеко на севере, приблизительно в трехстах километрах отсюда, закрыли шлюзы Асуанской плотины, не новой, конечно, Высотной плотины, но предыдущей, построенной в начале нашего века. Среди пальм мелькнул небольшой египетский храм. Нил в Нубии всегда красив, но после полудня он красивее, чем когда-либо. Казалось, что после знойного дня река дышит полной грудью. Горы на горизонте становились все ближе и ближе. Это там... Было тихо, над рекой парили огромные птицы, временами пролетал длинноклювый ибис.
Когда горы были уже совсем рядом и на воду легла их огромная тень, лодка круто повернула вправо и показался сам храм. Вымощенная площадка на берегу, затем несколько широких ступеней – и статуи. Прославленные колоссы – четыре статуи Рамсеса II, сейчас погруженные в тень, так как солнце уже скрылось за верхушкой скалы. Кругом пусто, только на площадке маячит крошечный силуэт смотрителя в белой галабии. К берегу причален какой-то пароходик, а на нем снуют два бородатых европейца, видимо археологи. Четыре чудовищные статуи подавляют собой все – смотритель не достает головой даже до пальцев их ног. Когда я впервые взглянул на эти колоссы, впечатление было не из приятных: они потрясли меня. Они подавляли, казались больше, чем можно вообще себе представить, были какими-то чужими и страшными. Четыре исполинские фигуры, одна наполовину поверженная, голова ее валяется у стоп уцелевших. Воплощение безмерности и неподвижности. Но, что еще хуже, повсюду надписи, путаница букв, выцарапанных в разное время и разными людьми. Раньше здесь не было смотрителя и никто не препятствовал путешественникам, жаждавшим примазаться со своими ничтожными именами к вековечной славе фараонов. Хотя нет, попадаются здесь и известные имена. Вот на самом верху, около уха фараона, красуется выведенное крупными буквами имя: ЛЕССЕПС. Это, наверное, он, Фердинанд де Лессепс, создатель Суэцкого канала. Видно, и этот человек, не доверяя творению собственных рук, стремился увековечить свое имя на творении рук чужих – рук людей, живших 33 столетия назад.
Посредине, между колоссами, находится вход в храм, который был посвящен богам Амону и Гору. В зале размером 16 на 17 метров высятся восемь столбов с огромными статуями Рамсеса, высотой 10 метров каждая. Стало быть, все остальное было лишь предлогом. Сооружая храм в честь богов, Рамсес думал только о себе – черта не столь уж далекая и чуждая... На своде видны парящие соколы – изображения Гора, стены покрыты рельефами. На одном – царь и боги, на другом Рамсес побивает хеттов. Хорошо известные сцены, тысячи раз воспроизведенные во всех книгах о древнем Египте. С обеих сторон – восемь маленьких комнатушек-молелен с низкими дверями. Затем второй зал и, наконец, третий – самый сокровенный. Четыре сидящие фигуры, плохо освещенные, производят неприятное впечатление чего-то живого и грозного. Это боги – Амон, Гор, Птах – и, конечно, сам Рамсес. Божественный Рамсес, ровня богам, вместе с ними восседающий в святая святых храма. Если глядеть с этого места в сторону выхода, то виден длинный коридор, вдоль стен которого красуются статуи фараона. И как всегда у египтян, направление, в котором проложен этот коридор, избрано не случайно.
Каждое утро, когда восходит солнце, его лучи на короткое время проникают внутрь храма, достигая святилища. Бог Амон, плывущий на золотой барке по небу, ежедневно наносит визит себе самому и царю.
Остатки красок на стенах и статуях позволяют догадываться, как все это выглядело в те времена, 3300 лет назад! Когда солнце заглядывало внутрь, все начинало играть яркими красками – главные залы храма казались тогда подлинно царственными. Но в то же время все это, думается, должно было выглядеть чудовищно...
Истинно человечного здесь нет ничего, за исключением одного лишь рельефа; фараон держит за руку женщину – царицу Нефертари, в честь которой он соорудил небольшой храм всего в ста метрах отсюда. И еще звери, если зверей можно считать чем-то сродни человеку! Во всяком случае, они не отталкивают. Все остальное – ужасное олицетворение спеси и сумасбродства. Соорудить в честь самого себя подобный храм! По всей вероятности, это воплощенная в скале мечта о бессмертии, а поэтому Рамсес, возможно, заслуживает чуточку симпатии с нашей стороны. Но в то же время все это было вызвано также – а быть может, прежде всего – желанием соорудить себе как властителю такой памятник, перед которым все должны были падать ниц. Абу-Симбел совершенно чужд нам по духу. Это послание, оставшееся в наследство не столько от людей, живших тысячи лет назад, сколько от власть имущих. Все в нем ужасает нас и по сей день. И тем не менее... Прошло столько веков, а мы все еще продолжаем сооружать памятники сверхъестественной величины.
Понемногу осваиваюсь с видом храма, но думаю, что прав был тот молодой швейцарец-египтолог, который сказал мне, что фрески, найденные в Фарасе, ему понравились больше. Видно, они более человечны или, быть может, только более близки нам.
Спустились сумерки, в храме горит электрический свет, специально включенный для меня смотрителем. Пора возвращаться. Уходя, думаю: печально, если всему этому суждено будет погибнуть, но еще печальнее, что нечто подобное было вообще построено. И еще думаю: если наступит время, когда люди не будут делиться на богатых и бедных, на господ и слуг, то храм Абу-Симбел должен уцелеть и стать одним из экспонатов музея, показывающего, как обстояло дело в прошлом.
Когда я вышел из храма Абу-Симбел и увидел сохнущее на берегу нижнее белье арабов, я как-то оживился и слегка воспрянул духом. Есть обыкновенные люди на свете...
Отплываем. Полная луна светит с той стороны, с которой утром солнце освещает фараона. Еще не темно, это последние минуты дня. Пальмы на противоположном берегу становятся зеленее, а горы делаются желтыми, как шкура льва. Возвращаемся, но двигатель лодки то и дело глохнет и мы дрейфуем в обратную сторону. Двигатель словно хочет убедить меня, что не все современное безупречно. Долго видны три маленьких огонька на берегу близ Абу-Симбела. Скоро и они скроются в темноте.
Следующий день был последним в лагере экспедиции доктора Миллета. Пришло сообщение, что и экспедиция Чикагского университета собирает свои пожитки. Еще оставшиеся экспедиции покидают Нубию. Стоит такая жара, что трудно перевести дух. В полдень температура достигает 50 градусов, ночью – около 40. Однако я хорошо переношу жару: ночью на пароходе никто не мог заснуть, спал лишь я один. Скэмлоун, которому я опрометчиво сказал, что ночь была как будто несколько прохладнее предыдущих, горестно вздохнул:
– Боже мой, если в аду есть температура, то сегодня она была высокой даже для ада...
Уже завтра уезжают все оставшиеся экспедиции. А было их в египетской части Нубии немало.
Кроме экспедиций Миллета и Чикагского университета, здесь были заняты следующие экспедиции:
французская в Себуа;
советская в Дакке и Вади-Аллаке, руководимая ленинградским профессором Б. Б. Пиотровским, искренним другом польских археологов;
чехословацкая в Тафе;
западногерманская в Калабше (под руководством профессора Германского археологического института в Каире Штокка).
Сверх того, в Египетской Нубии работал ряд специальных миссий, непосредственно финансируемых ЮНЕСКО и занимавшихся разбором нескольких храмов или подробной документацией объектов, которые могут быть спасены: в Дерре, Дакке, Герф-Хусейне и Абу-Симбеле.
Все экспедиции уже уехали, и мы остались последними. Еще сегодня была вскрыта гробница с тремя красивыми амфорами. Все радуются, кампания увенчалась полным успехом.
Пароход экспедиции отчалит от берега лишь через два дня. Но часть археологов уезжает сегодня, и я еду с ними. Моторная лодка испортилась, а поэтому грузим багаж на большую фелюгу. Дует сильный ветер, и холм вместе с вымершим городом окутан клубами пыли. Впервые вижу разбушевавшийся Нил – вздымаются волны, их гребни пенятся, река напоминает море. Отчалив от парохода, фелюга быстро набирает скорость. Меня сразу охватывает тоска по Балтике – серое северное море кажется красивее и естественнее южных. Но тут же приходит мысль: а ведь там холодно. Правда, здесь это трудно себе представить. Плывем в сторону пристани Балланы. Движемся вперед весьма медленно. Ветер не попутный, и хотя мы плывем быстро, тем не менее делаем большие зигзаги, говоря на языке моряков, галсы, а поэтому то и дело вновь приближаемся к берегу. Если так будет продолжаться, мы не успеем на пароход в Баллане. Это то же самое судно, на котором я прибыл из Вади-Хальфы. Бывает, что пароход опаздывает, но ведь известно, что, когда рассчитываешь на опоздание парохода или поезда, то как раз тогда он, как назло, отходит вовремя. Начинаю волноваться, поглядывать на часы. У меня билет на сегодня, если опоздаю, он пропадет. Я не в состоянии пожертвовать билетом. А кроме того, какая потеря времени! Арабист Скэмлоун, который тоже хочет выехать сегодня, не в силах придержать свой язвительный язык.
– Вы живете в Центральной Европе, – говорит он, – а поэтому нервничаете. Успокойтесь. Жизнь в других местах так хороша...
– Я житель Центральной Европы, – огрызаюсь я, – а поэтому мне многое не безразлично!
Причаливаем к берегу в Баллане за пять минут до срока. Никаких следов парохода! Толпа в ожидании на берегу, никто не знает, что случилось с пароходом, опаздывает он или вовсе не отплыл из Вади-Хальфы. Бывает и так. Несколько групп мужчин в галабиях сидят на стульях в кофейне, играют в кости, некоторые дремлют. На песчаном майдане валяются и ревут ослы. На самом берегу расположились одетые во все черное женщины с детьми. Парохода не видно, но никто не волнуется. Придет или не придет – иншалла! Кроме нас пятерых, здесь еще несколько археологов из экспедиции Сили. Они тоже хотят добраться до Асуана.
Арабы за одним из столиков приглашают меня к себе. Угощают отличным, крепким чаем. Среди них – школьный инспектор, говорящий по-английски. Как обычно, они выспрашивают, зачем я приехал, что успел увидеть и как мне здесь понравилось. Мужчины едут в Асуан в поисках работы. Им интересно все, инспектор вынужден переводить каждое мое слово. Когда я сказал, что видел Абу-Симбел, завязалась оживленная дискуссия. Они знакомы, оказывается, со всеми проектами спасения храма, эта тема для них не нова. Больше всего им нравится итальянский проект поднятия огромного блока с храмом посредине. Когда я выразил сомнение, осуществимо ли это технически, арабы закричали:
– В наше время все возможно!
Как трогательно! Эти люди, которым так мало приходилось иметь дело с современной техникой, жители одной из беднейших стран мира, питают неограниченную веру в технику. Но когда речь заходит о деньгах и я называю миллионные суммы, нужные для осуществления итальянского проекта, их лица мрачнеют. Инспектор заявляет:
– Думаю, что все это уйдет под воду...
Еще одна чашка чаю и еще одна. Крепкий, хороший чай, только слишком сладкий, после него опять хочется пить. А парохода пока не видать. Поминутно кто-то спускается на берег и всматривается вдаль, а затем безнадежно машет рукой и уходит. Спускается ночь. Не знаем, что делать: дожидаться или возвращаться к Миллету? Но тут прибегает начальник местной почтовой конторы и сообщает, что пароход уже в пути. Ждем. Мы приехали сюда в 4 часа дня, а теперь уже 9 часов вечера. Арабы дремлют, а мы молча сидим за столиками. Тишина, только шумит река и порой сквозь сон вскрикивает осел.
В половине десятого на горизонте появляются огни. Они долго кажутся неподвижными. Мы не уверены, что это пароход. Недавно на противоположном берегу, в пустыне, был виден свет фар шести проехавших мимо автомобилей. Свет был виден долго, то исчезая за холмами, то вновь появляясь. Какая-то автоколонна ехала из Судана. Быть может, и сейчас это просто автомобиль? Но нет, огни направляются в сторону пристани – они двигаются значительно медленнее, зато горят ярче.
Наконец пароход причаливает. И вновь все превращается в дантовский ад, такой же, как в прошлый раз, но еще страшнее, так как вокруг темнота. Кроме того, людей на этот раз больше, одни пассажиры сходят на берег, новые садятся. Ужасная суматоха, кто-то падает с трапа в воду, но тут же выбирается, у кого-то в воду валятся вещи. Незнакомые доброжелатели хватают мои чемоданы, подают их друг другу над головами и вручают членам экипажа. Наконец и мы сами взбираемся на борт. Кто-то обнимает меня. Это Марек Марциняк, возвращающийся на этом же пароходе. Он сообщает, что лагерь в Фарасе давно уже свернут, профессор улетел на самолете, остальные участники экспедиции поедут следующим пароходом, а пока они находятся в гостинице в Вади-Хальфе, улаживают последние таможенные формальности и распивают пиво со льдом. Мы также идем в буфет за пивом. Берем в охапку несколько бутылок и садимся в кресла на верхней палубе. Прохладно, дует ветерок. Пароход гудит, разрезая воду и тьму. Из-за холмов всплывает нубийская луна в полном великолепии. Проплываем мимо Абу-Симбела, освещая его колоссы светом пароходных фар. И снова наступает темнота. Плывем на север.
Нубийская кампания окончена.
Оказалось, однако, что она еще не окончена. В 1964 году, буквально в самый последний момент, был спасен храм Абу-Симбел. Вокруг него устроили земляную насыпь, под защитой которой начали отсекать от скал фигуры и рельефы, чтобы перевезти их в другое, безопасное место.
Глава одиннадцатая. Право на потоп
Прошла ночь на пароходе, прошел день. И все это время мы плыли на север, в сторону Асуана. С обеих сторон перед нами проходила Нубия: густонаселенные берега, одно селение за другим, почти без перерыва, всюду глинобитные домики без окон на узкой полоске земли между Нилом и скалами. Когда-то здесь была долина, но уже трижды приходилось переводить поселение выше, в горы. Так было в 1902 году, когда построили старую Асуанскую плотину, а затем еще дважды, когда ее надстраивали. В четвертый раз перевести поселение уже не удастся. Старая плотина, высотой 54 метра, отбросила селение к подножию скал. Высота новой достигнет 111 метров.
На пароходе была толчея. Возвращались участники последних в этом сезоне туристических экскурсий – самых дешевых, так как они приходятся на самое плохое время, половину апреля, когда уже слишком жарко. Большинство туристов – немцы из ФРГ, немного американцев. Немцы как немцы: пузатые, в шортах, женщины в юбках кричащих расцветок, большей частью некрасивые, зато сильно оголенные, и сверху, и снизу. Пение хором, громкий хохот, чмоканье и похлопывание, перекрикивание через весь пароход. Под неумолчный гомон дюссельдорфского карнавального веселья, гамбургских шуток, мюнхенских песен мы неутомимо плыли на север мимо бедных селений и великолепных храмов, высящихся тут и там пилонов и высеченных высоко в скалах рельефов. Пока вновь не наступила ночь.
Уже кончился ужин и вся немецко-американская кампания, а также и мы сидели на верхней палубе. Перед носом парохода на горизонте появилось розовое зарево, перемежаемое бело-голубыми бликами. Прошел час, прежде чем мы приблизились настолько, чтобы различить первый источник света. Это было одинокое плечо огромного крана, освещенное рядом мощных электрических ламп. Кран заливал ярким светом большое пространство, что было столь необычно и неожиданно в эту нубийскую ночь – ночь черную, какие бывают только в Африке. На пароходе стихли песни и крики, все, как один человек, кинулись к бортам. Мы плыли теперь в огромном море света. С обеих сторон горели тысячи и десятки тысяч рефлекторов, ламп, сверкающих огоньков, неоновых светильников, красных ламп на верхушках высоких мачт, голубых огней на воде, зеленых, белых, розовых... На фоне этого яркого света вспыхивали еще более яркие блики автогенных сварок. Все вибрировало и пульсировало, сыпались искры, сверкали молнии. Рефлекторы заливали светом верхушки гор, и лучи их ложились на воду, порождая тысячи отблесков. При этом свете можно было свободно читать. Можно было также разглядеть лица всех этих немцев и американцев, до сих пор столь крикливых и уверенных в себе, а теперь больше не ухмыляющихся в сознании своего превосходства, как они это делали весь день.
Теперь они замолчали и посерьезнели, как-то стушевались и перестали бросаться в глаза. Словно их ухмылки растаяли в свете миллионов электрических свечей. Шумливые голоса умолкли, уступив место другим звукам, доносившимся к нам из глубины озаренной светом ночи. Там звучал хор тяжело дышащих, запыхавшихся, но неутомимых моторов, раздавался визг сверл, грохот молотков, лязг и завывание. Огромная стройка встречала нас шумом и гомоном. В толпе молчаливых фигур, теснившихся у борта, я заметил Джеймса Бэлла, нью-йоркского архитектора, участника экспедиции доктора Сили. С Бэллом мне довелось беседовать в Баллане, когда мы ожидали парохода. Я знал, что Бэлл – американский шовинист и, конечно, антикоммунист. Я подошел к нему.
– Мне кажется, – сказал я, – что вам впервые представляется возможность наглядно убедиться, что коммунисты могут не только разрушать, но и строить?
Бэлл повернулся ко мне. Было видно, что лицо его помрачнело.
– Мне все это не нравится, – сказал он.
– Я так и предполагал...
– Я не о том. Полагаю, что русские зря вложили уйму денег. Пропаганда окупается лучше, если оказывать помощь жертвам землетрясений или других стихийных бедствий, а не строить такие вот плотины. Ведь правительство Насера запишет все это в свой собственный актив.
– Хорошо, но правительство запишет в актив то, что сделали русские, а не то, что сделали американцы. А это все-таки разница. Пожалуй, нет никого на нашем пароходе, кто бы не знал, какая из двух стран зажгла огни Асуана. Что вы на это скажете?
Американец не ответил.
Асуан. Толпы туристов. Они сидят в кафе, толпятся в лавчонках с «древностями», покупают открытки, стоят в длинной очереди на почте, нанимают фелюги, чтобы переправиться на остров Элефантину или посмотреть «Сад Китченера». Отель «Катаракт», несомненно один из красивейших в мире, набит до отказа. Через несколько дней здесь станет свободно – конец сезона, но сегодня он еще полон. С террасы открывается фантастический вид на красные скалы Элефантины и черные скалы нильского порога, через который протискивается река, разделившаяся здесь на десятки ручьев.
В километре от отеля начинается иной мир. Сперва – триумфальная арка с египетскими флагами по бокам, а над флагами – огромная картонная ракета с эмблемой египетского воздушного флота. Несколько дальше, сбоку у шоссе, виден скромный столбик с обозначенной на нем буквой «А» и рядом – надпись по-русски: «Остановка автобуса». Оглядимся вокруг. Выстроившись в длинный ряд, здесь стоят красивые современные жилые дома с большими балконами и окнами, которые днем закрыты ставнями. Тут живут советские инженеры и техники, на этой остановке, в тени картонной ракеты, они садятся в автобус, направляясь каждое утро на работу. Вернее, не каждое утро, а... каждый вечер. Жара в Асуане достигает теперь 46 градусов. Большинство работ перенесено на ночное время. Днем слишком жарко не только людям, но и машинам... В полдень температура в Асуане превышает порой 50 градусов, а иногда поднимается даже до 56. По улицам шагает человек с колотушкой, который от имени городских властей предостерегает жителей от чрезмерной даже для египтян жары. Но колотушка вряд ли нужна, о жаре напоминать не приходится, о ней нельзя забыть. Если в песок, окружающий строящуюся плотину, зарыть сырое куриное яйцо, то уже через пять минут можно его съесть, посыпав солью. Песок нагревается до 80 градусов и больше.
В этом климате и в этих условиях трудятся люди, прибывшие из далекой Сибири, из Свердловска или из района Ангары. Их здесь 1400 человек, в том числе 360 инженеров. Это те же самые люди, которых четыре года назад на строительстве плотины и электростанции на Ангаре я видел в валенках и телогрейках, в шапках с опущенными наушниками. Вот это был мороз! После длительного пребывания в пустыне и над Нилом, после хриплых звуков арабской и лающих звуков английской речи странно услышать вдруг певучие песни далеких брянских лесов. Полноватый блондин в легких бумажных брюках и тенниске стоял ко мне спиной и, не видя меня, хотел было разразиться бранью, уверенный в том, что никто его всё равно не поймет. А когда я помог ему закончить внезапно оборванную русскую фразу, его удивлению, но также и радости не было границ.
На строительстве плотины занято свыше 20 тысяч рабочих-египтян. В нем участвует множество египетских предприятий. Они выполняют все те работы, которые не требуют применения высокой техники. Но осваивают и технику. Египтяне – отличные строители; видно, это их врожденная черта, ведь они показали себя искусными строителями еще пять тысяч лет назад, когда русские (или поляки) обитали в пещерах. Наши специалисты порой поражаются, как быстро и хорошо строят здания в Каире. Арабы учатся этому и здесь, тем более что советские специалисты устроили курсы для египетских техников.
В двух соглашениях, заключенных между СССР и ОАР и предусматривающих постройку плотины в две очереди, обусловливалось, что Советский Союз предоставит строительно-техническое оборудование, персонал для обслуживания машин, бурильные механизмы для прокладки туннелей в скалах, а также специальные гидромеханические устройства. Дело в том, что при строительстве плотины используется песок, смешанный с водой и прессуемый под давлением. Советский Союз передал ОАР, сверх того, всю техническую документацию. И, наконец, что важнее всего, СССР предоставил ОАР кредит на сумму 113 миллионов египетских фунтов с весьма незначительными процентами и без всяких политических условий; кредит подлежит погашению поставками египетских товаров, главным образом хлопка. Никто другой не взялся бы выполнить эту гигантскую работу на столь выгодных для Египта условиях. Но и Египет вносит огромный вклад в строительство плотины. Общая стоимость строительства – включая плотину, электростанцию, линии высокого напряжения, подстанцию и трансформаторы, наконец, выплату компенсации населению Нубии и Судана, сооружение ирригационных каналов, дорог, домов, железнодорожных линий и так далее – составит огромную сумму 415 миллионов фунтов. Это четверть годового национального дохода Египта.
Русские выполнили свои обязательства с присущим им размахом. Они привезли в Асуан строительное оборудование общим весом в десятки тысяч тонн. Это был поистине небывалый рейс. Гигантские шагающие экскаваторы, выпущенные «Уралмашзаводом», были отправлены в Одессу на специальных автопоездах, по десять тракторов в каждом. Ибо требовалось десять тракторов для перевозки каждой платформы, на которой покоился корпус такого экскаватора! Транспортировка до Одессы производилась по ночам, под эскортом мотоциклов, и продолжалась три недели. Гигантские машины не умещались в трюмах ни одного из пяти кораблей, которые везли оборудование в Египет; в результате их пришлось перевозить на палубах, что серьезно угрожало кораблям потерей остойчивости. В Александрии возникла новая проблема: как перегружать гигантские экскаваторы? Разрешение этой проблемы заняло еще три недели. Затем экскаваторы были доставлены на нильских баржах в верховье реки – в направлении, обратном тому, в каком в свое время доставлялись гранитные глыбы для сооружения пирамид. Гранит тогда переправлялся из Асуана в низовья реки, на север. По сей день в каменных карьерах Асуана, недалеко от места, где строится плотина, туристы восхищаются обелиском из красного камня, который древние каменотесы не успели закончить. До сих пор он стоит там как свидетельство технического мастерства людей, живших тысячи лет назад. С той поры в Асуане долго, очень долго не создавалось ничего примечательного. Но когда уж начало создаваться...
Масштабы теперешней стройки ошеломляют.
Плотина достигнет 3600 метров в длину – 3 километра 600 метров! Ее высота составит 111 метров, то есть будет равна высоте 35-этажного дома. Водоотводный канал, прорытый в твердом, частично скалистом грунте, имеет 1950 метров в длину. Чтобы проложить этот канал, пришлось ежедневно расходовать семь тонн взрывчатки. Из отводного канала вода будет проходить через шесть туннелей диаметром 15 метров каждый. Сколько воды будет проходить здесь? Это будет зависеть от времени года. Максимальный сток, отмеченный во время разлива, составил 13 500 кубических метров в секунду. Минимальный, в сухой сезон, – 275 кубических метров. Как видно, разница огромная, именно к ней сводится вся проблема: в некоторые месяцы масса воды теряется безвозвратно или причиняет даже вред, тогда как в другие свирепствует засуха. Плотина строится именно для того, чтобы отрегулировать водоснабжение, покончить с библейской легендой о семи коровах тучных и семи тощих, под которыми подразумевались годы хороших и плохих разливов Нила.
Но плохими были как слишком маленькие, так и слишком большие разливы. Когда уровень Нила подымался выше легендарных 18 локтей, долина реки и Дельта превращались в трясину, в которой погибал урожай. А когда после такого разлива река возвращалась в свое обычное русло, неизменно вспыхивали эпидемии. А если вообще не было разливов Нила... Что творилось тогда, рассказывает арабский историк Абд-аль-Латиф эль-Багдади, живший в XII веке:
«В тот год казалось, что какое-то чудовище стремится уничтожить все источники жизни и все средства существования. Люди потеряли уже всякую надежду на разлив Нила. Сразу поднялись цены на продукты питания. Провинции пришли в отчаяние от засухи. Население, ожидая неизбежной гибели и страшась голода, бунтовало... Очень многие подались в Сирию, Магриб[66], Хиджаз[67] и Йемен... Когда солнце вошло в созвездие Овна, воздух стал зловонным, возникла моровая язва и неимущие, преследуемые все усиливавшимся голодом, стали поедать падаль, трупы, собак, человеческие выделения и помет животных... Нередко можно было встретить людей, поедавших маленьких детей, испеченных или сваренных... Я сам видел испеченного младенца в корзинке...»
Ныне не бывает, конечно, подобных ужасов, но... Национальный доход Египта в пересчете на душу населения составлял в 1913 году 12,4 египетских фунта, в 1946 – 7 фунтов, а в 1950 году – 9 фунтов (считая в ценах 1913 года). Почему? Да прежде всего потому, что в XX веке население Египта стало расти бурными темпами. Промышленные предприятия почти не строились, а обрабатываемых земельных угодий также не прибавилось. В результате в 1950 году национальный доход Египта на душу населения составил всего 97 долларов против 1460 долларов в США, 660 долларов в Великобритании и 200 долларов в Турции.
С тех пор национальный доход Египта вырос вдвое, но и население увеличилось с 20 миллионов в 1950 году до 28 миллионов в 1963 году. Стало быть произошло лишь незначительное улучшение.
Новое правительство Египта, возникшее после изгнания короля в 1952 году, начало борьбу на многих фронтах. Была проведена земельная реформа, национализированы банки и промышленные предприятия. Промышленность стала развиваться, а вернее, создаваться заново. Был национализирован Суэцкий канал. Взялись даже за проблему регулирования рождаемости. Это было очень трудно, так как вступало в конфликт с традициями ислама, который представляет собой, пожалуй, самую консервативную религию в мире, более консервативную, чем польский или испанский католицизм. И тем не менее... Крупнейший моральный авторитет мусульманского мира, «исламский папа», шейх каирского Теологического училища-университета Аль-Азхара Махмуд Шал-тут оценил создавшуюся ситуацию и поддержал правительство. Он объявил: «Коран не запрещает регулировать рождаемость, он запрещает лишь убивать утробный плод. Поэтому новый семейный план не противоречит учению пророка. И я как его наместник говорю вам: применяйтесь к этому плану! Он идет народу на пользу и принесет счастье и благословение в вашу жизнь».
В интервью, данном швейцарскому журналу «Зи унд эр», шейх Аль-Азхара заявил: «Было время, когда народ нуждался в каждом ребенке, чтобы стать сильным и обороноспособным. А сильным и обороноспособным он мог стать, лишь имея многочисленное потомство. Вот почему пророк – да будет аллах к нему милостив и хранит его – изрек: „Женитесь и плодитесь, а в день последний я буду гордиться вами перед другими народами“. Но и тогда уже выпадали годы лишений и были причины, чтобы не благословлять так появление новорожденных...» И далее он рассказал корреспонденту, что старый закон Корана гласит: когда предстоит идти на священную войну, мужчины должны сторониться женщин. Ибо следует опасаться, что беременность ослабит женщину и усугубит тяготы странствий и борьбы или создаст угрозу ребенку, который родится на поле брани. В 18-й суре (главе) Корана говорится: «Богатство и дети скрашивают жизнь на земле». А где мало богатства, там должно быть и меньше детей, чтобы им не надо было бедствовать и голодать. Ибо пророк не хочет видеть народ слабым и хворым. Народ имеет не только права в отношении детей, но и обязанности. А высшая обязанность – это забота о том, чтобы дети росли в безопасности и не испытывали нищеты. Наш народ не по своей вине погряз в нищете. Поэтому будем бережливы в создании новых жизней, пока в нашей стране снова не наступят лучшие времена. Предоставим ученым и специалистам органов социального обеспечения и здравоохранения найти надлежащие методы и пути для защиты нашего народа от нищеты.
Это было сенсационное заявление, свидетельствующее о мудрости шейха Махмуда. Оно дало возможность властям начать кампанию, которую они не отважились бы объявить без санкции религии. Но и это не в состоянии разрешить вопрос. Естественный прирост населения в Египте достигает трех процентов в год и является одним из наивысших во всем мире (в Индии он составляет полтора процента). Предполагается, что к 1982 году численность населения Египта составит 44 миллиона. 42 процента населения моложе 15 лет! И только 6 процентов старше 60. Плотность населения в долине Нила и в Дельте достигает 740 человек на 1 квадратный километр. Средний брачный возраст – 16 лет. 76 процентов населения неграмотно. Хватит этих цифр? Думаю, что достаточно.
Вот почему лучшим или, вернее, единственным выходом было строительство Высотной плотины. Проект ее постройки возник еще несколько десятков лет назад. Но никто не смел даже мечтать об осуществлении подобного проекта. И лишь новое правительство революционно настроенных армейских офицеров уже в октябре 1952 года, через три месяца после свержения монархии, включило строительство плотины в свою официальную политическую программу.
Отличное асфальтированное шоссе ведет к югу. Место для строительства плотины было выбрано в 12 километрах от города. Когда отъезжаешь от Асуана, кажется, будто ты на другой планете. Пейзаж отливает красным – красные скалы, песок, глина, камни. Внутри этой земли скрыты залежи железа. Все кругом напоминает декорации к фильмам о межпланетных путешествиях. Макеты ракет, стоящие у обочин дороги, гигантские экскаваторы с длинными, качающимися стрелами, гусеничные тракторы. Издали слышны взрывы. Кругом масса флагов и портретов, полицейские в зеленых формах и красных беретах, с белыми поясами и пистолетными кобурами. Машины, машины, машины. Все это кажется знакомым. Ну, да, журналист, побывавший на нескольких десятках крупных строек в Польше и в Советском Союзе, видел немало подобных машин. Ведь это те же самые «Зилы» и «Газы», которые можно встретить и у нас. По шоссе мчатся «Волги». Но эта жара!.. Огромное поле, заставленное машинами; они стоят под козырьками, защищающими от солнца; у машин их достаточно, а у людей? Русский, у которого я спрашиваю, как проехать в контору, вытирает пот со лба, а потом говорит: – Вот смотрите, оффис – там!.. Забавно звучит это «оффис».
Дует сильный ветер, он вздымает песок и даже мельчайшие камешки; они влетают через открытые окна автомобиля, больно бьют по лицу, приходится закрывать окна (но тогда можно задохнуться), отбивают лакировку на кузове. Подъезжаем к котловану. Дальше дорога закрыта, будут что-то взрывать. Тут стоят оборванные феллахи с красными флажками, а там действует самая совершенная техника; все это весьма необычно, поражает воображение. Под ногами – пропасть, огромная выемка величиной с целый городок, нечто в четыре, шесть или, быть может, восемь раз больше, чем котлован, вырытый на месте строительства Дворца культуры в Варшаве. Где-то на другом конце котлована копошатся гигантские, весящие сотни тонн машины, которые издали похожи на игрушечные. Здесь строительство главного канала. Отсюда уже вынуто 900 тысяч кубометров земли и скальных пород. Но это пока еще пустяки, на строительство плотины уйдет 42 миллиона кубометров материалов, которые придется извлечь из окружающей территорию строительства пустыни. В камне и песке недостатка нет.
В изданной в Каире популярной брошюре о Высотной плотине я прочитал следующий не лишенный поэтичности отрывок, который говорит немало о гигантских масштабах работ и о заветных чаяниях нового правительства Египта.
«Нелегко чужеземцу понять энтузиазм, с каким проект был встречен в Египте. „Промышленность“ – в Европе это слово отдает часто лязгом металла, там достаточно промышленных предприятий, там можно наслаждаться высоким уровнем жизни, а о его источниках можно забыть. Англичанин на своих высокоразвитых островах... мечтает о домике под соломенной крышей и о девственной природе. Житель Дюссельдорфа мечтает о Додеканесе[68]. Египтянин, лишенный фабрик и заводов, видит их во сне. Он устал от древностей, которыми восторгаются туристы из промышленных стран.
Высотная плотина – это не практически бесполезная пирамида, это краеугольный камень единственного решения, способного превратить кажущуюся катастрофу Египта (бурный рост народонаселения) в его торжество. Ибо над этой проблемой довлела другая – недостаток плодородной земли. 97 процентов поверхности Египта – пустыня. Всякий, кто летит самолетом над долиной Нила, может заметить скалы по обеим ее сторонам и убедиться в том, что значительная часть земли навсегда останется пустыней. А пустыня – это гибель для растительного мира. Но для промышленности – что может быть лучше пустого пространства, уходящего в бесконечность?»
При мысли о пустыне, лишенной всяких следов растительности и застроенной фабриками и заводами, делается как-то жутко. Но эта перспектива в то же время и величественна. Вот что пишет один египетский публицист:
«Завод Кима (выпускающий искусственные удобрения), построенный в пустыне в двух милях к юго-востоку от Асуана, заслуживает посещения не меньше, чем каменоломни фараонов».
У нас завод искусственных удобрений не удостаивается, пожалуй, и пятнадцатиминутного осмотра. Но в Египте... И все это отнюдь не результат честолюбивых замыслов или задетого за живое национализма, вовсе не гигантомания. В египетской пустыне, особенно в окрестностях Асуана, скрыто много природных богатств. Что же требуется, чтобы их реализовать? Капиталы, труд и энергия. Капиталов не хватает. Рабочих рук в Египте предостаточно. А энергию даст плотина.
Высотная плотина образует искусственное море длиной 500 и шириной около 10 километров, местами больше, местами меньше. Объем нового водохранилища достигает 157 миллиардов кубометров. Из этого следует вычесть 30 миллиардов кубометров, которые уйдут в результате прогрессирующего заиления русла Нила. 10 миллиардов кубометров составят потери в результате испарения. 37 миллиардов кубометров воды будет задержано в резерве на случай засухи. Нынешняя потребность Египта и Судана в воде составляет 52 миллиарда кубометров. Весь остаток воды – это чистая прибыль. Он позволит увеличить площадь обрабатываемой земли в Египте на 20 процентов, кроме того, станет возможным значительно улучшить всю систему ирригации. Можно будет регулировать уровень Нила соответственно потребностям отдельных сельскохозяйственных культур, что поднимет их урожайность. Короче говоря, если до сих пор земледелие подчинялось режиму Нила, то теперь Нил будет подчинен потребностям земледелия. Так, например, плотина позволит отвести миллион федданов земли под выращивание риса, что избавит страну от опасностей, связанных с преобладанием одной-единственной культуры – хлопка. Тем самым Египет будет защищен и от угрозы наводнений и получит возможность сберечь значительные суммы, которые ежегодно расходуются на укрепление берегов. Сверх того, плотина обеспечит устойчивый уровень воды и в других водохранилищах (существует несколько таких водохранилищ, разумеется значительно более мелких). А это в свою очередь позволит полностью использовать их как источники белой энергии.
Вот именно – энергии! Вода, уровень которой поднимет Высотная плотина, будет приводить в движение огромную гидроэлектростанцию – 12 турбин мощностью 180 тысяч киловатт каждая. Общая их мощность равна мощности всех электростанций Югославии и превышает мощность всех электростанций Дании.
Все это дает возможность развить промышленность и осуществить мечту патриотически настроенных руководителей, которые не желают, чтобы египтяне были лишь проводниками, ведущими туристов к великолепным памятникам, сооруженным их предками. Ради этого они готовы пожертвовать древними гробницами, храмами, крепостями, фресками, рельефами и скульптурами. Поэтому они не заколебались, когда встал вопрос о затоплении Нубии.
Вот что говорилось в заметке, помещенной в еженедельнике «Тайм» 20 декабря 1963 года:
«В последний раз мы пришли к гробнице наших предков, – заявил шейх Ахмед Мардани.– Женщины и дети плакали, а мы старались утешить их, однако мы понимали, что нам предстоит потерять свои дома и изменить свою жизнь навсегда».
Шейх Мардани оплакивал себя и 100 тысяч других египетских нубийцев, эвакуация которых была завершена на прошлой неделе. Впервые их дома были затоплены в 1902, а затем в 1912 и 1933 годах... Ежедневно отправляются теперь по 300 человек пароходами на север, в Ком-Омбо, где правительство строит 25 тысяч домов, 138 магазинов, 33 мечети и 36 школ. Дома строятся по нубийскому образцу, но из камня. Некий пожилой человек сказал:
«До сих пор я всегда просыпался по утрам от журчания речной воды. Теперь я просыпаюсь от грохота утреннего экспресса Асуан – Каир».
Нубийские женщины, по-видимому, довольны переменами. Каменные стены и бетонные полы лучше высохшего ила. И, кроме того, здесь, в Ком-Омбо, есть кинотеатры, школы, больницы и телевидение...
Они едут вдоль реки со своими койками из пальмового волокна, амулетами, овцами и козами. И поют:
Такова история древнейшей страны, переданная журналистом, который, видел ее перед потопом. Это, рассказ о праве на уничтожение чудесных памятников старины и об обязанности спасать их, а также рассказ о людях, выполняющих эту обязанность. На землю, бывшую свидетельницей самых истоков нашей истории, надвигается потоп, искусственно создаваемый рукой человека. Люди ушли очень далеко от той эпохи, хотя, быть может, и не столь далеко, как им кажется.
Когда в феврале 1964 года в Варшаве я заканчивал эту книгу и на дворе было снежно и морозно, из Судана пришло письмо. Писал мой брат, выполняющий в Фарасе обязанности фотографа и бывший очевидцем последних дней Нубии. Он сообщал, что раздел раскопанных памятников закончен и Польша получила 52 фрески, в том числе и серию портретов епископов. Брат писал также, что храм Абу-Симбел будет сохранен, что все сложные проекты его спасения отвергнуты и принят самый дешевый, разработанный итальянскими каменотесами из известных каменных карьеров в Карраре. Храм будет разрезан на отдельные части и вывезен в безопасное место.
В заключение брат писал: «В Фарасе необычайная суматоха. Переписывают пальмы, ослов, людей, выплачивают компенсацию. Послезавтра всех обитателей погрузят на пароход, перевезут в Вади-Хальфу, посадят в поезд – и наступит конец Фараса».
Продолжения не будет.
Варшава, октябрь 1963 – февраль 1964