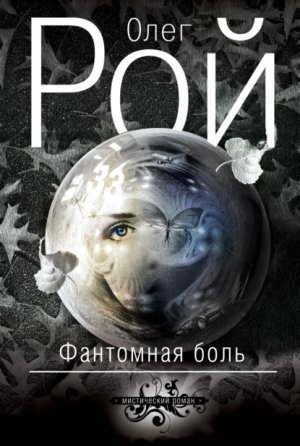
© Резепкин О., 2015
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015
Памяти моего сына Женечки посвящается
Если видишь того, кто не знает и не знает, что он не знает, – это глупец. Беги от него.
Если видишь того, кто не знает и знает, что он не знает – это путник. Научи его.
Если видишь того, кто знает и не знает, что он знает, – это спящий. Разбуди его.
Если видишь того, кто знает и знает, что он знает, – это мудрец. Учись у него.
Пролог
Реку, пока еще спокойно несущую свои воды к океану, уже сжимали в стальных объятиях сизые грозовые тучи. Набережная постепенно пустела, но люди еще сновали туда-сюда, пропадали в темных лабиринтах городского муравейника, оставляя за собой едва различимые следы. Не столько отпечатки ступней, сколько отголоски душевных движений: темные мысли, раздражение, недовольство – следы собственной тьмы, отравляющей тот самый мир, который питает каждого и дает силы.
Человек наделен разумом и душой, где плещут хрустальные родники, распускаются сказочные цветы и поют волшебные птицы. То есть могли бы плескаться, цвести и петь. Но нет. Человек забивает этот чистый источник тоннами мусора: пустыми обидами, гневом, бессмысленным страхом… даже перечислять отвратительно, словно само перечисление добавляет в поток жизни еще один ручеек яда.
Ведь и для Вселенной важен каждый человек. Потеря любого отдается болью. Как болит у человека ампутированная нога. Ноги нет, а боль, хоть и называют ее фантомной, абсолютно реальна. И столь же реально болит у Вселенной каждая мертвая душа. Мертвая? Или только впавшая в летаргию?
Часть 1
Глава 1
Выстрел.
Выстрел? Звук странный: резкий, но глухой и мягкий, как будто тяжелый камень плюхнулся в грязь. Почему я думаю, что это выстрел?
Ничего не вижу. Перед глазами тьма. Точно застилающий все полог. Этот полог словно колеблется, мне кажется, что я вижу проступающие из тьмы смутные фигуры. Неясные серые тени. Люди? Пытаюсь напрячься, чтобы рассмотреть их, но силуэты все так же туманны.
Гул. В ушах (есть ли у меня уши? Впрочем, чем-то же я слышу) стоит непрерывный грохочущий гул.
Это от выстрела? Кто-то стрелял рядом со мной? Или – в меня?
Происходит что-то непонятное. Я слышу звук выстрела (если это был выстрел) снова и снова. И в то же время точно знаю: стреляли только один раз.
Продолжаю говорить «я», но кто я? Где нахожусь? Что вокруг?
Я – человек. Это я чувствую, знаю, понимаю. И ничего больше.
Кажется, еще мгновение назад мое сознание было ясным, я знал, кто я, осознавал себя и окружающее. Это было на самом деле или это кажется? Сейчас вокруг меня туманная мглистая тьма, наполненная грохочущим гулом.
Нет, не вокруг. Все это только в моей голове, это не реальность, это воображение.
Мне страшно.
Я потерял чувство времени. Время застыло. Мне кажется, что я нахожусь в бесконечно длящемся мгновении выстрела. Пуля еще не достигла цели. Хотя я не вижу ни пули, ни цели. Вообще ничего, кроме звенящей темноты.
Пытаясь понять, где я, напрягаю слух. Ничего. Звенящая тишина, как будто весь мир умер. Только в моей голове стоит все тот же гул. Разве так может быть? Я схожу с ума. Разве можно одновременно слышать тишину вокруг и грохот внутри своей головы? Нельзя. Но я – слышу.
Гул нарастает, делается громче, громче, еще громче. Грохочущим гулом наполнена уже вся голова, кажется, она сейчас взорвется. Громко! Слишком громко! Помогите!
Мгновенная, огненная, разрывающая грудь боль – и тишина. Тягучая, мягкая, абсолютная. Блаженная сладостная нега. А-а-а!
Удар! Или вспышка? Не вижу. Не слышу. Чувствую огненное острие, пробившее меня (сердце? живот? солнечное сплетение?) насквозь. Рассыпаюсь на куски. Тело скручивает судорогой, словно от сильнейшего электрического разряда. Судорога повторяет биение пульса, пульсирует каждый миллиметр, каждая клеточка тела.
Передо мной вдруг появляется человеческая фигура. Лица не видно, но откуда-то я точно знаю: это – я сам. Стою и смотрю на себя. Боль по-прежнему заполняет тело – мое или то, на которое я смотрю? Она не усиливается, не нарастает, но и не прекращается, даже не ослабевает. Я слился с этой болью, мы с ней – одно целое, мы пульсируем вместе, в такт бешеному ритму сердца, которое, кажется, сейчас выпрыгнет из заполненной болью груди. Мысленно пытаюсь сосчитать пульс, но сбиваюсь – слишком быстро, слишком часто. Еще сильнее. Еще быстрее…
Вспышка!
Я ее не вижу: этот огонь вспыхивает внутри меня. Вспыхивает лишь на миг и тут же гаснет. И с ним гаснет вся боль, резко, мгновенно, точно повинуясь щелчку неведомого выключателя. И сразу кажется, что никакой боли никогда и не было. Внутри – пустота, словно из тела вынули все, кроме сердца. Я – призрак. Призрак с бьющимся сердцем. Биение все медленнее: тук-тук-тук, тук-тук, тук…
…открываю глаза. Да, у меня вновь есть глаза, их можно открыть, они видят. Вокруг небо. Ничего, кроме неба. Нежная голубизна, оживляемая еще более нежным пухом облаков – совсем рядом, на расстоянии выдоха. Дальше – другие облака, и еще дальше. Они непрерывно меняются, их движения неуловимы, но явственны. Их бесконечно много в столь же бесконечной лазури. Она везде, земля осталась где-то внизу, в тысячах километров. Мое тело легче воздушного шара, легче облаков, я стремлюсь выше, выше, выше. Куда? Когда это закончится? И существует ли это «куда» и «когда»?
Кажется, ко мне начинает возвращаться сознание. Я чувствую себя летящим в этом бесконечном небе, но я не сливаюсь с ним, я не облако. У облаков нет сердца, а у меня есть – я опять чувствую его торопливое неровное биение. Возвращается страх. Значит, я – человек? Только человек может бояться беспричинно, не видя угрозы. Человек. Мужчина? Женщина? Старик? Ребенок? Кто я? Где моя жизнь? Ничего не помню – только звук выстрела. И вокруг – белые… уже не облака – стены. Коридор. Не понимаю: был ли полет, было ли небо, облака, легкость, стремление ввысь – или все лишь пригрезилось?
Что со мной? Сон? Сеанс у гипнотизера?
Существую ли я вообще? Существует ли реальность?
Если зажмуриться и резко открыть глаза… Зажмуриваюсь. Сердце выстукивает: спа-си, спа-си, спа-си… Спаси меня!
Внезапно все резко меняется. Это уже не сон, не греза, определенно нет. Я стою перед входом в длинный тоннель. Стою на собственных ногах. У меня снова есть тело, ко мне вернулись обычные человеческие чувства: я вижу, слышу, обоняю, осязаю. Существую. Как будто проснулся. Вернулся из грез в реальность. Реальность незнакомая, я никогда в жизни такого не видел, но, кажется, понимаю, где я. Пока только чувствами, не словами.
Белостенный коридор уходит вдаль, он кажется бесконечным, но мне нужно идти именно туда, в глубину бесконечного белого тоннеля, это единственный путь. Я точно это знаю, это аксиома, абсолют, в котором невозможно сомневаться.
Шаг. Еще шаг. Еще десять. Или сто? Или тысяча? Сбиваюсь со счета. Пытаюсь превратить чувства в слова. Ведь я знаю, знаю, где нахожусь. Я должен вспомнить! Бесконечный коридор ведет… на Страшный суд? В ад? Я шагаю все быстрее и быстрее, почти бегу. Это страшно, что-то внутри меня не хочет идти вперед, не пускает, но тело двигается как будто само, как будто подчиненное какому-то высшему порядку.
Темно. Темно вокруг, или это потемнело в глазах? Ноздри заполняет резкий запах сырости, затхлости, гнили, точно в заброшенном подвале. Или это все тот же тоннель? В голове бьется та же мысль: спаси меня, спаси меня, спаси меня. К кому я обращаюсь? К самому себе? Или?
Впереди – какие-то ритмичные светлые отблески. Еще несколько мгновений, несколько шагов – и отблески превращаются в фотографии, бесконечные ряды человеческих лиц. Кажется, именно они заполняют это затхлое сырое подземелье слабым призрачным светом, других источников здесь нет. Светятся – или кажется, что светятся, – лица на фотографиях. Я шагаю и шагаю, стараясь не глядеть на эти бледные пятна с пустыми, как у призраков, глазами. Быть может, я боюсь кого-то узнать в этой бесконечной череде? Увидеть тень прошлого? Или боюсь увидеть, что я сам – такая же тень, такое же бледное пятно? Или боюсь, что вся бесконечная череда состоит из моих собственных лиц? Нет! Не хочу!
Меня – то, что я считаю своим телом, – подхватывает нежный, невыразимо приятный ветер. Подчиняясь взмахам его крыльев, исчезает бесконечная череда фотографий, пропадает запах сырости и гнили. Дальше, дальше, дальше от затхлого подземелья! Это необыкновенный ветер! Несущий меня вихрь состоит не из воздуха – из множества звуков. Обрывки сказочно прекрасных мелодий, крики ужаса, стоны любви… Я должен связать эти обрывки воедино – это единственное, что действительно необходимо сделать, я обязан с этим справиться… Но как? Я не могу шевельнуться, я не чувствую ни рук, ни ног, ни даже биения сердца! Но я должен, должен собрать разрозненное и соединить расколотое!
– Хм. Сегодня вообще-то суббота. Выходной день, знаешь ли. А тут ты. – Голос звучал одновременно и весело, и слегка укоризненно.
– Если вы по выходным не работаете, – огрызнулся я, – могли бы оставить меня там еще дня на два.
Ответил я так, наверное, от растерянности. Вряд ли стоило разговаривать так с… с кем, кстати? С некоей Высшей Силой, да? Никаких других вариантов в голову не приходило. Нас всех готовят именно к этому. Ты умираешь, и там (где, кстати, «там»?) тебя ждет некий Он. Пастырь, для которого важна каждая овечка, даже заблудшая. Всезнающий и всемогущий. Как же! Ждут! Выходной у них, видите ли! Так попросту, спасибо хоть не обеденный перерыв. Вот и я по-простецки огрызнулся. Принял предложенный тон. Всегда легче следовать предложенному сценарию, чем заводить собственную мелодию.
Голос, однако, вопреки ожиданиям на мою явную грубость не отреагировал:
– И что бы тебе дали еще два дня? – В реплике не слышалось ни малейшего намека на досаду, гнев или хотя бы раздражение. Даже особого интереса – и то не было. Так безразлично спрашивают: «Вам еще чаю?»
– Я мог бы многое изменить. – У меня не было ни единого воспоминания и потому ни малейшего представления о том, что, собственно, можно и нужно было изменить, но я решил и дальше гнуть свою линию, что ж теперь оправдываться, отказываться. – Может, мы бы тогда с вами вообще не встретились.
– Ну… – Если у этого Голоса есть лицо или если бы у Него было лицо, я мог бы поклясться, что он улыбается, ведь выражение лица отражается на интонации не хуже, чем в зеркале. – В конце концов мы все равно бы встретились. Ты же не станешь спорить с неизбежностью?
– Угу, – буркнул я, подумав, что этот самый Голос просто издевается. – Но как-то приятнее позже, чем раньше.
По правде говоря, я чувствовал себя полным идиотом. К самой встрече с Ним я уже худо-бедно был готов: чего еще можно было ждать после всех этих полетов, белых коридоров и прочих мистических видений? Но вот происходила эта встреча как-то совершенно неправильно. В книгах и фильмах подобная ситуация всегда преподносилась как нечто уникальное. Обе стороны произносили возвышенные, исполненные колоссального духовного смысла фразы. Разговор на грани пафоса, никак иначе. А я? Стою посреди белой комнаты – не то призывник на медкомиссии, не то пациент в приемной психиатра – и ничего умнее «угу» выдавить из себя не в состоянии. То ли я непроходимо глуп и невежествен, то ли кино и литература – сплошь фантазии, высосанные из пальца на потребу извечно человеческому «хлеба и зрелищ».
Странно, однако, мысль о том, что я могу находиться на настоящем приеме у настоящего психиатра (никаких умираний, просто слегка свихнулся, и голова моя полна глюками), эту мысль я всерьез не воспринимал. Нет. Я мог сколько угодно размышлять, рисовать себе логически обоснованные картинки, но все это не имело никакого значения. Я просто знал, что происходящее – реальность. Так же, как человек, которому приснилось, что у него вырос хвост, даже во сне удивляется, потому что даже во сне знает: хвоста у него нет.
Вот и я – знал, что все на самом деле. И зачем я сдуру огрызаться начал? Как последний идиот. Нет бы что-то умное придумать.
– Да не переживай ты, – миролюбиво посоветовал Голос, словно отвечая на мой сумбурный внутренний монолог. Впрочем, почему «словно»? Скорее всего, он действительно в курсе моих, как бы это помягче, борений. – Ты вовсе не идиот. Более того, твоя растерянность очень обыкновенна. Тут все такие. И даже еще более того. Скажу тебе, большинство еще хуже. Ты-то как раз производишь впечатление вполне разумного существа: говоришь связно, рассуждаешь, даже понимаешь что-то. Крохи, конечно, но как минимум ты можешь больше, чем основная масса тех, кто попадал ко мне «на прием».
Последние слова Голос произнес нарочито четко, так что я слегка устыдился. Все же не стоило называть это место – чем бы оно ни было – приемной психиатра. Как минимум невежливо. Не говоря уж о том, что, скорее всего, опасно.
– Извините, – невнятно пробурчал я, мечтая провалиться сквозь зем… да уж! просто провалиться на месте.
– Вот этого не советовал бы. Там, внизу, тебя точно не ждет ничего хорошего, – сообщил Голос все с той же безразличной интонацией, с какой сообщают, что осенью часто идет дождь.
«Да, – сделал я очевидный вывод, – мои мысли для Него столь же ясны, как и мои слова». Но все же не удержался от вопроса:
– А здесь – ждет?
– Если бы ты дал мне договорить, а не отвлекал непрерывно своими мыслями…
И опять ни гнева, ни раздражения, одно бесконечно равнодушное спокойствие. Но мне почему-то опять стало стыдно. Даже странно. Конечно, в меня сызмальства вдалбливали, что перебивать собеседника нехорошо, но мало ли что бывает «нехорошо». Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал, так вроде бы? Сколько-нибудь всерьез стыдиться я перестал, кажется, еще в детском саду.
– Так вот, дорогой мой. – Я был уверен, что в этот момент мой невидимый собеседник опять ухмыльнулся. – Своим дурацким воплем ты оторвал меня от чрезвычайно интересного занятия. Я смотрел сериал о вашей там жизни.
– Сериал? – опешил я.
– Ну надо же мне как-то развлекаться. Сижу тут вечную вечность, скучища! Вот и смотрю сериалы. Нет-нет, не подумай, не телевизионные. Там – вторичный продукт, а я предпочитаю натуральный. Ну, то, что вы называете реальной жизнью. Ужасно забавно, насколько все одинаково. Женщины из кожи вон лезут, на все готовы, лишь бы мужчины на них внимание обратили, а когда не обращают – слезы, истерики: «Все мужики – козлы, геи и алкоголики!» Мужчины чуть ли не трактаты пишут на тему: «Женщины – безмозглые жадные идиотки». Кстати, обе стороны ошибаются, причем катастрофически. Но это ведь никого не интересует. «Тупая блондинка! Только и умеешь губки да ножки раздвигать!» И тут же: «Карьеристка! О доме совсем не думаешь! Тебе диссертация важнее мужа!» Фантастически глупо, но затягивает тоже фантастически.
Сериалы! Он называет нашу жизнь сериалами! А я-то думал, что ситуация нелепей некуда. Всегда есть куда. Если Он говорит правду, что не факт. Но даже если Он попросту издевается, все еще нелепей.
– Но сейчас я из-за тебя изрядный кусок пропустил, – продолжал Голос как ни в чем не бывало, – хоть на «повтор» нажимай. – Он хмыкнул. – Вот уж совсем было бы глупо – все равно ведь всегда одно и то же. Ладно. Раз уж так вышло, давай воспользуемся ситуацией и сыграем? Я предлагаю тебе игру.
– Игру? – осторожно переспросил я.
– Ну да. Что-то вроде. Я расскажу тебе кое-что из того, чего ты не помнишь или не знаешь, а потом предоставлю право выбора. Играешь?
Да, похоже, кино и литература – не абсолютные фантазии, встречи «в верхах» без таинственных игр с загадочными условиями все-таки не обходятся.
– Но ведь я не знаю правил. – Я не то чтобы торговался, скорее тянул время. С одной стороны, предложенное было страшно интересно. С другой – просто страшно. Шутки шутками (ерничал-то я больше от неуверенности и растерянности, то есть, по сути говоря, от страха сесть в лужу), но если все происходит на самом деле – а это я откуда-то знал, – значит, и расплачиваться придется на самом деле.
– С третьей стороны, – подхватил мой внутренний монолог Голос, – ты все равно уже умер, то есть ничего, собственно, не теряешь. – Не то темп речи слегка увеличился, не то звуки стали чуть выше, но я мог бы поклясться, что в Его тоне угадывалось нетерпение, словно Он был возбужден, как бывает возбужден человек, предвкушающий необычное и чрезвычайно интересное развлечение.
– Но правила-то есть? – Я поднял глаза и посмотрел вверх, как будто Он разговаривал со мной оттуда, хотя на самом деле Голос звучал не то отовсюду, не то сразу у меня в голове.
– Правила я тебе уже сообщил. Теперь пойдут подробности, то, чего ты не помнишь или вовсе не знаешь. Убили не только тебя. Одновременно убито несколько человек. Ты не помнишь, кем из них был, но иначе игра потеряла бы смысл. Каждый из убитых тоже, наверное, хотел бы иметь выбор и уж точно был бы рад, если бы я и в самом деле закрыл свою «приемную» на выходные и дал им еще два дня…
Ну и дела! Тут уж не до шуток. Убийство, да еще нескольких человек сразу – какой-то голливудский триллер. А я, значит, попал под раздачу? И тогда, и, что еще важнее, сейчас.
– Не ломай голову, почему именно ты. Ну, к примеру, потому, что ты очень уж громко вопил «спаси меня». Объяснение, кстати, ничуть не хуже любого другого. И не надо изображать оскорбленную невинность, мои слова не означают, что я избегаю объяснений из-за того, что считаю тебя глупцом. По вашим – человеческим – меркам ты весьма даже не глуп, но есть вещи, недоступные тебе в принципе. Бессмысленно описывать слепому от рождения радугу. Да что я перед тобой распинаюсь! Предложение честное, – Голос опять хмыкнул, словно подавляя смешок, – настолько, насколько здесь вообще имеет смысл понятие «честность». А объяснять тебе я уж точно ничего не обязан. Или ты считаешь?..
Я помотал головой.
– Вот и ладушки. Будешь еще перебивать – передумаю. Я даю тебе шанс. Тот самый второй шанс, о котором вы все так страстно молите. Ты проживешь за каждого из троих убитых по девять дней. Постараешься их понять, попытаешься полюбить. Ну, или возненавидеть, как получится. Потом вернешься сюда и сделаешь выбор – скажешь, кем из них ты хочешь остаться.
Я задумался. Впрочем, это только так говорится – задумался. Я в общем-то понимал, что особого выбора у меня нет: если меня спрашивают, это еще не означает, что я могу отказаться. Ох, вряд ли. Голос, однако, терпеливо ждал. Ну да еще бы не «терпеливо»! У него тут вечность, почему бы не потратить пару мгновений на ожидание. Да и мысли мои при этом почитать – дополнительное развлечение.
– Не обольщайся, – фыркнул Голос. – Ничего такого особенно интересного в твоих мыслях нет. А выбор, кстати, есть. Можешь и отказаться, без проблем. Не одного тебя убили, предложу ту же игру кому-то из остальных.
– Да согласен я, согласен. Но хоть в общих чертах вы мне расскажете, кем я был, чем занимался, какие люди меня окружали. Я же ничегошеньки не помню!
– Если бы помнил, и игры бы никакой не было. – Голос уже откровенно веселился. – Само собой, я тебе не скажу, кем ты был. Сам догадывайся.
– Как?! – Отчаяние и гнев схлестнулись где-то у меня в горле, вот он какой, пресловутый комок! – Я ведь даже имени своего не помню! Даже не уверен: мужчина или женщина? Может, я вообще не человек, а собака какая-нибудь! Или крыса!
– Хм. Собака или крыса? Это интересно, в следующий раз непременно попробую. Спасибо за идею. А ты – человек, не сомневайся. В остальном обратись к собственным ощущениям. Как вы это там называете? Дежавю? Настройся, вдруг почувствуешь что-то знакомое.
– Сплошные загадки, короче.
– Ох, как вы мне надоели с этими вашими «загадками»! – Голос, кажется, начинал сердиться. – То вам «загадки Вселенной» подавай, то «загадки жизни», а сами-то два и два сложить не умеете. Уж не совались бы! И что самое смешное, каждая «загадка» непременно сведется к тому, что кто-то выше, а кто-то ниже. На днях подслушал двух чудиков: дескать, человеческая жизнь – это компьютер, у некоторых настроена связь с Космосом, а у кого-то – отрезанный от внешней сети дохленький ноутбук с тремя папочками – «карьера», «семья», ну и, может, «любовь», а в папочках огрызки текстов, причем все сплошь ворованные друг у друга. Цирк!
– Не вижу ничего смешного. – Я понимал, что эта якобы прочувствованная речь должна была продемонстрировать мне, что я ни уха ни рыла не смыслю в устройстве Вселенной, но, вместо того чтобы униженно помолчать в тряпочку, зачем-то снова начал возражать: – Не может же быть, чтоб человек состоял только из животных инстинктов, только из желания поесть и… – я замялся, – поспать. Люди стремятся найти свое предназначение, без него не может быть счастья.
Раздавшийся грохот испугал меня больше неожиданностью, чем громкостью. Я даже заозирался: что это такое упало с таким громом? И только через несколько мгновений до меня дошло, что это был Его хохот.
– Голубчик, что за бред? Ты не поверишь, но большинство не слишком-то хочет даже поесть и, – Он хмыкнул, – как ты выражаешься, поспать. Про стремление найти пресловутый смысл жизни и вовсе говорить не приходится. Да если бы не те самые животные инстинкты, вы давно бы уже вымерли. Счастье! Не смеши меня. Сидеть на мешках с золотом и воровать у соседей медяки – вот оно, ваше счастье. Вместе с предназначением.
– Но зачем же тогда человек живет? Он ведь обогащает на земле свою душу, разве нет? Приобретает баллы, ну или как это у вас тут называется, за хорошие поступки и теряет их за плохие. – Не знаю, что заставляло меня спорить (вот уж глупость несусветная, попер муравей против бульдозера), но мне казалось, что я вот-вот что-то пойму.
– Забавный ты. Задаешь вопрос и сам же отвечаешь. Умный, дескать? Какие баллы? Тела – они вроде сосудов, в них плещется душа. В одном сосуде, в другом, в третьем. Никаких баллов. Хотя что-то вроде вкуса накапливается. Ну вот как ваш коньяк, настаиваясь в дубовых бочках, собственно, и становится коньяком. Только дело-то вовсе не в том, чем он в итоге станет, а в процессе. Счастье, говоришь? Какой может быть разговор о счастье, если вы все – ну большинство – предаетесь либо воспоминаниям, либо мечтам. А того, что сию минуту, не то что не цените, вообще не замечаете. Разве что изредка. В моменты либо восторга – ах, она сказала «да», либо ужаса – саблезубый тигр из-за угла выскочил. Кого ни возьми, за всю жизнь таких моментов минут на пять наберется. А все остальное время? Ты, кстати, такой же. Ох, сколько ж ты раз говорил себе: «Завтра начну новую жизнь». Даже тетрадку завел, эдакий «Дневник гения»: начнешь – и опять листы вырываешь, чтоб начисто. А всего-то и надо было поглядеть в «здесь и сейчас», стать своим собственным наблюдателем. Открыть глаза, перестать быть слепцом вроде тех, на которых я устал уже любоваться. Затягивает, конечно, но ведь одно и то же: страхи без повода, ссоры на пустом месте, амбиции никому не нужные. А слепцы все ходят в этих джунглях и ни шагу наружу. Какое уж там счастье!
– Но ведь без этих контрастов и счастья не почувствуешь! – Я понимал, что произношу ужасающую банальность, но и промолчать почему-то не мог. И потом, банальность – потому и банальность, что отражает реальное положение дел, разве не так?
На этот раз хохот был не грохочущим, а мелодичным, как журчание весеннего ручья:
– Примитивный вы все-таки народ, люди. Основная масса, по крайней мере. Больше одной мысли в голове не помещается, да и одна-то редко заходит. Я тебе только что рассказал кое-что о твоей прошлой жизни, даже кое-какие секреты судьбы приоткрыл, а тебя все на глубокомысленные сентенции сносит.
Э-эх! Дурак я, дурак. И ведь не запомнил ничего, мысленно обругал я сам себя.
– Не повторю, и не мечтай, – фыркнул Голос. – Будет тебе урок. Кстати, ты и при жизни не очень-то слушал, что тебе говорят, вылавливал отовсюду лишь то, что считал касающимся тебя лично – частенько ошибаясь, кстати, а прочее пропускал мимо ушей.
Не знаю, на кого я больше злился: на себя или на Него. При этом понимал, что на себя злиться бессмысленно, что сделано, то сделано, не воротишь, а на Него – бесполезно, даже опасно. Но я окончательно запутался, а злость – это хоть что-то понятное!
– Кстати, о контрастах, – продолжал Голос как ни в чем не бывало. – У меня и в мыслях не было убеждать тебя в том, что все эти ваши игры – обиды, страхи, амбиции – не должны существовать. Отнюдь. В них нет ничего дурного. Как, впрочем, и хорошего. И дурное, и хорошее – довольно бессмысленные категории. Бессмысленные применительно к жизни. Просто вы придаете этим фантикам до смешного много значения. Хотя на деле любая проблема, из-за которой вы готовы весь мир обрушить, – не более чем снежинка, летящая в огонь. Любая смертельная обида существует только в голове обиженного. Тоже мне, самураи! А уж как вы друг другу подножки ставите – это вообще нечто запредельное. Главное – зачем? Даже я понять не могу.
Мне вдруг вспомнилось то, что он говорил совсем недавно:
– Сидим на мешках с золотом и у соседей медяки воруем?
– Надо же – запомнил. – Мне показалось, что Голос произнес это с некоторым удовольствием. – Не совсем безнадежен, значит. Правильно запомнил. Только все еще хуже. Золотом сыт не будешь. А вы стараетесь стащить чужой компас, когда свой в углу пылится. И ведь компас, в отличие от золота, чужой никому не подойдет. Так почему же чужой нужнее кажется?
– Но разве это мы решаем? – Я все еще пытался совместить то, что услышал, с тем, что привык слышать всю свою сознательную жизнь. – Миром вроде бы управляют Бог и Дьявол, разве нет? И теми, кто делает зло, владеют черные силы…
– Ой, прекрати, я тебя умоляю! – делано взмолился Он. – Рано я тебя похвалил. Все-таки ты глупее, чем пытаешься казаться. Гипотезу о белом, черном и сером мире я слышал уже миллиард раз. Почему-то, попадая сюда, все норовят мне пересказать именно эту версию. Ну никакой фантазии у людей!
– О сером? – изумился я. – О сером я никогда не слышал. Он где?
– Между белым и черным! – На этот раз хохот меня почти оглушил.
– Значит, нет ни рая, ни ада? Но если я умер, то куда я попал? – Я чувствовал, что запутался почти окончательно.
– Куда надо, туда и попал, – отрезал Он, но после короткой паузы все же пояснил: – А рая или там ада действительно нет, иллюзия, которую вы сами себе придумываете. Каждому сосуду дается по карме: у птицы есть небо, но ей некуда лететь, у рыбы есть море, но ей некуда плыть, у человека есть земля, но ему некуда идти… Впрочем, смельчаки, которые решаются сделать шаг, все-таки находятся. И это, знаешь, как-то примиряет меня с существованием человечества.
– А эта… игра? – осторожно спросил я, начиная опасаться Его гнева: очень уж много льда было в его интонациях. – Тоже для того, чтобы примириться с существованием человечества? Зачем она?
– Да чтоб развлечься. – Он хмыкнул. – Все знать заранее, видишь ли, очень скучно. А тут такая прекрасная неопределенность. Ну, мне, конечно, любопытно, угадаешь ли ты собственное тело или, скорее, собственное сознание, но это не главное. Так, бонус. Кем ты в итоге решишь остаться – вот это действительно интересно.
– Но хоть намекнуть-то можно? – взмолился я без особой, впрочем, надежды на успех. – Кем я был? Юной прекрасной девушкой или дряхлым стариком?
– Ну, ты же сам хотел свободы выбора, вот и выбирай. – Голос опять звучал совершенно безразлично, словно Ему уже надоело все мне объяснять. – Кстати, если постараешься, даже этот разговор вспомнишь, хотя бы отчасти. Понял? Если постараешься. Сколько именно будешь помнить, зависит от тебя. Так что без претензий потом: мол, девушка оказалась больна лейкемией, а старик – тайный маньяк, который питается живыми крысами. Не вопи потом: «Господи, помилуй! Господи, спаси меня!»
– Так вы все-таки Господь! – воскликнул я, подумав, что книжки про «то, что там, после», похоже, все-таки не врали.
– С чего ты взял? – довольно равнодушно возразил Он. – Я лишь воспользовался фразой, которую вы так любите повторять. Вернемся к нашим подробностям. Прожив три варианта, ты выберешь один. Даже если это тело и эта жизнь окажутся на самом деле не твоими, ты проживешь в нем и в ней еще тридцать три года. Двое других погибнут от пули придурка.
– Придурка?
– Ах да, с твоими постоянными перебиваниями я забыл дорассказать. Тихий субботний вечер. В тихое кафе ворвался некий, – Он хмыкнул, – ну, скажем, недоумок. Никчемный, опустившийся, почти в ноль спившийся неудачник. Ну, или считающий себя неудачником, это не имеет значения. Убежденный в том, что жизнь к нему несправедлива, и решивший всем отомстить с помощью пистолета. К счастью, его остановили, спасибо доблестному и, несмотря на предпенсионный возраст, вполне бравому полицейскому, вовремя проходившему мимо, так что убить придурок успел лишь троих. Ну, собственно, вот. Готов сыграть?
– Всегда готов! – не удержался я от очередного шутовства. На самом-то деле мне не столько хотелось вернуться в жизнь (в неизвестно чью жизнь!), сколько не терпелось убраться подальше отсюда, от этого Голоса, убраться куда-то, где будет хоть что-то понятное.
– Поехали!
Каждый человек всю жизнь, от зачатия до смерти, ведет диалог с Высшим Разумом. Иначе говоря, с Голосом Вселенной. Мы даем ему разные имена: Иегова, Аллах, Кришна, Заратустра, Будда. Но каждый раз, обращаясь за советом, ждем помощи и верим, что мольба будет услышана. Ведем переговоры и верим, что именно от них зависит наш успех.
Глава 2
Мысль о том, что сон – это маленькая смерть, вполне банальна, но от того не становится менее справедливой. Каждое утро в нашей постели просыпается немного другой, немного не тот человек, что ложился в нее вечером. Мы редко об этом задумываемся, но чувствовать – чувствуем. Должно быть, именно поэтому пресловутую новую жизнь люди начинают исключительно с утра. Ну, или хотя бы обещают себе начать: вот проснусь в понедельник (первого числа, в день рождения, после отпуска, нужное подчеркнуть) и…
Иногда, впрочем, такое случается без всяких клятв и зароков. Открываешь глаза и чувствуешь себя кем-то другим, будто бы за ночь тебя подменили. Вот это определенно про меня.
Первой мыслью, посетившей мою голову в момент пробуждения, было: «Что за чушь мне снилась!» Коридоры, белая комната, Голос… какой-то душеспасительный бред! Как в дешевом кино с претензией на глубокий философский смысл – терпеть такого не могу!
Ладно, мало ли что спросонья приглючится. Вот вроде проснулся, я – это я, зовут меня…
«Черт! Черт, черт, черт!» – это была вторая мысль, совершенно бессодержательная и столь же безрадостная. Никакой это был не сон, как бы я себя ни успокаивал. Черта с два! Если бы смутные воспоминания были плодами фантазии, я сейчас знал бы, кто я, где я и вообще что происходит. Но я не знаю, не помню! Проклятье! Паршивое начало паршивого дня.
Да-да, память может отшибить еще и с похмелья. Но ведь ничего похожего: ни тошноты, ни головокружения, и вообще чувствую себя отлично. Вот только кого – себя?
Осознание реальности происходящего (а главное – произошедшего!) было сродни удару по голове. Абсолютно неожиданно и очень больно.
Я даже передумал открывать глаза. Может, это все еще сонные глюки? Что-то вроде ночного кошмара? И если еще немного поспать, то, проснувшись, я узнаю себя, окружающее, вообще все. Продолжу жить, короче говоря. А пригрезившуюся «встречу в верхах» (жуть какая!) спрячу в дальнем углу своего умственного чердака и открою эту страшную тайну лишь правнукам, лежа перед ними на смертном одре. Когда-нибудь потом, короче говоря. Идеальный вариант!
«Не упрямься, – прозвучало вдруг у меня в голове. – Сам же себе хуже делаешь. Ведь всего-то девять дней. Давай, приступай, может, еще и понравится».
Ешкин кот! Я задохнулся, как от удара под ложечку. Приехали. Два варианта. Либо я свихнулся – голоса в голове, видения, зовите психиатров, – либо видения и Голос, при всей своей невероятности, абсолютно реальны. Второе «либо», хоть и пугало своей мистической неизвестностью, нравилось мне все же больше. В психушку как-то не хотелось. Успеется. Буду считать, что все правда: ну да, проснулся в чужом теле, и Некто высший со мной разговаривает, что такого?
«Встаю!» – буркнул я в никуда, точно подросток, которого торопят в школу.
Но глаза открывать пока поостерегся. Несмотря на все попытки самоуспокоения, страх оставался, кажется, единственной доступной мне эмоцией. Пока глаза закрыты – чурики, я в домике! И может, еще повезет все переиграть. А когда открою…
«Какой же ты медлительный!» – Голос в моей голове звучал уже несколько раздраженно.
Да, похоже, переиграть ничего не удастся.
Вдохнул. Выдохнул. Еще раз. Пошевелил пальцами на руках, на ногах – получилось. Ну, по крайней мере не так все плохо: не паралитик, ничего не болит, чувствую себя более чем комфортно, даром что новый «дом» – чужой. Страх понемногу отпускал. Теперь это был уже не всеобъемлющий неконтролируемый ужас, а что-то вроде предэкзаменационного мандража. Не самое приятное чувство, но, в общем, терпимо.
Медленно (как будто это что-то меняет!) открываю глаза…
Взгляд уперся в белый высокий потолок. Слишком чистый, отметил я, для больницы или тюрьмы – это не то чтобы радовало, но в целом поднимало настроение.
Пару минут я лежал неподвижно и слушал негромкий гул, в котором довольно легко опознал шум транспорта. Ага. Значит, тут есть окно, за окном ездят машины. Слегка пошевелился – вроде бы все тело слушается. Ну… поднимаюсь?
Я сел в кровати и бросил взгляд вниз. Худощавое молодое тело. Несомненно, мужское. Почему-то сей факт меня изрядно обрадовал. Притом что я как будто был подсознательно уверен, что так и должно быть, что женщиной я оказаться уж никак не могу. В конце концов, даже «там», беседуя с Голосом, я вроде бы говорил о себе в мужском роде. Кстати, Голос, судя по всему, дал мне дельный совет: чтобы понять, кем я был, нужно прислушиваться к собственным ощущениям, чувствам и мыслям. Искреннее облегчение, которое я испытал, обнаружив себя мужчиной, похоже, как раз из таких подсознательных подсказок.
Вот и ладушки. Пожалуй, теперь можно и осмотреться.
Ох, и свин же я, оказывается! Такой бардак в своей комнате развести (удивительно, как легко я назвал эту комнату своей, без малейших возражений со стороны сознания, подсознания и всего, что там посередине) – это ж месяц специально стараться надо. Диван, кресла, ковер, стол и примыкавший к нему подоконник были почти неразличимы под слоем разнообразных предметов одежды (и, кажется, не все из них были мужскими), книг, бумажных огрызков и целых листов, компьютерных дисков и всякой трудноопределимой мелочи. Например, под столом, в глубине, виднелось что-то коричнево-золотое, похожее на тюбик губной помады. Над завалами опознаваемого и неопознаваемого барахла слоями лежали ароматы женских духов и алкоголя.
Да уж. Чтобы все это разгрести, понадобится бульдозер.
Впрочем, желание навести хотя бы минимальный порядок послушно отступило перед намерением поскорее освоиться в своем новом теле. Я осторожно встал с кровати (тело слушалось отлично, ни головокружения, ни слабости, можно и не осторожничать) и отправился в ванную. И логика, и интуиция подсказывали, что там должно быть зеркало.
Зеркало там не просто было – оно там царило, занимая чуть не полстены. Хотя и сама ванная комната была весьма просторной и, что меня после пейзажей спальни несколько удивило, чистой. Разве что на зеркале красовались брызги зубной пасты и какие-то разводы – не то от чистящих средств, не то от попыток стереть все ту же зубную пасту. Ну да какая разница, главное, разглядывать себя они не мешают.
В зеркале отражался высокий худощавый молодой – даже очень молодой, не старше двадцати лет – человек. Темные – но не темно-каштановые, а скорее темно-пепельные, – не слишком длинные курчавые волосы спросонья торчали во все стороны. Светлые – то серые, то голубые, в зависимости от поворота головы – глаза обаятельно щурились.
– Да я просто красавец! – Неожиданно вырвавшаяся фраза заставила меня рассмеяться. Настроение стремительно поднималось от «ничего себе» до «восхитительно».
Поэкспериментировав с кранами – кажется, производители сантехники соревнуются друг с другом в стремлении изобрести как можно более непонятный дизайн, – я все-таки сумел принять душ. Вкус зубной пасты мне понравился, сам бы себе выбрал именно такую. Может, это мое тело и моя ванная? И кстати, мой банный халат. В меру теплый, легкий, уютный, словно специально созданный для того, чтобы начинающий день завтрак становился абсолютным удовольствием.
И кстати, о завтраке. Где тут у меня кухня?
Ох, знаю. Причем знаю не только это. Пожалуй, ничего более странного я никогда еще не испытывал. Информация хлынула в мой разум, как вода в ванну. Впрочем, нет, не так. Взаимодействие с потоком разнообразных сведений больше напоминало ответы на вопросы. Стоило мне бросить мысленный взгляд в интересующем меня направлении, как Вселенная (или Высшие Силы, или Единый Мировой Информационный Центр, кто их разберет) сообщала мне все необходимое. Нет, никаких голосов, читающих длинные подробные лекции. Скорее, мгновенный, но очень содержательный киноролик, картинка. Только содержание этого «ролика» попадало в мою голову не снаружи. Все уже было, а очередной мой «вопрос» словно бы включал нужные воспоминания. Так просыпаешься после глубокого сна: где я? кто я? что это? – а потом вдруг не только количество собственных рук-ног вспоминаешь, но и правило буравчика, и название бара, где вчера отжигали.
К моменту, когда я приканчивал четвертый бутерброд с малосольной форелью (где-то когда-то читал, что рыба очень полезна для мозга, а соображать мне сейчас придется со страшной силой, это-то я понимал), прихлебывая крепкий, сладкий, невероятно ароматный чай, моя голова уже заполнилась разнообразнейшими сведениями. Это даже воспоминаниями назвать было нельзя. Я просто знал: меня зовут Миша, но, поскольку это слишком просто, я предпочитаю, чтобы меня называли Майкл. Мне недавно исполнилось девятнадцать, перешел на второй курс университетского юрфака, коммерческое отделение (юридические термины, водоворотом закрутившиеся в моем мозгу, казались почти незнакомыми, но, во-первых, сами-то термины я все ж таки помнил, значит, откуда-то знал, во-вторых, «платные» студенты вроде бы грызут гранит науки не слишком усердно, значит, поверхностность знаний смущать не должна), обожаю вечеринки и умею их устраивать. Короче говоря, душа общества и вообще баловень судьбы.
Несмотря на следы присутствия женщины в комнате, все остальные пейзажи и натюрморты свидетельствовали о том, что я нахожусь в жилище одинокого молодого холостяка. И тут же, стоило направить внимание в эту сторону, я «вспомнил», что квартиру мне подарила мать (почему-то «вспомнить» ее лицо мне не удавалось, ну и ладно), а то ездить в университет из загородного дома слишком далеко, да и вообще «большой мальчик должен жить один». Действительно, баловень судьбы, «золотой мальчик».
Кстати, о «золоте». Я двинулся обратно в комнату и, порывшись на столе, выудил из-под завалов банковскую карточку – действительно, «золотую». После секундного размышления-«вспоминания» внутри верхнего ящика стола нашелся приклеенный сбоку листочек с пин-кодом и четырьмя словами: «Не разбрасывай где попало!» Почерк был женский. Надо полагать, как раз материнский.
За сдвижной зеркальной панелью напротив дивана (интересно, а почему я сразу это зеркало не заметил? спросонья, что ли?) обнаружился гардероб: слева полки со стопками джинсов, маек, свитеров, справа вешалки с явно недешевыми костюмами. Мне хотелось выглядеть поэлегантнее, и я выбрал легкий льняной костюм цвета топленого молока, удивительно приятный на ощупь и, как тут же выяснилось, практически не мнущийся. Натягивая брюки, я повернулся, и взгляд мой упал на не замеченный до сих пор плакат, с которого едва не выпрыгивал блестящий черно-серебряный «Харли-Дэвидсон». Мотоцикл был окружен рисованным лозунгом: «Трасса одна, но скорость у каждого своя». Я едва не задохнулся от восторга и, точно повинуясь указанию плаката, выдернул с одной из полок черную футболку с изображением кнопок Ctrl, Alt, Delete – перезагрузка системы, вот забавно! – немного ниже левого плеча. Сперва-то, балбес, собирался рубашку надевать, как приличный сладенький мальчик. Фу, скукотища!
Я еще раз взглянул на легендарный мотоцикл и, точно повинуясь бессознательному толчку, из-под свисающей с подоконника рубашки вытащил ключи от автомобиля. Перед внутренним взором нарисовалось что-то ярко-красное, хищно приземистое и явно очень дорогое. «Ягуар»? «Феррари»? Ладно, там увидим.
«Здорово-то как, черт побери!» – ликовал я, едва не прыгая до потолка: бурлившего внутри восторга хватило бы, чтобы запустить меня на орбиту, честное слово. И ведь есть от чего приходить в восторг, а? И деньги, и внешность, и – молодость, сказочно прекрасная изобилием шансов и возможностей. Самое начало жизни. Старт. И какой старт! Сколько впереди удовольствий, встреч, событий, побед… да хоть бы и поражений! В двадцать лет даже сиюминутные неудачи – не более чем приключения. Я чувствовал, как меня переполняют азарт и жажда жизни, жизни во всех ее проявлениях. А ведь чуть было не профукал, балбес, все эти чудеса! Как мне только мысль-то такая в голову могла прийти – отказаться от игры с Голосом?! Даже если Майкл – не настоящая моя сущность (хотя я уже чувствовал себя в его теле буквально «как дома»), мне же дают возможность выбора! То есть, когда закончатся пробные девять дней, я смогу и дальше наслаждаться всеми радостями жизни «золотого мальчика»!
Я подбросил на ладони ключи, звон которых звучал в ушах как самая сладкая музыка. Голова кружилась от открывающихся перспектив…
Полно тебе. Разве бывают люди, у которых все настолько великолепно? Может, у Майкла какие-то проблемы?
Но эта здравая мысль меня почему-то не испугала. Я вспомнил, что Голос обещал мне тридцать три года жизни в выбранном теле. Значит, смертельных заболеваний у «золотого мальчика» точно нет. А все остальное… Да ладно! С деньгами – а я точно знал, что у Майкла их более чем достаточно, – любые проблемы решаются в два счета! Не об этом ли я всегда мечтал?
Стоп!
Я на мгновение замер, пораженный внезапной догадкой. Деньги… значит, настоящий я всегда мечтал разбогатеть? Я плюхнулся в заваленное джинсами и майками кресло, пытаясь собрать бешено летящие мысли. Мечта о богатстве – это мое собственное воспоминание? Или Майкла? Может ведь так быть, что «золотым мальчиком» он стал совсем недавно? Но тогда столь же возможно, что я и есть Майкл? И чувствую то, что чувствует он, не только потому, что оказался «в его шкуре», а и потому, что это – моя собственная шкура. Окончательно запутавшись, я стиснул руками голову, которая, казалось, была готова разорваться от противоречивых мыслей. Надо успокоиться. А то вон даже в ушах звенит.
Ан нет, не в ушах. Я вытащил откуда-то из-под себя мобильник, поднес к уху… тишина!
Идиот! Это же не вызов, а смс!
Нажав кнопку, я открыл сообщение от какого-то Кирилла: «Сегодня ко второй паре, помнишь? Не опаздывай, ленивая задница».
Возле кресла скучал дорогой кожаный портфель. Я наугад побросал туда какие-то книжки и тетрадки, сунул ноги в итальянские мокасины, на секунду восхитившись их комфортной мягкостью, подхватил с пола (чем тут вчера этот Майкл занимался? совсем на рогах был?) связку ключей от квартиры и выскочил из дома.
Надо же! Двух часов не прошло, а я уже начал называть эту безликую – за исключением разве что плаката с девизом – квартиру домом. Впрочем, оно и к лучшему, надо вживаться в образ. Пока вроде неплохо получается.
И с автомобилем я «угадал»: красный «Ягуар». Хищно прищурившийся, обтекаемый, низкий, точно приготовившийся к прыжку… ой, мамочки! Я же не умею водить машину, не помню, как это делается!
«Цыц! – осадил я сам себя. Прекратить панику! До сих пор все получалось, и сейчас не с чего трястись». И в самом деле: едва я скользнул в прохладный салон, все пошло как будто само собой: поворот ключа, мягкое урчание мотора… я все помнил! Ну или это Майкл все помнил, а я «подключился» к его навыкам.
Лихо припарковавшись возле университета (дорогу выбирал, положившись на инстинкт), я цыкнул на себя еще раз: «Помни, дорогой, – твердил я себе, – ты Майкл, Миша, баловень судьбы, «золотой мальчик» и будущий преуспевающий адвокат. Нос выше, плечи развернуть, глядеть на всех… да как на неудачников!»
Золотые ручки тяжелых дубовых дверей ехидно поблескивали, словно подмигивали.
Глава 3
Не успела за Мишей закрыться дверь аудитории, как на него налетело сразу полгруппы.
– Долго спишь, старик! Чуть не опоздал. – Здоровенный, под два метра ростом парень хлопнул Михаила по плечу. – Я так и решил, что та девица тебя совсем измочалила, потому и эсэмэску кинул, а то сегодня ж ведет эта злобная грым…
– Спа…
– Что еще за девица?! – взвизгнули откуда-то справа. – Майкл, что за дела? С девицами как бы шляешься, а ко мне даже типа на чашечку кофе не зашел?! – Стриженая, улыбающаяся «во все тридцать два» брюнетка ловко поднырнула под мышкой гиганта и, картинно уперев руки в бока, встала перед Мишей.
– Я… – начал было он, но договорить опять не дали:
– Светик! – Здоровенный парень легко приподнял брюнетку и, посадив на соседний стол, легонько постучал указательным пальцем ей по носу. – Ты же в курсе: Майкл ждет не дождется великую сияющую любовь. Но просто ждать скучно, приходится пока обходиться всякими промежуточными вариантами.
– Да иди ты, Кирюшенька! – Девушка, спрыгнув со стола, расхохоталась, чмокнула Мишу в щеку и, пританцовывая, вернулась на свое место в глубине аудитории.
– Может, и мне дадут наконец слово сказать? – пробасил Миша, набрав в легкие побольше воздуха.
Но стоявшие вокруг ребята только рассмеялись и начали ободряюще хлопать его по спине. Некоторые – девушки, разумеется, – попадали и пониже.
– Это что за бедлам?! – Дверь растворилась, и в аудиторию вплыла сурового вида дама. – Быстро по местам. Сесть, сесть, живо!
– Всем сесть. Суд идет! – прошептал Кирилл, пробираясь на свое место. Вокруг раздались сдавленные смешки.
– Встать… – задумчиво пробормотал Миша, почти наугад (интуиция, выручай!) доставая из портфеля какую-то тетрадку. – Всем встать.
– Сесть-встать, сесть-встать, упал-отжался, – фыркая от сдавленного смеха, подхватил было Кирилл, но, взглянув на приятеля, изобразил на лице гримасу подчеркнутой обеспокоенности: – Что-то ты нынче серьезен не в меру… Юноша, куда вы дели нашего веселого Майкла?
– Я его убил, а сам влез в его тело и теперь прикидываюсь, что я – это он, – честно ответил Михаил.
Кирилл прыснул в кулак:
– Да уж, приятель, любовь к фантастике до добра не доведет, скоро Ктулху, – он картинно вытаращился, изображая панический ужас, – в собственном портфеле искать начнешь. Да и та блондиночка, видать, веселую ночку тебе устроила: ты сегодня и впрямь как будто не ты, а какая-то тень отца Гамлета и умирающий лебедь в одном флаконе.
Миша томно закатил глаза и как бы в полном изнеможении откинулся на спинку сиденья. Вокруг тем временем продолжались шепотки, шутки и прочий веселый шелест. Преподавательница сурово поджимала губы, но добиться тишины и внимания не могла: начало семестра, до следующей сессии – как до Луны, за спиной – едва закончившееся лето, у всех масса новостей. Ну в самом-то деле, какая тут может быть учеба!
Весь день пролетел приблизительно по тому же сценарию: преподаватели ничего особо не требовали, бубнили свое, почти не обращая внимания на поведение аудитории, студенты в основном болтали и делились летними впечатлениями. С Мишей хотели поделиться если не все, то уж половина курса точно. Друзей у него было не много, а очень много! Ну ладно, пусть не друзей, а приятелей, но так даже веселее! Обязательств меньше, а удовольствия не в пример больше.
Несколько человек, однако, на бурлящее в группе веселье косились с явным недовольством. Лица их изображали готовность «учиться, учиться и еще раз учиться», а Мишина компания, видите ли, этому мешала. Подумаешь!
– Нищеброды и ботаны, что с них взять, – фыркнул Кирилл, когда их в очередной раз попросили вести себя потише. – Несправедливо, видите ли, что некоторые родители стараются для своих отпрысков, а некоторые и рады бы стараться, да сами никчемушники. Подумаешь, родители! Вместо того чтобы ныть и завидовать, помыли бы свои патлы и перестали сутками в Интернете торчать, на зловредную судьбу жаловаться. Может, и толк вышел бы!
Миша хотел было возразить, что от стартового положения все-таки немало зависит, но наткнулся на ненавидящий взгляд одного из «нищебродов» и подумал, что дело, может, и впрямь не столько в личном достатке, сколько в содержимом головы.
– Унылые задроты, – согласился он и отвернулся.
– Бюджетники! – ухмыляясь, подсказала Светка.
Те, кто учился «на свои деньги» (на самом-то деле на родительские, но какая разница), составляли на курсе абсолютное большинство. Студентов-бюджетников было по три-четыре человека на группу, так что вполне естественно, что воспринимали их как диковинку, как экзотических зверушек: надо же, что в жизни бывает! Чаще, впрочем, вовсе никак не воспринимали: ну грызут свой гранит и грызут, и пусть их, лишь бы под ногами не путались. Студенческие годы – самые веселые, это ж аксиома! А тут эти, заучившиеся, своим унылым видом половину кайфа портят!
– Вот уж ты не дашь заскучать, одно слово: Майкл – душа компании! – Кирилл продолжал вещать и во время перерыва, когда их компания оккупировала самый приличный из факультетских буфетов, тут даже соки были не из тетрапаков, а свежевыжатые. – Такие тусняки, как ты, ни у кого больше не выходят. Умеешь отжигать! Что бы мы без тебя делали!
– Да знамо дело, – ухмыльнулся Миша, довольный комплиментами, – грызли бы науку, как последние ботаники.
– Да вообще давным-давно бы со скуки перемерли, – поддержала Светка, звонко выстукивая тонким каблучком на мраморном полу какой-то латинский ритм. – Что ты там на вечер запланировал? Или опять сюрпризы готовишь?
– Увидишь. – Миша сделал загадочное лицо. – Подгребай к восьми, наших всех приводи. Веселье гарантирую.
– М-м-м… – Девушка мечтательно улыбнулась, прикрыв глаза. – Заранее предвкушаю. Ты лучше всех умеешь публику развлечь. Особенно когда ты и глотнуть, и покурить пригото…
– Тихо ты, – шикнул Кирилл, – совсем не соображаешь?
Вообще-то можно было бы и не шикать, ничего особенного в Светкиных словах не было. Чего такого она сказала, чего вздрагивать! Впрочем, мало ли кто что может подумать.
– Да ладно, – отмахнулась Светка, – подумаешь. Мишка же действительно достает превосходные… закуски. – И она лукаво подмигнула.
– Любой ваш каприз, – шутовски раскланялся он. – Все сделаем по высшему разряду. После пар заскочу в одно место, договорюсь насчет бухла, хавчика… ну и насчет… закусок.
– А в честь чего, кстати, собрание? – спохватился внезапно Кирилл. – Конец лета вроде отмечали, начало учебного года тем более. А сегодня даже не конец недели. Что праздновать-то собираемся?
– Ну-у-у… – протянул Миша, – скажем так. Я сегодня, проснувшись, почувствовал себя совершенно другим человеком. Так что можно назвать это днем рождения. И я на триста процентов уверен, что в ближайшее время – и в дальнейшее тоже! – все будет просто офигеть как зашибись!
– Это повод, – на удивление серьезно согласился Кирилл. – Я даже сказал бы «причина». – Он поднял стакан с соком. – За то, чтобы у всех нас все было офигеть как зашибись и зашибись как офигенно!
– Михаил, вы опять опоздали, – безразлично констатировал лектор, едва взглянув на Мишу, влетевшего в аудиторию через добрых двадцать минут после звонка. – Садитесь и будьте добры потише, пожалуйста. Не мешайте.
– Спасибо, – буркнул Миша, радуясь, что не надо выслушивать нотацию стоя. Стоять не то что не хотелось – не моглось: предыдущий вечер удался на славу.
Парень потихоньку пробрался мимо приятелей, таких же сонных и осоловевших, в дальний конец аудитории. Тут можно было уложить гудящую голову на стол и прикрыть глаза. Может, даже подремать. Препод бубнит так монотонно, так усыпляюще… Если глаза закрыть неплотно, сквозь ресницы видны расплывчатые цветовые пятна, в сочетании с лекторским «бу-бу-бу» выходит отличная колыбельная. Пятна слегка покачиваются, покачиваются, покачиваются…
Справа виднелось что-то белое. Да не просто белое, а – Белое! Прямо сияющее. Какой придурок в аудиторию фонарь припер?!
Миша приоткрыл один глаз. Белое оказалось блузкой. Впрочем, действительно сияющей. Прямо ослепительной. Другие девицы стразиками с ног до головы обклеиваются, ворочалось в сонной Мишиной голове, а у этой блузка сияет, тоже ничего. Да и сама девица вроде ничего. Только почему-то он ее не помнил…
Девушка, прикусив нижнюю губу, старательно записывала лекторское «бу-бу-бу» и время от времени с сочувственным интересом взглядывала в Мишину сторону. Блузка была, вероятно, шелковая, очень гладкая, так что толстенная русая коса при каждом движении головы соскальзывала со спины вперед, незнакомка досадливо перебрасывала ее обратно. Слепяще-белая, застегнутая до горла блузка дополнялась длинной (с Мишиного места было неплохо видно фланг соседнего ряда) темной юбкой. Ну и костюмчик! Не то курсистка из XIX века, не то героиня Чернышевского, не то одна из чеховских трех сестер. В общем, тургеневская девушка.
Прямо ангел какой-то в наш бедлам залетел, подумал Миша и сам удивился неожиданной мысли. Интересно бы посмотреть, как этот ангел в эдакой юбке в трамвай залезает. На автомобилевладелицу уж точно не похожа. Или, может, ее после занятий встречает шофер на «Кадиллаке», присланный суровым папашей-миллиардером? Миша усмехнулся. Надо же, какая дурь в голову лезет. Но прикид у нее действительно нестандартный. Наши-то дурищи в гламурные бренды как упакуются (ага, мода – наше все!), так и уверены, что самые крутые, что все теперь только на них и смотрят, что вот прямо сейчас под окнами выстроится очередь с бриллиантовыми обручальными кольцами. Причем бренды у всех дурищ одни и те же, а уверена каждая про себя. Еще и побрякушками увешаются, рождественская елка от зависти завянет, и на головах не пойми что под названием «Все ведущие тенденции сезона в одном флаконе нашего шампуня-кондиционера». Ну и макияж – «на тропе войны». Некоторые, впрочем, на радость преподам бизнес-леди изображают: юбка до колена, очочки, портфельчик, туфли а-ля завуч – причем все тоже брендовое. Изображают, в общем. Пестрота-пестрота, аж в глазах рябит, а сливается в нечто сугубо монотонное, вон как лекторский бубнеж.
А эта, тургеневская, странная. Не только потому, что на блузку аж глядеть больно, вообще странная. Вещь в себе. Девушка-ракушка. Интересно, а как насчет полагающейся внутри ракушки жемчужины?
– Михаил, я к вам обращаюсь, – прервал его странноватые размышления сухой голос преподавателя. – Причем уже в третий раз. Я привел пример, хотелось бы услышать, как бы вы справились с подобным казусом.
Миша покосился влево-вправо: хоть бы кто шепнул, что за пример, дальше можно что-нибудь придумать… Но все занимались своими делами: шептались, рисовали в тетрадках, дремали, как он только что. Многие пялились в телефонные экраны, не в силах даже на занятиях обойтись без «общения» в соцсетях.
Только «тургеневская девушка» бросила в Мишину сторону сочувственный (хотя и укоризненный) взгляд и… подняла руку:
– Антон Григорьевич, можно мне? Я как раз недавно интересовалась этой проблемой…
– Что ж… пожалуйста… – Преподаватель на мгновение запнулся, заглянул в какие-то листки. – Пожалуйста, Соня. А вы, – Михаилу достались презрительный прищур и брезгливая гримаса, – уже спускайтесь с небес на землю. Вам тут, знаете ли, жить и работать. А сперва – учиться. Уяснили?
Соня, значит, мысленно отметил Миша и, повернувшись поудобнее, начал разглядывать легко поднявшуюся со своего места спасительницу. Удивительно: наглухо застегнутая блузка (не облегающая, даже не прозрачная!) и строгая юбка в пол подчеркивали сексуальность Сониной фигуры куда сильнее, чем популярные у большей части студенток юбки-пояса, узенькие, с низкой талией брючки а-ля «вторая кожа» и коротенькие топики, позволяющие лицезреть все мыслимые разновидности татуировок (непременно на границе декольте или пояса джинсиков, как бы с намеком на немыслимые продолжения) и пупочного пирсинга. Миша ничего не имел против симпатичных девичьих пупков, но когда их вокруг десятки… надоедает, знаете ли. Все равно что работать на кондитерской фабрике: через пару дней от сладкого тошнить станет, о соленом огурчике, как о манне небесной, мечтать начнешь. Так и обилие продуманно полуобнаженных и старательно подчеркнутых, бьющих в глаза прелестей превращает эти самые прелести в собственную противоположность. Какой уж там sex appeal! Сонин же подчеркнуто скромный наряд словно высвечивал все достоинства фигуры. Достоинств было немало (Мишин взгляд, как и полагается ценителю, скользил снизу вверх): плавные линии бедер, округло сходящиеся к узкой талии, высокая грудь (поднявшись, девушка перестала горбиться и держалась подчеркнуто прямо, как балерина), стройная шея, точеный подбородок… Сдержанная, но изящная жестикуляция подчеркивала красоту хрупких запястий и длинных пальцев… И голос такой… приятный: и не повизгивает болонкой, и не басит а-ля роковая женщина…
Впрочем, даже вслушиваясь в голос девушки, Миша абсолютно не вникал в то, что же она там говорит. Разглядывать ее было гораздо приятнее. Ну и рисовать всякие мысленные картины… Правда, картины рисовались какие-то очень уж невинные, вроде блуждания по листопадно-золотому осеннему парку. Он попытался настроиться на более интимный лад, но максимум, что удалось представить, было гулянье под одним (в смысле общим) зонтом.
Вот уж воистину – ангел небесный, гений чистой красоты, удивился сам себе Миша. Но даже удивляться было приятно, так что возвестивший окончание лекции звонок Миша воспринял с некоторым разочарованием. Он бы, пожалуй, еще полюбовался сквозь полудрему, а тут, извольте радоваться…
– Майкл, здорово, ты как? – Кирилл, подскочивший к Мише, едва закончилась пара, дружески двинул его в плечо. – Оклемался? Ничего так вчера гульнули! Я твитнул сразу, так все аж обзавидовались. Эй, ты чего, корни пустил или от вчерашнего не отошел еще? Идешь?
Миша двинулся вслед за приятелем к выходу из аудитории, но как-то механически. Перед внутренним взором стоял образ спасшей его от преподавательского гнева незнакомки. Он видел ее то рассуждающей о юридических тонкостях, то почему-то на фоне осенних деревьев, в багряно-золотой короне из кленовых листьев, то в дождевой полутьме…
Но как, однако ж, Кирюха ухитряется быть таким бодрым, после того как вчера влил в себя чуть не ведро разнообразного алкоголя? Это не считая «закусок»… ох.
– Или тебя Сонечка эта зацепила? Ты так на нее пялился, я думал, сейчас у нее блузка задымится.
– Странная она какая-то. – Миша решил не обращать внимания на подколки, да и сил на это, по правде сказать, не было. – Почему я ее раньше не видел?
– Так она ж новенькая, перевелась откуда-то, – повел плечом Кирилл и тут же предложил: – Хочешь, уточню?
Вот что-что, а на помощь Кирюха всегда был готов кинуться. Ну, если, конечно, это не требовало с его стороны каких-нибудь особенных жертв. Лучше всего у него получалось гасить конфликты: улыбочка, шуточка – и любая склока тонула в общем хохоте. Юмор – вообще хорошее лекарство от накала страстей, особенно бессмысленных. Внушительные же габариты Кирилла и солидный стаж занятий карате, благодаря которым он заработал парадоксальное при таких размерах прозвище Джеки Чан, делали «лекарство» особенно действенным. Желающих Кириллу возражать, а уж тем более выяснять с ним отношения не находилось. Да и надобности, в общем, не возникало: характер у него был легкий, а шутки – совсем не обидные. Девушки и вовсе были от него в восторге, шепотом пересказывая друг другу подробности проведенной с «секс-символом факультета» ночи. Без зависти к очередной пассии, конечно, не обходилось. Но Кирилл был любвеобилен, вниманием своим жаждущих не обделял, так что завидовать было глупо, каждая «претендентка» отлично понимала: сегодня ты, завтра я. Да и серьезных планов на героя-любовника никто не строил, каждая ждала олигарха на «Майбахе» или в крайнем случае на «Бентли», оттачивая тем временем мастерство в искусстве «горизонтальной акробатики». И понятно, что лучшего «тренера», чем Кирилл, тут и желать было нельзя. Сам же он относился к сексу не серьезнее, чем к еде: приятно и для здоровья полезно, так чего ж тут огороды городить, высокие смыслы разыскивая. Если бы его спросили, зачем и почему он с такой легкостью меняет одну длинноногую силиконовую красотку на другую, он бы наверняка удивился: а почему нет? Сами же на шею вешаются. Кто ж откажется от бесплатного мороженого? Холодное, конечно, но вкусное! Главное – не переедать, потому что вкусное, конечно, но – холодное, от избытка можно и простудиться.
Миша сам удивился, поймав себя на столь обширных размышлениях на пустячную, в сущности, тему. Но сейчас бесконечная череда вечеринок вдруг начала казаться чем-то бессмысленным. Даже, пожалуй, утомительным. Зачем все это?
– Ну так чего? – Кирилл шутливо толкнул его плечом. – Запал на девочку? Собрать тебе информацию? Хотя… уж больно серьезна. Хлопот с такими не оберешься. Я вот даже пальцем бы не шевельнул, чтобы хоть одну пуговку ей расстегнуть.
– Тебя вроде никто и не заставляет, – с неожиданным раздражением парировал Миша, но тут же постарался взять себя в руки: вот еще не хватало из-за девчонки идиотом себя выставить. А проявление искреннего интереса – это, безусловно, идиотизм. Шуточек не оберешься. – Да ладно, я просто пытался понять, что за штучка. Ни на гламурищ наших не похожа, ни на нищебродку ботаническую. На портфельчик обрати внимание.
Кирилл почти демонстративно смерил взглядом присевшую на подоконник с учебником Соню и удивленно вздернул бровь:
– Однако. Вроде лакостовский. Да и туфельки явно не с вьетнамского рынка.
Миша хмыкнул:
– Вот то-то же.
Но Кирилл покачал головой:
– Тем более. Я ж говорю, непростая девочка, сложностей не оберешься. Тебе оно надо?
Миша расхохотался:
– Так это вроде ж ты и решил, что мне оно надо. У меня интерес исследовательский, а ты внезапно с чего-то решил, что практический…
– Да уж… – Кирилл не успел договорить, как на них налетела веселая компания.
– Вот вы где! Теперь вся компашка в сборе! Миха, Леха, Петруха, Натаха, Кирюха – вот она, жизнь-замануха! – Петины ужимки изрядно напоминали ярмарочного Петрушку в полном соответствии с простецким именем. – Где в эти выходные оттягиваться будем?
Миша опять почувствовал, как скука начинает переходить в раздражение. Неужели он – часть этой дурацкой тусовки? Причем часть довольно важная, судя по взглядам и репликам, без него тут ни одно веселье не обходится. Или это из-за того, что он даже среди этой золотой молодежи – один из самых обеспеченных?..
Да черт побери, что с ним сегодня творится? Что за мысли дурацкие, как не свои!
– Эй, Майкл, не спи, – толкнул его в плечо Петя. – Леха предлагает пикничок замутить, ты участвуешь? Шашлычки, озеро, купанье при луне в костюмах Адама…
– И Евы, – прыснула пухлогубая красотка в завязанной под грудью прозрачной рубашке и джинсовых, с кружевными вставками шортиках, открывающих смуглый животик…
И, екарный бабай, разумеется, камушек в пупке, с очередным приступом раздражения подумал Миша, как же можно без пирсинга, что ты! Как из инкубатора, честное слово! Точнее, из стрип-клуба. Одеваются так, словно в каждой аудитории рядом с лекторской кафедрой по шесту для стриптиза установлено. Но вслух сказал только:
– Отличная идея, я – за, само собой.
– А сегодня тогда по клубам только слегка прошвырнемся, чтоб сил не растерять перед отдыхом, ха-ха-ха, – не унимаясь, балаганил Петя.
Соня куда-то подевалась. Миша огляделся – вроде только что вон у того окна была – и уже нет, как пригрезилось. Тьфу ты! Может, наплевать на последнюю пару? В конце концов, у коммерческого отделения есть масса плюсов, основной из которых состоит в том, что любые учебные и околоучебные проблемы могут быть решены финансовым путем. Хоть вовсе на занятия не ходи, все равно не выгонят. С другой стороны, стоит ли пользоваться этими возможностями так уж нагло? Мать и так в него кучу денег вкладывает… Миша вздохнул и двинулся в аудиторию.
Надо же, хмыкнул он, войдя в душный кабинет и увидев за одним из первых столов Соню, правильные поступки иногда вознаграждаются. Не привиделась. Сидит себе, вполне реальная, из плоти и крови. Если приглядеться, так даже и не красотка вовсе. Миша забился в самый дальний угол, достал телефон и всю пару играл в какую-то бессмысленную онлайн-игру.
Едва дождавшись завершения учебного дня, он почти вывалился – ну и духота, черт бы их побрал! – на крыльцо, размышляя, в каком из клубов повеселиться.
– Все-таки маман твоя – молоток! – восхищенно причмокнул Кирилл, глядя, как Миша садится в машину. – Такую тачку подарить, это что-то!
Миша только усмехнулся.
– Майкл… а, Майкл? – Приоткрыв глаз, он увидел томно улыбающуюся пухленькими губками блондинку с кукольным личиком. – Где ты меня завтраком будешь угощать? А потом покатаешь, да? Или хочешь, я сама завтрак сделаю? Ма-а-айкл?
Миша замычал, вспоминая поговорку: чем веселее вечером, тем тошнее с утра. Вроде ведь и не планировали ничего, но оно как-то само все сложилось. Миша еще раз попытался если не открыть глаза, то хотя бы припомнить основные события прошлого вечера: сперва в модный ресторан (поужинать-то надо!), потом ставшие недавно традицией гонки на заброшенной трассе, потом в клуб (чествовать победителей, а как же!)… В клубе эта блондинка подвернулась или раньше? И к слову, а в каком клубе они гуляли-то?.. Сейчас уже и не вспомнить…
– Ма-а-айкл? Как насчет завтрака?
Ох, до чего ж пронзительно щебечут эти красотки, сил нет. Как, кстати, ее зовут-то хоть? Галя? Или Валя? Или просто Аля? Впрочем, какая разница! Все равно через час ее тут уже не будет.
– Воды принеси. И кофе сделай… пожалуйста. – Миша вытащил себя из постели и поплелся в ванную. Девушка, в это время напялив его рубашку, тыкалась по кухонным полкам, и он с некоторым раздражением подумал: почему поголовно все эти красотки свято убеждены, что мужская рубашка вместо халатика – страсть как сексуально? Но тут гостья удачно повернулась, демонстрируя весьма аппетитную попку… А может, и не зря убеждены… Раздражение слегка утихло, Миша даже улыбнулся: девица вполне тянула на экстра-класс. В конце концов, только это ведь и важно: знать, что все, чем ты пользуешься, – экстра-класс. В том числе и девушки, разумеется. Даже единовременные, как обозначал их Кирюха, стараясь подобрать к слову «одноразовая» синоним покорректнее. Хотя… одноразовая – она и есть одноразовая, подумал Миша, чего танцы церемониальные плясать?
Лениво водя по зубам щеткой, он прислонился к дверному косяку ванной комнаты: продолжать ночные игрища не хотелось (видать, ублажила его гостья по полной программе, жаль, что помнится все совсем смутно), но понаблюдать за полуголой красоткой – ну вот чисто с эстетической точки зрения – почему бы и нет? От головной боли, во всяком случае, отвлекает. Какое счастье, что сегодня опять ко второй паре.
После душа голове стало намного легче. Поразмышляв недолго – минуты две, не больше – у гардероба, Миша выбрал костюм и вышел на кухню. Контраст между собственным «готов к выходу» и почти голой Галей-Валей-Алей показался ему забавным. Как там называлась эта скандальная картина кого-то из французов? Та, что с мужчинами во фраках и голыми девицами. «Завтрак на траве»?
На кухонном столе красовался натюрморт в стиле «ах, милый, я еще и готовить умею»: вокруг чашки кофе разместились три-четыре тарелочки с выложенными на них закусками. Да уж, подумал Миша, вытащить из вакуумных упаковок ломтики сыра, ветчины и семги – верх кулинарного мастерства! Даже тарелки в сушилке нашла – медаль суперхозяйке!
«Суперхозяйка», зазывно улыбаясь, плюхнулась к нему на колени и подцепила с тарелочки ломтик сыра, явно намереваясь начать игру в «кормление с рук». Миша пересадил девицу на соседний стул и отхлебнул кофе:
– Иди одевайся уже, что ли?
Гостья обиженно надула и без того пухлые губки, но Миша уткнулся в чашку, поведя плечом – иди, мол, уже. И пока девица не собралась, так и сидел – отвяжитесь, мол, кофе пью. Кофе, кстати сказать, не хотелось совершенно. Миша вылил в себя с полбутылки холодной минералки, обулся, позвенел демонстративно ключами – на выход, дорогая. Старательно поднимаемых как бы в недоумении бровок он столь же старательно не замечал, а глубоких недовольных вздохов как бы не слышал. Вот так с ними и надо: осознав, что усилия безуспешны, девица даже щебетать перестала, вот счастье-то!
Высадив ее где-то в центре – ой, милый, мне еще к массажистке нужно заскочить, но вечером ты ведь обязательно позвонишь, да? – Миша двинулся в сторону университета, подумывая, что, может, и не стоило так стремительно выставлять гостью, вполне можно было уже в трезвой памяти повторить что-нибудь из ночной программы. А то бессмыслица какая-то выходит с этой Галей-Валей-Алей, равно как и с прочими ее клонами. С утра все равно толком не помнишь никаких ночных удовольствий, а затраты выходят изрядные.
Хотя, конечно, ему ли беспокоиться о финансах? Как говорил один из нынешних поп-деятелей, деньги не приносят счастья, но хорошо успокаивают. Не в бровь, а в глаз.
Вообще-то, вспомнил Миша, этот афоризм, по слухам, придумал вовсе не поп-деятель, а какой-то писатель… Но откуда бы писателю знать про богатую жизнь?
Богатую. Когда беспокойство о завтрашнем дне сводится к сомнениям по поводу выбора между тем и этим ночным клубом, костюмом или шампанским. Ну, или той, или этой девицей. И, главное, никаких «за чей счет этот банкет»! Деньги – потрясающая штука. Черта с два без них станешь душой компании! Без них даже физиономия становится такой унылой, что от тебя все шарахаться начинают. Деньги – это миллион возможностей и никаких обязательств!..
Ну, кроме минимальных, конечно. Ежу понятно, что если ты можешь себе позволить все самое-самое, то телефон позапрошлогодней модели или абы какой костюм ты себе позволить уже не можешь – не поймут, станут коситься, причислят к быдлу, к толпе, к биомассе. Кажется, французы придумали фразу про положение, которое обязывает? Действительно, так. Вон ботаников-нищебродов никто ни к чему не обязывает: ходи в чем хочешь, с кем хочешь и куда хочешь. А все потому, что у них-то этого самого положения вовсе нет!
Но вообще-то интересно было бы попробовать, каково это – жить без необходимости «соответствовать»… Стоп. Бедная жизнь… это ему знакомо… или нет?..
– Ау, Майкл, опять где-то витаешь? Тук-тук. – Наташа легонько постучала ему по лбу.
Оказывается, он уже успел – спасибо тебе, автопилот! – добраться до университета: вот коридор, вот дверь в аудиторию, вот реденькие кучки сокурсников у окон и по углам. Доразмышлялся!
– Ты перебрал, что ли, вчера? Или девица некачественная оказалась? – Наташин взгляд был тревожным и насмешливым одновременно. – Мрачный какой-то. И вообще, ты странный в последние дни. Словно мы все тебе надоели…
– Да я…
– Ой, я тебя умоляю. Ты сейчас скажешь, что как всегда круто отжигаешь и вообще первый активист, да? Только отжигаешь ты… – Она на мгновение задумалась, – без огонька. Точно номер отрабатываешь. А сам в это время какие-то мировые проблемы решаешь. – Наташа хмыкнула и опять легонько стукнула его по лбу. – Хватит думать, от этого морщины появляются и желудок расстраивается.
Она дернула плечиком и танцующей «подиумной» походкой направилась в аудиторию.
Миша покрутил головой. Положение обязывает – надо ж до такого додуматься! Практически «золотая клетка» и богатые тоже плачут, тьфу! Наташка права. Какие-то странные мысли наполняют его голову в последние дни. Ну, не наполняют, так, присутствуют, но – странные. Как будто чужие. Как будто он не баловень судьбы Майкл, а чья-то марионетка. И вдобавок это жутковатое ощущение закрытой двери: что-то помнится, а где-то провал. В собственном-то мозгу! Может, у него от непрерывных пьянок (если уж честно называть кошку кошкой) уже какая-нибудь шизофрения начала развиваться?..
Или это… скука?
Все эти бесконечные клубы, девицы, модные (не уследишь – будешь посмешищем!) бренды и тренды… Они же все «на одно лицо»! Весело, беззаботно, круто… но если представить, что вся эта круговерть будет повторяться не день, не месяц, а как минимум несколько лет (что там будет после университета – карьера крутого адвоката-международника, рейтинги «Форбс», саммиты в Давосе и всякое такое прочее, не менее крутое – непредставимо, туман полный) – это ж мрак и ужас! Тоска зеленая!
Ужас-то ужас, но Миша вдруг почувствовал снисходительное превосходство над приятелями – им-то подобные глубины наверняка недоступны, они-то все поголовно убеждены, что жизнь состоит из следования трендам и вообще легка, весела и приятна, а о смысле ее пусть вон йоги задумываются, им больше делать нечего, только собственный пупок разглядывать. Примитивная ведь, в сущности, публика, все эти веселые «золотые» ребята, то же самое быдло, только с деньгами. А вот уж он-то, Миша, понимает, что пупок не только для пирсинга.
Может, и на странную Соню он потому и обратил внимание, что она-то точно не «на одно лицо»? Гостья из другой галактики, честное слово! Вот уж с ней-то точно о скуке и каких-то там идиотских сомнениях – кто я? зачем я? – и мыслей не будет.
Миша скосил глаза влево. Почему-то он был инстинктивно уверен, что «тургеневская девушка с лакостовским портфелем» где-то совсем рядом. Инстинкт не подвел. Вот она, красавица, у соседнего окошка. Как портрет в рамочке – девушка с книгой на фоне серебристых облаков…
Впрочем, нет, не красавица, конечно. Фигурка ничего себе, а личико простоватенькое, как будто недопроявленное. Хоть бы глаза подвела, что ли. Глаза-то большие, но их же не видно ни черта! Портфельчик, кстати, хоть и лакостовский, а не новый, углы обтерты. Да и туфельки хоть и не с вьетнамского рынка, но и не «гвоздь последней коллекции», разве что прошлогодней. Вдобавок те же самые, что вчера были. Совсем не комильфо. И украшений у девушки никаких, даже уши не проколоты. И уж наверняка в пупке у нее нет никакого пирсинга! Неожиданная мысль Мишу развеселила, продолжал «инвентаризацию достоинств объекта», он уже более благосклонно. Ротик-то хорош и без помады…
Да и вообще, если не разбирать по деталям – симпатичная, вполне даже. Тень под планкой глухой застежки на блузке словно намекает на таящиеся под ней сокровища. Ушко, просвеченное падающими из окна солнечными лучами, и без украшений очень даже миленькое. Нежное такое. Наверное, от поцелуев оно розовеет, розовеет…
А что? Почему бы и нет?
Миша вспомнил, как вчера рисовал себе приятные картины прогулок в осенне-золотом парке и сердился, что не может представить ничего менее невинного. Сегодня, быть может благодаря ночным развлечениям, воображение было куда более послушным.
Уж конечно, девушка, будь она хоть трижды тургеневская, уступит его напору – не она первая, не она последняя. Вряд ли за ней ухаживали парни его, Мишиного, уровня. Да и вообще… он опять бросил взгляд на потертые уголки дорогого портфеля – вряд ли за ней вообще много ухаживали. Сперва, должно быть, она будет робеть, не веря своему счастью, а он не станет торопить события: сегодня приобнять, потом взять за руку, нежно перебирая пальчики (руки-то у девушки аристократически тонкие, пальцы узкие, благородные), едва заметно коснуться губами волос (волнистая прядь на виске так соблазнительно золотится в солнечном луче)… первая ночь… У нее, само собой, никого раньше не было, он будет первооткрывателем, победителем, властелином, а ее глаза будут нестерпимо сиять благодарностью к прекрасному принцу, обратившему на нее внимание… Говорят, из таких скромных отличниц получаются самые страстные и неутомимые любовницы…
Миша, слегка прищурившись, глядел на частые перламутровые пуговки: вот он медленно расстегивает самую верхнюю, обнажая нежное, вздрагивающее от волнения и робости горло, потом следующую… легкая тень скользит от ямки между ключицами, к ложбинке, где кожа совсем шелковая…
– Ты хотел о чем-то спросить?
Миша вздрогнул: Соня смотрела прямо на него, левая бровь вопросительно приподнята, взгляд открытый, без тени смущения. Хоть бы покраснела, как полагается тихоне. От неожиданности Миша растерялся, чувствуя, что готов залиться краской, как пятиклассник, впервые заметивший, что девочки отличаются от мальчиков… губы сами сложились в гримасу – подумаешь, видали мы таких.
Соня хмыкнула, губы ее ответили такой же презрительной гримаской…
На Мишино счастье, грянул звонок, дверь аудитории распахнулась, выпуская предыдущую группу. Не наши, механически подумал Миша, старшекурсники вроде. Впрочем, его сейчас не заинтересовала бы даже сборная Бразилии по футболу или команда инопланетян. Он чувствовал себя так, словно его собственный ботинок, к примеру, заявил: иди к лешему, я отдохнуть хочу, а ты хоть босиком гуляй, мне по фиг.
Нет, ну что она о себе возомнила?
Девушке, на которую обратили внимание, приличествует скромничать и смущаться. Ну, или по крайней мере делать вид, что она робеет: опускать взгляд, едва заметно улыбаться. Нет, можно, конечно, и отшучиваться, и глазками стрелять, намекая на возможность продолжения, – кокетничать, словом. Но в рамочках, в рамочках. Правила этой игры отработаны давным-давно, роли распределены: мужчина – охотник, женщина – добыча. Хотя, и Миша отлично это понимал, выбирает на самом деле женщина, кто бы спорил. Но ведь для того правила игры и существуют. Всегда же с первого взгляда ясно: будет толк или лучше сразу на другой объект переключиться, чтоб времени не терять. Даже у него, такого распрекрасного, бывали осечки. Мало ли что у этих девиц в голове творится. Некоторые вон в актеров и поп-идолов влюбляются, дуры. За другими походить-поухаживать надо. Но это тоже всегда ясно сразу, с первого обмена взглядами.
Эта же… Соня, черт ее подери! Мышь серая, а гонору! Ведет себя так, словно Мисс Вселенная, вокруг которой толпа поклонников (и все сплошь олигархи!), с трепетом ожидающих, кого звезда соизволит одарить своей благосклонностью, кого в глубокий запас отправит.
«Звезд» Миша не любил. Заполучить их тоже можно, было бы желание, но овчинка выделки не стоит. Мороки много, а толку чуть. В постели эти красотки думают только о собственном удовольствии, мужчина для них лишь инструмент, в качестве престижного приобретения (вроде «Ягуара») тоже не слишком хороши. Рядом с такой львицей даже первый парень на деревне выглядит лишь сопровождающим лицом. А роль пажа при королеве Мишу вовсе не привлекала. В общем, ну их, клеопатр этих.
Но эта-то! Сонечка! Ведь никакая не звезда, и близко нет. Но вместо того чтобы краснеть, смущаться и таять от счастья, глядит прямо, уверенно, еще и губки презрительно поджимает. Тьфу! Ненормальная.
А, к черту! Что там Петро про пикничок гутарил? Вот на этом и надо сосредоточиться.
Хотя, конечно, что тут особенно сосредотачиваться, несколько часов спустя размышлял Миша, лениво поглядывая на звезды, просвечивающие сквозь ветви старой яблони. Ну, природа. Ну, выпивка. Ну, девочки. Доступные, как вот эти яблоки над головой. Только руку протяни, сами в ладонь падают. Сейчас какая-нибудь непременно припрется с ахами и охами: что же ты нас бросил, шашлыки уже готовы, давай я тебя покормлю, давай я тебе коктейль сделаю, а пойдем купаться, а чего бы тебе хотелось… Девицы на пикнике – не то что эта дура Соня – привычно вешались ему на шею. Особенно те, что подтянулись из соседнего дачного поселка, победнее, не столь избалованные вниманием «золотых» мальчиков. От привычного, но оттого не менее приятного успеха Мишино самолюбие удовлетворенно мурлыкало. Потом, оттого что все привычно и неизменно, даже стало скучновато, и Миша вдруг поймал себя на том, что ему хочется, чтобы скорее наступил понедельник. А пить, наоборот, совсем даже не хочется. Когда пришло время возвращаться в город, он, отговорившись усталостью и головной болью, даже отказался «еще где-нибудь поклубиться».
– Ты в монастырь еще не собрался? – съязвила Натаха. – Прям просветление у тебя на лице какое-то, скоро крылья прорезаться начнут. Лопатки не чешутся еще?
Миша, ухмыляясь, похлопал ее по аппетитной попке, обтянутой блестящими шортиками – дабы убедилась, что до аскетизма ему еще далеко, – и отправился домой. Спал он сладко, как младенец. Хотя, пожалуй, таких снов младенцам не показывают. Снилась ему Соня. Сон-Соня, Сон-Соня, Сон-Соня, звенело в голове. Вот всегда бы так…
В понедельник Миша чувствовал себя прекрасно, но изображал ужасающую усталость от бурно проведенных выходных и искоса посматривал на Соню – должна же она заметить, что у него и без нее все великолепно! Вотще. Он стал пялиться на нее практически в упор – с тем же результатом. Да что же это такое!
День, другой, третий он с неослабевающим упорством продолжал разглядывать «эту ненормальную», ожидая, когда же она вновь поинтересуется, что ему нужно. Уж теперь-то его врасплох не поймаешь! Миша придумывал десятки ответов: остроумных, презрительных, уничижительных, моментально ставящих эту выскочку на место. Вот пусть только хоть словечко ему скажет, уж он-то…
Однако Соня не только больше ни о чем его не спрашивала – она даже не глядела в его сторону! Миша знал это абсолютно точно, поскольку наблюдал за ней неотрывно. Черт знает что, честное слово!
Приятели не преминули это заметить и, разумеется, начали всячески подкалывать. Правда, подшучивали слегка, вполне дружелюбно: все-таки душа компании, не какой-нибудь прихвостень.
– Майкл, плюнь, ты же видишь, девушка-то совсем не наша. Может, она вообще… – сочувственно предположил Кирилл, – ну… по другой стороне улицы гуляет?
Наташа задумчиво покачала головой:
– Да не, на лесби она не похожа.
– А ты – спе-е-ец, да? Или на них какое тайное клеймо стоит, а у тебя колдовское зрение? – гримасничая, протянул Петя.
Девушка фыркнула:
– Петруччо, солнышко, ты ж знаешь, у меня сестрица двоюродная… насмотрелась я, в общем.
– Лесби? Соня?! – возмутился Миша, сам изрядно удивившись своему гневу.
– Да ладно тебе. – Кирилл примирительно положил руку ему на плечо. – Мы же не со зла. Больно ж глядеть, как ты изводишься.
– Вот и не гляди! – Миша сам не понимал, почему его так взбесили реплики друзей.
Друзей, как же! Сочувствуют они, ага! Устрицами не корми, дай постебаться над соседом, это ж так весело! Придурки.
Он развернулся и стремительно зашагал к выходу.
На улице еще припекало, но прозрачную небесную синеву уже затянула белесая облачная хмарь, а на бледном асфальте появились редкие темные пятнышки. Дождь? Или так, пугает? До машины добежать – два шага, но вдруг сейчас хлынет. Может, переждать? Миша погладил полированную колонну. Мрачно-багровый гранит был теплым.
Миша уже привычно спрашивал себя: «Зачем я общаюсь с этими… с этой компанией? Неужели я такой же, как они? Хамоватый пустоголовый придурок, которому плевать на всех, а важны только модные прибамбасы?» Нет-нет-нет, он совсем не такой! Ведь он гораздо умнее, чем все они, вместе взятые, у него, в конце-то концов, есть и душа, и благородство… Но Соне-то откуда об этом узнать? Раз он, хоть трижды распрекрасный, все время с этими придурками, конечно, она уверена, что он и сам такой же…
– Да, пожалуй, по сравнению с основной массой здешней публики колонна – не такой уж плохой собеседник. – Негромкий голос заставил его едва ли не подпрыгнуть.
Осознав, что говорил вслух, Миша вздрогнул и поперхнулся. Черт! Опять он выглядит полным идиотом! Все придуманные заранее уничтожающе язвительные реплики куда-то улетучились. Хотя… может, это и к лучшему? Соня улыбалась так дружелюбно, что ставить ее на место совсем не хотелось. Хотя реплика звучала и довольно насмешливо, но голос… голос противоречил словам.
Но Миша все-таки не удержался:
– Если ты такого невысокого мнения о здешней публике, зачем ты ко мне-то подошла? – Он сам не знал, зачем язвит, чего добивается. Хочет ее обидеть или хотя бы смутить? Если и так, то попытка явно провалилась. Сонино самообладание (а может, ей просто безразлично?) было непоколебимо, голос звучал все так же спокойно и дружелюбно:
– А ты туда не вписываешься. – Она слегка покачала головой.
– Не вписываюсь?! – изумился Миша. – Ничего себе! Да я там душа компании, если ты еще не заметила.
– Заметила, – согласилась Соня. – Но частью компании это тебя не делает.
– Что за бред?! – Миша, словно забыв, что всего пару минут назад сам мысленно открещивался от приятелей, был почти возмущен, услышав то же самое мнение со стороны.
Соня усмехнулась:
– Ну, видишь ли… с колонной ты разговаривал куда более эмоционально, чем с ними. С ними ты, – она замялась, подбирая слово, – тусуешься. Тачкой хвастаешься, по клубам ездишь, млеешь от общего внимания…
– Ты… ты… ты следишь за мной? – Он задохнулся от возмущения пополам с каким-то странным, совершенно неожиданным удовольствием.
– Наблюдаю, – уточнила девушка.
– Зачем? – изумился Миша.
– Мне интересно, – объяснила Соня.
– Интересно? – переспросил Миша, не особенно понимая, хорошо это или плохо и что такое вообще это самое «интересно». Ага, вот сейчас она должна изобразить признание Татьяны Онегину… Но Сонин ответ оказался меньше всего похож на любовное признание:
– Ну да, интересно. А разве тебе не интересны люди? – И добавила нечто совершенно неожиданное: – Какой же ты в таком случае будущий юрист?
По правде говоря, Миша вообще не думал о себе как о будущем юристе. Мало ли что он на юрфаке учится. Это ж одно из престижных направлений, не какая-нибудь ветеринарка, где еще и всякие биологические гадости придется проходить, тьфу. Однако мысль о том, что юристу придется работать с людьми, показалась любопытной. Уж всяко интереснее надоевших обсуждений того, какой бренд нынче моднее и круче.
– Хочешь сказать, я тебя интересую в профессиональном плане? – с сомнением произнес Миша. Предположение показалось ему диким и даже не слишком лестным (что я, кролик подопытный, что ли, чтобы на мне навыки оттачивать).
Соня прислонилась к колонне.
– В некотором смысле… – Она помолчала. – Да ты не обижайся, я совсем не… – Рассмеявшись, девушка не закончила фразу и опять ненадолго замолчала, точно раздумывая, объяснять свой интерес или не стоит. – Понимаешь, дело такое. Мне предложили подработку в юридической фирме. Вечерами. Работа, конечно, техническая, скучноватая, мы же не на старших курсах еще. И платят, конечно, копейки. – Она нахмурилась. – Зато по специальности. А фирма солидная, в смысле карьеры там очень хорошие перспективы. – Соня побарабанила пальцами по колонне, оценивающе глядя на Мишу. – Но там нужны двое, по-другому никак. Вот я и хотела тебя пригласить…
– Меня?! – изумился Миша. – Что, среди примерных учеников никого не нашлось?
Девушка скептически поморщилась:
– На техническую работу они годятся, конечно. Но там же перспективы. Наши, – она хмыкнула, – примерные ученики все какие-то зашоренные, от сих до сих, ни шагу влево-вправо, никакой гибкости, никакой живости ума. Думают, что юриспруденция – это выучить кодексы, подзаконные акты, ну комментарии прочитать, учебники – и все. Но это же глупость. А ты, хоть и раздолбай, – девушка улыбнулась, смягчая резкость выражения, – учишься не ради диплома, не просто так время отбываешь. В глазах интерес. – И после короткой паузы она с тем же дружелюбным смешком добавила: – Когда не с похмелья. Но тебе, по-моему, и самому эти бесконечные отжигания надоели. Правда ведь?
– Ну… – Миша не нашелся, что ответить.
– То есть ты не против поработать? – уточнила она.
– Ну… можно попробовать, – протянул он, кляня себя за косноязычие.
– Чудесно. – Даже это банальное выражение удовольствия звучало в Сониных устах как-то очень искренне. – Сейчас мне надо бежать, извини. – Она повела плечом. – А завтра я тебе все подробно расскажу, договорились?
Миша кивнул:
– Договорились. И… – собрался он с духом, – может, не тут? В смысле – не в университете? Ну чтоб сесть спокойно, все обсудить. Чтоб не мешали.
Девушка пожала плечами и усмехнулась:
– Да, пожалуй, тут болельщиков набежит, ты прав. Можно в кофейне какой-нибудь посидеть… в приличной. – Она прищурилась, точно оценивая грядущие перспективы. – Ты же понимаешь, что те места, которые ты обычно посещаешь, для деловых переговоров не совсем подходят?
В приличной? Миша опять растерялся. С одной стороны, Соня, конечно, права, с другой… черт побери, он что, ни одного приличного, в смысле – спокойного заведения не знает? Память вытолкнула только одно название:
– Как насчет «Желтого чайника»? Тут неподалеку. Я, правда, давно там не был, может, они и закрылись уже…
Когда-то давным-давно, словно в другой жизни, он ходил туда с мамой. Денег тогда было мало, приходилось экономить на всем (вот странно, с чего бы это, и опять это ощущение «я что-то забыл»), и каждый поход был настоящим праздником. Самый маленький чайник чая и два пирожных (мама тихонько подкладывала на его блюдце кусочки своей порции) они растягивали часа на два и чувствовали себя миллионерами на шикарном курорте. Миша вспомнил разноцветные салфетки в смешных держалках в виде мультипликационных персонажей, плетеные кресла (сейчас бы он сказал: фу, пластик, какая дешевка!) на летней террасе, увитой диким виноградом, по веткам которого кое-где «карабкались» крошечные веселые (ну и что, что пластмассовые!) мартышки… губы сами собой разъехались в улыбке.
Соня, улыбаясь, покачала головой:
– Не закрылись. Я там была недавно, чувствовала себя героиней Кэрролла. Соня в чайнике, только Безумного шляпника и Мартовского зайца не хватает. – Она рассмеялась.
– Кэрролла? – непонимающе переспросил Миша.
– Ну да, «Алиса в Стране чудес», – удивленно расширив глаза, пояснила девушка. – Помнишь, они там Соню в чайник запихивали? На Безумном чаепитии.
– А… ну да, – согласился он, хотя «Алису в Стране чудес» помнил смутно. – А ты совсем не такая, как я думал. Ну… на первый-то взгляд… – Он замялся, потому что мало ли что там показалось на первый взгляд и мало ли какие язвительные остроты он себе за эти дни напридумывал, но сейчас, когда только-только стал налаживаться хоть какой-то контакт, назвать Соню ботаничкой было бы запредельной грубостью.
Девушка опять рассмеялась – негромко, но звонко. Так звенит апрельская капель, подумал Миша, удивляясь себе: какие странные мысли в голову приходят, апрельская капель, надо же.
– Люди вообще существа разнообразные, – покачала головой Соня, – с первого взгляда не очень-то разберешь, что у кого внутри. Но так гораздо интереснее жить, правда? Ты ведь тоже, оказывается, не только ночные клубы знаешь, а и, кто бы мог подумать, такие вот милые места. Потому что кафе и впрямь чудесное. Там еще обезьянки такие смешные на террасе.
– Точно! – обрадовался Миша. – Значит, завтра после занятий?
– Завтра суббота, – напомнила Соня. – Тебя твоя компания никуда не утащит? Отжигать…
Миша хотел было возмутиться, что он не мешок картошки, чтоб его тащить, но увидел, что в глазах девушки прыгают смешинки, и заявил сурово:
– Пусть только попробуют!
Уже засыпая, он представлял себе завтрашние… деловые переговоры, подумать только! Вряд ли предлагаемая работа – такая уж находка (Миша вообще считал, что до окончания университета о работе и задумываться-то глупо, а потом все само как-нибудь уладится), но зато какие перспективы! Подумаешь, платят копейки. Уж он-то может себе позволить вообще не зацикливаться на зарплате. Зато с Соней будет общаться практически наедине, без наблюдения и шуточек бдительных приятелей… как она сказала? болельщиков? Вот-вот. А работа, она говорит, вечерами, значит, и провожать ее можно будет с полным правом, и поужинать вместе. Раз, другой, третий, а там, глядишь, и в гости зайти согласится. Главное, не спугнуть… Сон затягивал, как гигантская белая воронка…
…гигантская воронка затягивала меня все глубже и глубже. Тело было легким, невесомым, воронка превратилась в галерею, стены которой были заняты бесчисленными портретами, только не черно-белыми, как в прошлый раз, а цветными…
Стоп. Какой еще прошлый раз? Я что, уже видел этот сон? Да… кажется… или нет? Вихрь поднимал меня выше, выше – к небесам на скоростном лифте…
– Ну ты даешь – на лифте! Скажи еще – на подъемном кране! – Низкий глубокий голос… нет, Голос раздавался откуда-то сверху. Или отовсюду сразу? – С фантазией у тебя все в порядке. Когда ты представлял, как будешь эту Сонечку неприступную… – Голос непристойно расхохотался. – Я прям засмотрелся-заслушался.
Засмотрелся? Заслушался? О чем он? Соня мне снилась, да, и действительно в таких видах, что десять цензоров удавятся, но… Додумать я не успел: вихрь внезапно, как и не было, затих, и я обнаружил, что основательно стою на ногах, упираясь носом во что-то твердое. Приоткрыв глаза, я увидел, что твердое было еще и белым. Чуть отступив назад, я понял, что белое – это дверь. Гладкая, скучная. Какая-то больничная. Очень странно. У меня в квартире, где я ложился спать, двери темного дерева. Постой, постой… У меня?
– Ты заходи давай, – продолжал Голос, – хватит озираться, ничего важного ты тут не увидишь, одно слово – кажимость. Ты сейчас лежишь на террасе кафе «Желтый чайник», умирая от пули, пробившей твое сердце полсекунды назад. Но не в тумане же тебя держать, надо, чтоб обстановка хоть более-менее натуральная была, а то совсем растеряешься. А ты и так пока все еще не в себе. – Он хмыкнул. – Ничего, сейчас опомнишься.
Я толкнул дверь и увидел за ней просторную, неправдоподобно белую комнату. Она напоминала больничную палату, вот только белизна была, даже не знаю, как объяснить, чересчур белой. До головокружения. Комната буквально подавляла белизной. И пустотой. Никого, кто мог бы со мной разговаривать, за дверью не обнаружилось.
– Присядь, выпей воды, расслабься. Сейчас придешь в себя. – Голос снова хмыкнул. – Вот именно. Придешь в себя.
На пол, что ли, садиться, подумал я и внезапно увидел рядом белое кресло, мягкое даже на вид. Уселся. Внешнее впечатление не обмануло: кресло послушно приняло очертания тела. Рядом, на таком же белом столике (откуда он взялся?) стоял высокий стакан с прозрачной жидкостью. Вот интересно, почему при всяких там потрясениях человеку сразу стакан с водой подсовывают? Что ли от стресса непременно должно хотеться пить? А если не хочется?
С некоторой опаской я, понюхав (ничем не пахло), пригубил содержимое. Действительно, вода. Чистая, прохладная, удивительно вкусная. Глоток, другой, третий… холодная жидкость лилась в горло и, казалось, растекалась по всему телу, вплоть до кончиков пальцев. Когда стакан опустел, я почувствовал, что дремотное состояние оставило меня. Точнее, не так. Я почувствовал, что минуту назад я как будто грезил, а теперь голова ясная, чистая, как эта вода.
– Ну что? – усмехнулся Голос. – Проснулся?
– Я… я… – Я хватал воздух, точно задыхался. – Что это? Чем вы меня напоили?
– Это всего лишь вода, друг мой, – дружелюбно пояснил Голос, – обыкновенная вода. Люди удивительно недооценивают ее возможности. Чистая холодная вода бодрит и отрезвляет лучше всех этих ваших кофе, ты заметил?
– У меня такое ощущение, – бормотал я, инстинктивно пытаясь отодвинуться от столика со стаканом, который опять уже был полон, – будто меня выдернули из моего тела и сунули в другое… кошмар какой-то.
Все-таки человеческий язык слишком скуден для описания того, что я чувствовал. Приходилось ли вам посреди ночи, когда сон предельно глубок, просыпаться от резкого звука, будь то будильник, телефон или звонок в дверь? Когда сознание, еще уверенное в реальности сонных грез, внезапно оказывается в другой плоскости, где все доказывает, что настоящее – здесь и сейчас. Я был почти уверен, что Он мог заставить меня очнуться и не столь жесткими (жестокими!) способами, но моя обалдевшая физиономия, должно быть, создавала дополнительный повод для веселья. Потому что, судя по интонации, Он совершенно очевидно веселился:
– Выговорился? – насмешливо поинтересовался Голос, хотя я молчал. Ах да, он же, наверное, слышит мои мысли. – Вот-вот, – подтвердил он мою «телепатическую гипотезу». – Ну так что? Еще ругаться будешь или как? Нервный ты какой-то, нежный. Прямо мимоза. Подумаешь, разбудили его грубовато.
Я промычал что-то нечленораздельное и уставился в потолок. Не потому, что Голос доносился именно оттуда, а потому, что надо же хоть куда-то смотреть.
– Ладно, не дуйся, давай обсудим твою первую попытку. Что ты чувствовал, как тебе эта шкурка?
– Я уже сделал выбор! – выпалил я. То ли я еще не отвык от ощущения себя Мишей – все-таки за девять дней я успел изрядно с ним сродниться, – то ли вспомнил старую истину, что от добра добра не ищут, но меня переполняла уверенность: Миша – это то, что нужно.
– Да неужели? – с откровенной издевкой произнес Голос.
– Да! – как можно более твердо заявил я. – Я хочу остаться Михаилом. Меня абсолютно устраивает и его тело, и его мысли, и вообще вся его жизнь.
– Ну да, ну да, – саркастически согласился Голос. – Восемьдесят кило мышц на восемьдесят граммов мозга. Плюс мамочка, которой ничего для ненаглядного сыночка не жаль. И что самое главное, этого самого «ничего» у мамочки довольно много. Так что юный оболтус может купаться в удовольствиях, не ударяя палец о палец. А ведь мальчик-то примитивненький, скучный. Ни взлетов, ни падений. Без последних, напомню, взлетов не почувствуешь. Никакой мальчик-то в общем и целом. И эмоции такие же никакие, чуть тепленькие.
– Ничего себе чуть тепленькие! – возмутился я, вспоминая, как переживал из-за того, что Соня не обращает на меня внимания.
– Ой, я тебя умоляю! – Голос неожиданно выдал интонацию «старого одессита». – Эти твои прыжки вокруг девочки, которой хватило мозгов понять, что ты пустышка, это все тьфу, манная каша на воде, без сахара и даже без соли.
– Почему это пустышка? – неожиданно обиделся я. – Она же именно меня выбрала…
Он хмыкнул:
– Вот-вот, выбрала. Потому что из Майкла умная женщина вылепит все, что ей нужно. Хоть юного карьериста, хоть комнатную собачку. Или даже все в одном флаконе, как в данном случае. Сонечка – девочка неглупая. – Он помолчал. – Хотя, безусловно, есть свои минусы…
– Хочешь сказать, ее тоже убили в том кафе? – Задохнувшись от этого внезапного предположения, я сам не понял, как обратился к Голосу на «ты». Но Ему, похоже, было наплевать.
– Ну вот так я тебе все и выложил, – продолжал иронизировать Он.
– Зато Майкл молод и здоров, – настаивал я. – Если уж мне предстоит прожить еще тридцать три года, не стариком же мне становиться.
– И тебя не смущает, что, если юноше сейчас около двадцати, значит, доживет он всего-то до пятидесяти трех? – почему-то возразил Голос. Мне показалось, что теперь Он возражает не из издевки, а как будто пытаясь мне что-то подсказать, вот только я не мог понять, что же. – Не маловато?
– Но я чувствую, что это – мое! – Начав настаивать на Мишиной кандидатуре, продолжал я уже как будто по инерции. – Ты же видел, как быстро я в него включился, даже забыл собственное «я». Может, потому что я и есть он?
Он вздохнул, словно бы я чем-то его огорчил:
– Собственное «я» ты забыл, потому что не просыхал от веселья. Тебя можно понять. Все легкое, яркое, пестрое, сплошной карнавал. И молоденький, и здоровенький, и красивенький, и богатенький – ну золотой мальчик, прелесть что такое!
– Миша – не просто богатенький мальчик. – Я сам не понимал, почему мне так необходимо защитить Михаила. – Это все внешнее, у него есть шанс все изменить.
– Конечно-конечно, – довольно устало согласился Он, словно бы смирившись с моей «непонятливостью». – Милая девочка Сонечка. Если бы не она, ты за все девять дней вообще не вспомнил бы, что в жизни есть что-то кроме вечеринок под названием «в ночь с пятницы на вторник».
– Но… – Я не знал, что возразить, но был уверен, что и без всяких Сонь мог бы встряхнуться и начать новую жизнь.
– Ой, хватит, – прервал мои размышления Голос. – Мы с самого начала обо всем договорились, коней на переправе не меняют, в смысле правила игры уже определены. Если в итоге выберешь золотого мальчика – вперед. Но сейчас ты отправишься в следующее увлекательное путешествие по чужой – ну, или своей – жизни. И вдруг тебе там понравится больше?
– Ну… – замялся я, не зная, что сказать.
– Я сказал «не спорь». – Интонации Его постепенно становились все холоднее и холоднее. – Условия обозначены, меняться ничего не будет. Так что расслабься и постарайся получить удовольствие. А то профукаешь очередную попытку так же, как первую.
– Почему… разве я ее профукал? – растерялся я. – Я же все помню.
– Помнишь. Зато там, – Голос сделал паузу, – моментально все забыл. Выпивка, автогонки, девочки и прочая веселуха. Короче, полное погружение и никакого наблюдения за процессом. Да и погружение-то не полное. Про мать вспоминал только в связи с финансами, разве нет?
– Я чувствовал, что в мозгу как будто какие-то двери закрыты! – Вот тут я возмутился совершенно искренне. В самом деле, что это такое: сам подкручивает гаечки у меня в мозгу и сам же обвиняет меня в том, что я чего-то там соображаю недостаточно отчетливо.
– И даже не попробовал их открыть. – Он не возражал мне. Он просто констатировал факт. Даже не подчеркнув интонацией, печалит ли его этот факт или, к примеру, возмущает. Впрочем, вряд ли Его может возмутить мое поведение, наверняка же Он сверх всякой меры насмотрелся на любые человеческие проявления. – Устроился поудобнее на пассажирском сиденье, а сесть за руль не то что не пытался, даже и мысли не было.
– Ты меня воспитываешь, что ли? – От справедливых, чего уж там, но очень уж равнодушных замечаний Голоса я почти впал в бешенство. – Так я в учителях не нуждаюсь, взрослый!
– Ну да, ну да, – добродушно проворчал Он. – Упрямство, друг мой, штука неплохая. – Он помолчал. – Если правильно его использовать. Через тернии к звездам, и все такое. А если назло маме отморожу уши – это, как оно у вас там называется, чистый детский сад. В общем, как повернуть. Хотя это о чем угодно можно сказать. На своем упрямстве ты мог бы, как вы говорите, въехать прямо в рай, причем построить его себе еще при жизни. А вместо этого предпочитаешь казаться глупее, чем ты есть.
– Значит, все-таки я – подопытный кролик? Или даже пробирка с неизвестным веществом? – Почему-то это предположение меня не слишком обидело. То ли потому, что я высказал его сам, то ли и впрямь «уничижение паче гордости», никогда я не чувствовал потребности разбираться в этих тонких материях.
– Ну почему «неизвестным», – уточнил Он мое сравнение. – Вполне известным, но способным расти в разные стороны. Речь не о химической реакции, а скорее о биологической. Не азотная, к примеру, кислота в пробирке, а несколько бактериальных культур. Может вырасти одна из них, может другая, а могут все сразу. Или не одна.
– И все-таки – почему я? – Мне уже самому становилось неловко за свою настырность, но ответ на этот вопрос меня действительно интересовал.
Голос устало вздохнул:
– Какие ж вы все одинаковые, скучно. Как актеры на кастинге. Толпятся в огромной приемной, из кожи вон лезут, лишь бы заметили. А когда режиссер наконец кого-то выбрал, счастливчик со слезами на глазах начинает вопить: «За что мне такое счастье?» – Он хмыкнул. – Ну, или «несчастье», в зависимости от личных амбиций и темперамента. А потом, когда время уже на сцену выходить, начинают вместо живой актерской игры деревянных кукол из себя изображать. Манекены. Да еще и скопированные откуда-то.
Я пропустил мимо ушей рассуждение о манекенах, напуганный словом «несчастье»:
– А вдруг я сейчас проснусь бездомным нищим? Или инвалидом?
Мой испуг Его, однако, ничуть не тронул:
– Ну… могу обещать, что олигофреном ты не окажешься. Что же до остального, то… Тебя так пугает физическая немощность? Или финансовая несостоятельность? А как же упрямство? Как же способность к борьбе, к преодолению?
– Что можно преодолеть за девять дней? – усмехнулся я.
– Многое, уверяю тебя, – довольно равнодушно сообщил-подсказал Он.
– Но зачем? Разве невозможна жизнь в радости и счастье, в наслаждении каждым днем? – В сущности, я продолжал задавать все тот же вопрос «почему я?», попутно стараясь обезопасить себя от каких-то совсем уж кошмарных перспектив. Наивный. Нашел с кем тягаться.
Но, кажется, Он воспринимал мою наивность – и все остальное – не более чем источник развлечения. Или все-таки материал для работы?
– Ты, когда был «золотым мальчиком» Мишей, много наслаждался? – Вопрос опять походил на подсказку, только я не мог понять, что же мне подсказывают. – По моим наблюдениям, все больше от похмелья страдал. А когда не от похмелья, то от скуки. Без зимних морозов нет радости от весеннего тепла. И кстати, морозами тоже можно наслаждаться.
– Мазохизм какой-то, – буркнул я.
– Вовсе нет. – Голос звучал все более безразлично, словно Ему надоело со мной возиться. – Будь честным наблюдателем, отбрось затверженные «приятно» – «неприятно». Приятно-неприятно существуют только в твоей голове. Вот «тепло» и «холод» реальны. Причем тепло ничуть не лучше холода, и наоборот. Чтобы растить цветы, лучше тепло, чтобы кататься на коньках, лучше холод. Ну, давай, пора тебе возвращаться в реальную жизнь.
«Не хочу!» Это было последнее, что я успел подумать.
Глава 4
И вновь это странное жутковатое ощущение: словно ныряю с гигантского прибрежного утеса в едва различимый внизу океан или шагаю в разверстый люк самолета, почти не чувствуя, как давит спину парашютный ранец, – падаю в бездну – дыхание перехватывает, солнечное сплетение наливается льдом, сердце вот-вот остановится… кажется, я кричу. Кричу бесконечно долго, я весь – разорванный ветром крик ужаса и восторга, мгновения превращаются в часы, в годы, в тысячелетия…
На самом деле падение продолжается не больше секунды. Уже через несколько мгновений я вновь становлюсь существом из плоти и крови, вновь чувствую себя человеком в человеческой реальности, пока еще, однако, не осознаваемой.
Открываю глаза, но все так же ничего не вижу. Меня окружает тьма, которая, кажется мне, даже еще гуще, чем за сомкнутыми веками. Тьма глухая, вязкая, как строительная смола, которую мы с приятелями жевали в детстве. По спине струится ледяной пот – так вот что Он мне приготовил! Жизнь слепого!
Не-е-ет!
Еще через мгновение тьму начинают разбавлять смутные серые тени, неясные размытые контуры каких-то предметов, едва различимые отблески света.
Ночь.
Я перевожу дух. Сердце все еще колотится, точно пытаясь взломать грудную клетку. Просто ночь, повторяю я, пытаясь унять его сумасшедшее биение. Инстинктивно сжавшиеся пальцы вцепились в мягкую шелковистую ткань, на которой я лежу. Простыня. Теплая уютная безопасная постель. Просто ночь, не слепота. Спасибо тебе, Господи!
Голос, к моему величайшему удивлению, ничего не отвечает. И, в отличие от первого пробуждения, я не чувствую Его присутствия. Должно быть, Он решил, что я уже вполне освоился в путешествиях по чужим телам и сознаниям и меня можно оставить наедине с собой, без поддержки. Эта мысль вызывает изрядное облегчение: все же чувствовать себя объектом в стеклянной пробирке, на которую взирает равнодушный, хотя и любопытный наблюдатель, довольно неуютно.
Облегчение, однако, тут же начинает вытесняться поднимающейся изнутри волной страха. Не наполнявшего меня недавно животного ужаса перед падением, не всеобъемлющего «не-е-е-ет!» при мысли о жизни вслепую. Моя паника сродни страху потерявшегося в «Детском мире» ребенка: вокруг – тысячи притягивающих глаз и пробуждающих желание соблазнительных игрушек, но – мама, где мама?!
Этот страх остро приправлен живой, очень человеческой тревогой – предчувствием беды. Неизвестно какой, но близкой, близкой настолько, что волосы шевелятся, словно бы от жаркого дыхания притаившегося во тьме, готового прыгнуть хищника.
Не сумев разобраться в собственных ощущениях (сколько я так лежал? часы? да нет, скорее всего, несколько минут, но они растянулись в бесконечность), я пытаюсь встать с постели. Но тело внезапно накрывает волна такой абсолютной, такой непобедимой, практически смертельной усталости, что какое-то мгновение мне кажется, что меня вновь выносит туда, в туманное ничто, в белую комнату.
Он передумал?!
Я еще не успел ни обрадоваться этому, ни испугаться, как почувствовал, что пальцы, плечи, веки точно наливаются свинцом. Это ничуть не было похоже на испытанные раньше падения в туман, скорее, на ощущения после лошадиной дозы снотворного. Неужели я просто засыпаю? Зачем?
– Не сопротивляйся, – прозвучал в моем сознании Голос. – Тебе нужно выспаться. Тебе понадобятся силы. Много сил.
Словно чьи-то руки с силой, но мягко надавливают на мою грудь, возвращая меня в постель. Потяжелевшие веки закрываются как будто сами, так что я не могу, я просто не в силах удержать глаза открытыми. Тьма вновь затапливает и окружающее пространство, и мое сознание. Я проваливаюсь в сон.
Нежное пение флейты – волшебной флейты! – доносилось, кажется, откуда-то с вышины, заставляя вспомнить о трелях прославляющего утро жаворонка. А сопровождавшие флейту переливы верхних регистров рояля – аккомпанирующее жаворонку звонкое журчание летнего ручья. Как прекрасно, боже мой!
Лишь через несколько минут я понял, что это уже не сон. Тьма под закрытыми веками казалась жарко-алой, словно пронизанной бьющими в глаза солнечными лучами. Я едва смог приподнять веки, тяжелые, точно чужие, и тут же вновь их прикрыл: льющийся в огромные, хрустально прозрачные окна дневной свет показался мне нестерпимо ярким. Через несколько мгновений я сделал новую попытку, более удачную. Если не открывать глаза широко, а просто моргнуть. Потом еще раз, еще… Вот, получилось! Оказывается, глазам требовалось всего лишь привыкнуть к свету.
Мне захотелось поскорее осмотреться, чтобы понять, где я нахожусь и кто, собственно, я такой. Наверняка меня ждет что-то чудесное, раз уж это существование началось с такой волшебной музыки. Смогу ли я не «провалиться» в новую чужую жизнь? Пусть я почти ничего не знаю о своем настоящем «я», но вовсе забыть, как в прошлый раз, о его существовании было бы обидно. Да и Он предупреждал, что все зависит от меня. На мгновение я опять прикрыл глаза, сосредоточиваясь на скудных ощущениях собственного (или того, что казалось собственным) «я» и собирая всю решимость, для того чтобы как можно дольше их не растерять, не «провалиться», не «утонуть», не «раствориться».
Приоткрыв глаза (все еще опасаясь яркого света), я начал разглядывать окружающее пространство. Промытые до хрустальности окна, так напугавшие меня сначала, охватывались темными рамами. Явно деревянными, никаких пластиковых и алюминиевых стеклопакетов. Я ничего не понимаю в породах дерева, но тут на язык просилось «из мореного дуба». Черт его знает, может, и так. Небрежно подобранные по бокам шторы даже на вид были очень тяжелыми и, похоже, очень дорогими. Массивная резная спинка в ногах кровати, лелеявшей мое пока еще безвольное тело, вполне годилась в музейную экспозицию: быт высшей французской (ну, или еще какой-нибудь) аристократии семнадцатого века. Для полноты впечатлений разве что балдахина с кистями не хватало. Впрочем, мощная лепнина превращала высоченный потолок в подобие купола, сходившегося к центральному медальону – темно-синему, с частыми «звездными» проблесками. Это что, королевский замок? Ну, или хотя бы графский. Мне вспомнилось, как Голос посмеивался над моим упоением Мишиной обеспеченностью и опасениями проснуться в теле бездомного бомжа. Может, Он решил показать мне, что такое настоящая роскошь?
Впрочем, вряд ли Он стал бы без предупреждения менять условия игры. А по условиям – надо же, я еще держусь, помню, молодец! – по условиям я один из убитых при довольно случайной стрельбе в небольшом кафе. Сомнительно, чтобы в том кафе присутствовал какой-нибудь французский граф. Я попытался хотя бы в уме заговорить по-французски, но, кроме bonjour и pardon, ничего не вспоминалось. Невероятным усилием я выдернул откуда-то из глубин сознания еще merci beaucoup – и все. С английским было чуть лучше, все-таки в школе учил…
Стоп! Похоже, это еще один кусочек информации о том, кем я был. В шкурке Миши я «вспомнил» (если это, конечно, были мои, а не Мишины воспоминания), что мама водила меня в кафе «Желтый чайник». А теперь вот – в школе я учил английский язык. Не очень-то это помогает: пол-России учит в школе английский язык. Я попытался вспомнить хотя бы учительницу… Вотще.
Ладно. Продолжим изучать нынешнюю свою роль. Версию с графским замком придется, похоже, оставить. Да и окна великоваты для замка. И толщина стен (я еще раз пригляделся к оконным рамам) вполне современная. Но интерьер в целом почти антикварный. Может, я – «новый русский», восстанавливающий родовое дворянское гнездо? Нынче это вроде бы модно.
Я так увлекся своими рассуждениями, что не сразу заметил, что в комнате я не один. Моего лба коснулись мягкие, слегка влажные губы, на щеку обвалился шелковый водопад тяжелых, довольно длинных волос.
Женщина! Я блаженно прикрыл глаза, наслаждаясь нежданной лаской.
– Доброе утро, милый! – произнес нежный, слегка хрипловатый голос, мгновенно отозвавшийся в моем воображении образом юной красотки: длинноногой, как мальчик, узкобедрой и по-мальчишески же порывистой, что, по моим представлениям, сулило немало приятных мгновений. Правда, такие девочки-мальчики обычно носят короткую стрижку, а волосы, коснувшиеся моей щеки, были… впрочем, чего гадать?
Реальная картина отличалась от воображаемой, как Парфенон от Исаакиевского собора.
Целовавшая меня женщина была, бесспорно, красива. Очень красива. Но… она же… старая!
Через мгновение я сумел призвать разбушевавшиеся эмоции к порядку. «Старая» было подсказано предыдущим опытом в Мишином девятнадцатилетнем теле, которое, разумеется, окружали такие же юные красотки. Ясно, что любая особа «за тридцать» после них будет казаться старухой. На самом деле этой женщине было вряд ли больше сорока. Да и то я смог определить это лишь потому, что видел ее практически вплотную. В жизни ей наверняка никто больше тридцати (а то и двадцати пяти) не дает. Стильная, ухоженная, легкая. Нежные, без помады сочные губы, высокие скулы, четкие брови с легким изломом. Лишь взгляд в упор позволял заметить слегка привядшую кожу вокруг глаз, желтоватые тени у висков, едва заметные горькие складочки в углах скульптурно очерченного рта.
«Может, это моя мать? – в отчаянье подумал я, понимая, впрочем, что это не более чем самообман. Матери не говорят «милый» с такой интонацией. Значит…»
Наивный идиот, ты решил, что тебя возродили в графском замке, что ты сможешь наслаждаться всеми благами настоящей аристократической роскоши, унаследованной от десятков поколений носителей голубой крови! А на самом деле ты, похоже, дряхлый старик, который, как Кощей, над златом чахнет… И таким Кощеем мне предстояло бы – если бы я выбрал эту самую «настоящую роскошь» – тянуть еще больше тридцати лет! Я представил, как Голос, наблюдая за моими теперешними терзаниями, хохочет над моей глупостью.
Или не хохочет, а, напротив, хочет что-то мне объяснить? Я представил себе нотацию Голоса так ясно, что, казалось, слышу Его наяву: «Просто необходимо было устроить тебе некоторый подвох, уж больно жадно ты пускал слюни на деньги этого богатого молодого недоумка».
Мне стало стыдно. Не только за «аристократические» мечтания, но и за свое поведение там, наверху. Неужели же и вправду я такой примитивный чурбан, что меня можно по уши соблазнить всего-то деньгами и молодостью? Я даже почувствовал что-то вроде отвращения к Мише, чье легковесное существование оказалось для меня столь неотразимой приманкой. Хотя уж Миша-то передо мной ни в чем виноват не был. Только я сам. Я сам, пустоголовый поверхностный тюфяк, впадающий в панику при малейших затруднениях, считающий, что деньги обеспечивают все радости жизни… хотя «радости» эти – лишь блестящий фантик, внутри которого хорошо, если пустота, а не что-то похуже.
Ну уж нет, на этот раз я не позволю себе так легко сдаться обстоятельствам! Пусть старик, пусть хоть клоун или импотент, я возьму жизнь в свои руки. Я повернулся и отважно взглянул на женщину.
– Сейчас я помогу тебе встать, и пойдем завтракать, все готово, – улыбнулась она, и я окончательно убедился, что моей матерью она быть не может. Такой любовной нежности в материнском голосе не бывает даже при обращении к самому любимому ребенку. Да, никакой надежды на молодость. Но по крайней мере она говорит обо мне в мужском роде, значит, я мужчина. Почему, кстати, я не могу в этом убедиться сам, как в первый раз, когда я осваивал Мишино тело?
Очень странно. Но…
Память тела существует. В прошлый раз я убедился в этом, осматривая Мишину квартиру, а затем сев за руль его автомобиля.
Сейчас мои руки привычным движением легли на плечи женщины, она бережно подхватила меня, приподняла, немного повернула, я скосил глаза в сторону ее движения…
Инвалидное кресло? Или как там оно называется? Каталка? Коляска? Господи, не-е-е-ет!
Женщина уже пересадила меня в это орудие казни, устроила мои ноги на подножке (Я этого не почувствовал! Попытался пошевелить ногами, пальцами – и тоже ничего не почувствовал! Совсем! Господи, как же это?!), укрыла их пледом. Кресло было удобным, явно не из дешевых, у подлокотников я заметил какие-то кнопочки, рычажки, даже полочки.
Так вот что означало то предчувствие беды…
Ужас. Черный всепоглощающий ужас.
Я рванулся, но… постой, я же только что чувствовал свои руки! Внутри все кипело: злость, гнев, ярость расплавленной лавой вздымались от живота к горлу… я хотел убить эту мерзкую старую ведьму… или хотя бы себя… руки не слушались. Но ведь совсем недавно, ночью, перед тем как снова заснуть, я вот этими самыми руками цеплялся за простыню и сжимал ее так, что едва не порвал, я же помню!
Женщина погладила меня по плечу, я почувствовал (почувствовал!) ее прикосновение!
Черт, как же ее зовут? В прошлый раз я почти сразу вспомнил все. Ну пусть не все, но сразу. В голове откуда-то возникло «вера». Что это? Имя или совет поверить в себя и не впадать в отчаяние от кажущейся кошмарности обстоятельств?
– Вера? – наугад прошептал я почти беззвучно, одними губами.
Но она услышала:
– Да, милый. Ты опять попытался сдвинуться одним рывком. Арнольд Степанович говорил же, что рывком не выйдет, чтобы восстановиться, требуется время, усилия и терпение. А резкие движения, наоборот, все портят. Видишь, опять руки не слушаются. Ничего, сейчас пройдет.
Что она говорит? Восстановиться? Ужас и злость схлынули. Я почувствовал (почувствовал!), как Вера растирает мои ладони. Попытался шевельнуть мизинцем – получилось!
Она, конечно, заметила и мое движение, и мой восторг:
– Ну вот видишь, подвижность возвращается. Сейчас мы позавтракаем, потом придет Зинаида Георгиевна, поработает как следует с ногами. Ты же знаешь, после массажа тебе всегда лучше. Вот и будем дальше укреплять все мышцы, а там и нервные пути восстановятся. Все наладится.
Стремительным движением она опустилась на колени возле «электрического стула» (так я мысленно окрестил это орудие пытки, хоть и душевной, а не физической) и начала нежно растирать мои безвольно болтающиеся конечности, постепенно усиливая нажим. И… мне показалось, что я ощущаю ее прикосновение!
Мне стало стыдно. Стыдно своей беспомощности, но еще больше стыдно, что я только что, пусть мысленно, обзывал эту любящую женщину старой каргой и мечтал о юной пышногрудой узкобедрой белокурой обворожительной бестии. Черт бы меня побрал! И черт бы побрал всех на свете юных красоток! Ни одна из них не стала бы нянчиться с беспомощным стариком.
Стариком?
В застекленных книжных полках справа от меня я, слегка повернув голову и скосив глаза, смог увидеть свое смутное отражение. А что толку? Неясная фигура в инвалидном кресле, только никелированные поручни и видны. Да еще голова, совершенно белая. Значит, глубокий старик. Но мне совсем не хотелось сдаваться на волю обстоятельств, я, честное слово, готов был бороться, но сперва хоть понять бы, в каком направлении рыть ходы к спасению – если я старик, почему нигде ничего не болит? Только эта отвратительная беспомощность (я боялся произнести слово «паралич» даже мысленно), и больше вроде бы ничего. Ведь если я чувствую верхнюю половину тела, значит, и старческие болячки в ней я должен чувствовать. Что там болит у стариков? Сердце? Суставы? Ничего похожего.
Я опустил взгляд: руки, спрятанные в складках мягкого пледа, не были стариковскими. Нет, это руки не юноши, но и не старика: ни узловатых увеличенных суставов, ни коричневых пигментных пятен, ни пергаментно-сухой кожи. Руки как руки. Значит, не совсем уж старик. Сколько мне? Сорок? Пятьдесят? По рукам судя, уж точно не больше шестидесяти, скорее, меньше. Красивые руки, кстати. Пальцы длинные, сильные, как у музыканта.
Волшебная мелодия, под которую я просыпался, стала громче, словно приближаясь к какой-то кульминации. Флейта теперь почти заглушалась звонко бегущими фортепианными арпеджио. Арпеджио? Я шевельнул пальцами правой руки. Слабо, едва заметно. Но музыка точно повиновалась моим движениям.
Внутри опять нарастал крик, вбиравший в себя обиду, злость, стыд, отчаяние. Закричать бы так, чтобы задрожали стены, чтобы рухнули шторы, а окна посыпались водопадом звенящих осколков, чтобы крик долетел до Него, чтобы Он хоть на мгновение почувствовал, что нельзя, нельзя, нельзя так издеваться над человеком!
Вместо крика из моего горла вырвался лишь слабый глухой стон. Как плач раненого зверя.
– Что ты, милый? – в голосе Веры слышалась подлинная боль. – Не нужно отчаиваться. Скоро ты опять сможешь играть сам, играть все, что захочешь.
Она поняла! Я ничего не говорил о музыке, но она заметила крошечное движение пальцев – и поняла.
Мне показалось, что подступившие к глазам слезы сейчас хлынут неудержимым потоком. Господи, какой стыд! Я опустил голову и медленным неимоверным усилием приподнял правую руку, чтобы как-то скрыть предательскую влагу. Но женщина поняла это по-своему и подалась ко мне, чтобы, обняв, прижать к себе. Как мать, утешающая обиженного ребенка.
– Давай потихонечку двинемся в столовую, – проговорила она ласково, как говорят с маленькими несмышленышами.
Мне мгновенно захотелось дать ей отпор, сказать что-нибудь резкое, обидное… но в ее лице не было ни тени снисходительности, тем более насмешки. Вера отвернулась, и я мог поклясться – это для того, чтобы смахнуть слезы, отчетливо слышные в спокойном, казалось бы, голосе. Ее покровительственный тон – это же не от того, что она считает меня бесполезным и обременительным мешком мусора, а от желания скрыть собственную боль за меня, сделать вид, что все в порядке, чтобы не задеть лишний раз мое самолюбие. Господи, она же искренне любит человека, в чьем беспомощном теле я оказался! А я, скотина, еще злюсь на нее!
– Погоди минутку, – Вера коротко коснулась моего плеча, – пойду двери закреплю, чтобы не зацепить ненароком. Надо было раньше, да я позабыла, такая балда рассеянная. – Она тепло улыбнулась и вышла.
И опять я мог бы поклясться – точно раскрытую книгу читал, – что никакие двери тут ни при чем, что ушла она, потому что не могла больше сдерживаться. Сейчас всплакнет минутку и вернется – с сухими глазами, спокойной улыбкой и уверенным голосом.
А во мне вновь начала подниматься пугающе горячая волна: обида, гнев, ярость. Уже не только за себя, но и за эту милую женщину, которая искренне любит того калеку, в которого меня превратили. За что?!
Вообще-то люди часто вопиют «за что?!», обвиняя небеса, бога или судьбу в том, что им чего-то недодали, что вот если бы небеса, бог, судьба были помилосерднее, если бы дали шанс, нормальный шанс… Наверное, это в человеческой природе – сваливать на кого-то вину за собственные неудачи.
Но я-то точно знаю, что Он есть и, хуже того, любит развлекаться, наблюдая за нашими тараканьими бегами тут, на Земле. Сам сказал, что это Его любимое развлечение. А уж как, наверное, увлекательно глядеть за судорожными рывками того, кому не дали вообще ни одного шанса.
– Ненавижу! Ты мне отвратителен, – шипел я сквозь зубы, глядя в «звездный» потолок. – Мало того, что ты хихикаешь, подстраивая мелкие интрижки и любуясь, кто с кем как и где трахается. Но оторвать таракану ноги и сказать: беги!.. – Я сглотнул, окинув взглядом свое неподвижное тело. – Это низко, гадко, недостойно того имени, которым ты себя называешь! – В моем воспаленном сознании на мгновение мелькнула удивительно трезвая мысль о том, что Он-то как раз никак себя не называл, называл я, а Он, возразив пару раз, только посмеивался снисходительно, что, мол, с несмышленыша взять; но в голове пылал уже такой пожар, что у этой мысли было не больше шансов, чем у снежинки в пламени костра. Тем более что Он в этот раз не отвечал на мои обращения, и это бесило еще больше. – Знаю-знаю, – зло продолжал я, – каждый сам себе кузнец. Если что-то с тобой случилось, значит, либо заслужил, либо тебе послали испытание. И что каждому дается столько, сколько он может вынести, тоже знаю, наслышан. Но я и представить не могу, за какие провинности можно сделать человека живым трупом! Живым трупом, ты слышишь меня?! – Я уже почти орал. – Можешь сколько угодно делать вид, что не слышишь. Вот проживу эти дни, вернусь и все тебе выскажу! В игрушки поиграть захотелось? Сперва одного искалечил, потом меня сюда запихнул? Интересно поглядеть, как я дергаться стану?! Не дождешься! Не видать тебе моих слез. – Я изо всех сил напрягал горло и легкие. Мне казалось, что, если я буду кричать как можно громче, если я стану проклинать Его как можно сильнее, Он не выдержит и вернет меня. Хотя бы для того, чтобы ответить на мои ругательства. И тогда я просто вмажу ему! Несмотря на то, что он просто бесплотный Голос. Я найду, куда вмазать!
– Андрей? – Я вздрогнул. – Что ты, Андрюша, что с тобой?
Я уставился на Веру, словно передо мной явилась птица Гамаюн. Или тарелка с инопланетянами. Идиот. Так увлекся своими воплями в потолок, что забыл: не один я тут вообще-то, люди рядом. Ну пусть один человек, все равно стыдоба.
– Ничего, – буркнул я. – Скучно стало, сам с собой разговариваю. Что там с завтраком?
Вот зачем, зачем я ей грублю? Раздражение, вспыльчивость, стремление сорваться на ком попало. Чьи это эмоции? Мои? Того, в чьем теле я заключен?
Вера словно бы не заметила моей грубости. Обошла кресло и, мимоходом успокаивающе погладив меня по плечу, выкатила его из комнаты и двинулась по коридору. В отличие от прошлого опыта, когда я не то узнавал, не то вспоминал любой объект, на котором задерживал внимание или зрение, сейчас окружавший меня интерьер казался мне совершенно незнакомым. Память почему-то молчала.
Но вместо того чтобы смотреть по сторонам, я предавался унынию. Прекрасно сознавая, что в этих самых интерьерах мне предстоит прожить почти полторы недели, я, однако, совершенно не мог сосредоточиться, чтобы хоть немного изучить, что, собственно, они собой представляют. Хотя вокруг было на что посмотреть: статуи, вазы и даже рыцарские доспехи в широких коридорах, отделанных темным деревом, картины, антикварная мебель. Антикварная, насколько я мог судить. Мог я, однако, немного. Потому что вспомнить по-прежнему мне не удавалось ничего. Это было очень, очень странно. И все же мне было наплевать. Какая разница – где, важно – как. И вот это самое «как» совсем не радовало.
Старость! Да еще и полная физическая беспомощность!
Кто вообще придумал эту чертову старость! Ладно бы – смерть, но неотвратимо наступающая дряхлость, уничтожающая само понятие «радости жизни»… А следом за физическим угасанием покрывается морщинами душа, и вот это уже не поправить ни чудо-юдо ботоксом, ни какой-нибудь там мезотерапией. Зачем – так? Зачем тогда вообще вся жизнь, если ее финал перечеркивает все то прекрасное, что в ней было? Перечеркивает – потому что отвратительная дряхлость повседневна, а радости жизни остались в такой дали, что и не вспомнишь. Ну и какая мне, скажите, разница, по каким коридорам меня везут в столовую?
Столовая, точнее, совмещенная со столовой кухня оказалась громадной, в ней вполне разместилась бы вся Мишина квартира. Наверное, так полагается в особняках. Действительно, какой смысл экономить пространство – жилое или подсобное, неважно – в собственном доме?
Вера остановила мое кресло возле просторного стола светлого дерева и отошла к плите. Я не видел, что она делает – повернувшись, я мог немного видеть ее спину, и все, – но слышал сухое звяканье стекла и фарфора, нежный звон металла, резиновое чмоканье дверцы холодильника, мелодичное журчание воды. Звуки казались почему-то удивительно приятными, умиротворяющими. Что-то тихонько булькало, и сопровождавший бульканье аромат буквально нежил ноздри.
– Клара с сегодняшнего дня в отпуске, – говорила Вера, возясь у плиты и, видимо, не ожидая от меня ответа, – так что разносолов экзотических ближайшие две недели не будет, я не настолько искусная кухарка. Можно было бы найти кого-нибудь на подмену, но я решила, что и сама справлюсь, ты ведь никогда не возражал против еды попроще, правда?
Она поставила на стол небольшую фарфоровую супницу – или как там эта посудина называется – с фигурно изукрашенной крышкой. Посудина была точь-в-точь как пришедшая мне недавно на ум тарелка с инопланетянами. Ну да, тарелка, вдруг развеселился я. По краю тарелки – бордюрчик из голубеньких цветочков. Сбоку из-под крышки ложка торчит. А посередине сидят инопланетяне. Зелененькие. Или голубенькие, как эти цветочки. Сидят там и курят что-то, безусловно, вкусное: из-под крышки выбивался ароматный, соблазнительно аппетитный парок.
Сглотнув набежавшую слюну, я задел языком зубы. Ну да, мои собственные зубы. Крепкие, аккуратные. Почему-то это открытие меня удивило. Хотя вот уж в самом деле открытие – зубы во рту. А что там еще должно быть?
Пока я размышлял об инопланетянах и зубах, Вера сноровисто накрыла на стол: тарелки, салфетки, вилки, чашки и прочая утварь разместились на светлой столешнице привольно и красиво.
– Вот решила на завтрак вареников налепить, пополам, как ты любишь, – улыбнулась она, снимая крышку с супницы.
Вместо сочиненных мной инопланетян внутри оказалась горка маленьких аккуратных «ушек», наподобие уменьшенных вчетверо пельменей. Вера наполнила две тарелки, поставила одну передо мной и села. Но не напротив, а рядом, по правую руку. Кажется, это называется «одесную», подумал я и почувствовал, как внутри опять поднимается волна раздражения. Она что, считает, что я и поесть самостоятельно не способен?
Нет, все-таки это не мои мысли и не мои эмоции. Слишком резкие, слишком насыщенные. И эта злость на женщину рядом… Или не на нее, а на себя, на свою беспомощность? Не понимаю.
Опасаясь еще одной гневной вспышки, я схватил вилку и вонзил ее в вареник. Возле зубцов проступили красноватые капли. Точно кровь, честное слово! Да что же это со мной такое, что за мысли?
Я осторожно отправил в рот вареник, раскусил… сладко. Вишня и творог. Ну да, Вера же сказала «пополам, как ты любишь»! Вишневый сок это! И ничуть он не похож на кровь, что за чушь! Ешь давай!
Вот уж действительно: аппетит приходит во время еды. Едва почувствовав на языке вкус творога, вишни и сладковатого нежного теста, я ощутил волчий голод и принялся уничтожать содержимое своей тарелки со скоростью электромясорубки. Жевать и глотать было удивительно приятно, в животе стало тепло и, как бы странно это ни звучало, уютно. Как интересно! А это тоже «его» чувства? Скорее всего, да. Я же дух, вряд ли дух способен испытывать голод или, наоборот, удовольствие насыщения. Без тела-то.
– Вкусно, спасибо, – кивнул я Вере, которая улыбнулась и даже слегка покраснела от моей похвалы.
Удовольствие, полученное от еды, почему-то резко изменило мое настроение. Я моментально отринул унылые размышления о безнадежной неотвратимости увядания и старческой утрате вкуса к жизни. Ничего себе утрата! Если так радостно просто жевать и глотать, то, черт побери, вокруг еще тысячи не меньших радостей! Вынужденная ли неподвижность в инвалидном кресле или «стертая» (как? кем? зачем?) память были тому причиной, но я поразительно остро ощущал себя «здесь и сейчас». И горел желанием «еще что-нибудь почувствовать».
Прибывшая после завтрака толстая суровая Зинаида Георгиевна два с лишним часа терзала мои бедные ноги: мяла, гладила, колотила, сгибала, тыкала иголками. Я старался ей «помочь», посылая бесчувственным конечностям строжайшие мысленные приказы и пытаясь уловить хоть слабенькую ответную реакцию. Массажистка шипела на меня сквозь зубы: «Андрей Александрович, не торопитесь, все придет в свое время» – и продолжала заниматься своим делом, бормоча под нос: «О, а тут рефлексик, как мило, ну-ка, ну-ка, а тут у нас что будет?» Это было ужасно странно: словно мои собственные ноги существовали от меня совершенно отдельно, а я здесь присутствую как случайный наблюдатель, которого терпят лишь потому, что он сидит тихо.
Перед уходом Зинаида Георгиевна строго напомнила, чтобы я не забывал «о тренажерах для плечевого пояса, лениться нельзя», и погрозила толстым, похожим на сардельку пальцем. Удивительно было, что эти пухлые короткопалые руки – скорее, руки пекаря или какой-нибудь птичницы – могут быть такими чуткими, нежными, сильными и точными.
Обедать не хотелось. Я велел Вере наделать бутербродов, и мы, прихватив термос с чаем и бутылку с клюквенным морсом, отправились на прогулку. Парк, окружавший дом, насколько я мог понять, дальше постепенно переходил в лес. «Интересно, а где граница моих владений? Перед лесом или он тоже принадлежит мне?» – подумал я. Сам парк особого впечатления на меня не произвел, я вообще не очень воспринял его в целом. Но прогулка обернулась вереницей ярчайших картинок, как в детском калейдоскопе. То сердце сжималось от красиво изогнутой ветки, повторяющей линию плывущего в вышине облака. То выскочивший на дорогу ежик своей озабоченностью – куда бежать? туда? или туда? или вообще назад, может, я что-то забыл? – вызывал неудержимую улыбку. Ароматы, звуки, прикосновения вызывали неожиданно бурный всплеск эмоций. Точно я был младенцем, для которого все – впервые, потому что он и в самом деле видит, слышит, ощущает «все» впервые. Да и, в конце концов, инвалидное кресло чем-то напоминало детскую колыбель.
Даже пресловутая старость перестала казаться столь ужасной. Если бы только память была при мне… Я мог бы… Вот эта женщина рядом, Вера. Я же, должно быть, любил ее? Волновался, ища ее взгляда, мечтал о прикосновениях, приглашал на свидания. Сейчас я мог бы перебирать эти – и не только эти – воспоминания, как драгоценности. Как ребенок листает любимую книжку с картинками… ах, какое это могло быть счастье! Ах, память, память, мы слишком мало ценим тебя, когда ты при нас, а когда ты нас покидаешь, мы уже не в состоянии оценить масштаб потери…
Но глупо рыдать над тем, чего нет. Быть может, память еще вернется. Можно попытаться ее вернуть. Постараться. Ну а если не выйдет, при мне остается «здесь и сейчас», этими-то драгоценностями я могу наслаждаться? Как мальчик, сидящий у линии прибоя, перебирает цветные камушки. Они прекрасны лишь для него, лишь здесь и сейчас. Но они прекрасны!
Дом снаружи впечатлял куда сильнее, чем изнутри, и, едва я смог его разглядеть, пришелся мне по сердцу мгновенно. Его нельзя было отнести к какому-нибудь архитектурному стилю, он весь был смешением несоединимого: тут – грубые неровности словно бы настоящих скальных обломков, тут – кирпичная кладка, тут – сплетение блестящей стали и «медного» дерева. И – темные озера зеркальных окон, все, насколько я мог заметить, разной формы.
Широкий пандус, полукругом обнимавший сонный пруд, поднимался к просторному балкону, перила которого опирались на метровые обрезки толстых кривых сучьев. Их развилки – видимо, в них насыпали землю – кустились какими-то крошечными, неброско цветущими растеньицами. Казалось, цветут сами перила. Высокие стеклянные двери – кажется, это называется французское окно, подумал я – вели внутрь дома. В библиотеку.
Я вздрогнул. Откуда взялось это «в библиотеку»? Это воспоминание? Если так, то это первое осознанное в этой «жизни» воспоминание. Но вместо того чтобы обрадоваться этому, я почувствовал… Нет, не могу определить, что именно, но радостью это точно не было. И не больно, но… Как будто давит что-то и дышать трудно.
Через силу вздохнув, я попросил Веру:
– Давай поднимемся в библиотеку.
Вполне могло быть, что я ошибался и там, за балконом и французскими окнами, вовсе не библиотека. Но ничего страшного. В этом случае Вера просто удивится и поправит меня. Или даже не удивится. Кажется, мои проблемы с памятью для нее – не новость.
Но Вера не удивилась – испугалась:
– В библиотеку? – Голос ее задрожал, как будто я предложил что-то опасное.
– Да, – твердо повторил я.
– Может, я просто принесу тебе книгу, какую тебе захочется? – Она сделала быстрое движение, точно собираясь тут же кинуться бежать, принести…
– Нет. Потом, может быть. Сейчас – в библиотеку.
По правде сказать, я сам не мог понять, почему так настаиваю. Верин испуг, а главное – мои собственные, далекие от приятных ощущения подсказывали, что этого делать не стоит. Но… я в нетерпении дернул за какой-то рычаг – мол, не хотите, не надо, сам поеду. И Вера покатила меня наверх, на балкон над прудом, к широким французским окнам…
Вопреки моим ожиданиям (с чего бы это, кстати?) библиотека вовсе не была огромным залом, вдоль и поперек уставленным стеллажами под потолок, к верхним полкам которых можно добраться лишь со стремянки (вот уж подходяще для дома, хозяин которого катается в инвалидной коляске). Стеллажи под потолок тут, правда, имелись. И возле одного из них в самом деле стояла стремянка, основательная, с удобными стальными поручнями, обтянутыми кожей, со ступенями темного дерева, центральная часть каждой из которых была покрыта чем-то вроде сукна – видимо, чтобы не поскользнуться, когда достаешь книги. Но располагались стеллажи только вдоль стен, охватывая комнату словно бы двумя неравными – левая длиннее правой – скобками, начинавшимися от стеклянных дверей с балкона. Посреди комнаты (не слишком большой, кстати, метров на тридцать, вряд ли больше) разместился низкий широкий стол, размеры которого не позволяли назвать его столиком. Вокруг него – несколько массивных кожаных кресел и такой же диван. За ними, справа, я увидел невысокий камин, отделанный грубым камнем, а может, и сложенный из него. За приоткрытой дверью справа от камина виднелся кусочек еще какой-то комнаты. Кабинет, подумал я вдруг.
В углу возле французского окна стоял еще один столик, повыше центрального, с маленькой мозаичной столешницей. Чего-то не хватало. Я протянул руку к мозаичному столику:
– Здесь был телефон. – Вера, стоявшая за моей спиной, ахнула, но я почти не обратил на это внимания, сосредоточенный на собственных внутренних ощущениях. Как будто я пробирался по темному лабиринту, по едва уловимому дрожанию сдвигающихся стен угадывая нужное направление. – Да. Здесь был телефон. Я сидел в библиотеке, работал с документами, зазвонил телефон, и мне сказали, что…
Жесткая ледяная рука сдавила мне сердце. Дыхание… какое дыхание? Воздух превратился в колючий раскаленный песок – разве можно дышать песком? Но, мимолетно удивившись – как же так, сердце жмет льдом, а воздух или то, что было воздухом, обжигающе горяч, – я упорно пытался сделать вдох. Пытался, пытался, пытался… В глазах потемнело…
Словно издалека сквозь заложившую уши вату пробился встревоженный голос:
– Андрей! Андрей, не нужно! Остановись!
Чья-то рука сжимала мой локоть. Не жесткая, как лед, не раскаленная до обжигающей колючести – просто теплая человеческая ладонь. Она сжимала мой локоть, и моя рука тоже становилась теплой, и воздух снова был просто воздухом, и сердце снова было живым… ему было горячо и больно.
Я вспомнил!
То есть я по-прежнему не помнил ни деталей биографии, ни тем паче чего-нибудь там про бизнес, принесший мне этот роскошный дом, ничего этого я не вспомнил. Но вот это ощущение надежной родной руки, сжимающей мой локоть, когда, кажется, жизнь кончена, когда все плохо и ничего не исправишь…
Полуденное солнце ударило в стекла пронзительно-рыжим светом. Я зажмурился, но и под веками пылал тот же пронзительный огонь, повторявший (разве огонь может говорить, удивился я):
Тютчев, подумал я с восторгом, изумившим меня самого. Меня? Меня самого? Кого – меня?
Глава 5
Проснувшись от бьющих в глаза утренних лучей, Андрей первым делом увидел, как на подоконник села любопытная синица. Поглядела на человека в постели, попрыгала, подскочила, уцепилась за нависающую снаружи рябиновую гроздь, клюнула раз-другой, перебралась повыше и начала, разворачивая то одно крылышко, то другое, что-то под ними выклевывать – прихорашиваться. Вдалеке, за веткой рябины, на которую села синица, вздымалась ослепительно-голубая высь.
Лежать не хотелось. Лежать было противно. Хотелось двигаться, что-то делать, как-то действовать. Вот именно – как-то. Андрей взглянул на бессильные ноги и горько усмехнулся. Потом усмехнулся еще раз, уже саркастически, как бы глядя на себя самого свысока: и что, мол, так и будешь валяться, изображая раздавленную лягушку? Распрекрасно! Самому-то не смешно на себя глядеть?
Это совсем не было похоже на злость, но это помогало. Говорят, лучший способ заставить себя что-то делать – как раз разозлиться на себя. И вот, оказывается, высмеять самого себя тоже неплохое средство.
Он медленно, осторожно, помогая себе руками, попробовал сесть. Дотянулся до «электрического стула», подтащил его к кровати. И что дальше? Подумал, что, если попытаться переползти на сиденье, кресло попросту отъедет, а он свалится на пол. Свинство. Практически позорище.
Ага, а вот этот рычажок, кажется, стопор, он должен фиксировать колеса. Андрей повернул рычажок, подергал кресло: оно сдвигалось, но не катилось. Очень осторожно, осторожнее, чем садился в постели, он уцепился за спинку кресла и медленно подтянулся, навалившись на «электрический стул» боком. «Стул» пошатнулся, но устоял. Андрей оперся на подлокотник и попробовал повернуться… Получилось! Пусть кривовато, но он сидел в своей таратайке. И сел в нее сам, без чьей-то помощи!
Теперь нужно найти библиотеку и кабинет рядом с ней. Он не задавал себе вопроса «зачем?». Да и слова «библиотека» и «кабинет» были пока просто словами, он почти не помнил, что это такое, как не помнил почти ничего о себе вообще. Кажется, вчера он помнил больше? А потом что-то произошло и… Ладно, это неважно. Важно, что он просто знал – нужно найти библиотеку и кабинет. Необходимо. Как говорят медики, по жизненным показаниям. А почему вдруг именно в библиотеку и в кабинет?.. Ну… сперва надо туда добраться, а там, глядишь, и станет ясно зачем. Как бы там ни было, сперва надо добраться до кабинета. Эх, легко сказать!
Он снял блокировку со стопора и освободил. Бросил на колени висевший на подлокотнике плед и двинулся в путь, чувствуя себя первопроходцем в джунглях Африки. Вот будет смешно заблудиться в собственном доме. Ну и ладно, зато леопарды и носороги из-за угла не нападают. Он представил выпрыгивающего из-за угла носорога и совсем развеселился. Сколько можно унывать, в самом-то деле?
Библиотека нашлась неожиданно быстро. Амнезия амнезией, но топография местности, похоже, записывается не только в голове, но и в спинном мозге. Андрей не то чтобы помнил, где что находится, но как будто чувствовал, куда свернуть и какую дверь открыть. Подъехав к лестнице (Точно! Библиотека была на втором этаже! Вот только заезжали они туда из сада, по широкому пандусу), он было растерялся, но, поэкспериментировав с кнопочками и рычажками, выдвинул из-за колес крестообразные «шагалки» и уже минут через пять был на втором этаже.
Дверь кабинета распахнулась легко, словно ждала, когда же хозяин соизволит перестать маяться дурью и возьмется наконец за ум, если к тому моменту от этого самого ума хоть что-то останется.
Андрей вкатился в пахнущую книгами и полированным деревом комнату, тихо прикрыл за собой дверную створку и подъехал к просторному, почти пустому письменному столу.
Потянулся к ноутбуку, но, коснувшись матовой крышки, под которой дремали мертвые электрические импульсы, отдернул руку. Вытащил из дорогого кожаного бювара лист бумаги. На темном дереве столешницы лист казался островом посреди океана безнадежности. Льдиной в смертельно остывшей реке, одиноким оазисом…
Я один на льдине, вспомнилось откуда-то. Один? А как же женщина, которая всегда рядом, всегда готова подхватить, помочь, оберечь?
Остров в океане отчаяния – надежда.
Надежда… Надежда согревала взгляд ухаживающей за ним женщины.
Нет. Не то. Надежда – это что-то зыбкое, полное сомнений, а эти глаза сияли ровным надежным светом. Любовь? Да. Но…
Надежда и любовь? Он чувствовал, что чего-то не хватает.
Вера!
– Ты меня звал? – раздался за спиной встревоженный голос. – Господи, как же ты сумел… я испугалась…
– Ничего, все в порядке, – улыбнулся он и повел рукой, словно останавливая и отодвигая вопросы, страхи, опасения. – Иди. Я поработаю.
– Господи! – повторила она со счастливым – наконец-то не горестным, не упрямо-бодрым, а счастливым – блеском в глазах и вышла, тихонько притворив дверь.
Господи, каким же идиотом, каким отвратительным слизняком он тут себя показывал, все глубже и глубже погружаясь в мрачные пучины своей обиды на несправедливость жизни. Еще и наслаждался своим отчаянием, растравлял себя, искал, от чего бы это еще пострадать, ковырял, как ребенок ковыряет разбитую коленку. Герой! Обидели его! Мог ведь весь остаток жизни провести, упиваясь собственным страданием, мазохист чертов!
Память ему, видите ли, отказала! Что, отказала до такой степени, что забыл даже о том, что ты мужчина? А раз мужчина, то должен быть опорой. Не цепляться, дрожа от неуверенности, как слепой котенок, а твердо стоять на ногах и спокойно встречать удары судьбы. Даже если сами ноги отказываются держать.
Да, обнаружив, что память ему отказала, что в голове не осталось ни следа прошлой жизни, ни хорошего, ни плохого, он испугался. Он запаниковал, как потерявшийся ребенок. Как альпинист, увидевший надвигающуюся лавину. Как… Перед глазами словно возникла картина: штормовое море, крошечная лодчонка, над которой нависает гигантская серо-зеленая волна. Девятый вал, сообщил он сам себе и замер, потрясенный. Почему – девятый? Потому что Айвазовский, послушно подсказала память.
Память? Все-таки – память?
Перед глазами встала еще одна картина: прислонившаяся к облезлой стене женщина в старинном платье с ужасом смотрит на врывающееся в окно наводнение. Он почти не удивился, сказав себе: княжна Тараканова, Флавицкий.
Он это помнил!
Ну да, он не помнил собственной жизни, ну и что?
«Теряют больше иногда…»
Почему-то Андрей был уверен: эта фраза не придумалась, он где-то ее читал или слышал. Точно, слышал! «Теряют больше иногда», – прозвучало в голове. Голос женский, с отчетливыми актерскими интонациями. Как наяву перед его глазами появилась женщина в роскошном старинном платье. Драгоценности – на пальцах, на шее, в изысканно убранных волосах. Кто это? Что это? Фильм, который он когда-то видел? Спектакль?
«Теряют больше иногда…»
В самом деле, с чего это ему вздумалось так раскисать? Да, ноги отказываются служить. Да, собственное прошлое замкнуто где-то в тайниках подсознания – он сильно сжал пальцами виски, потер, чувствуя в глубине мощное биение пульса, – но искусство и литература, кажется, остались в более-менее открытом доступе. А даже если бы и нет. Кто мешает читать, смотреть, наслаждаться заново? Не так уж он стар, чтобы ставить на себе крест.
Ведомый не то инстинктом, не то остатками памяти, Андрей развернул кресло и дотянулся до узкой створки ближнего шкафа. На стеклянных полочках стояли странные, но красивые статуэтки, задняя стенка была зеркальной.
Да, седой до белизны. Но это, пожалуй, единственный признак старости. Не юное, но моложавое лицо, сильный подбородок, до озноба пронзительный взгляд. Старик? Черта с два!
Целая жизнь впереди! Он скептически поглядел на бессильные ноги. Ничего. Теряют больше иногда. Да и Вера, кажется, что-то говорила про возвращение двигательных функций, а значит, и тут не все безнадежно. И память… память он победит!
Смутное ощущение превратилось в уверенность: провалы в памяти – не результат травмы или болезни, тем более не возрастная утрата, нет, отключение памяти – это бессознательная попытка спрятаться от чего-то невыносимого.
Нет. Он не станет прятаться. Если что-то кажется нестерпимым – вытерпи это.
В верхнем ящике стола обнаружилось несколько блокнотов. Он вытащил наугад один из них, довольно большой, с вытисненным на коричневой обложке корабликом. Хорошая примета, подумал он.
Блокнот был почти пуст, но на первой странице красовалось размашистое: «Если жизнь преподносит тебе лимон, сделай из него лимонад!!!» Три восклицательных знака выстроились по росту: первый обычный, размером с заглавную букву, второй повыше, третий, самый высокий, вытянулся чуть не на половину блокнотной странички. И точка под ним была самая крупная – основательная, уверенная.
Он напишет книгу, понял Андрей.
Вот средство, которое позволит справиться с недугом, с отвратительной слабостью, с потерей памяти, и не имеет значения, какая причина вызвала все эти неполадки. Да, неполадки, усмехнулся он, неполадки – не беды. Неполадки в машине можно исправить, неполадки в голове можно вылечить. И рецепт на это лекарство не нужен, и стоит оно не миллион, а совсем ничего. Или наоборот, гораздо дороже миллиона: время и настойчивость. Это простое лекарство даст избавление, отвлечет, поможет забыть о болезни, если это болезнь, позволит заново обрести себя.
Солнечный луч скользнул по стеклам книжных полок, словно они подмигивали: мы с тобой. За приотворенной между кабинетом и библиотекой дверью ждали и дышали их собратья: мы тут, мы с тобой. Как он мог забыть! Работа, работа, работа – и даже минуты не находится, чтобы воспользоваться любовно собираемыми сокровищами! «Там царь Кощей над златом чахнет» – кажется, совсем недавно он уже вспоминал почему-то эту пушкинскую строку. Ничего, теперь он наверстает, теперь у него есть не скудные минутки, выцарапываемые у бесчисленных дел, теперь у него целая жизнь, чтобы заново познакомиться и с классиками, и с современниками.
Да он богач! Невероятный богач! Он сможет не просто погрузиться в мир литературы, он сможет стать его частью!
Вот оно, решение. Книга. Не биография, конечно: даже если Вера расскажет об основных событиях, глупо писать автобиографию по чьим-то рассказам. Да и не настолько он значительная в историческом масштабе личность, чтобы его автобиография была интересна кому-то, кроме него самого.
Да, он будет слушать Верины рассказы, он воспользуется случаем взглянуть на собственную жизнь словно бы заново, осознать ошибки, порадоваться достижениям. И все это принять. Но это будет не биография. Просто книга. Роман. О том, как он «дошел до жизни такой», и о том, как и в этих обстоятельствах можно жить радостно и полноценно. Да-да, полноценно. И в то же время это будет предупреждение каждому читателю: живи сегодня, не жди, пока у тебя отнимут здоровье, или близких, или даже саму жизнь. Живи! Наслаждайся каждым днем, не откладывай это на «когда-нибудь потом, когда дела закончатся». Дела не заканчиваются никогда, а вот жизнь за ними теряется. Как в той поговорке: за деревьями леса не видно.
Будет думать, вспоминать, записывать, снова думать. И читать, конечно же, читать!
Андрей подвинул к себе бумагу и решительным движением вытащил из подставки черно-серебряную ручку. Коричневый блокнот положил справа, в нем можно будет записывать всякие заметки – топливо для будущего романа. Размашисто, как афоризм о лимоне в блокноте, он вывел сверху листа название: «Лес за деревьями». И – помельче, ровненько – подзаголовок: «История человека, который слишком много работал».
Он почувствовал легкий свежий аромат, посреди которого плыл другой запах, солидный, насыщенный, вкусный.
– Я принесла тебе чаю. – Голос Веры сообщал об улыбке, но, обернувшись, Андрей увидел, что улыбаются лишь ее глаза. Инстинктивно он почувствовал ее слабую, неуверенно пробивающуюся сквозь тяжкую пелену сомнений надежду.
И улыбнулся:
– Спасибо, чудесно пахнет.
Вера пристроила исходящий чайным духом поднос на край стола, что-то нажала, чем-то щелкнула: слева образовался как бы дополнительный столик, куда споро переместились длинноносый чайник, пузатая чашка, плетеная сухарница и прочее содержимое подноса, уютное, домашнее, надежное. Она быстро оглядела стол – все ли в порядке? На мгновение взгляд задержался на листе бумаги и блокноте:
– Ой, ноутбук-то, должно быть, давно разрядился! Как же я не подумала. Сейчас, погоди, зарядка вот тут…
– Не нужно. – Андрей остановил ее руку и опять улыбнулся. – Пока не нужно. Я пока буду писать от руки. Потому что… – Он на мгновение замялся, боясь, что высказанная вслух мысль покажется смешной, обесценится, потускнеет. Но сомнения длились не больше секунды: сказать Вере было то же самое, что сказать самому себе. – Я, знаешь… – завладев ее ладонью, он приложил ее к своей щеке, – я решил написать роман.
Ее брови слегка дрогнули, словно собираясь хмуриться: как это? что это? не понимаю… но тут же складочка на лбу разгладилась, зрачки расширились изумленно:
– Ты… ты не шутишь?
– Никоим образом. – Андрей поцеловал самую серединку ее ладони.
Вера сжала другую руку в кулачок, точно ребенок, получивший неожиданное сокровище и желающий спрятать и сберечь его.
– А… о чем? Или это тайна? – Теперь она улыбалась открыто: но в глазах, кажется, блестели слезы.
Дай бог каждому такие слезы, подумал Андрей. Такие лица, наверное, бывают у тех, кому в последний момент, уже у ступеней эшафота, отменили смертный приговор. Как же я ее измучил!
Он пожал плечами:
– О жизни. О человеке, который подменил жизнь деловой мельтешней, и о том, как судьба ударила его за это… – Голос Андрея внезапно осекся от краткой, но остро-болезненной вспышки воспоминания. – …отняв…
Глаза Веры наполнились тревогой:
– Может, не нужно? Тебе… тебе будет больно… это все слишком тяжело.
– Ничего, прорвемся. – Андрей сжал ее ладонь. – Это будет роман о жизни, о ее потерях и обретениях. И о любви, конечно. О том, что она всесильна. Она возвращает и надежду, и – веру. Веру! – Он сжал ее ладонь еще крепче. Словно говоря сам себе: это навсегда.
Вера, неловко опершись о спинку инвалидного кресла, прижалась к Андрею, и он сквозь тонкий шелк пижамы почувствовал, как на плечо ему упала горячая капля, потом еще одна и еще.
– Ну-ну-ну, – он погладил ладонь Веры, – вот и дождик, надо же! Так ты мне поможешь?
– Конечно. – Она шмыгнула носом, улыбаясь сквозь слезы. – Ты хочешь, чтобы я тебе… напомнила?..
– И это тоже. И… видишь? – Андрей помахал листом бумаги. – Позапрошлый век, только гусиного пера не хватает. Перепечатывать придется. Будешь как Софья Андреевна.
– Ты… помнишь? – изумилась она примерно так же, как он изумлялся, вспомнив девятый вал и княжну Тараканову.
– Да вот сам удивляюсь. – Он повел плечом, все еще чувствуя следы ее слез. – Когда я начинаю писать от руки, словно дверцы в голове открываются. Представляешь, Айвазовского вспомнил, потом Пушкина. Теперь вот жену Толстого, которая за Львом Николаевичем черновики «Войны и мира» набело переписывала.
– Что ж, – усмехнулась Вера, – буду с нее пример брать.
Он покачал головой:
– Какой уж там пример! На самом-то деле Софья Андреевна тебе в подметки не годится. – Андрей немного помолчал и резко сменил тему: – Я вот думаю, надо бы отметить мое, так сказать, возвращение к жизни. Выбраться куда-нибудь, посидеть, поболтать, как нормальные люди. Я вдруг сейчас вспомнил какое-то кафе с обезьянками… «Желтый чайник»!
– Ты помнишь! – воскликнула Вера. – В «Желтом чайнике» мы были после… когда… ну…
Смутившись, она не договорила, но он догадался, хотя уточнять и не стал – может, и неправильно догадался, неважно, потом выяснится, лишь кивнул:
– Символично. Только, – он с сомнением покосился на свои бесполезные ноги, но почему-то их вид уже не вызывал у него приступов отчаяния, – доберемся ли мы туда? Спецтранспорт надо будет заказывать?
– Ну что ты, – улыбнулась Вера. – Не нужно спецтранспорт. Я… ну когда ты… ну, в общем, я сразу выбрала и заказала самый лучший велкаб, это такие машины для людей на колясках, они разные бывают, но я выбрала самый, по-моему, удобный: не пересаживаться туда-сюда, а просто сзади коляска внутрь заезжает и встает вместо пассажирского кресла. Очень удобно… Ты не подумай, это не потому, что коляска навсегда, но… никто же не знает, когда ты сможешь ходить.
Андрею показалось, что взгляд у Веры стал какой-то виноватый, как будто она думает, что сказала что-то обидное.
– Да ты что! – Он, изловчившись, притянул ее к себе и восхищенно помотал головой. – Конечно, я буду ходить. Но вряд ли завтра. А ты молодец! Все предусмотрела. Верила, что я не вечно буду в унынии тонуть, да? Настоящая Вера! Ты круче, чем жена декабриста. И даже чем все они, вместе взятые. Я люблю тебя…
– И я люблю тебя, – эхом отозвалась Вера.
На этот раз «путешествие в неизвестно куда» оказалось гораздо короче. Я не заметил ни тумана, ни галереи с лицами, прошел по короткому белому коридору, постучал в моментально отворившуюся дверь, привычно вошел в ослепительно-белую комнату и уселся в появившееся, словно по волшебству, белое кресло. Ждать пришлось недолго.
– Ну как тебе этот персонаж? – поинтересовался Голос. – Ты по-прежнему считаешь, что инвалидность равна убогости и лучше уж сразу умереть, чем жить инвалидом?
Я, кажется, покраснел. Точнее, покраснел бы, если бы тут у меня имелось физическое тело. А то ведь так, кажимость, даже покраснеть, и то никак. Но ощущение стыда было вполне всамделишным. Я ведь вовсе не считал инвалидов убогими и неполноценными. Если они, конечно, инвалиды не на всю голову, но это совсем другая история. Я просто испугался. Испугался беспомощности, обрекающей на зависимость от других, да и вообще неизвестно чего. Вот за этот страх мне и было стыдно.
– Потрясающий мужик, – честно подытожил я. – Сомневаюсь, что мы с ним – одно, очень уж все чужое. В том числе и сила духа. По-моему, на личное «Как закалялась сталь» у меня бы пороху не хватило. Но, честно говоря, чертовски не хочется, чтобы он умирал.
– Ну ты же можешь его спасти, оставшись жить в его теле, – искушающе промурлыкал Голос.
Дилемма вырисовывалась непростая. С одной стороны, простенький и даже, несмотря на непрерывные развлечения, скучноватый, как я теперь понимал, Миша, у которого, однако, есть молодость и здоровье. Ну и деньги, конечно. Живи себе без забот, без хлопот. С другой стороны, Андрей, жизнь которого гораздо труднее (не только и не столько из-за инвалидности, а из-за того, что личность он значительно более сложная), но его, как ни странно, жаль было гораздо больше.
– Вот как ты рассуждаешь. – Голос, как делал это не раз, ответил, не дожидаясь, пока я выскажу свои мысли вслух. – Признаюсь, не ожидал от тебя. Думал, ты только и будешь, что проситься назад, мол, выпустите меня отсюда немедленно.
– Как я мог? – огрызнулся я. – Как только я начал, как ты выражаешься, проситься назад, тут же перестал себя осознавать.
– Ну не тут же, – насмешливо протянул Он, – не преувеличивай. Даже удивительно, как долго ты удерживал сознание и память.
– Так это была не его амнезия? – ахнул я. – Но зачем?
– Да его, его, – успокоил меня Голос. – Но не в таких масштабах. Ты же так паниковал, так старался выпрыгнуть из его сознания… Хотя я тебя предупреждал, советовал: сосредоточься и наблюдай, копи впечатления. Но ты так брыкался, вот и пришлось тебя слегка отключить. Ну а потом… Ну да ладно, дело прошлое. И все-таки кем бы ты хотел остаться?
– Мишей, – честно, хотя и со вздохом, признался я, понимая, что игра еще не окончена.
– Ох уж эти лентяи, – в тон мне вздохнул Голос. – Ладно бы тебя вагоны разгружать отправляли или бараки туберкулезные обслуживать. И у Миши, и у Андрея жизнь вполне обеспеченная, только золотому мальчику денежки мамочка в клювике принесла, а Андрей сам заработал. И жизнь у Андрея намного интереснее, и эмоции в сто раз богаче, и перспективы повыше. Но тебе лишь бы что попроще, лишь бы не напрягаться, лишь бы по течению плыть.
Я только пожал плечами. Ну да, хочется полегче, поспокойнее, повеселее – и что в этом плохого?
– Плохого – ничего. – Его интонации заметно похолодели. – Опасно. – Он вздохнул. – Проблема в том, что, пока сам не поймешь, объяснять бесполезно. Но, похоже, тебе, чтобы что-то понять и до чего-то дорасти, еще десяток перерождений потребуется. Вот только сначала нашу игру закончим. Последняя попытка. Поехали?
Прежде чем я успел хотя бы пискнуть, вокруг опять начала сгущаться серебристо-белая дымка, заволакивающая не только окружающее пространство, но и сознание…
Глава 6
– А-а-а-а-у-а-а! У-а-а-а! А-а-а-а! – Пронзительно переливающийся вопль, казалось, разрывал мозг и вполне был способен поднять весь дом, а то и весь квартал.
Настя закопалась поглубже в одеяло, попыталась даже накрыть голову подушкой, но вопль все так же вгрызался в уши. Чертовы автомобилисты с их сигнализацией, убила бы! Наверное, там, за окном, испуганные люди уже выбегают из подъездов: что это? что стряслось? Ну, или хотя бы выскакивают на балконы и высовываются в окна, пытаясь разглядеть, какая сволочь так шумит.
Или это будильник? И никто никуда не выскакивает, потому что воет в ее собственной квартире. Или, может, у кого-то из соседей?
Протянув руку, Настя подтащила к себе еще одну подушку. Да ну, глупость какая, когда это она будильник включала, даже в стародавние, почти забытые школьные времена такого не было. А из соседних квартир… это что же за будильник такой термоядерный? Нет, наверняка автосигнализация. Проклятье!
Девушка выпростала из-под одеяла ногу, потом другую, подняла над собой, полюбовалась, шевеля аккуратными розовыми пальчиками – красота! Такие ноги и на подиуме не стыдно показать. А вокруг чтобы аплодисменты, вспышки фоторепортеров и общий восторженный гул.
Да выключат они уже свою сирену или как? Вот вылезу и разобью их таратайку к чертовой бабушке! Такое ощущение, что воет прям над ухом! Придется вставать, фиг с два заснешь под этот концерт.
Источник звука обнаружился на расстоянии вытянутой руки. Настя тупо уставилась на детскую кроватку, в которой отчаянно вопил покрасневший от натуги младенец. Девушка вылезла из постели и нагнулась к кроватке. Мысли в сонном еще мозгу двигались со скоростью глубоко беременных улиток. Действительно, ребенок. Судя по открывшимся меж сбитых пеленок деталям, девочка.
Что за чудо?!
Увидев Настю, чудо на мгновение замолчало, уставившись на нее, но через секунду завопило с той же силой.
Девушка обхватила голову, глубоко запустив пальцы в растрепанную шевелюру. Ни черта не понимаю! Перебрала, что ли, вчера? Или не то не с тем мешала? Не, вообще не помню, что пили, с кем, где… К тому же… она помотала головой… никаких признаков похмелья, ни дурноты, ни головной боли, руки-ноги не дрожат, голова не кружится. Звенит, правда, но от таких воплей у кого хошь зазвенит. Нет, это не с перепоя память отшибло. А с чего? Откуда ребенок-то?
Подкинули? Ага, вскрыли квартиру, приволокли дитя – вместе с кроваткой, обалдеть! – на тебе, Настенька, подарочек. Или кто-то из знакомых подсудобил? Подружка попросила приглядеть до утра? Ну… это хоть в какие-то ворота лезет. Хотя… подружка и кроватку приволокла?
Предположение о том, что ребенок может быть ее собственным, Настя отмела сразу. Ну в самом-то деле! Все, конечно, в жизни бывает, но забыть, что родила, да еще и какое-то время растила (младенцу-то на вид месяца три, не меньше, хотя вряд ли намного больше) – это ж надо, чтоб крышу совсем напрочь снесло. Бред, короче! Признать себя сумасшедшей Настя не пожелала.
Ладно, разберемся по ходу дела. Ну отшибло спросонья голову, не самая большая беда. Как отшибло, так и назад пришибет. Само как-нибудь выяснится. Будем решать проблемы по мере их возникновения. Сейчас главная – чтоб «это» вопить перестало.
Сноровисто вытащив ребенка из кроватки, Настя прижала его к себе и стала укачивать, невольно удивившись привычности своих движений: надо же, словно давным-давно этим занимаюсь. Плач стал слабее, перешел в редкие всхлипы и наконец стих. Уф-ф! Девушка облегченно вздохнула, подошла к окну и отодвинула штору. С высоты район выглядел удивительно аккуратным, словно игрушечным. Красные и серые крыши перемежались обильной зеленью, многие дома опоясывались темными узорными оградами. Чугунными, ясное дело. Как в школе учили – «твоих оград узор чугунный», тьфу, вспоминать тошно. Прямо под окном шваркал метлой дворник, сверху казавшийся карликом. Правее виднелась детская площадка, ухоженная и на удивление чистая, не демонстрировавшая следов жизнедеятельности бомжей и подростков. Именно эта публика обожает в любом, с их точки зрения, удобном месте устраивать вечерние и ночные тусовки, невзирая на мнение соседей по району.
Невзирая на то, что, живя среди других людей, мы просто обязаны думать о том, чтобы окружающим было приятно иметь с нами дело. Иначе жить станет невозможно. Ну, или как минимум противно. Тут же захочется сбежать на необитаемый остров, где никто никому ничего не обязан, просто потому, что там никого нет. Там можно не помнить, кто ты, не вспоминать, что было вчера, просыпаться каждый день с новыми мыслями, чувствами, желаниями. Хочу – пальму сломаю, хочу – крабов ловить стану, хочу – так буду лежать, ждать, пока бананы сами на меня свалятся. Но живем мы все же не на необитаемом острове. И правила социума – не искусственная клетка, а необходимое условие приятной и удобной жизни для каждого. И соблюдать их совсем несложно. Ведь, чтобы рядом с тобой другим было комфортно, и «соблюдать»-то приходится совсем немного, и все это так естественно и приятно: хорошо выглядеть, читать книги, смотреть кино, найти дело, в котором можешь себя чувствовать максимально уверенно, найти пару, родить ребенка… и передать ему всю эту мудрость.
Что за черт! Настя встряхнула головой, отгоняя странные, как не свои, мысли. Срочно в душ!
Однако при попытке уложить неизвестно откуда взявшееся юное сокровище в кроватку «сирена» включилась снова. Ее что, так и придется на руках таскать без перерыва? Или… Ох! Она ж, наверное, есть хочет, догадалась Настя. Да не наверное, а наверняка!.. Ну, это мы сейчас…
Упс! И чем ее кормить? Настя спустила с плеча широченный ворот спальной футболки и с сомнением оглядела грудь: крепкая, аккуратненькая, совсем не похожа на вымя. Вид собственных прелестей (весьма, надо сказать, недурных) не то что успокоил, а прямо-таки поднял настроение. Усмехнувшись, девушка попыталась нажать на грудь – безрезультатно. Да нет там никакого молока! На всякий случай она все же попробовала приложить малышку к соску, но та воротила нос и обиженно морщилась, готовясь вновь заорать. Пришлось укачивать.
Вот и что теперь делать?
Настя огляделась – ничего похожего на детскую кормежку в комнате не было, хотя вообще детских вещей хватало, вот чудеса-то! – и, доверившись внутреннему автопилоту, двинулась в сторону кухни. Пооткрывала механически разные дверцы – ура! В холодильнике обнаружилась не одна – целых три бутылочки, внутри которых было что-то белое, наверняка детская еда! Девушка хотела было сунуть соску ребенку, но вовремя сообразила, что молоко нужно подогреть. Она открыла горячую воду – ух ты, прям кипяток! – поставила бутылочку в кастрюльку и сунула кастрюльку под струю. Минуты, пока детский завтрак согревался, показались ей часами – очень хотелось в душ, а главное – почистить зубы, словно бы именно неприятный привкус во рту виноват в этой безумной ситуации…
Ну как, дошло наконец до кондиции?
Она привычно (привычно? Что за чудеса!) капнула из соски на тыльную сторону ладони – да, согрелось.
Малышка вцепилась в соску так, словно не ела год, и, удовлетворенно чмокая, даже прикрыла зеленовато-серые, с золотыми крапинками глазенки. Настя осторожно уложила ее вместе с драгоценной бутылочкой в кроватку:
– Ну что, Катюха, довольна? – спросила она неожиданно для самой себя.
Катюха? Эту девчонку зовут Катя? Екатерина?
Катя, Катя, Катерина, распрекрасная картина, фу-ты ну-ты!
А, все потом! Настя махнула рукой и отправилась в ванную.
В корзине возле стиральной машины высилась мешанина из женского белья и детских одежек. Некоторое количество одежек висело над ванной.
Настя отодвинула шмотки и наскоро приняла душ. Вода весело хлестала в белую эмаль, рассыпаясь радостными прозрачными брызгами, и казалось, что и мысли теперь должны стать такими же ясными и чистыми.
Зеркало запотело, и девушка небрежно протерла его сдернутым с батареи полотенцем. В мокром стекле отразились потемневшие от воды, но, вероятно, светлые волосы, высокие скулы, зеленовато-серые, с золотистыми крапинками глаза…
Осознание обрушилось на меня лавиной: я не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть, мысли и эмоции перемололо в мелкую крошку, в глазах потемнело…
Кто?.. Что?.. Как?..
Значит, я пропустил момент очередного пробуждения. Неужели я настолько привык к путешествиям по чужим жизням, что даже не замечаю смены личности? Это меня напугало. Ведь если я не могу уловить этот момент, то не смогу и понять, кто я на самом деле, не смогу отличить себя от «не себя».
С Мишей и Андреем мне удавалось разделять свою и их личности довольно продолжительное время. Сейчас же я сразу проснулся этой… Настей. И почему-то факт пробуждения в женской ипостаси меня ужасал, против этого протестовало все мое нутро. Это совершенно точно не я, не я, не я! И зачем мне это? Или жизнь в теле женщины должна меня чему-то научить?
– Хватить разглагольствовать, – прозвучал в голове раздраженный Голос. – Зачем – глупый вопрос, глупее не придумаешь. Никто не знает, зачем он приходит в этот мир. Существует лишь интуитивное нащупывание пути: желания, поступки, выбор профессии, любви, веры. Сидеть и размышлять о том, зачем ты родился таким или эдаким, совершенно бессмысленно. К тому же бесполезно, а поскольку на это тратятся силы и время, то и вредно. Есть значительно более подходящие темы для обдумывания и вообще более подходящие занятия. Действовать нужно, действовать. Тогда и понимание придет. Или не придет, так тоже бывает. Но если не действовать, а только повторять дурацкое «зачем» и еще более дурацкое «за что», никакое понимание не придет наверняка.
Голос «отключился», оставив меня в изрядном раздражении: вот хоть бы что-то полезное сказал, так ведь нет, только понукать и горазд.
Торопливо одеваясь, я старался не глядеть в зеркало, где отражалась незнакомая девушка. Глядеть на ее наготу было почему-то неловко, словно я подглядываю, как мальчишки после урока физкультуры подглядывают за одноклассницами в соседней раздевалке. Но ведь это же теперь мое тело! На целых девять дней. Я что, так и буду смущаться и отворачиваться? Дичь какая-то!
Натянув на себя какие-то одежки, я отправился (отправилась? Говорить о себе в женском роде было совершенно невыносимо) осматривать квартиру. Может, что-нибудь пойму? Хотя бы самое главное – про ребенка. Катя-Катерина! Надо же!
В просторной комнате стояла широкая кровать (вообще-то при ближайшем рассмотрении это оказался диван, но он, похоже, вечно находился в разложенном состоянии, разве что постельное белье менялось; поэтому пусть будет кровать), а рядом пристроилась кроватка с посапывающей Катенькой. Здесь больше всего бросались в глаза детские вещи: игрушки, одежки, еще какие-то непонятные причиндалы.
В соседней комнате, раза в два меньше, чем «детская», нашлись фотографии. Довольно много. Почти на всех была Настя – то одна, то в окружении людей, чьи лица казались знакомыми (ну да, я же должен помнить то же, что и она, хотя бы поверхностно), однако попытки вспомнить подробности – имена хотя бы – оказались безрезультатными. Настя же, судя по снимкам, «прожигала жизнь» с неменьшим энтузиазмом, чем Миша. Всевозможные дикие – наверное, очень модные – одежки, разноцветные стрижки «под дикобраза», макияж, больше скрывающий лицо, чем подчеркивающий его достоинства. А ведь лицо-то у нее (у меня!) очень даже симпатичное. Не модельная красотка, но весьма, весьма. Сюжеты снимков также не годились для альбома «Жизнь приличной девочки». Клубы, дискотеки, кальян, обнимки с мальчиками на дорогих машинах. Все это совершенно не вязалось ни с ребенком, ни с довольно чистой, без следов «бурной общественной жизни» квартирой. Квартира была довольно безликой, словно для живущего здесь человека понятие «дом» было сугубо утилитарным: какая разница, как выглядит место, где ты ешь, спишь и вообще находишься? Даже если находишься почти круглосуточно. Вообще складывалось впечатление, что бурная жизнь осталась где-то в прошлом. Скорее всего, из-за ребенка. Родила и образумилась, что ли?
На одном из снимков рядом с размалеванной под героиню боевого фэнтези Настей стояла девушка в джинсах и простой футболке. Остро кольнуло сердце: какая красавица! Вроде один в один с Настей (если с той жуткую косметику смыть), но та просто очень симпатичная, а от этой глаз не отвести. Я разглядывал ее, но так и не смог понять, в чем же заключается это «красивее»: то ли губы чуть иначе очерчены, то ли брови чуть выше, то ли овал лица чуть правильнее. Так-то вроде все то же самое: те же узкие плечи, те же высокие скулы, те же зеленовато-серые глаза, в которых должны плавать золотистые солнечные крапинки…
Анжела!
Глава 7
Анжела! Настя уронила фотографию на колени и закусила губу.
Когда-то, давным-давно, в прошлой жизни, в младшешкольные времена, ее, бывало, посылали в соседнюю фотомастерскую. Фотоаппарат у отца был еще пленочный, тяжелый, загадочно блестевший хромом, а может, никелем, в общем, всякими металлическими штучками, в поцарапанном футляре из жесткой коричневой кожи. Чтобы не возиться с проявкой и печатью, пленки – круглые черненькие пенальчики с торчащими сбоку смешными язычками – отдавали в мастерскую. Готовые фотографии там складывали в большие квадратные конверты из плотной желтой бумаги, которая пахла какой-то химией. Настя шла, прижав конверт к животу, и чувствовала себя Очень Важной Персоной, гордо думая, что даже старшая сестра – всегдашний пример и укор – не справилась бы с поручением лучше. Однажды конверт оказался бракованным, боковой шов расклеился, и фотографии высыпались. На тротуар, на чахлый газон с одуванчиками, даже на дорогу. Машины тут почти никогда не ездили, но «почти» не значит «совсем никогда». А вдруг? Вдруг вот прямо сейчас какая-нибудь вывернет из-за угла, черные колеса наедут на рассыпанные фотографии, сомнут, утянут за собой, комкая, пачкая, разрывая… Настя чуть не плача кидалась то туда, то сюда – собирала.
Сейчас картинки прошлого вдруг посыпались из памяти, как те фотографии из лопнувшего конверта. И так же, как тогда, подступил страх: не успеть, никак не успеть, ничего не получается. Надо собрать, засунуть картинки, обрывки, осколки назад, в дальний темный угол, и не смотреть, не смотреть. Нечего смотреть, все давно прошло. Все прошло, говорят с удивлением и облегчением, когда немилосердно разболевшийся зуб вдруг перестает ныть. Только не нажимать, не трогать. Тронешь – и раскаленная иголка опять воткнется в десну, и зуб станет размером с голову, будет не голова, а один сплошной больной зуб. И весь мир станет одним сплошным больным зубом.
Не трогать, не смотреть. Некоторые осколки теплые, гладкие, как цветные камушки на морском берегу. Другие – колючие, ядовитые, жгучие. И не разобрать, где какие. Пусть уж лежат все скопом в дальнем чулане памяти, в темноте, в пыли и забвении.
Настя знает, что смотреть нельзя, и все равно смотрит.
Вот Анжелу собирают в первый класс.
Всякие прекрасные вещи к этому дню покупали все лето: портфель, форму, новые туфельки, белые гольфы с забавными помпончиками. Один, когда выкладывали покупки, оторвался, и Настя его потихоньку спрятала – ну никак было не удержаться, все равно ж никто не заметил. Помпончик был беленький и пушистый, как маленький птенчик. Настя гладила его одним пальцем и шептала «шу-шу-шу», пальцу было мягко, а губам щекотно. Но помпончик скоро замусолился, стал серый и некрасивый, пришлось тайком выкинуть его в мусорное ведро.
Непорядок с гольфами обнаружился за день до Первого сентября: на одном есть помпончик, на втором – нет. Надо же, как мы невнимательно в магазине смотрели, вздохнула мама и отрезала и второй помпончик. Все равно ж гольфы и без них были распрекрасные! И все «первоклассные» приобретения тоже были первоклассные! Как самая раскрасавишная красота!
У парадного белого фартука на плечах – громадные пышные оборки. Как крылья. По краям крыльев – кружева, и на белом воротничке, и на манжетах – такие же. И банты тоже как крылья. Ленты широченные, полупрозрачные и блестящие. Они переливаются и меняют цвет: если положить рядом что-нибудь синее, лента голубеет, если красное – розовеет. Банты жесткие и все время слетают с волос, так что пришлось завязать их заранее и пришить к скучным резинкам. Но если не присматриваться, то резинок не видно, кажется, что банты держатся сами по себе.
В новеньком, вкусно пахнущем кожаном портфеле таятся неисчислимые сокровища. Книжки в плотных прозрачных обложках, такие же обложки, но потоньше – для тетрадок, сами тетрадки (в клетку и в линейку), альбом для рисования и пенал, словно сундучок с драгоценностями. Четыре простых карандаша (вот странно, думает Настя, почему они «простые», если рисуют черным или серым), восемь цветных, три ластика, фломастеры, еще фломастеры, только с тоненькими, как иголочки, жалами, и еще с плоскими, широкими, они называются «маркеры», и – в специальном отделении, да еще в своей собственной коробочке с прозрачной крышкой – сказочно красивая авторучка. Ну зачем девочке настоящий «Паркер», вздохнула мама, а отец ответил, что Анжела – умница и старшая, поэтому так надо. «Настоящий Паркер» потерялся весной, когда Анжела заканчивала первый класс. Анжела плакала, а отец сказал: «Это пустяки, главное, чтоб ты сама была умницей, а писать можно чем угодно».
Вообще-то ручку стащила Настя, ведь осенью идти в первый класс предстояло уже ей, значит, ей тоже нужно что-нибудь «настоящее», правда? Она спрятала ручку во дворе, в дырке под заборчиком, чтоб лежал до осени, а через несколько дней поняла: взять сокровище в школу она не сможет – увидят, начнут допрашивать, накажут, конечно. Настя долго била по «настоящему Паркеру» половинкой кирпича – чтоб совсем вдребезги, чтоб не узнали – и плакала. Ручка была очень красивая.
Но все это будет потом, весной, а Первого сентября «настоящий Паркер» уютно лежит в своей коробочке, в пенале, в портфеле, который несет порозовевшая от волнения Анжела.
Настя любуется старшей сестрой и думает: как все глупо устроено, почему нельзя пойти в первый класс вместе? Сейчас шли бы рядом, обе с бантами, в фартуках с крыльями, с вкусно пахнущими портфелями. Ужасно глупо и даже обидно. Анжела шепчет ей на ухо: «Когда ты пойдешь в школу, я уже все-все-все буду знать и все-все-все тебе расскажу! И ты будешь все знать заранее!»
На будущий год нарядная Анжела (не мама, не папа, Анжела!) ведет такую же нарядную – крылатый фартук, банты, вкусно пахнущий портфель с сокровищами (хотя и без «настоящего Паркера», осколки которого были закопаны под заборчиком в углу двора) – Настю туда, где стоят первоклашки и толстая женщина в синем костюме. Это учительница, ее смешно зовут Ксения Семеновна, почти как «сим-сим, открой дверь» из сказки. Анжела шепчет Насте последние наставления и уходит к своему классу.
В наставлениях Анжела не отказывает никогда. Да и в любой другой помощи.
Матери недосуг – она готовит обед, или стирает, или подшивает манжеты, или моет посуду, и старшая сестра (ну какая старшая, на год всего!) привычно помогает Насте делать домашку: «Гляди, как просто!» Почему-то, когда Анжелка объясняла, все действительно выходило очень просто. Дурацкие иксы мгновенно превращались из неизвестных в известные, глупые запятые послушно вставали на положенные места, даже английские артикли (как только англичанам пришло в голову такую дурь устроить!) становились нужными и понятными.
Поначалу Настя даже завидовала старшей сестре: надо же, как ловко у нее все получается, вот бы и мне так. Потом завидовать бросила. Потом стало наплевать.
И долго было наплевать. Лет шесть, наверное, а то и восемь.
Зачем, боже мой, ну зачем ее заставили ехать в этот проклятый морг? В эту мрачную комнату под неправдоподобно низким потолком. На самом-то деле потолок вовсе не был низким, но Насте казалось, что он тяжело нависает прямо над головой, вот-вот раздавит. Быть может, это давящее впечатление возникало из-за «кирпичной» плитки, которой был выложен неровный пол или из-за выстилающего стены отвратительно белого кафеля. Белые квадраты отливали почему-то сизым, и сгущавшиеся в их отбитых углах тени были совсем уж трупные.
Теням там быть вовсе не полагалось, все заливал безжалостный мертвый свет, от которого в животе становилось кисло и горько, но тени были. И жуткая комната казалась частью какой-то другой, потусторонней реальности. В настоящей жизни не бывает таких трупных стен, таких безнадежно низких потолков. И цинковых столов в настоящей жизни тоже не бывает.
В голове крутилась неизвестно откуда взявшаяся цитата: «Где стол был яств, там гроб стоит». Хотя никаких яств тут, конечно, никогда не бывало. И гробов тоже. Были безобразно сверкавшие металлические штыри, крючки и прочие штуки непонятного, но явно страшного назначения. Как пальцы Фредди Крюгера или зубы какого-то запредельного хищника. Кузнец, кузнец, скуй мне железные зубы!
Безжалостный пронзительный свет тоже был мертвый, цинковый, острый.
Он резал жизнь на до и после, как нечаянно сорвавшийся нож – его же вчера наточили, надо быть осторожнее, но где же упомнить! – попадает по теплому беззащитному розовому пальцу. Вот только что кухню плотно заполнял аромат уютно булькающего бульона, и горки овощей – веселые морковные кубики, мраморная капустная соломка, сдобные брусочки картошки, перламутровые луковые кольца – стремительно вырастали на теплой деревянной доске, и уже предвкушалось, как все будет густо, огненно, вкусно. Так-так, ловко и проворно стучал нож, и масло уже шкварчало на сковородке, готовясь принять тонюсенько наструганный лук… И – р-раз! Лаковая кровь мгновенно заливает все веселые припасы, кажется, что ее очень много, разве может быть так много? И надо бежать, зажимая остро саднящий разрез, суетиться – где этот чертов йод? – и сковородку не забыть выключить, и бульон прикрутить, чтоб не выкипел, неловко, одной рукой отрезать пластырь, который тут же подмокает и отклеивается, затягивать поверх жесткий хрустящий бинт, и удерживать его зубами, потому что только Гарри Гудини смог бы завязать бинт одной рукой.
А потом придется все начинать сначала – бульон-то кипит, булькает, никуда не денешься. Ссыпать залитые кровью овощи в мусор, отмывать доску, чистить, скоблить и резать – заново. Какой уж там – ловко и проворно, когда вместо пальца неаккуратная лохматая белая гуля, ни взять ничего толком, ни повернуть, да еще от воды ее береги. А когда задеваешь, от гули стреляет болезненная горячая стрела – до самого локтя, до плеча. И стрелять будет еще долго, и долго еще руку беречь придется, а как ее беречь, когда дела-то ждать не будут, не бульон, так еще что-нибудь.
И уже кажется, что так было всегда: и некрасивая кривая белая гуля вместо пальца, и непослушная рука, и все время неловко, неудобно и больно, когда заденешь.
После морга все помнилось как в тумане. В доме толпились какие-то незнакомые люди – или они только казались незнакомыми? – которые с важным видом обсуждали какие-то дикие вещи, совершенно не имеющие отношения к Анжеле. И вообще ни к чему на свете: гроб такой или эдакий, синее платье хорошо, нет, серый костюм лучше, а еще полотенца, непременно льняные, и покров кружевной, и платочки еще. Платочки! Ну какая разница, такой или эдакий гроб и тем более синее платье или серый костюм? Ее же все равно закопают. Закопают!
Жара, уже которую неделю тяжко давившая на город – может, если бы не эта жара, ничего бы с Анжелкой и не было бы, но об этом думать нельзя, нельзя, история не знает сослагательного наклонения, – жара сцементировала землю намертво, и над вывороченными из могильной ямы ржавыми каменными комьями висела, не оседая, мелкая, такая же рыжая пыль. Полуголые кладбищенские рабочие, потно блестя коричневыми потными спинами, разбивали эти комья лезвиями лопат, и клубы пыли становились гуще. Деревья вдоль обочины тоже стояли пыльные, полумертвая листва была больше похожа на тряпочные театральные декорации, чем на часть чего-то живого. Траурная толпа вокруг могилы – откуда их столько, слабо думала Настя – казалась какой-то чужеродной, как будто в одну картинку вставили вырезанный кусок другой.
Костюм отца – несмотря на жару, он был непреклонен: только костюм, и идите к черту! – хотя и припорошенный пылью, резал глаза своей яркой чернотой. Когда по крышке гроба застучали так и недоразбитые рабочими комья земли, отец посерел и начал медленно оседать прямо на рыжую груду под ногами.
Врачи сказали, что у него что-то там такое нехорошее с сосудами – Настя никогда ничего в этом не понимала. Но выздоравливать отцу предстояло долго, и как-то само собой стало ясно, что осиротевшей племянницей, кроме нее, Насти, заниматься некому. Этот, Анжелкин, черт его знает кто, Катенькин папаша, в общем, говорили, пьет не просыхая и не слишком вменяем, куда ему за дитем смотреть. Вся предпохоронная суета обошлась без него, и на кладбище его не было. И ладно, шептались кумушки, еще устроил бы какой-нибудь цирк, с него станется.
На «этого» Насте было наплевать. Главное – была Катюшенька и новая жизнь. Что жизнь – новая, это тоже было совершенно ясно. Как на пасхальной открытке, где желтенькие цыплятки, барашки белейших облаков в голубом небе, разноцветные яйца в кружевных корзинках и пухлощекие кудрявые розовые ангелочки, похожие на Катеньку.
Вдруг оказалось, что правильную независимую умницу и красавицу Анжелу, вечный Настин пример, недосягаемый образец и идеал, теперь, когда она лежит в темноте под колючими жаркими комьями, что теперь ее можно жалеть. Э-эх, как нескладно все вышло-то, а? И девочка-малютка сироткой осталась, э-эх, шептались сочувствующие соседки.
Настя мечтала, как будет нянчить обездоленную племяшку, и вот тогда окрестные кумушки, которые все всегда и про всех знают… Ну да, она любила веселье, шум, компании всякие. Любила гомон ночных клубов, когда от гула басовых ощутимо дрожит пол и щекочет внизу живота, а из углов тянет сладковатым травяным дымком. И всякие дурацкие придумки, вроде купанья в фонтане или плясок на мостовой, тоже любила. Ну и что, что глупо, зато весело! И гонки «убеги от гаишников» по ночным улицам – все машины исключительно «приличные», никакого отечественного автопрома! Что такого-то? Когда и веселиться, если не в молодости? Подъездные кумушки небось и родились уже сразу серыми, пожилыми, унылыми, безнадежно правильными, и слово «веселье» видели только в словарях. Зато теперь они будут коситься на нее, Настю, не укоризненно поджимая губы – и в кого такая оторва уродилась, сестренка-то у нее прям ангел, ангел, а эта только и горазда с отца деньги тянуть, тьфу! – а уважительно, с одобрением: надо же как о сиротинке-то заботится, вот молодчина-то!
Настя накупила гору всевозможных игрушек – плюшевых медведей, специальных развивающих кубиков, книжек-раскрасок – и мечтала, как весело им с Катюшкой будет во все это играть. Над кроваткой подвесила трубчатые китайские колокольчики, которые называются «музыка ветра» и могут отгонять злых духов. Мечтала, как будет наряжать малышку, водить в цирк, в зоопарк и в кафе-мороженое. А потом – дети ведь так быстро растут, это все говорят – повяжет громадные банты, купит самый лучший, самый правильный ранец и за ручку поведет в первый класс, и ранец будет вкусно-превкусно пахнуть, и все будут любоваться и ахать: какая красивая семья! Катя станет звать ее мамой – а как же иначе? – и только потом, потом, когда племянница совсем уже вырастет, Настя расскажет ей, что была у нее «мама, которая родила», но сразу «ушла на небеса», и Катенька ей родная, родная! А Катюшка, всхлипывая и улыбаясь, прошепчет, что Настя и есть ее настоящая мама, и они поплачут немножко вместе…
Мечтать было так сладко…
Вскоре, однако, оказалось, что дети растут, быть может, и быстро, но все же не настолько быстро, как мечталось. И не то что до школьного ранца – до пирамидок и кубиков еще жить и жить. Менять памперсы (а говорят, раньше были подгузники, и их приходилось стирать! Какой ужас! Это ж вовсе с ума сойти можно!), готовить молочные смеси, мыть бутылочки, гулять каждый день, таская туда-сюда тяжелую коляску. Коляска была дорогая, с миллионом всяческих облегчающих прогулочную жизнь приспособлений, и все время норовила зацепиться – за двери квартиры, лифта, подъезда. Недели через полторы после начала «новой жизни» Настя вместо прогулок стала вывозить коляску на балкон: ну а что, в самом-то деле, какая разница, где ребенок «дышит воздухом»? На балконе еще и лучше: внизу машины с их выхлопными газами, а на верхних этажах воздух наверняка ведь чище? Тем более что окрестные кумушки почему-то не торопились растроганно ахать ей вслед. Да и были ли они, кумушки? Вот во времена Настиной, как бы это сказать, бурной юности они точно были и вслед шипели, она точно помнит! А теперь не стало. И чего тогда надрываться с этой чертовой коляской? И так сил уже никаких. Дни сменяли друг друга так незаметно и были так неразличимы, словно это был один сплошной бесконечный день. День сурка.
Или осла, говорила себе Настя, глядя на застиранную, но удобную домашнюю футболку с мультяшным Иа-Иа на животе. Футболка уже изрядно вытянулась, и морда ослика, и без того унылая, превратилась в воплощение унылости просто всемирной: жалкое зрелище, душераздирающее зрелище. И вся жизнь стала такая же серая, бесформенная и унылая, как эта ослиная морда.
Вдобавок и у Катюхи начал портиться характер. Вместо улыбок и непонятных «гу-гу-гу» она начала похныкивать, потом плакать, да все чаще и громче, успокаивалась только на руках, и то не всегда. Да и невозможно ведь таскать ее на руках круглосуточно! Балконные прогулки пришлось прекратить – в квартире еще так-сяк, но с балкона Катькины вопли были наверняка слышны во всех окрестных домах, мало ли, еще полицию какую-нибудь вызовут.
В последние три дня Катерина орала практически без остановки, прерываясь лишь на еду и сон.
Иногда, не выдержав, Настя начинала орать в ответ:
– Ну что, дрянь такая, чего тебе не хватает? На голову встать? Колесом пройтись? Принца английского раздобыть? Так нет у меня никаких принцев! Не-ту, ясно?!
Племяшка на мгновение замолкала, взглядывала на нее с некоторым интересом – ты чего, тетя, с ума сошла? – и вновь принималась вопить.
У других дети как дети, а это черт знает что, а не ребенок!
– Температура, сыпь, понос есть? – Голос в трубке был лишен каких бы то ни было человеческих интонаций. Стерильный такой голос, настоящий медицинский.
– Нет, – пролепетала Настя.
– И все время плачет? Может, она у вас просто голодная? Вскармливание грудное? – деловито расспрашивал медицинский голос.
– Нет, из бутылочки. Но она хорошо ест, – начала зачем-то оправдываться Настя. – Когда поест, спит, а как проснется, опять в рев. Ну пожалуйста, приезжайте! – взмолилась она. – Вы же врачи, сделайте что-нибудь.
– Послушайте, мамаша, вы все-таки не пиццу заказываете, а «Скорую помощь» вызываете, – все так же стерильно остановила ее трубка. – Во-первых, я сама не выезжаю никуда, я диспетчер, я только принимаю вызовы. Во-вторых, если «Скорая» будет выезжать на каждый детский плач, остальные пациенты просто умрут, не дождавшись помощи.
– Но что же мне делать? – Настя уже почти рыдала. Из комнаты доносились Катькины вопли, и хорошо, и пусть они там слышат, что все на самом деле плохо. – Я ее укачиваю, а она орет, я с ума сойду, что делать?!
– Для начала успокойтесь. – Голос немного помягчел. – Ребенок может плакать просто из-за того, что вы сами нервничаете. Температуры, сыпи, поноса, вы говорите, нет. Ест, по вашим словам, ребенок нормально, а после еды спит. То есть никаких тревожных симптомов. Ну а плачет… сходите в поликлинику, пусть участковый посмотрит, может, зубки режутся.
– А вы точно не можете приехать? – переспросила Настя, больше всего опасаясь, что там, на том конце, сейчас положат трубку и что тогда делать? – Я бы заплатила…
– Вызовите вы платную «неотложку», в конце концов, – сурово посоветовал медицинский голос.
– Я не знаю, как… – всхлипнула девушка.
– Ох, мамочки вы, мамочки, нарожаете, а потом… – вздохнули в трубке. – Ну, пишите.
Настя торопливо поблагодарила, отключилась и, с трудом разбирая кое-как нацарапанные на салфетке цифры, дрожащими пальцами начала тыкать в кнопки телефона.
Врач платной «неотложки» прибыл буквально минут через пятнадцать. Точно за углом где-то дожидался. Как фокусник, выдернул из кармана бахилы, отработанным движением натянул их на ботинки. Из чемоданчика появился белый халат, в который доктор так же мгновенно облачился:
– Руки где помыть? А, вижу… Полотенце… ага, вот это? Спасибо. Ну, давайте поглядим, что у нас случилось. Катенька, говорите, плачет все время? Поглядим, поглядим, – приговаривал он, непрерывно улыбаясь. – Ну, здравствуй, Катенька, что тебя беспокоит?
Девочка, с интересом глядя на склонившегося над ней человека в белом халате, перешла с непрерывного плача на редкие всхлипывания, а потом и совсем притихла. Даже оказавшись после тщательного осмотра вновь в кроватке, зареветь не пыталась: хлопала глазенками, крутила головой – наблюдала.
– Ну, на первый взгляд ничего угрожающего, – констатировал врач. – Вас как зовут?
– Настя. Ну как же ничего, она же…
– Да слышал я, когда подходил! – Он махнул рукой, все еще не переставая улыбаться, точно улыбка была такой же униформой, как халат и бахилы. – Но в целом… Животик мягкий, слизистые чистые, температуры и сыпи нет. Стул как часто? В последние дни цвет, консистенция не изменились?
– Только мне и дела, что в детских какашках ковыряться! – возмутилась Настя.
– Ну что вы, Настя, детские, как вы говорите, какашки, – он улыбнулся еще шире, – колоссальный, нередко единственный источник информации о состоянии здоровья вашего малыша. Простите, малышки. Вы все-таки не вчера родили, должны уже привыкнуть. Какая же вы мама, если в какашки брезгуете заглянуть?
– Я вообще не мама! – Настя почувствовала, что к горлу подступает комок.
– Простите? – несколько растерялся врач. – Это не ваш ребенок?
– Мой, – буркнула Настя. – Моя племянница.
– Ах, племянница, – протянул он. – Сестры дочка?
Девушка кивнула.
– А сестра сейчас где? – без особого интереса спросил врач.
– Месяц как похоронили, – буркнула девушка.
– Ох, простите. – Дежурная улыбка сползла с его лица. – Да, тяжело вам. Но что же делать, нужно привыкать. – Он нахмурился, как бы что-то соображая. – Значит, у девочки сейчас стресс и вдобавок резкая смена режима питания, так? С грудного молока на… покажите-ка мне, чем кормите.
Врач отправился на кухню, изучил коробки со смесями, одобрил, наводящими вопросами заставил Настю вспомнить миллион подробностей про «какашки» и в итоге сообщил, что оснований для беспокойства нет.
– Но она же плачет все время! – в отчаянии воскликнула Настя.
– Как же все время, когда вот сейчас наблюдает за нами и молчит? – возразил врач, на лицо которого уже вернулась дежурная улыбка.
Действительно, Катя-Катерина, как назло, следила за их передвижениями и реветь явно не собиралась. Даже вроде бы намеревалась улыбнуться.
Настя шмыгнула носом:
– Когда я в «Скорую» звонила, там сказали, что могут зубки резаться…
– Ну да, – согласился врач, – десны слегка гиперемированы, весьма возможно, что зубки. Хотя вообще-то вам еще рановато, но нынешние детки шустрые, особенно искусственники.
– То есть прорежутся зубки, и она успокоится?
Врач покачал головой и усмехнулся:
– Ну что вы, не так быстро. Не завтра, во всяком случае. Во-первых, зубки режутся не все сразу, а по очереди. Во-вторых, и первый-то может резаться довольно долго. Бывает три дня, а может быть, и месяц. Все очень индивидуально, – старательно объяснял он. – У вас, конечно, о трех днях речь тоже не идет. Допускаю, что первый зубик через недельку вылезет, но… покраснение на десне слабое, припухлости, в общем, нет, так что, даже если там и зубик, не исключаю, что и две, и три недели может понадобиться.
– Допускаю, не исключаю! – передразнила его Настя. – Вы хоть что-нибудь можете точно сказать? Мне что, месяц такие концерты слушать придется?
– Точно я вам уже сказал, – посуровел врач. – Месяц не месяц, но настроение ребенка зависит от вас. Девочка здорова, просто уделяйте ей больше внимания. Возможно, и впрямь зубки режутся, возможно, просто колики, тут вообще никакой врач не поможет, детские колики возникают и проходят… ну, скажем, пока не очень понятно, как и почему. Но я бы сказал, – он вздохнул, – что девочке просто не хватает мамы. То есть в данном случае – вашего внимания. Если успокаивается на руках, значит, носите на руках. Но старайтесь – постепенно, по минутке – приучать к самостоятельности. Играйте с ней, когда она лежит в кроватке, подбирайте игрушки, чтоб заинтересовать. Вот, собственно, и все. Моя помощь тут не требуется.
– Но я могу вас опять вызвать? – с надеждой спросила Настя.
– Да вызывайте, если денег не жаль. – Врач пожал плечами и начал стаскивать халат. – Но ничего другого я вам не скажу. И, кстати, гулять с ней не забывайте, они от этого спокойнее.
– Ну, добилась своего? – прошипела Настя, закрыв за доктором дверь и вернувшись к кроватке с безмятежно разглядывающей свою ладошку племянницей. – Доказала всем, что ты хорошая, а я плохая, ненавижу детей, не желаю заботиться о беспомощной малютке и вообще полное чудовище? Ну чудовище я, договорились, радуйся. Теперь-то ты довольна? Или еще что-нибудь? Может, канкан тебе сплясать вместо колыбельной?
Девочка улыбнулась и закрыла глазки. Через пару минут из кроватки доносилось мирное сонное сопение. Настя рухнула прямо на неразобранную постель и мгновенно провалилась в сон.
Проклятье! Кто бы мог подумать, что няня настолько дефицитный объект! Настя отшвырнула телефонную трубку. Сколько можно обзванивать бесконечные «Беби-сити», «Бон-Бонны» и, уж конечно, «Мэри Поппинс»! Никакой фантазии у людей. И толку тоже никакого. Одни, видите ли, предоставляют только долгосрочные услуги. У других весь штат не старше двадцати пяти – ну какие это няни! Да и не доверяла Настя молодым девчонкам, мало ли кого пришлют, может, наводчица у жуликов или еще чего похуже. У третьих «специалисты по постнатальному уходу» и еще чего-то такое же длинное и умное с дипломами Гарварда, Оксфорда и Сорбонны, вместе взятых – во всяком случае, именно так они себя рекомендуют. И денег требуют примерно как топ-менеджер небольшой нефтяной компании. Настя, правда, не очень представляла, сколько получают топ-менеджеры, но вроде бы везде пишут, что много, а кто на нефти сидит, тем более. Деньги у нее есть, конечно, но чтоб этим гарвардским няням платить, миллиардером нужно быть, не меньше.
Но вот скажите, зачем няне диплом Сорбонны? Няня – это такая милая бабушка в платочке, которая кормит младенца кашкой – ну, или чем еще положено, – делает ему «козу», поет колыбельные, укачивает и все такое. Они что, все вымерли? Или сидят у подъездов на лавочках, языки чешут, обсуждают мировую политику и личную жизнь эстрадных звезд и собственных соседей? Но ведь не пойдешь обходить окрестные дворы и приставать к околоподъездным бабушкам с вопросом: где бы мне няню найти?
Настя почти с ненавистью поглядела на сладко сопящую после сытного ужина Катюшу и, вздохнув, опять взялась за телефонную трубку. Когда очередной номер отозвался более-менее адекватными условиями, она не поверила в свое счастье:
– Да-да, завтра с утра, пожалуйста!
Едва она положила трубку и подумала, что неплохо было бы выпить чаю, крепкого, сладкого, может, даже с лимоном, как Катенька распахнула совершенно не сонные глаза, хныкнула раз, хныкнула другой, вдохнула поглубже…
Господи, подумала Настя, когда ж я сдохну?!
Когда в девять утра раздался звонок в дверь – прибыла долгожданная няня, – Настя еще нашла в себе силы приклеить на лицо вежливую улыбку. А то вдруг «специалистка по уходу за младенцами» сразу с порога развернется и сбежит.
– Добрый день, – сухо поздоровалась учительского вида «специалистка» и поморщилась: от Катюшкиных криков, казалось, дрожат стены. – Меня зовут Татьяна Викторовна. Ваш ребенок что, болен?
– Нет-нет, что вы! – Испуганная возможным отказом Настя замахала руками, подумав мельком, что такие няни бывают, наверное, разве только где-нибудь в Англии. Небось бывшая училка. Химичка какая-нибудь. Или даже директриса. Гладко, волосок к волоску зализанный узел неопределенного цвета, такого же неопределенного цвета, но строжайшего покроя костюм, застегнутая под горло блузка, больше похожая на мужскую рубаху. Бр-р-р! А глядит-то как! Вот сейчас скажет: завтра чтоб без родителей не являлась. Впрочем, подумала девушка, может, такая нам и подходит. Чтоб с Катюшей справляться, нервы железобетонные нужны. – Она здорова, только вчера врач смотрел. Просто нервничает, наверное, – и пояснила: – Незнакомый человек, все такое. Меня, знаете, срочно вызвали на работу, так что, когда вернусь, неизвестно. Скорее всего, это на весь день затянется.
Настя сама не знала, зачем соврала няне про мифическую рабочую необходимость. Наверное, хотелось оправдаться – оправдаться перед самой собой в первую очередь – за то, что бросает малышку на целый день. Не потому, что действительно нужно, а потому, что сил уже нет терпеть. Господи, как Анжелка это все выдерживала! Ну да, она же Анжела, ангел небесный! Образец и идеал недосягаемый! Дочку вон зато Катериной назвала, проще уж и некуда, проще только Маней. Видать, ангелом-то быть в жизни совсем не так уж приятно. Неудивительно, что сердце не выдержало, у меня тоже скоро не выдержит. Ладно-ладно, няня – это неплохое решение. Может, эта «директриса» и справится.
Несколько напуганная расспросами вчерашнего доктора и суровостью няни Настя начала подробно показывать «директрисе» Катюшины вещи, коробки с молочными смесями, полку с памперсами, даже стиральную машину…
– Не беспокойтесь. – «Директриса», глядя на ее метания, презрительно поджала губы. – У меня большой опыт работы с детьми. Имя? – рявкнула вдруг она совсем уж по-директорски.
– Э-э… Настя… Анастасия… я же вчера… – пролепетала девушка.
– Да не ваше, – сурово оборвала ее Татьяна Викторовна, – ваше я знаю, вы вчера свои данные называли. Ребенка как зовут?
– Катюша. Екатерина то есть, – пролепетала Настя. – Ну, мне пора, извините.
– Ступайте, – величественно согласилась дама.
Девушка пулей вылетела за дверь – не дай бог остановят.
– Ну, Екатерина, чем займемся? – сурово поинтересовалась дама, стоя над кроваткой.
– А-а-а-а-а! – с утроенной энергией завопила девочка.
По дороге домой Настя свернула на бульвар и набрала громадный осенний букет. Кленовые листья светились, как сказочные фонарики, а мрачноватая ветка рябины в их золотом окружении выглядела драгоценной брошью. Великанской, усмехнулась девушка, вдыхая слабый, но острый запах и жмурясь от удовольствия. Даже прогуливая в давние-предавние времена школу, она не чувствовала такой пьянящей свободы, как сегодня, сбежав от непрерывно орущей племянницы. Бесцельно бродила по городу, любуясь своим отражением в витринах, заходила в магазины по пути – не потому, что нужно было что-то купить, а просто так, – пообедала в кафе, сопроводив трапезу бокалом шампанского – не потому, что хотелось выпить, а чтобы отпраздновать свой личный день независимости.
К вечеру раздражение окончательно улеглось, племяшка стала казаться милой и родной, Настя даже начала не без удовольствия представлять, как она растит и воспитывает девочку, водит ее в цирк, в кино и куда там их еще водят. В конце концов, дети ведь приносят радость, все так говорят, правда?
Нашаривая в сумке ключи, она улыбалась:
– Привет-привет-привет! Вот и я! Как вы тут без меня, не сильно шалили?
Татьяна Викторовна сунула ей в руки орущую Катюню:
– У вас ужасный ребенок, ему не няня, а психиатр нужен! Исчадие ада! – зло шипела няня, торопливо пытаясь привести в порядок изрядно встрепанные волосы и нашаривая ногой туфли. – За такое издевательство нужно в тройном размере платить, и то желающих не найдете!
Исчадие ада, вцепившись в Настину блузку, тут же переключилось из режима «сирена воздушной тревоги» в режим «дайте ребенку доплакать».
– Что такое? – ощетинилась Настя, рефлекторно прижимая к себе племянницу. – Вы же профессионал, разве нет? И не справились?
– Знаете, Анастасия, – женщина оскорбленно поджала губы, – я работала с самыми разными детьми, в том числе и беспокойными. Но вашу дочь не успокоил бы сам дьявол! – Она пулей вылетела из квартиры, оглушительно хлопнув дверью.
Настя, сбросив туфли, доплелась до комнаты и рухнула в кресло. Катя-Катерина, еще похныкивая, сосредоточенно изучала воротник ее блузки. Неужели успокоилась? Увы. Едва оказавшись в кроватке, девочка тут же начала новый концерт.
Заваривать чай и подогревать детское питание пришлось одной рукой, удерживая второй требовательную племянницу. Впрочем, в обнимку с теплой бутылочкой Катюшка милостиво согласилась полежать – так уж и быть! – и в кроватке. Настя наблюдала за ней, едва дыша, – вдруг опять заревет.
Наконец крошечные ручонки разжались, опустевшая бутылочка, откатившись, стукнулась об ограждение кроватки, а Катенька, продолжая почмокивать, вроде бы заснула.
Неужели вот это и есть то самое счастье иметь детей, размышляла Настя, наводя хоть какое-то подобие порядка. Ведь зачем-то люди заводят этих маленьких спиногрызов, да еще и радуются. Мазохизм какой-то. Тут не знаешь, как с ума не сойти, а они радуются.
Настя откинула колеблемую не по-осеннему теплым ветром штору и прислонилась к распахнутой створке, бездумно глядя вниз. Редкие прохожие казались фигурками из кукольного театра… А может, это выход? Туда… Вот все эти куклы всполошатся, если на них сверху шмякнуться! Забегают, засуетятся. А без толку! С двенадцатого этажа не то что не выжить, останки от асфальта лопатой отскребать придется. О девчонке найдется кому позаботиться, пусть вон отца разыщут, если больше некому.
Она не могла оторвать взгляд от тротуара внизу. Может, и вправду…
Словно подслушав ее мысли, Катенька проснулась и тут же снова заголосила.
– О чтоб тебя! – прошипела Настя, отбрасывая штору. – Тоже из окна хочешь?! Может, тебя туда уронить? Нечаянно.
Девушка взяла племянницу на руки и, всхлипывая от жалости к себе, вернулась к окну. Не укачивала, не уговаривала, просто держала. Как куклу.
Бессмысленную, безмозглую куклу, только и умеющую что орать.
Тихий мелодичный перелив дверного звонка шарахнул по натянутым нервам, как удар. Кого там еще черт несет на ночь глядя? Катькины вопли кому-то, видать, надоели. А я что, виновата, что ли?
Рывком распахнув входную дверь, Настя, даже не глядя, кто там стоит, рявкнула сквозь слезы:
– Убирайтесь к черту!
– Так вот она какая, наша общая бессонница, – улыбаясь, сказал симпатичный блондин в яркой гавайке, шортах хаки и шлепанцах на босу ногу.
Шлепанцы Настя заметила, потому что правую ногу мужчина поставил под дверь, не давая ее захлопнуть.
– Я что, неясно выразилась?! – взревела девушка. – Убирайтесь! А если вам детский плач спать мешает, купите снотворного, заткните уши, залезьте в скафандр! Это ребенок, ясно?! – орала она, не в силах остановиться. – Дети имеют обыкновение плакать, ясно?! Так что терпите или меняйте квартиру! Уберите ногу!
– Вы меня не помните? – Мужчина продолжал улыбаться, точно Настя осыпала его не бранью, а любезностями и комплиментами. – Я Денис, можно просто Дэн, ваш сосед снизу. А вы Настя. – За ногой последовало плечо, теперь он стоял поперек дверного проема, прислонясь к косяку.
– Что вы себе позволяете?! – почти взвизгнула Настя, пытаясь перекричать Катюшины вопли, и неожиданно всхлипнула.
– Ну-ну, плакать не надо. Кричать тоже. – Денис ловко перехватил у нее девочку, прижал к себе и начал гладить по светлым кудряшкам.
– Да вы… – Настя осеклась: Катюшка, удобно устроившись на руках соседа… успокоилась!
Прозрачные глазки еще блестели слезами, но она, чертовка такая, совершенно очевидно улыбалась.
– К-к-как?! – растерянно пролепетала Настя. – Как вы это сделали?
Сосед, аккуратно ее подвинув, шагнул в прихожую:
– Не будем устраивать концерт для всего подъезда, ладно? Люди спать хотят.
– Но как? – Настя шагнула назад, пропустила гостя и, почти не соображая, что делает, автоматически закрыла дверь. – Почему она успокоилась? Вы что, гипнотизер?
– Никакого гипноза. – Денис уверенно прошел в комнату, лишь на мгновение задержался на пороге, высматривая кроватку, уложил девочку, еще немного постоял рядом, продолжая гладить ее по голове. – Фокус несложный. Поглядите, как я ее глажу: двумя пальцами, легонечко, между макушкой и лбом. Видите? – Он повернулся к кроватке боком, чтобы Настя могла посмотреть, и через минуту убрал руку. – Ну вот и все, спит.
– Это какая-то фантастика, – прошептала девушка, боясь нарушить такой желанный и такой хрупкий покой. – Вы мой ангел-спаситель. Я думала, с ума сойду. Вот честное слово, не шучу.
– Охотно верю, – кивнул Денис. – У меня Котька, ну, сын, тоже орал, как сумасшедший поросенок, мы с женой на стены лезли, особенно она, конечно. Я-то на работу уйду, а она и ночью толком не спит, и днем эти концерты непрерывные. День за днем, неделя за неделей. Как-то раз я застал ее возле открытого окна: стоит с ним на руках, а у самой глаза пустые-пустые!
– И? – Настя, точно застыв, продолжала стоять над кроваткой.
Денис осторожно взял ее за локоть, довел до кухни, усадил, огляделся, достал джезву, банку с кофе, сахарницу, налил воды, зажег огонь – все это точными, экономными, даже скупыми движениями. Настя глядела на него, как завороженная. Следя за кофе, он продолжал рассказывать:
– Ну что – и? Ольгу, жену, поскольку грудью она к тому времени уже не кормила, молоко от всех этих истерик быстро пропало, отправил к родственникам, у них дом на Кубани, практически на Черноморском побережье. Вот и отправил, чтобы отоспалась, отдохнула и вообще почувствовала себя человеком. Сам взял отпуск и стал с сыном возиться.
– Сами? Не стали няню приглашать? – Настя глядела на гостя в полном изумлении. Таких она еще не встречала. Какой-то он… неправильный. Но так по-хорошему неправильный, все бы такие неправильные были.
– Да ну, что вы, какие няни? – Денис замотал головой. – Как ни крути, а любая няня – это чужой для малыша человек. Няню можно приглашать только уж в совсем крайнем случае, когда действительно деваться некуда – ну, к примеру, все больны или что-нибудь в этом роде. Иначе получается, что детдом на дому устраиваешь. Ну и, конечно, надо искать чтобы не совсем чужая была. Но это все равно крайний случай. Потому что Арины Родионовны, знаете ли, встречаются не сказать чтобы на каждом шагу. Для детишек постарше, ну лет с трех, это уже не так критично, а вот для младенцев. – Он покачал головой. – Они ж сказать-то еще ничего не могут, зато все-все-все чувствуют. Значит, люди в это время должны рядом находиться только родные, любящие. Поэтому я сам и взялся. Правда, я тогда всего этого не понимал, только чувствовал, что можно так, теоретическую базу уже потом подвел, как раз во время бессонных ночей и тому подобных испытаний. Чего только не передумал, когда сына успокаивал. А однажды случайно вот так же погладил его по голове – и свершилось чудо! Круче, чем выиграть миллион долларов по трамвайному билету, честное слово!
Денис снял с огня вздыбившуюся коричневой пеной джезву, разлил по чашкам темную густую жидкость, подвинул чашку Насте. Она пригубила, обжигаясь: кофе был божественный, кто бы мог подумать, что в этой банке таится основа для подобного нектара!
Но ладно – кофе. Главное-то – другое: оказывается, ее страшные мысли про сигануть в окно или ребенка туда уронить – это не потому, что она, Настя, такой ужасающий монстр. Оказывается, подобные мысли или, точнее, настроения посещают многих неопытных родителей. Ведь если вдуматься: если не давать человеку спать и непрерывно долбить по башке, конечно, в результате крыша съедет, еще и не то в эту самую башку взбрести может. Настя почувствовала такое облегчение, словно с нее сняли как минимум египетскую пирамиду, а она и не осознавала, насколько же ее давит ощущение собственной… как же это сказать… вины, наверное? Подлости? Мерзости? Еще вроде ничего плохого и не сделала, но ведь до какого ужаса додумалась, это ж какая черная душа должна быть. А оказывается, чтобы появились гадкие, жуткие, отвратительно стыдные мысли, никакой особой черноты не нужно, а нужно всего лишь насмерть устать и не иметь возможности отдохнуть.
Она почувствовала, как к горлу подкатывает комок. Никогда еще ни к одному человеку Настя не испытывала такой всепоглощающей благодарности. Не за то, что Катюшку успокоил (хотя за одно это ему молиться надо), а за то, что такую тяжесть, такой стыд с ее, Настиной, души снял. И ведь, наверное, сам об этом не догадывается. Хотя, может, и догадывается, вон какой наблюдательный, вроде и не смотрит, а все видит.
– Ну и вот, – подытожил Денис. – Не скажу, что он никогда больше не плакал, но бесконечные концерты прекратились. Тут фокус в том, что, даже если ребенок не хочет спать, он все равно успокоится, его можно будет заинтересовать игрушками, ну и так далее. Это не на всех детей действует, но на многих. Не имею представления почему.
– Ой, лишь бы работало! – с воодушевлением воскликнула девушка.
– Работает, не сомневайтесь, – усмехнулся Денис. – Вы же сами видели. Так что у вас теперь все нормально будет. Хотя с врачом все-таки не вредно посоветоваться.
– Да вызывала позавчера! – Настя махнула рукой. – Обнюхал Катюху всю с ног до головы, только что не облизал, вопросы всякие задавал, какашки его, видите ли, интересуют!
Но Денис ее возмущения не поддержал, пояснив:
– Ну вообще-то, цвет и консистенция этих самых какашек – очень часто единственный источник информации о том, что происходит с ребенком. В младенческом, по крайней мере, возрасте.
– Вот и он то же самое сказал, – фыркнула Настя.
– Правильно, – подтвердил Денис. – Потому что так и есть. Младенцы – они же не просто маленькие человечки. Они практически наполовину состоят из пищеварения. Поэтому какашки – это не «фу», а важная часть жизни, – объяснял он, улыбаясь. Только его улыбка совсем не выглядела дежурной. – У здоровых детей они такие, у больных вот эдакие, ну, в общем, там сразу видно, что что-то не так.
– Черт! – Настя, которая уже было успокоилась, почувствовала, как ее вновь захлестывает ощущение панической беспомощности. – Я ж ничего не знаю! Откуда?
– Да не пугайтесь вы так, не боги горшки обжигают, научитесь. – Денис внимательно посмотрел на девушку. – Я спросить хотел… Если не хотите, если больно, неприятно, ну, или тайна, не отвечайте, но… Чей это ребенок?
– А… – опешила Настя. – Как вы догадались?
– Да ладно, тоже мне, бином Ньютона, – хмыкнул Денис. – Девочка не новорожденная, ей месяца четыре, ну… не меньше трех. Если бы она была вашей дочерью, вы знали бы ну хоть что-то. Невозможно ведь несколько месяцев нянчить ребенка и совсем ничего о детях не узнать. Ну и к тому же… Вы же в этой квартире не вчера появились, я и в прошлом году вас видел, и раньше даже, по-моему. А ребенок у вас совсем недавно, так?
Настя кивнула.
– Ну вот, – подытожил Денис. – И откуда? Племянница?
– П-почему – племянница? – От удивления Настя даже заикаться начала.
– Так у вас глаза одного цвета, – объяснил и впрямь наблюдательный гость. – Довольно редкого, кстати, цвета. И уши похожи. Может, и не племянница, но близкая родственница. Да не пугайтесь вы, я же сказал: не хотите говорить, не надо.
– У меня… – Девушка опять всхлипнула, вспоминая. – У меня сестра недавно умерла. Прямо в детской поликлинике. Сидела в очереди, уступила место кому-то и через минуту сама упала, только и успела Катюню на пеленальный столик положить. Говорят, сердце не выдержало нагрузки, у нее вообще жизнь не очень складывалась… То есть сперва-то с ней все носились, Анжела – красавица, Анжела – умница, Анжела – прямо герцогиня. Ну а потом, когда она решила жизнь по-своему устраивать… А, что теперь-то. – Настя махнула рукой. – В общем, вроде как замучила она себя. А отец… нет его, короче, Катюхой сейчас больше некому заниматься. Только я осталась. А я… ничего не получается, ни на что не гожусь. Какая из меня мать, тьфу!
– Настя, не плачьте, не нужно. – Денис ободряюще похлопал ее по плечу. – Вы вовсе не плохая мать, вы просто попали в тяжелый переплет. Но вы справитесь. Вам просто многому сейчас придется научиться. Ничего в этом страшного нет. – Он улыбнулся. – И я, конечно, помогу, подскажу, покажу, что сам умею.
– А ваша жена возражать не будет, что вы посторонней девушке помогать кидаетесь? – осторожно спросила девушка.
Денис печально усмехнулся:
– Мы развелись. Еще в прошлом году.
Настя покраснела:
– Ой, простите. Я не подумала. Я… ой, простите, чушь какую-то говорю, – запинаясь, бормотала она. – Ну… мне казалось, что вы вот про сына рассказываете, и я… мне и в голову…
– Да ничего такого, не расстраивайтесь. – Он успокаивающе махнул рукой.
– Мне, правда, и в голову такое не пришло, ребенок ведь, а вы такой отец… – извиняющимся тоном продолжала бормотать смущенная Настя.
– Так повернулось. – Денис пожал плечами. – Она, когда на Кубани отдыхала – я ведь сам ее туда отправил, помните? – свою первую любовь, школьную еще, там встретила. Ну и как-то у них все срослось.
– Как она могла?! – Настя буквально задохнулась от нахлынувшего возмущения.
– Да я не в обиде. – Он махнул рукой. – Там действительно любовь размером с Черное море. Ольга хорошая, просто так сложилось. Они с тем парнем расстались из-за дурости какой-то. Знаете, как в юности бывает? Ну а тут встретились и поняли, что ничего не кончилось, а даже наоборот. Что ж я, зверь какой? – Денис опять усмехнулся. – Вот только сына теперь редко совсем вижу, а в остальном все нормально. Так что я с радостью вам помогу освоиться в вашей нелегкой теперешней роли. Тем более что в офисе с девяти до пяти мне сидеть не требуется, своим рабочим временем я распоряжаюсь сам.
Назавтра он пришел прямо с утра. Ловко управился с молочной смесью, помог переодеть Катюшу, объясняя по ходу дела, что пеленать младенцев – позапрошлый век, лучше всего подобрать ползунки нужной теплоты, потому что чем больше ребенок двигается, тем полезнее. И для мышц, и для нервов, и для общего развития. Перебрал игрушки в шкафу, приговаривая, что, мол, это и это и вообще почти все – рановато, а вот это – в самый раз. В самый раз оказалась простенькая гирлянда из ярких разноцветных колечек, висюлек и шариков на общей резинке. Денис ловко пристроил ее к перильцам кроватки, и Катюшка тут же начала хватать «обновку». Оказалось, что шарики и подвески еще и тенькают, что привело ее в полный восторг. Может, из-за того, что имя «Катенька» само «тенькает», тень-тень, подумала Настя? Еще несколько похожих финтифлюшек поменьше размерами Денис прицепил между вертикальными перекладинами кроватки, пояснив:
– Чтобы был стимул на бок поворачиваться. Чем в специальные массажи и гимнастики упираться, лучше, когда все естественно происходит. Только игрушки менять надо, у маленьких внимание короткое, им быстро все надоедает. И в коляску такие же надо. Ну вот я из общей горы отобрал, этого, думаю, хватит. А вот эти, – он выдернул из пестрого вороха кольцо, на котором «сидел» оранжевый попугайчик с зелеными крыльями, – и подвешивать можно, и так играть. – Денис потряс кольцом над кроваткой, попугайчик загремел, Катя тут же схватила новую игрушку и потащила в рот. – Пусть погрызет, десны помассирует, тоже полезно, особенно когда зубки и вправду начнут резаться. Ну что, может, прогуляться пора?
После прогулки он сам кормил Катю, удобно уложив ее на левую руку и поддерживая правой бутылочку:
– Чего ей в кроватке, да? И так три часа в коляске лежала.
Хотя сам же Катюшу и вынимал регулярно из коляски, разговаривал с ней, неся на руках, чтоб посмотрела, как вокруг красиво. Потому что «это полезно для общего развития».
Настя с каким-то странным умилением наблюдала, как он качает девочку, устроившись на ковре посреди огромного количества игрушек – она покупала их без счета, думая, что главное, что нужно ребенку, – изобилие. А оказалось, что малышке нужно было совсем другое: ласка, нежность, общение, даже простое тепло человеческого тела.
Удивительней всего было то, что переполнявшие ее черные мысли и эмоции как-то сами собой улетучились. Катюшка больше не раздражала ее, совсем наоборот. Неужели все дело было лишь в том, что прекратился непрерывный плач?
Или дело в нем, в Денисе? Дэн… Красиво. Настя сама себя не понимала. Не может же быть, что она влюбилась. Ну да, он симпатичный, добрый, одинокий, работящий, заботливый, надежный. Но – совсем-совсем обыкновенный! Ни разу не голливудский герой, не олигарх, не звезда телеэкрана. Ну, обеспеченный явно (интересно, что у него за работа, если столько времени свободного? Может, все-таки немножечко олигарх?), но мало ли обеспеченных, она и сама не нищенствует.
Да и не ухаживает он за ней. Какое глупое слово – «ухаживает». Но в самом деле, прилип к Катерине, а на нее, Настю, в общем-то, и не смотрит. Уж она-то точно знала, как мужчины проявляют внимание, и привлечь его умела, чего уж там скрывать. Но Денис-Дэн вел себя как-то совсем не так. Не пытался ее обнять, не косился в продуманно распахнувшийся ворот халатика, не начинал тяжело дышать, когда она точно случайно прислонялась к нему грудью, животом, бедром… Как будто она манекен!
Ну и ладно! Зато с Катюхой он возился так увлеченно, что все глянцевые журналы с их советами «Как пробудить в мужчине отцовские чувства» могли заткнуться и устроить общее самосожжение – в знак того, что ничего они не понимают в том, чему «учат» доверчивых читательниц.
Хотя, думала Настя, нельзя сказать, что Денис совсем уж ее не замечает. Возясь с ребенком, он постоянно – и очень понятно – объяснял, что, как и зачем он делает. За эти короткие дни – ведь и недели не прошло, удивительно – Настя узнала об уходе за детьми столько, что громадный ворох необходимых, но загадочных и оттого изрядно пугающих подробностей перестал не только ввергать в панику, а даже утомлять. Она даже удовольствие какое-то чувствовала, кормя племянницу, купая или одевая ее. И бессмысленной куклой та больше не казалась, наоборот, живой человечек, хоть и маленький, и не всегда приятный. Но наблюдать, как племяшка улыбается, как в ее поведении появляется что-то новенькое, оказалось ужасно интересно, интереснее любого кино. Вот чудеса-то!
В пятницу они гуляли дольше обычного, и Катюня, перевозбудившись, раскапризничалась: хныкала, не соглашалась лежать в кроватке, вообще не желала засыпать. Даже «волшебный» фокус с поглаживанием не очень-то помогал. Конечно, по сравнению с прошлыми Катюшиными концертами это все были сущие пустяки, но пришлось устроить ее на большой кровати и, лежа по обе стороны, убаюкивать. Так и заснули втроем, благо кровать была широченная, хоть в футбол играй. Катя, неизвестно почему, проспала эту ночь на удивление крепко, ни разу не проснувшись, – случай, достойный занесения в какие-нибудь книги рекордов. Впрочем, об этом Настя подумать почти не успела, слишком удивилась, увидев спросонья в своей постели (по правде-то сказать, не «в», а «на» постели) постороннего. Ну да, они лежали по разные стороны кровати, между ними мирно посапывала Катенька, но все же, все же, все же…
Все утро Настя краснела, отводила глаза и вообще смущалась, как школьница после первого поцелуя. Денис же хохотал, цитировал «Человека с бульвара Капуцинов» – «Это называется монтаж!» – а в итоге заявил, что все это практически первая брачная ночь. И пусть она вышла чересчур невинная, но это дело все равно требуется отметить, нет-нет, с Катюшкой посидит соседка Галина Семеновна, а мы пойдем в кафе, да-да, вот прямо сейчас и пойдем, я знаю чудное-чудное кафе, Катеньку покормим и пойдем, вытаскивай самые сногсшибательные наряды…
Настя от растерянности только кивала.
Глава 8
Вновь меня несло привычным белым коридором к привычной уже белой двери. Едва я коснулся кнопки звонка (постой, раньше вроде не было никакого звонка? Ну точно, я стучал или просто входил, значит, тут все меняется? Или я чего-то не понимаю? Или чего-то не помню?), дверь распахнулась, и я привычно уселся в знакомое белое кресло.
Кому же из троих дать шанс? Точнее, кто из троих даст мне (мне!) шанс на самую прекрасную жизнь из возможных?
«Золотой мальчик» Миша, порхающий легкомысленной поденкой над сверкающим в солнечном свете потоком жизни? Над. Вот именно. «Над», а не «в». Легкий он, мальчик Миша, яркий, веселый, красивый… как воздушный шарик. Он задумывается, конечно, и от этого чувствует себя интереснее и значительнее своего окружения (кстати, а кто ему сказал, что никто из приятелей ни о чем не задумывается?), но тут же сам пугается своих мыслей. Не хочется ему размышлять, а хочется купаться в удовольствиях, и все. Мне за девять-то дней все это тусовочное надрывное веселье до зевоты, до ломоты в челюстях надоело, а он – если говорить о нем самом – так месяцами и годами готов жить. Хотя, положа руку на сердце, нет ничего скучнее, чем непрерывно развлекаться. Правда, у мальчика Миши появилась девочка Соня. Соня – это совсем другое дело, это, безусловно, шанс. Шанс превратиться из воздушного шарика… ну, хотя бы в самолет. В то же время шанс – это только шанс, только возможность. Девочка Соня притягивает Мишу в основном физически – потрогать, поцеловать, в постель уложить. А дальше? Быть рядом с Соней – ежедневный душевный труд. Радостный, увлекательный, но – труд. По силам ли это Мише? Или, переспав с симпатичной девочкой, он потеряет к ней интерес? Точнее, интерес-то, может, и останется, но захочет ли Миша напрягаться или предпочтет все те же непрерывные развлечения?
Андрей Александрович? Вот честное слово, если бы не инвалидная коляска, выбор был бы однозначный – только он. Умный, сильный, глубина и мощь переживаний – с ума сойти! В хорошем смысле слова. Вот уж кому точно никогда скучно не станет. Книги, музыка, любовь… Вот кто любить умеет, не то что Миша. Впрочем, Миша просто слишком молод еще, вместо мозга – сплошные гормональные бури. Бури в стакане воды. А у Андрея – талант, океанская глубина мыслей и эмоций. Такая жалость, что «при мне» он не успел снова прикоснуться к клавишам рояля. Вот счастье-то, должно быть… И книгу написать задумал. И ведь напишет… Если не убьют. Э-э-эх, если бы не инвалидная коляска…
Настя? Ужасно симпатичная – во всех смыслах – девушка. Правда, хотя она и делает все время вид, что ей на всех наплевать, на самом деле она больше зыбкая, неуверенная, требующая опоры повилика, чем сильная самодостаточная ель или там яблоня, но и в этом тоже есть своя прелесть, свое наслаждение. Есть. Бесспорно. Но… Но! Рациональных аргументов против Насти у меня не находилось, однако чувство было острым: не хочу я, черт побери, жить женскую жизнь! Вот просто не хочу и все! И жалко девушку, и помочь хочется, но – не мое!
А соображать-то надо побыстрее. Ведь как ни крути, а выбирать придется прямо сейчас.
– Быстро ты управился! – В Голосе слышалось что-то похожее на удивление.
Ну-ну, я уже знал цену его шуточкам. Быстро! Можно подумать, Он не наблюдал непрерывно.
– Ну наблюдал. – Он, как и раньше, легко отвечал и на невысказанные мои мысли. – Но, видишь ли, тут время течет немного по-другому, чем там. И дело даже не в том, что мгновение здесь вполне способно вместить недели и даже годы там. Мгновения тоже разные бывают. Это как раз то, чего вы, люди, никак понять не желаете. Время, в смысле, его промежутки различаются не только линейной продолжительностью. Время вообще не линейно, если уж на то пошло. Линейная протяженность – самая, по-моему, скучная из его характеристик. У времени есть глубина, есть цвет, даже вкус. Согласись, есть разница между начерченной на бумаге – или даже в пространстве – линией и, скажем, водным потоком или нитью, струящейся с веретена.
– У времени есть скорость? – Я тут же понял, что сказал что-то не то. – То есть скорость времени разная?
– Молодец, – добродушно похвалил меня Голос. – Ваши мудрые восточные люди говорят, что иногда время подобно капле, иногда – урагану, а иногда – скале. Но у времени есть не только скорость и глубина. У него есть еще и насыщенность. Ты, кстати, когда сейчас рассуждал о тех, кем ты побывал, почти нащупал это свойство. Прекрасно. Я ведь сразу сказал, что ты весьма способный молодой человек.
– Так все-таки молодой человек? – с надеждой уточнил я. – Не старик, не женщина?
– Ой, я тебя умоляю, – насмешливо воскликнул Он, – не придирайся к словам! Молодой человек – фигура речи, не более. В половине ваших языков «человек» и «мужчина» взаимозаменяемы, вольно ж тебе по-русски думать. Так что «молодой человек» – просто термин, означающий, что жизнь этого персонажа далеко не заканчивается. Я же тебе обещал еще тридцать три года, забыл? – Он помолчал. – Да нет, не забыл, конечно. Но вы, люди, совершенно не умеете думать комплексно, чтобы видеть сразу разные направления и связи. Впрочем, это пустое. Ты-то как раз и впрямь очень способный молодой человек. У нас тут на тебя уже ставки делают, целый тотализатор образовался.
И тут я вдруг понял причину своих колебаний, своей неуверенности, даже своего страха. Мысль была острой и не слишком приятной:
– Ты мне врал!
– Да неужели? – равнодушно спросил Голос. – В чем же?
– Ты сказал, – задыхаясь, выпалил я, – что если я буду достаточно внимателен, то смогу понять, какая из жизней – моя собственная, кто из этих троих – я сам.
– А ты не понял? Бедный мальчик! – в Голосе звучала откровенная издевка.
– Я понял бы, если бы ты не принялся мне память отшибать! – Кажется, мне не оставалось ничего другого, кроме как обвинять. Да и что я теряю? Что Он мне сделает?
– Да ладно! – словно бы отмахнулся Он от моих «обвинений». – Зачем тебе там твоя память? Наблюдай и копи впечатления. Здесь-то ты все помнишь из того, что было в этих трех сериях, разве нет?
– Ну… помню, – неохотно согласился я. – Но я думал, что почувствую, кто из них я, и ты говорил, что надо стараться удержать внимание. Как можно удержать внимание, когда тебе отшибают память?
– На уровне подсознания, друг мой.
– Опять увертки! – разозлился я. – Ну а как же! – Я вдруг догадался, в чем дело, ну, или решил, что догадался. – У вас ведь тут тотализатор, да? На ипподроме тоже стараются на результаты забега повлиять: напугать лошадь или жокею гадость сказать, чтобы он не мог на дистанции сосредоточиться, – все, что угодно, лишь бы собственные шансы на выигрыш повысить.
Вот и как Он теперь, интересно, оправдываться будет?
Он хохотал довольно долго:
– Друг мой, ты совершенно фантастический фантазер! Надо же додуматься до такого – сказать жокею (это ты про себя, что ли?) гадость, чтобы он скачку проиграл! Можно подумать, хоть кому-то интересно, кто первый к финишу придет. Да и что такое финиш? Если подумать, то и финиша-то никакого нет.
– Но… – Я растерялся. – Ты же сам сказал про тотализатор.
– Друг мой, не суди о том, в чем ни уха ни рыла не смыслишь. – Голос произнес это добродушно, как бы смягчая интонацией грубость и унизительность слов, произнес почти проникновенно, хотя, если честно, в добродушном тоне явственно сквозила снисходительность, ну вроде как у Слона к Моське. – Твоя аналогия с ипподромом напомнила мне одну забавную историю. Совсем недавно, всего лет сто назад, в Англию прибыл с визитом некий арабский шейх. И, как это называется, принимающая сторона включила в культурную программу для высокого гостя посещение каких-то знаменитых скачек, что-то такое королевское. Решили, что уж лошади-то арабского вельможу наверняка интересуют. А шейх, представь себе, отказался. Зачем мне, говорит, на это глядеть, я и так знаю, что одна лошадь бегает быстрее другой. Очень мудрый был шейх, – уважительно констатировал Голос. – Лошадей, кстати, любил по-настоящему, а не так, как любят на ипподроме. Понимал: лошадь прекрасна, и глядеть, как она скачет, – наслаждение, и не меньшее наслаждение – скакать самому, сливаясь с лошадью в одно и дыша ее дыханием. Но глядеть, как потная толпа, в которой и не поймешь, где кто, несется сломя голову в клубах пыли, – профанация той самой красоты. И уж точно никакого наслаждения.
Для него «сто лет назад» – это «совсем недавно»? Пожалуй, с моей стороны действительно глупо спорить с существом, у которого за спиной (впрочем, у Него и спины-то никакой нет) – сотни лет размышлений. Хотя в истории про шейха я никакой особой мудрости не углядел. Капризный сноб, и ничего больше.
Однако вопрос с их тутошним «тотализатором» меня все же заинтересовал:
– Но если не имеет значения, кто первый на финише, на что же вы тогда ставите?
Я думал, что Голос опять скажет что-нибудь свысока, но, похоже, Его порадовал мой интерес, порадовала возможность что-то объяснить.
– На знание людей. На то, какой выбор ты сделаешь. – Он говорил с интонациями опытного учителя, растолковывающего сложный материал и довольного тем, что ученик стремится к познанию. – Вы ведь, люди, все время кричите о свободе воли, об упущенных возможностях, о том, что «ах, если бы я мог повернуть»… – Он помолчал немного и вернулся к основной теме нашей «встречи». – Ну вот, тебе дали возможность сделать выбор. Кто же счастливчик?
Моя злость улеглась, даже не успев разгореться. Ну да, я пешка в Его игре. Но ведь совсем не в том смысле, в котором это обычно говорят. Он ведь не двигает мной, как вздумается. Напротив. Вся свобода воли, вся свобода выбора в моих руках. Никто меня ни к чему не принуждает. Чего я взбеленился?..
Проклятье!
– Но ведь если я не узнал никого, если я не почувствовал ничего знакомого… может, среди этих троих меня и не было?
– Может, – неожиданно и, как мне показалось, одобрительно согласился Голос. – Но что это меняет? Ты все равно этого не знаешь, поэтому вся свобода – перед тобой. Выбирай. Кто из них останется жить?
– Я не знаю, – сокрушенно признался я.
Похоже, моя неуверенность Его огорчила:
– Как это? Чья жизнь показалась тебе более интересной, насыщенной, значимой, перспективной? Приятной – в конечном счете.
Он говорил, словно преподаватель – теперь я чувствовал это совершенно явно, – подталкивающий к решению задачи. Его слова были как подсказки. Вот только проку от них все равно не было.
– Я просто не знаю, – убито признался я. – Каждый из них как будто находится на каком-то пороге. Миша – сам весь сплошной чистый лист, он может стать… да, наверное, каким угодно. Тут больше всего возможностей. Он едва-едва начал просыпаться от своих бесконечных развлечений. И любовь у него начинается…
– Ну, любовь, как я понимаю, там у каждого, – уточнил Голос.
– Это тоже верно, – согласился я. – Андрей только-только справился с отчаянием, понял, почувствовал, что даже в инвалидной коляске жизнь все равно продолжается и все равно прекрасна. И потом… ты же говоришь – тридцать три года?
– Точно, – подтвердил Он и подсказал: – Тебе не приходило, кстати, в голову, что инвалидная коляска – не приговор? Что этот твой Андрей Александрович, с его финансовыми возможностями, вполне может года через два, через три заказать себе экзоскелет – как раз ваши медики, точнее, ортопеды, этот вариант сейчас усиленно разрабатывают – и будет ходить, бегать и все такое даже с парализованными ногами.
Вообще-то до такого я не додумался, мне представлялось другое:
– Мне приходило в голову, что он такой целеустремленный и сильный, что может начать ходить своими собственными ногами. Ведь есть же такой шанс?
– Или так, – согласился Голос. – Ну что?
– Настю просто жалко, – продолжал я. – Тоже едва начала справляться со своей жизнью, только почувствовала свои силы. Хотя она, конечно, какая-то немножко странная. Это все твои отшибания памяти! Я ее из-за этого как-то не очень понимаю. Может, еще и потому, что девушка, но все равно. Как закрытая книга. Чем она жила до того, как на нее эта племянница свалилась? Училась? Работала? Неужели только по клубам тусовалась? Кем была, чем увлекалась? Сестру потеряла, и все? Ничего не понятно.
– Ну, положим, про Андрея и Мишу ты тоже знаешь только то, что здесь и сейчас, то есть даже меньше, чем про Настю, – подсказал Голос.
Я немного подумал. Мне казалось, что Ему нравится, когда я размышляю. Хотя, по-моему, от всех этих обдумываний никакого толку не было:
– С Андреем можно ничего больше и не знать, он такой… самодостаточный. Не играет большой роли, что там было вчера, он весь – здесь и сейчас.
– Так ты выбираешь его? – поторопил меня Он.
Я уже готов был согласиться, выбрать… кого? Но нет, словно в стену упираюсь, даже пальцем наугад ткнуть, и то никак. И даже не потому, что не могу выбрать. Дело было совсем в другом.
– Я не могу. – Я покачал головой, подчеркивая свои слова. – Получается, я обрекаю на смерть остальных двоих. Это… это невыносимо.
Он словно бы даже обрадовался:
– Вот как? Боишься ответственности? Перед кем?
– Перед… не знаю! – Я был на грани отчаяния. – Какое у меня может быть право судить, кому жить, кому умереть?! Я же просто человек!
– Право?! – Тихий шепот прозвучал как гром. – Ты так ничего и не понял, – как-то устало произнес Голос. – Это не право, это, друг мой, обязанность. Долг, если угодно выражаться высоким слогом. Как сказал кто-то из ваших мудрецов, мы – вы то есть – совершаем поступки, потом живем с их последствиями. Это и есть ответственность. Человек не может прожить жизнь, не совершив ни одного поступка.
– Но я не могу! – завопил я, чувствуя себя, как человек, которому приказали голыми руками остановить паровоз.
Его смех прозвенел ледяными осколками:
– А как же мечты о втором шансе? Разглагольствования о свободе выбора? – насмешливо перечислял Голос. – Пустая болтовня? Ну да, – издевательски хмыкнул Он, – ответственность, конечно. Но она ведь внутри. Тебя не посадят в тюрьму, не повесят, не побьют, даже не отругают. – Теперь Его тон был вкрадчивым и почти нежным, как у страхового агента. – Ты просто будешь помнить о том, что случилось. Ну и жить с этим сознанием, – равнодушно добавил Он.
– Я не смогу с этим жить! – Мне хотелось стукнуться головой о стену. Но здесь и этого было нельзя, проклятье. Это бессилие убивало. Но… это ж я бессильный, а Он-то? – Разве ты не можешь решить сам?
– Да я-то могу, – со вздохом согласился Голос. – Ну, кое-что, по крайней мере. Не все. Избавить тебя от ответственности – ведь именно этого ты жаждешь? – я точно не могу.
Почему-то это «не могу» потрясло меня больше, чем все невероятные события последних… дней? секунд? Неважно. Важно другое. Какое еще «не могу»? Господь всемогущ по определению.
– С чего ты взял? – Он опять отвечал на то, чего я не говорил вслух. – Всемогущество высших сил – концепция, присущая даже не всем религиям. А уж если вспомнить, что любая религия – это лишь способ понять механику мироздания с человеческой точки зрения, станет ясно, что высшие силы и человеческие о них представления – две большие разницы.
Я чувствовал, что вот-вот – и я пойму что-то очень важное. Очень. Самое, быть может, важное во всем этом. Но мысль ускользала, таяла, исчезала. Я попытался ее высказать, но получилось довольно неуклюже:
– Погоди. Говорят, да ты и сам сейчас говоришь что-то вроде того, что богов придумали люди. И тут же сообщаешь, что они не соответствуют человеческим о них представлениям. Как такое возможно?
Голос молчал так долго, что я решил – ему попросту надоела наша философская дискуссия. Но, видимо, терпение Его было безгранично, как и возможности (что бы Он там ни говорил про «не все могу»), поскольку объяснения продолжились:
– Вот именно что – вроде того. Ладно, попробую по-другому. Первобытные люди чувствовали себя игрушкой природных стихий. Античные герои знали, что они – игрушка богов. Чем больше человек знал о себе и окружающем мире, тем больше полагался на свои силы, тем меньше полагался на небеса. Примерно тогда же родились пословицы в духе: на Аллаха надейся, а ишака привязывай. Уж казалось бы, современный-то человек должен во все лопатки полагаться только или почти только на себя. И лет сто назад так и было. А сегодня вы словно опять в язычество скатываетесь. Словно кто-то вами рулит. Ах, от меня ничего не зависит. Да ты же и сам верил, что тобой обстоятельства играют. Но, кстати, заметь, я-то ничего не говорил о богах, я говорил о высших силах мироздания. А вот боги, тем более антропоморфные боги, – чисто человеческая придумка. Совершенно первобытная, надо сказать, точка зрения. Но уж что есть, то есть. И, исходя из этой придумки, некто высший, который развлекается, наблюдая за твоими телодвижениями (уж будто мне заняться больше нечем), прекрасно вписывается в твои представления о мире.
Очень обидно слушать, когда тебя изображают первобытным дикарем. Тоже мне! Не «боги», видите ли, а «высшие силы мироздания»! Да какая разница-то? Что в лоб, что по лбу. Да и… тут мне показалось, что я нащупал в Его разглагольствованиях слабое место:
– Но ты же сам говорил, что наша жизнь для тебя – сериал. Для развлечения.
И после этого Он будет утверждать, что антропоморфные боги – чисто человеческая придумка, да еще и первобытная?! Я, может, и не гений, но тут-то все очевидно: развлекаются сериалами люди или кто-то им подобный, антропоморфный то есть, загадочным высшим силам мироздания такие «развлечения» точно до лампочки. Вот пусть ответит!
Если я рассчитывал Его хотя бы смутить, то я крупно просчитался.
– Ну должен же был я хоть что-то сказать, – снисходительно сообщил Голос. – Точнее, должен же ты был хоть что-то услышать. Если уж тебе так необходимы разговоры, по-другому ты думать не умеешь. Или не хочешь. – Он вздохнул. – Но ты, кажется, опять стараешься оттянуть момент принятия решения. Как какая-нибудь согрешившая юница: знает ведь, балбеска, что залетела, по утрам тошнит, соленые огурцы килограммами изводит, но задуматься не желает, время тянет – вдруг само как-нибудь рассосется. Цирк! Ну да ладно, что – точнее, кого – ты выбрал?
Я покачал головой:
– Не могу решить.
– Решить или решиться? – уточнил Он, абсолютно безошибочно определив причину моей неуверенности. – Эх! А я так на тебя надеялся! Такой, казалось, способный мальчик!
Мальчик? По правде говоря, я и в самом деле чувствовал себя окончательным малолеткой, даже канючить начал совсем по-детски:
– Может, есть какой-то другой вариант? Чтоб я никого не отправлял на смерть? Ну… монетку кинуть или кубик?
Не то чтобы я всерьез рассчитывал выпросить «помилование», как выпрашивают лишнюю конфетку, но – вдруг? Потому что ну в самом-то деле – как потом жить с таким грузом на совести?
– Положиться на слепой случай? – хмыкнул Голос. – Ох, люди, люди, только языком и горазды болтать, а как до дела – складывают лапки и плывут по течению. Да не бывает никаких слепых случаев. Ну ладно, – подытожил он после недолгого ворчания. – Раз уж ты так упираешься, придется делать выбор за тебя.
– Спасибо! – искренне обрадовался я.
– Погоди благодарить, – остановил меня Он, – может, еще проклинать будешь. Это ведь тоже очень по-человечески – передать выбор кому-нибудь другому, а после проклинать его, когда результат выбора окажется не тем, какой хотелось. Сделаем так. Ты очнешься тем, кем ты был на самом деле…
– Спасибо! – Это сообщение обрадовало меня еще сильнее.
– Да погоди ты! – опять остановил меня Голос. – Ты понимаешь, что проигравшим в итоге станешь именно ты?
– Как?! – изумился я. – Почему? – Я действительно не понимал этих странных условий.
Но Голос заговорил так, словно это Его приводит в недоумение моя позиции, словно я не понимаю, например, того, что подброшенный камень непременно падает на землю:
– Ну а ты как думал? – спросил Он с саркастическим смешком. – Что твоя душа избавится от тяжести выбора и неизбежной при нем ответственности, но тем не менее тебе дадут прожить в свое удовольствие еще гарантированных тридцать три года, меж тем как смерть остальных будет на моей совести? Если, конечно, имеет смысл говорить о моей совести, что, разумеется, нонсенс. Нет, друг мой, платить приходится за все. Так или иначе. Отказаться от выбора, переложить ответственность на другого – это тоже выбор, и за него тоже нужно платить. Причем, как правило, дороже, чем за любой другой. – Он помолчал, как будто подчеркивая важность сказанного. – Так что, пока не поздно, подумай еще раз. Вариант первый: ты выбираешь одного из троих и живешь его жизнью – а быть может, это как раз твоя жизнь – еще тридцать три года. Подчеркиваю: гарантированных тридцать три года. Другие двое погибнут, само собой. Вариант два: ты отказываешься от выбора и расплачиваешься за это отсутствием каких бы то ни было гарантий. К примеру, если ты – один из убитых, то, сам понимаешь, жизни твоей остается сколько-то там секунд.
Да уж. Куда ни кинь, всюду клин: либо подписывай самому себе смертный приговор, либо оставайся жить, зная, что ты подонок, подписавший смертный приговор другим людям. Вот что тут можно выбрать, скажите, пожалуйста?
– Я могу подумать?
– Валяй, – весело согласился Он, – только недолго.
Проклятье! Ну вот что тут выбирать? Да и потом, все равно, по сути дела, я уже и так мертв… Началось-то все с убившего меня выстрела. Или не убившего? Может, я этот выстрел просто услышал и в обморок упал. Может ведь так быть? Стоп! Ему не нравится, когда лапки складывают? Мне вдруг показалось, что я увидел шанс на спасение:
– Но если я должен выбирать из этих троих, а на самом деле меня среди них нет – это же нечестно!
– Что ты хочешь сказать? – Он сделал вид, что не понимает.
– Я хочу сказать, что, если меня среди них не было, я должен иметь шанс выбрать свою собственную жизнь тоже, – сердито объяснил я.
– Резонно, – теплоты в Голосе осталось не больше, чем в космическом вакууме. – Хотя на деле это лишь уловка с твоей стороны, опять попытка увильнуть от ответственности, переложив все на слепой случай. Мама, я ничего не делал, чашка сама разбилась! Вспомни, что я только что сказал: если я выбираю за тебя, ты очнешься тем, кем был на самом деле, вот только никаких льгот, никакой гарантированно долгой жизни, как при собственном выборе, тебе это не принесет. Но ты пытаешься притвориться, что это и есть твое собственное решение, видимо, в надежде на те самые даровые тридцать три года или сколько там получится. Потому что, знаешь ли, твоя собственная жизнь может оказаться жизнью, к примеру, безногого нищего, который помрет через месяц от цирроза. Или, что вероятнее, тебя там тоже застрелили, никто ж не говорил, что убитых всего трое. Или тебя от ужаса апоплексический удар хватил. Масса вариантов, в общем. И если бы ты действительно почувствовал, кто ты есть, ты бы тогда и свое прошлое состояние почувствовал. Хотя бы слегка, хотя бы как фантомную боль. Но ты, милый, притворяешься! Пытаешься убедить – меня ли? себя ли? – что чувствуешь и помнишь, а на деле душа твоя абсолютно отделена от тела и сознания. Поскольку ты юлишь и притворяешься, то есть фактически пытаешься увильнуть от игры – от выбора, со всей следующей за ним ответственностью, – так какой тебе выигрыш в виде гарантированно долгой жизни? Уж сколько будет, столько будет. Ну что ж… вольному воля. Итак. Выбирай. Ты уверен, что тебя среди этих троих нет? Убежден, что хочешь вернуться в свою собственную жизнь?
Я подумал, что насчет безного нищего Он, конечно, дразнится. Не было там никаких безногих нищих.
– Да, – как можно более твердо произнес я. Точнее, попытался, потому что горло все равно перехватило, и вместо нормального «да» вышел какой-то невнятный писк. Ладно, какая разница, все равно, кроме Него, некому любоваться, насколько достойно я выгляжу.
– Врешь, – уверенно сообщил Голос. – Но так тому и быть. Ты отказываешься от этих трех жизней и выбираешь ту, про которую ты врешь, что уверен, но которой на самом деле не помнишь?
– Я уверен, – упрямо повторил я.
На маленькой, чуть больше развернутой книги, табличке было, кстати, написано «Пальма», а вовсе не «Желтый чайник».
Из глухого торца стоящей углом к дороге старой кирпичной восьмиэтажки вырастал одноэтажный застекленный пристрой «аквариумного» типа. В советские времена в «аквариуме» размещался овощной магазин: кафельные полы, две мрачные бочки с солеными огурцами, сетки с вялой картошкой и проросшим луком, неизменные банки с березовым соком и неистребимый остро-сладкий запах гнили.
С началом капиталистических перемен разорившийся овощной выкупили шустрые кооператоры. Подремонтировали, отмыли, угол, образованный торцом восьмиэтажки и стеклянной стеной пристроя, выстелили плиткой, огородив низеньким кирпичным бордюром, – получилась полукруглая терраса. На крышу пристроя вместо вывески водрузили литую верхушку чайника размером с «Запорожец». Чайник выкрасили почему-то в желтый цвет (может, просто краски другой не нашлось, может, вывеска уже готова была), внутри «аквариума» появились столики, прилавок, барная стойка – в общем, все, как полагается в приличном кафе. От дороги местечко отгораживала череда полувековых лип, так что по теплому сезону терраску тоже занимали столиками.
Бежали годы, кафе переходило из рук в руки, менялись хозяева и названия, но чайник на крыше не только сохранился, но и красили его все в тот же охристо-желтый цвет. Один из очередных хозяев натыкал в кирпичный бордюрчик металлических стоек и посадил вдоль дикий виноград, плющ и прочую лазающую зелень. Зелень постепенно разрослась, образовав что-то вроде стены, на стойки летом стали натягивать желто-оранжевый тент, так что свет внутри летнего «зала» поселился теплый, радостный. Южный.
Последний хозяин, оценив интерьер, чайник на крыше не тронул, но поставил у входа кадку с пальмой, сменил табличку с названием (от прежних уже и воспоминаний не осталось) и рассадил на ветках игрушечных обезьянок и попугаев. Вроде как добавил индивидуальности. Ну а название… Мало ли что там на табличке написано, все ж привыкли к «Желтому чайнику». Одно из московских кафе, называвшееся не то «Царь-девица», не то «Золотая рыбка», не то «Шмель», среди посетителей упрямо именовалось «У Гаврилыча» или даже «Гаврилыч». По той простой причине, что располагалось на улице Чернышевского, которого, как известно, звали Николаем Гавриловичем. Так и здесь. Чайник чайником, а «Пальма» «Пальмой», одно другому не мешает.
Во всем остальном кафе – копия дюжин и дюжин своих собратьев: «винная карта» (попросту перечень напитков с барной стойки, не потрясающей изобилием, но и не вовсе скудной) раза в два обширнее меню, два-три горячих блюда, передающие друг другу гордое наименование «блюдо дня», десятка два холодных закусок, десяток десертов, чай, кофе, мороженое.
В общем, модным заведением «Желтый чайник» (ныне «Пальма») никогда не был, да и вряд ли когда-нибудь будет, зато забежать в него на часок, чтобы угостить ребенка мороженым или девушку шампанским, можно в любое время. Тихо (если никто ничего не празднует), уютно, без особых претензий.
Сентябрь выдался необыкновенно теплый, лето еще даже не вспоминает о ярлычке «бабье», и субботним вечером горожанин просто не в силах усидеть в четырех стенах принадлежащей ему ячейки общего улья. Суббота – идеальное время, чтобы отправиться куда-нибудь – если не за город, то хоть на небольшой променад.
Зелень заплетает лишь половину ограничивающей террасу «Желтого чайника» дуги, так что вход широченный, внутренность летнего «зала» как на ладони.
Почти напротив входа виднеется вынесенная из внутреннего зала барная стойка. Рядом за двумя сдвинутыми столами компания старшеклассников хихикает над вазочками с мороженым, разливая под столом запретный портвейн. Белобрысый бармен косится в их сторону неодобрительно, однако помалкивает, сосредоточенно протирая и без того чистые бокалы.
Справа от подростковой компании девушка с тяжелым узлом светлых волос, из которого будто случайно (стиль «продуманная небрежность», а как же) выбиваются несколько завитков, что-то чертит на салфетке, с улыбкой взглядывая на сидящего рядом парня в оливковой футболке, на которой нарисован смешной жираф в очках. Лицо парня сразу кажется мне знакомым, но первой я узнаю все-таки девушку – Соня! Значит, рядом – Майкл. С другой стороны от стойки я вижу Настю, которая говорит сидящему рядом с ней Денису: «Все-таки нужно было Катюху с собой взять, что-то сердце у меня не на месте!» Мужчина успокаивающе гладит ее руку: «Успеется, маловата она пока для кафе. Не волнуйся, все будет в порядке, Галина Семеновна отлично за ней присмотрит».
Если я вижу Настю и Майкла, значит, на «мою» долю остается Андрей Александрович?
У входа тормозит большой синий минивэн, открывается водительская дверь, и наружу выпархивает стройная темноволосая женщина, лица которой я не вижу. Женщина обходит машину, поднимает заднюю дверь, из-под которой выезжает что-то вроде пандуса, и выкатывает… инвалидную коляску.
Что за черт?! Все, в чьих жизнях я побывал, передо мной. А я-то где?
А я стою, прислонившись к толстенному липовому стволу напротив входа в кафе. Нет, уже не стою, иду внутрь, вхожу, рука нащупывает в кармане холодную тяжесть…
Значит, все это было злой издевкой? Я и есть тот самый придурок, который устроил бойню? И все это уже случилось? И ничего не изменить?
Я вспомнил! Вспомнил, почему я здесь, вспомнил, зачем мне пистолет, вспомнил, за что я ненавижу этих людей…
Меня захлестывают боль, стыд и невероятное отвращение к самому себе. Но рука уже вытягивает из кармана пистолет, и я ничего, ничего, ничего не могу с этим поделать! Словно это не моя рука, словно ее кто-то тянет…
Господи!
Господи?!
Да черта с два!
Время застывает, становится тягучим, как мед, и таким же приторно сладким. И все мы в нем – как мошки, тонущие в меду, рыжем, золотом, солнечном, полупрозрачном, как янтарь. Говорят, янтарь с мошками ценится в несколько раз дороже «пустых» кусков.
Я вижу, как моя рука (медленно, медленно, медленно, сквозь тягучий мед застывшего мгновения) вытягивает из кармана пистолет. Я вижу, как из руки бармена (медленно, медленно, медленно) выскальзывает бокал, плывет по воздуху, касается пола, а следом взлетает веер сверкающих осколков…
– Не стреляйте! – Вера, оттолкнув инвалидную коляску, кидается ко мне…
Денис подсекает Настино кресло, так что девушка валится на пол…
Какой тяжелый пистолет… Наверное, тонну весит… Мрачный зрачок прицела кажется бездонной пропастью, он все шире, шире, он затягивает, как черная дыра… Я почти не чувствую движения своего пальца на спусковом крючке…
Последняя мысль: только бы не очень больно!..
Часть 2
Выстрел.
Темнота.
Ничто. Нет ни форм, ни звуков, ни света – вообще ничего. Туман. Кажется, я растворяюсь в этом тумане.
Туннель, тени, сполохи – я не столько вижу их, сколько вспоминаю. Сейчас будет белый коридор и белая комната, вся вылепленная из света. Но я не чувствую движения. И не вижу света. Только темнота. Но не тягучая и липкая, как смола, – сияющая темнота.
«Разве темнота может быть сияющей?» – спрашиваю себя. И – вспоминаю!
– Все-таки ты мне врал! – кричу это, почти задохнувшись от злости.
– И кто это тут вопит о вранье? – Глубокий бархатный голос не звучит ни сверху, ни снизу, он охватывает меня со всех сторон, кажется, это звучит сама темнота. – Разве не ты, просто чтобы любой ценой избежать выбора, заявил, что точно уверен, что твоей жизни среди попробованных нет? Хотя какая уж там уверенность. Хотел и рыбку съесть, и косточкой не подавиться? Согласился… нет, не согласился – настаивал на том, что выбираешь свою собственную жизнь. На чем настаивал, то и получил. Любой ценой, – в голосе чувствуется усмешка.
Мне становится по-настоящему жутко:
– Но я же не знал! – кричу я, предчувствуя приближающиеся слезы. Проклятье! Еще не хватает разреветься, как обиженному дошколенку. – Так нечестно!
– Да неужели? – саркастически переспрашивает темнота. – Тебе честно сказали, что какой-то придурок расстрелял троих. Умолчав, правда, что его самого застрелил вовремя подоспевший полицейский. Впрочем, мог и сам догадаться. Как еще можно остановить придурка с пистолетом, если не пристрелить его самого? Так что ты услышал чистую правду. И узнал, что ты – один из убитых. Тоже чистая правда. Какие ты из этого сделал выводы – твоя воля, твоя проблема. Про то, что ты – стрелок, а не одна из жертв, тоже догадаться было несложно. Тебя предупреждали: включи мозг, включи интуицию, включи наблюдательность и прочий интеллект.
– Но это жульничество! – возмущаюсь я. – Разве господь может жульничать?
Бархатно гулкий смех похож на уханье филина:
– С чего ты решил, что я господь? Я же тебе говорил, что ничего подобного.
– Значит, дьявол? – пугаюсь я. Хотя, казалось бы, чего уж пугаться – после всех моих последних, как бы их помягче назвать, приключений. Но все же, все же, все же. Страх почти инстинктивен. Это же все знают: бог – добро, дьявол – зло. Бог может быть суров, конечно, но дьявол-то однозначно не может быть милосерден. Разве не так?
Тьма начинает… нет, не редеть, наоборот, сгущаться. Но сгущается она неровно, порождая линии, поверхности, объемы… Почти прямо передо мной сияние темноты становится багровым, как дальний или чуть пригашенный огонь. Багровый делается ярче, словно приближаясь, наливается алым, оранжевым, пляшет, переливается. Но алый танец не расплескивается, он виден словно в жесткой раме, в окошке, в амбразуре.
Нет, не амбразура. Камин. Массивный, бесформенно овальный, из грубого мрачного камня, больше похожий на природную пещеру, чем на искусственное сооружение. Наверное, так должно выглядеть адское жерло. Ах да, я же сам спросил про дьявола!
– Нудный ты, как лекция по марксизму-ленинизму, – с той же насмешкой сообщает… кто? или что? темнота? со мной говорит сама темнота? Голос, во всяком случае, как раз такой, какой и должен быть у темноты, низкий, почти рокочущий, какой-то бездонный. – Бог, дьявол… Бородатый дедушка, восседающий на облаке, мрачный дядька с рогами, поджаривающий грешников на сковородках – будто у нас тут нет занятий поинтереснее. – Темнота разражается негромким, но раскатистым смехом. – Ведь так просто понять: нет отдельных воплощений добра и зла, они суть одно, ну, как две стороны монеты. До односторонней монеты даже этот ваш Мебиус не додумался. Ибо нет и быть не может. Как не может быть света без тени и тени без света. И уж тем более нет ни бога, ни дьявола вне тебя. Ты, как и все остальное в этом мире, просто часть общей системы, и вне тебя – лишь связи, ее образующие. А вот в тебе самом есть все – и райские высоты, и адские пропасти, ты сам выбираешь, чему и кому служить. Это же не просто, а очень просто. А то – бог, дьявол. Что угодно, лишь бы не личная ответственность. Да ты присаживайся, присаживайся.
Это приглашение? Как странно! Я озираюсь вокруг. Ну, или хотя бы пытаюсь это сделать.
Голос теперь звучит вполне по-человечески, этакий гулкий шаляпинский бас, и доносится уже не отовсюду, а из-за спинки широкого кожаного кресла, разместившегося слева от камина. Я замечаю еще несколько таких же кресел и диванов: больших, явно мягких. Кажется, черных. Отблески пламени, играющие на их темной поверхности, ежесекундно рисуют все новые и новые узоры: линии, пятна, полосы – то темно-багровые, то зеркально взблескивающие, – создавая неуловимо мимолетные, но все же осмысленные картины, подобно кадрам какого-то потустороннего фильма.
Массивный квадратный стол, хотя и стоит прямо перед камином, выглядит сгустком тьмы, только стеклянный блеск поверхности напоминает гладь ночного озера, в которой – я могу поклясться – отражаются звезды! Я задираю голову: потолка надо мной не видно. И неба со звездами тоже нет, стол ничего не отражает, он поблескивает сам по себе, а звездные искры заполняют стеклянистую поверхность не однородно, как полагается небу или его отражению. Клубясь в стеклянистой глади, они собираются в странно знакомые облачка и туманности: инь и ян, день и ночь. Прямо на меня «смотрит» выпуклый бок светлой запятой «Ян», точка в толстой ее части пристально таращится жутковатой темнотой. Такой же темнотой – никаких звездных искр! – сияет обнимающая «Ян» запятая «Инь», из которой подмигивает, переливается «звездными» искорками светлая точка.
Борясь с охватившей меня жутью, я делаю несколько шагов к креслу справа от завораживающей «озерной» глади, возле выпукло темного бока «Инь». Но, оказавшись возле кресла, я вижу, что на меня опять «смотрит» изгиб запятой «Ян»! Словно они поменялись местами.
Я опять взглядываю вверх: нет, никакого неба или потолка тут нет. Как нет, впрочем, и стен. Вместо них это странное место – не могу назвать его комнатой – окружает все та же сияющая темнота.
Человек же, сидящий слева от камина, выглядит абсолютно реальным, быть может, даже более реальным, чем я сам. Впрочем, не буду врать: на самом-то деле в этом жутковатом, но странно уютном полумраке разглядеть, как выглядит человек, почти утонувший в глубоком кресле, вряд ли было бы возможно. Глаза? Острый пронзительный блеск среди теней. Лицо, освещенное прихотливой игрой каминного пламени, то кажется неправдоподобно молодым, то, напротив, становится маской тысячелетнего старца. Хотя руки – вот руки я вижу вполне отчетливо – старческими вовсе не выглядят: ровные длинные пальцы, узкие кисти, гладкая смуглая (или это отблески каминного света?) кожа. Такие руки, считается, обычно бывают у музыкантов, потому что, глядя на них, как-то сразу вспоминаешь о стремительных скрипичных пассажах или размашистых фортепианных арпеджио.
Бокал в правой руке мерцает, как мог бы мерцать жидкий рубин:
– Вино какой страны вы предпочитаете в это время? – Человек в кресле взглядывает на меня так испытующе, словно ожидает какого-то очень определенного ответа.
– Я… но… это же цитата! – выпаливаю я, мельком подумав: что ж они тут все так Булгакова-то любят цитировать? Чем бы ни было это самое «тут».
– Какой милый мальчик, – добродушно тянет мой собеседник. – Даже книжки читал. Похвально. Ну да, разумеется, цитата. – Он, как мне показалось, улыбнулся. Или то опять была игра световых бликов? – Я люблю вашу литературу. Особенно ту, что отражает реальность, да еще и так, что читатели убеждены в вымышленности изображаемого.
Реальность? «Мастер и Маргарита» – описание реальности? Что за чушь?! Или… не чушь?
– Так ты… вы все-таки дьявол? – От неловкости, смущения, растерянности, черт знает чего, я сбиваюсь на «ты», кашляю, скрывая оплошность, но в итоге теряюсь еще сильнее. – Ну, Воланд?
– Милый, – повторяет он, словно бы не заметив моей оговорки. – Но примитивный. Черного и белого не брать, «да» и «нет» не говорить.
А может, он заметил мое «ты», но ему просто наплевать?
– Ой, да говори как хочешь, – смеется он.
Значит, по-прежнему слышит мои мысли. Мне кажется, что моя голова – если у меня сейчас есть настоящая голова, а не какая-нибудь посмертная галлюцинация – разрывается от бесплодных усилий хоть что-то понять. Дьявол, читающий Булгакова и похваливающий его за реальность изображаемого? Этого точно не может быть! Уж про Булгакова я наверняка сам придумал! Поэтому и мое «ты» его не возмутило. Смешно, если создание моего собственного разума начнет возмущаться тем, что я обращаюсь к нему неподобающим образом. Но, как бы там ни было, я, пожалуй, могу называть его дьяволом. Раз уж ему все равно. Уж больно антураж соответствующий.
– Можешь, можешь, у нас тут, знаешь ли, свобода слова, – хмыкает он. – Ладно, потом поймешь, – говорит дьявол, отсмеявшись, и опять интересуется: – Так что насчет вина? Впрочем, да. – Он усмехается, как мог бы усмехаться кот, играющий с мышью, если бы, конечно, кошки умели усмехаться. – В последнее время ты предпочитал исключительно водку, причем самую дешевую и вонючую. Ни на что другое у тебя просто не было денег. Ох. Нищий актер – это так банально.
– Нищий актер? Я был актером? – переспрашиваю я, но понимаю, что переспрашиваю напрасно. Я чувствую, всеми нервами, всей кожей ощущаю, что это правда.
– Ну да, – подтверждает он. – Актер. Не могу сказать, что без способностей, но одними способностями ничего не добьешься. К ним еще упорство надобно. Ну, или хотя бы фарт. Уж не знаю, чего там тебе больше не хватало – работоспособности или удачи, – но получилось то, что получилось. Актер-неудачник. То есть безвестный, никому не интересный, практически безработный. Который решил, что все перед ним виноваты, что жалкие ничтожные людишки отняли у него светлое будущее, и, вынырнув слегка из очередного, хотя я сказал бы – из непрерывного – запоя, вытащил с антресолей дедовский пистолет. Ну и пошел изображать из себя мстителя за поруганную справедливость, убитую любовь и прочие разбитые надежды.
– Но при чем тут Миша, Настя, Андрей? – в полной растерянности прошептал я. – Они же никакого отношения к театру не имеют. И почему ты говоришь «убитая любовь»?
Его мои вопросы, похоже, несколько сердят:
– Ну знаешь ли! Неужели ты думаешь, что я тебе вот прямо возьму и все выложу? Да ни в коем случае! Про себя ты сам все должен вспомнить, эту работу я за тебя делать не стану.
– Не станешь? – восклицаю я, потому что в голове моей появляется мысль, которая кажется мне блестящей. – Или не можешь?! – Я вкладываю в этот вопрос все доступное мне ехидство. – Конечно, не можешь! Потому что ты не можешь рассказать того, чего я сам не помню! Потому что ты мне только кажешься, ведь так? Все это, – я обвожу взглядом окружающую меня сияющую тьму, камин, пляску звездных искр в стеклянно поблескивающей столешнице, – просто моя предсмертная галлюцинация?
– Перед лицом такой невероятной проницательности, – декламирует он с издевкой, – мне остается только стать «молчаливой галлюцинацией», – и хохочет. Хохот у моей «галлюцинации» тоже «шаляпинский» – низкий, не особенно громкий, но глубокий, рокочущий подобно далекому горному обвалу.
– Опять Булгаков, – автоматически подсказываю я. – Кот Бегемот, обидевшись, обещает стать молчаливой галлюцинацией. «Обратите внимание на мой профиль в лунном свете», – произношу я внезапно всплывшую в памяти цитату, не особенно вдумываясь в то, что говорю, потому что мысли мои сосредоточены сейчас совсем на другом. Хотя посетившее меня озарение постепенно перестает казаться столь уж блестящим, я все еще продолжаю настаивать на своем. – Но ты же говоришь, что все внутри меня. Значит, я тебя сам придумал? Ну, или мое подсознание? Как это еще назвать, если не галлюцинацией?
– Нет, друг мой, – добродушно возражает мой собеседник, – мое существование совершенно объективно, так что не обольщайся. Но в некотором смысле ты прав, я тебе только кажусь. Точнее, не я, а все вот это: и комната, – он обводит рукой пространство, «стены» и «потолок» которого сотканы из сияющей тьмы, – и разговор – в общем, все, что ты сейчас видишь, слышишь, ощущаешь.
Я перестаю понимать что-либо вообще:
– Если мне все это кажется, что же тогда ты относишь к объективно существующему?
Он довольно долго молчит, время от времени прихлебывая вино. Я вижу, как двигаются его губы – узкие, темные, четко очерченные, – вижу, как он глотает. Но содержимое бокала при этом ничуть не убывает, вот чудеса-то! А самое главное чудо состоит в том, что меня это ничуть не удивляет – ну не убывает, и что такого? Либо все это мне только кажется (ох, кажется, я уже пытался рассуждать подобным образом? Или нет? Или и это мне кажется?), и тогда чему удивляться? Либо это такая вот фантастическая реальность, а в фантастической реальности может быть все, что угодно, так что, опять же, чего удивляться таким пустякам. Тут поважнее вопросы стоят.
– Как бы тебе объяснить… – произносит наконец дьявол. – Скажем… вот как ты представляешь себе ветер?
Неожиданный вопрос вгоняет меня в ступор:
– Ну… – мямлю я, – например, вздувающаяся возле распахнутого окна занавеска.
– Вот. – Он слегка щелкает пальцами, словно подчеркивая мой ответ. Так и кажется, что сейчас прозвучит «молодец, садись, «отлично». – А другой представит летящий по волнам парусник. Третий «увидит» метель, четвертый – гнущиеся деревья. Ветер увидеть нельзя.
– Его можно почувствовать, – зачем-то возражаю я.
– Какой же ты прямолинейный! Все ты отлично понял, но споришь, сам не зная зачем. И главное, не зная о чем. – Он делает глоток своего «жидкого рубина» и качает головой. – Материя есть объективная реальность, данная нам в ощущениях, – торжественно декламирует мой собеседник. – Так, что ли, ваши философы утверждают? Главное, по сути-то ведь верно, а по форме – сущее издевательство. Потому что в итоге все начинают приравнивать объективную реальность к этим самым ощущениям.
– Но ведь, кроме ощущений, у нас и нет ничего, – довольно вяло произношу я.
– Верно, – кивает дьявол. – Но надо ж соображать! Ни парус, ни метель, ни колебание занавески – это не ветер. Это лишь проявления его существования. Объективного, заметь, существования. Такого же объективного, как существование паруса, метели и занавески. Но сам ветер видеть нельзя. Можно увидеть лишь его действие. Отражение существования.
– Но тогда, – говорю я, немного подумав. – Но тогда все наши ощущения – лишь отражения этой самой объективной реальности.
– Опять верно, – весело сообщает мой собеседник. – Но не забывай, что твоими ощущениями объективная реальность не исчерпывается. Ощущения отражают лишь часть ее. И кстати, не самую значительную.
– Как это? – недоумеваю я.
– Ну как, как? – насмешливо переспрашивает дьявол. – Ты мультики ваши любишь? Ну, или хотя бы смотрел?
Я киваю, ничего не понимая. При чем тут мультики?
– В одном из них есть чудный эпизод. Про кошелек на веревочке. Прохожий нагиба-а-ается, а кошелек убега-а-ает, – цитирует он, точно воспроизведя интонацию (и даже голос!) старухи Шапокляк. – Помнишь?
– Ну… да, – уже немного более уверенно произнес я.
– Прохожий не видит веревочки, видит только убегающий кошелек. Так? – Реплики дьявола все больше начинают напоминать учительские объяснения.
– Веревочка, за которую тянут кошелек, и есть та самая объективная реальность, которая не отражается в ощущениях? – перебиваю я, обрадовавшись собственной догадливости.
– Точно! – подтверждает мой собеседник. – Этих самых «веревочек» множество. Вы их не видите, но, видя движение кошелька, начинаете рассуждать о боге, дьяволе и прочих мистических символах.
– Ага, – радуюсь я тому, что хоть что-то становится понятным. – Значит, никаких богов и дьяволов не существует?
– Вот те на! – хохочет он, словно услышав хорошую шутку. – А откуда же тогда веревочки берутся? Самозарождаются, что ли? Хотя в определенном смысле именно самозарождаются. При достижении определенного уровня сложности системы. – Он опять смеется, но теперь я уже совсем не понимаю почему. – Вы, люди, тоже вполне самозарождаетесь. Жила-была девочка, и вдруг раз, по утрам тошнит, на солененькое тянет, а после опять раз, и население Земли еще немножко увеличилось. Да и Земля ваша, по сути, тоже когда-то вполне самозародилась. Ну и эти самые «веревочки» тоже. Это я к тому, что старик с белой бородой, который с облака молниями швыряется, и черт с рогами, копытами и вилами наперевес – это все ваши придумки, никаких таких белобородых стариков и непарнокопытных с вилами в объективной реальности не существует. А высшие – то есть те, которых вы пока не понимаете, – силы… это есть, как не быть. Но если тебе нравятся эти смешные персонажи – пожалуйста!
Дьявол щелкает пальцами…
Не верю своим глазам.
Его кресло посветлело и стало подозрительно смахивать на кучку облаков, губы порозовели и попухлели, на лице образовалась кудрявая белая борода, на макушке засияла лысина…
Он смеется:
– Впрочем, вот так тоже ничего, даже забавнее, по-моему.
Борода исчезла, лысина тоже, на голове прорезались рога, сжимавшие бокал пальцы украсились длиннющими ногтями, на левой руке повисли четки с перевернутым крестом. На ноги я взглянуть боюсь, потому что уверен – увижу вместо них черные копыта.
– Ну как? – опять смеется мой собеседник.
Но я не могу выдавить из себя ни звука. Полно, да есть ли он, мой собеседник.
– Да есть я, есть, – отвечает он. – Как подметил еще один ваш великий, «часть той силы, что вечно хочет зла и вечно творит благо». Заметь: творит благо. А вы все делите – тут дедуля с бородой, тут парнокопытное или непарнокопытное, в зависимости от фантазии художника, с хвостом и рогами.
Я осторожно, искоса взглядываю в его сторону – все опять как было – ни бороды, ни рогов.
– Так ты и он – ну, тот, который был в белой комнате, – вы с ним одно и то же? – Мой голос уже почти не дрожит.
– Знает ли левая рука о том, что делает правая? – Он опять покачивает бокал, любуясь игрой алых бликов. – Может, и знает. Но двигаться они могут независимо друг от друга.
– Так знает или нет? – Мне кажется, что я наконец нащупал нужный вопрос. – Почему я сперва оказался там, где все из света, а потом здесь, где только тьма?
Он опять молчит довольно долго. Прихлебывает вино, качает головой, хмыкает чему-то своему. Вздыхает:
– Вообще говоря, сам удивляюсь, почему ты попал туда. Где свет. Зачем тебе предоставили пресловутый второй шанс. Все-таки троих убил, а с тобой, вместо того чтоб отшлепать и в угол поставить, – мой собеседник усмехается, – нянчиться начали. Ума не приложу, за что к тебе такое внимание. Могу только предполагать. Воля к жизни и всякое такое. Потенциал у тебя и впрямь колоссальный, грех таким материалом разбрасываться. Но это лишь предположение, не более того. Левая рука может ведь и не знать, что делает правая. Так что у твоего, как бы это помягче назвать, спасения могут быть и другие резоны. Но вот почему ты здесь – практически в аду, – он кивает в сторону пляшущих в камине багровых языков пламени, – это как раз вполне очевидно.
– В аду? – Сейчас я пугаюсь уже не так сильно, как тогда, когда решил, что разговариваю с дьяволом. – Но ты же сам только что мне объяснял, что все это люди сами придумали. Разве ад существует?
– Ну, милый, – насмешливо тянет мой собеседник. – Я тебе объяснял, что человеческие представления далеки от реальной картины мира. Внешние представления, точнее. Очень уж они упрощенные. А так… – Он тянется к камину, выхватывает оттуда багрово горящий уголек, подбрасывает на ладони, любуясь, потом швыряет обратно. – Ад не ад, но всякие штуки, и малоприятные, надо сказать, штуки для плохих мальчиков – это да, они вполне существуют.
– А плохие мальчики, – с издевкой, с отвагой, порожденной безнадежностью, уточняю я, – это те, кто боженькины заповеди нарушает?
– Плохие мальчики, – назидательно повторяет дьявол, – это те, кто нарушает, а то и разрушает гармонию мироздания. Так что да, каждому по карме: одному в райские кущи, другому в адское пекло, одному в нирвану, другому пиявкой в гнилое болото.
– И чем же это я его нарушил? – все еще язвительно интересуюсь я. – Тем, что не стал великим актером?
Он пожимает плечами:
– Ну, это как раз не катастрофа. Не стал в этой жизни, стал бы в следующей. Да и не стал бы, тоже беда невелика, одним великим актером больше, одним меньше, подумаешь, какая потеря. Но! – Он делает паузу, как будто специально, чтобы я уяснил важность того, что сейчас будет сказано. – Тебе дали второй шанс. И даже неважно, что второй. Какой бы там ни был шанс, первый, второй, двадцать второй, но ты его благополучно профукал. Самоубийство, знаешь ли, нигде не поощряется. А совсем даже наоборот.
– Ну да, – растерянно соглашаюсь я, потому что все поджилки мои опять трясутся от страха, практически ужаса: самоубийство – смертный грех, уж это-то я точно помню, а значит, и впрямь гореть мне в аду. Ну, или червяком в болоте ползать, тоже радости немного. – Разве что японцы его одобряют, – добавляю я, сам не зная зачем и вообще совершенно не к месту: я-то ведь не японец, так что самурайские обычаи ко мне никакого отношения не имеют. От растерянности ляпнул. От ужаса перед угрозой адской кары.
Дьяволу, однако, мое замечание неуместным не кажется, скорее смешит:
– Ох уж эти мне христиане! В собственной вере как слепые кутята путаются, а туда же, других судить берутся. Ну сам подумай, чем самоубийство отличается от убийства? Да ничем. Существует глобальный запрет: не отнимай того, что не тобой дано, чего не можешь восполнить. Жизнь то есть. Свою ли, чужую – какая разница. Но солдаты убивают других солдат, и их считают героями. А полицейский, который тебя застрелил? Он убийца?
– Он других защищал… – автоматически отвечаю я.
Он щелкает пальцами и кивает:
– Вот именно. С самоубийством та же петрушка. Ваш, как его, Матросов лег на амбразуру – чистое же самоубийство. Но – герой. И кабы он один такой был, а то ведь тенденция. У вас вон даже песня есть про то, как летчики сознательно не стали спасать собственные жизни, чтобы самолет не упал на спящий город. Не помнишь?
– Помню, – сдавленно шепчу я. – «А город подумал, ученья идут». Ты издеваешься, что ли? – спрашиваю довольно бессмысленно, потому что мне до странности хочется плакать, ужасно жалко и Матросова, и особенно тех неизвестных летчиков.
Дьявол смеется и машет на меня рукой:
– И в мыслях не держал! Восхищаюсь скорее. Человек ухитряется бороться в самых, кажется, безнадежных обстоятельствах, этим невозможно не восхищаться. – Он опять проделывает давешний фокус с раскаленным углем, вовсе не глядя при этом на меня, словно бы ему наплевать на производимое впечатление, вот только зачем бы тогда это делать? Не знаю, впрочем, чужая душа – потемки, а уж дьявольская – тем более. – А уж человеческая способность к самопожертвованию, – продолжает дьявол как ни в чем не бывало, – искупает все ваши мелкие неприглядности. Главное, ни за что не предугадаешь, кто из вас на что способен. – Он недоуменно крутит головой, как большой озадаченный пес. – Глядишь на какого-нибудь грязненького недотыкомку: жене врет, из любовницы нервы тянет, перед начальством юлит, тьфу, переродиться ему бычьим глистом! А он вдруг – раз, и на амбразуру! Хотя вот так иногда подумаешь: может, такие герои жизнью-то жертвуют, потому что ничего им в своей собственной жизни хорошего не видится? Вот и самоубиваются такими героическими способами. Да что там! Ваш собственный бог – точнее, то, как вы себе представляете бога, – сам пошел, чтобы умереть на кресте, тоже самоубийство, хоть и руками римских солдат.
– Он людей спасал… – тупо повторяю я.
– Вот о чем я тебе и толкую. – Мой собеседник щелкает пальцами и с наигранным изумлением глядит на появившийся меж ними огонек. Фокусник, чтоб его. – Есть самоубийство, а есть самопожертвование, – продолжает «фокусник». – Смертью смерть поправ. И, кстати сказать, твои любимые японцы отнюдь не по каждому поводу животы себе режут, а лишь в самых экстремальных случаях, во избежание позора. То есть чтоб карму не портить. Они-то как раз очень хорошо понимают, что самоубийство просто так – это значит бросить борьбу, это стыд-позор, за который в круге перерождений ты будешь отброшен в какого-нибудь безмозглого окуня, который только жрать да икру метать и может. А ты говоришь – японцы самоубийство одобряют!
– Но я же… я в себя выстрелил, чтобы в других не стрелять! – пытаюсь объяснить я предательски срывающимся голосом. Понимаю, что безнадежно проиграл, и все равно пытаюсь объяснить. Может, хотя бы пойму, что именно проиграл? А может, все-таки удастся защититься, может, еще не проиграл?
Дьявол издевательски смеется:
– Ой, какой герой, возьми с полки пирожок. Выстрелил он! Практически закрыл грудью амбразуру! Тьфу. – Мой собеседник действительно сплевывает. Достигнув пола – точнее, той тьмы, что играет здесь роль пола, – плевок шипит и дымится. – Тоже мне, Матросов недоделанный! И другого выхода у тебя не было? Ась? Не слышу. Не было? Без всякого героизьму, – он так и произносит «героизьму», наверняка специально, чтобы звучало обиднее, – просто опустить пистолет, взяться за ум, пить бросить… Нет, это нам никак нельзя, это ж никакого героизьму не выходит. Э-эх! Других он типа спас, ах, сейчас разрыдаюсь от умиления.
Он долго молчит, глядя в багровое жерло камина, и, похоже, видит там не только завораживающую пляску огненных языков, но и еще что-то, мне невидимое.
– М-да, – произносит наконец мой собеседник. – Придется все-таки тебе кое-какие подробности рассказать, чтоб ты героя-то на белом коне перестал из себя строить. Итак, слушай и вникай.
Жила-была семья. Муж, жена и две дочери. Хотя нет, не так!
Андрей познакомился с Мариной, когда учился на последнем курсе нефтехима. Не то чтобы у него не было девушек до нее, были, конечно, но все сплошь краткосрочные, в духе «а наш роман – и не роман, а так, одно заглавие». На первом месте для него всегда была учеба. А как иначе? Это сыновьям министров и секретарей обкомов заранее теплые местечки приготовлены, а простому парню приходится только на свои усилия рассчитывать. Поэтому «первым делом – самолеты, ну а девушки – потом». Впрочем, на факультете Андрея не то что самолетов, даже самолетного топлива, то есть керосина, и то было не найти. Да и сыновей министров, по правде говоря, тоже, тех все больше в МГИМО и тому подобные «заповедники» устраивают. А он выбрал себе институт, хоть и солидный, с перспективами, но попроще, не из первого ряда. Все из-за тех же практических соображений: поступить-то можно даже в самый престижный вуз, хоть бы даже и в МГИМО, если совсем уж упереться. Ну а дальше? Быть среди «избранных» все время на последних ролях? А потом что, после диплома? Ведь институт, что бы там ни говорили, не кульминация жизни, а лишь начало ее. Время закладки фундамента. И закладывать его нужно с умом, с расчетом, чтоб вся жизнь потом не рухнула в яму. Раз уж родители не «позаботились» обеспечить стартовую площадку для будущей карьеры и прочего успеха, значит, все сам.
Родители не «позаботились» не от бедности или легкомыслия, а потому что их просто не было. Некому было «заботиться». Вырастившие Андрея бабка с дедом никогда о них не рассказывали: кем были, куда девались. А он почему-то и не спрашивал, принимая как данность: такая вот у них семья – он и двое тихих пенсионеров. Слесарь да медсестра, куда уж проще.
Дед, ветеран-фронтовик, на героя был совсем не похож. Даже в День Победы, когда он, отшагавший всю войну в пехоте, вытаскивал из шкафа старенький черный пиджак с навечно привинченными скудными наградами. Пиджак все утро висел на спинке стула – ждал своей «минуты славы». Дед тщательнее обычного брился, долго охорашивался перед подслеповатым зеркалом, подзывая жену: «Эй, мать, глянь, тут не моль под воротником поела?» Наконец вздыхал и, развернув плечи, как будто даже прибавив в росте, шагал в ближайшую школу – рассказывать очередным пионерам одни и те же «истории старого бойца». Возвращался с неизменным букетиком тощеньких тюльпанов и торчащей из внутреннего кармана бутылкой. Из стеклянных недр серванта появлялся портрет Сталина и стопочки. Бабка молча и сноровисто выставляла немудреную закуску и присаживалась рядом с мужем. Первую стопку они выпивали на равных, вдвоем. Не чокались, молча вспоминали общих погибших. Потом бабка, пригорюнившись, садилась в уголочке – не то любовалась на своего «сокола», не то дремала. Дед пил медленно, долго, до самого вечера. И непрерывно что-то с «отцом народов» обсуждал: спрашивал, улыбался или хмурился, как будто слышал ответы, рассказывал что-то сам. Диалог – хотя вроде бы и слышен был лишь дедовский голос – был настолько живым, что Андрею казалось, Сталин деду отвечает.
Потом-то он понял, что портрет – он только портрет: чтобы тебя действительно слушали, мало «пройти всю войну» и уж тем более мало быть «честным слесарем». Чтобы на тебя обратили внимание, нужно чего-то достичь. Бабка-то с дедом не возражали бы, если бы он в те же слесари пошел или там в пекари, но идею высшего образования, которую Андрей лелеял уже с седьмого класса, одобряли всячески. Обсуждений особенных не заводили, потому что и без того было ясно (позже Андрей вычитал в какой-то книге – «витало в воздухе»): если теплого места для тебя не приготовили, значит, его надо построить самому, разумно соразмеряя силы и возможности. Разве что бабка, до пенсии проработавшая медсестрой, уговаривала «Андрюшеньку» идти «во врачи», но он, здраво оценив перспективы и собственные таланты, выбрал скромную нефтехимическую технологию.
Поступил не на ура, но без особых проблем, учился без блеска, но усердно, потому вполне достойно, летом ездил в стройотряды – подальше и поденежнее: учеба учебой, но одеться поприличнее хотелось. После одного из стройотрядов вернулся к двум свежим могилам: дед с бабкой отошли тихо, как жили, почти в один день. Соседи с Андреем связаться не смогли (где там связаться, когда от места дислокации отряда до ближайшего населенного пункта полторы сотни километров, а сотовая связь только-только начинала делать свои первые, еще робкие шаги, и то лишь по территории США и немного Финляндии, а в Советском Союзе о ней еще и слыхом не слыхивали), так что похоронили стариков своими силами, вскладчину. Андрей соседей поблагодарил, похоронные расходы возместил – как раз хватило привезенного из стройотряда – и стал жить дальше.
Жениться он собирался лет через пять после института, когда прочно встанет на ноги, когда сможет, что называется, «кормить семью». Но аккурат перед дипломом встретил Марину. Нет-нет, они не кинулись в загс на третий день знакомства, ничего такого сверхромантического с ними не происходило. Но коррективы в свои планы Андрей внес. Во-первых, работа нашлась сразу: не блестящая – да он и не рассчитывал на должность в каком-нибудь министерстве, – но весьма приличная, с перспективами. А главное – уж больно девушка была хороша. Умненькая, спокойная, хозяйственная и без толпы родственников. Красивая. При взгляде на ее тоненькую фигурку и шелково льющиеся волосы Андрей чувствовал себя способным на любые глупости, положенные влюбленному. И – что еще лучше – на великие свершения: есть для кого стараться, есть для кого «жизнь устраивать». Только для себя, как ни крути, неинтересно.
Поженились они, когда Марина, учившаяся на курс младше, закончила институт. Проработав всего ничего, она ушла в декрет. Немного рановато, думал Андрей, но ничего, справимся, меня вот-вот старшим специалистом сделают, а там и до начальника отдела недалеко.
И тут грянула перестройка.
Андрей был одним из немногих, кто почувствовал в ней не угрозу, а возможность. О нет, он – так же, как когда-то при выборе вуза и карьеры, – не обольщался: ясно, что к лакомым кусочкам в виде нефтегазовых труб его никто не подпустит, своих желающих хватает. Но все же возможность работать на себя, а не на чужого дядю – это было очень, очень заманчиво. Главное – не кидаться очертя голову, а приглядеться и рассудить, что, как и почем. Нефтехим за плечами – это плюс, наша цивилизация стоит на нефти, это Андрей отлично понимал. Но еще лучше понимал, что именно поэтому нефть как бизнес – опасно. Очень опасно. Всего за пару лет застрелили троих его однокурсников – не с теми конкурентами бодаться вздумали, не по себе кусок откусывали. Так что – нет. Вся «прямая» нефтянка исключается – убьют и как звать не спросят. А у него семья. Семья, думал он, и улыбался.
Первый его крошечный прилавок – два квадратных метра в занюханном садово-огородном магазинчике, – торговал всего лишь двумя-тремя видами краски. В краске Андрей, спасибо химико-технологическому образованию, понимал. И не только в ней. К краскам скоро добавились невиданные до того в Союзе цветные китайские шпаклевки, утеплители, дешевая сантехническая фурнитура. Как профессиональный технолог, он с одного взгляда отличал годную пластмассу – будь то сифон, гофра или прочая жизненно необходимая мелочь – от той, что потрескается через месяц. Покупатели запоминали хорошее место, возвращались, рассказывали знакомым. Сарафанное радио – лучшая реклама, так что дело закрутилось. Даже с объявившейся вскоре «крышей» удалось договориться вполне по-божески: с одним из «старших» они, как оказалось, росли в почти соседних дворах и даже ходили в одну и ту же спортивную секцию.
Но главное, обнаружилось, что Андрей вообще большой мастер договариваться. Он чуть не кожей чуял собеседника – где кивнуть, где пошутить, где добавить в голос металла, где выдержать паузу – и на любых переговорах выходил победителем. Но «проигравшие», что удивительнее всего, не оставались в обиде. Один такой «проигравший» подсказал, что на соседнем околооборонном и потому постепенно разоряющемся предприятии можно за бесценок брать хороший пластик. Купили пару станков, начали сами штамповать всевозможную отделочную фурнитуру: откосы, уголки, карнизы и тому подобную красоту. Андрей «вспомнил», что он технолог, покопался в литературе и придумал, как придавать дешевому (хотя и вполне прочному – туфтой он не занимался, претило) пластику вид штукатурки, кирпича, бронзы, даже мрамора. А ведь с малюсенького прилавка начинал, с гордостью думал он.
Ему нравилось работать по четырнадцать часов, нравилось крутить в голове возможности и варианты (выбрать этих перевозчиков или этих, или, может, выгоднее поднапрячься и завести свой транспортный отдел?), нравилось придумывать новые направления и копаться в мельчайших деталях уже работающих «механизмов», доводя процесс до «идет как по маслу».
Андрей и в мыслях не держал с ходу стать миллионером. Отработанная с юности привычка к последовательности и постепенности берегла. И от шапкозакидательства, и от дутого самомнения, и от рискованных вложений и проектов. Ему нельзя рисковать, у него – девочки.
«Девочками» он называл всех троих – и Марину, и двух дочерей-погодок. С первых, еще небольших, денег гордый «отец семейства», чувствуя себя героем-добытчиком, непременно носил им всякие приятности. Поначалу приятности ограничивались вкусностями (на большее денег не хватало), потом появилась возможность одеваться не на вьетнамском рынке, а в приличных магазинах (как раз и магазины уже появились). Менялись лишь цены «приятностей», отношение же Андрея оставалось незыблемым: ему ужасно нравилось угадывать желания своих «девочек», будь то новая кукла или поездка к теплому морю.
Но если «приятности» более-менее материальные распределялись честно, справедливо, поровну, то с эмоциями все было сложнее.
Почему-то основная порция родительской любви доставалась старшей, Анжеле. Младшей же, Насте, было суждено оставаться вечно второй: ну растет и растет, и ничего особенного. А вот Анжелочка – гений чистой красоты, умница, мамы-папина радость и общий восторг. Ну ангел, что там! Так иногда бывает, но, вообще говоря, это скорее исключение. Как правило, центром всеобщего обожания становится младший ребенок. Тут же все сложилось ровно наоборот: в старшей родители души не чаяли, всячески ее баловали и во всем потакали, а вот в общих шалостях виноватой почему-то оказывалась младшая.
Собственно, неравномерное распределение любви встречается повсеместно. Разумеется, принято считать, что родители – если они, конечно, хорошие люди – ко всем детям относятся одинаково, никого не выделяя. Но в реальной жизни так, разумеется, не бывает. То есть «никого не выделяют» еще встречается, а вот насчет любви… Сердцу, как известно, не прикажешь, любовь не есть акт волевого усилия. Малейшие различия внешности и поведения приводят к весьма значительной разнице в отношениях. Иногда до такой степени значительной, что вообще поверить трудно. Так, одна милая, интеллигентная, очень добропорядочная семейка сдала в детдом – точнее, в дом малютки, потому что от ребенка отказались, едва родив, – девочку лишь потому, что она появилась на свет темноволосой, а в семье, дескать, все светленькие. Они искренне считали, что ребенка им в роддоме подменили – поэтому заберите! – это, разумеется, куда проще, чем принять то, что ребенок не совсем соответствует ожиданиям (нередко подсознательным) родителей. И волосы не того цвета – лишь самый дикий пример. По большей части перекосы не столь вопиющи, поэтому их стараются не замечать. Все словно бы дружно делают вид, что родительская и вообще родственная любовь всегда распространяется поровну, что мир устроен справедливо.
Но ведь ясно же, что справедливость мироустройства – миф, и никакого такого равенства в природе не существует. Да и сами люди старательно культивируют всевозможные сравнения, а значит, и неравенство. Ну, скажем, это вечное «ты кого больше любишь – маму или папу?» или «Танечка у нас вся в папу, а Ванечка весь в маму». Ну и стоит ли удивляться, что неравенство цветет пышным цветом? Кстати, одна из причин такого отношения – банальное человеческое тщеславие.
Мама всю жизнь восхищалась балеринами и потому изо всех сил пихает в балет дочку, которой больше всего нравится, к примеру, возиться с животными, – и она, если не удастся поперек маминых амбиций реализовать это стремление, будет потом уже своих детей пытаться приохотить к биологии, ветеринарии или там верховой езде. Или вот эта мода на большой теннис. Почему все стараются пропихнуть детишек именно в эту секцию? Да потому, что теннисисты «получают аграменные деньжищи, вы что, это всем известно». Родители почему-то убеждены, что, во-первых, миллионы – это главное в жизни (хотя на самом деле главное – это удовольствие, которое человек получает, а уж от миллионов или от выращивания орхидей, это как фишка ляжет), во-вторых, что именно их чадо непременно выиграет Большой шлем и вообще возглавит все мировые рейтинги (что тоже, мягко говоря, случится далеко не наверняка). Стремление же пропихнуть каждую девочку в модельный бизнес вообще доходит до маразма. Ведь действительно чуть не каждую, то есть – миллионы девочек! Хотя топ-моделей во всем мире, ладно, если сотня. Но ведь все при этом уверены, что уж им-то непременно повезет, уж они-то непременно ухватят эту самую Птицу счастья. Хотя и объективных причин к этому обычно нет, да и Птицы счастья у родителей и их детей частенько очень разной породы.
Ну и, само собой, если ребенок хоть немного не соответствует возлагаемым на него надеждам, начинается: ох, горе мое, куда ты годишься, все дети как дети, а ты…
Почему Анжелу выделяли с малолетства, сказать сложно. Но, когда девочки немного подросли, отец уже завоевал более-менее прочное положение в бизнесе и собирался укреплять его и дальше. И роль наследницы империи (ведь должна же в итоге бизнес-усилий появиться бизнес-империя, как же иначе) была возложена на Анжелу как-то сама собой. Поэтому в нее вкладывали максимум средств и усилий, в то время как Настя оставалась предоставлена самой себе. Ибо старшая – Старшая, она достойна возглавить фамилию, она справится, а младшая – а кто ж ее знает, скорее всего, едва ли.
Всеобщее убеждение – страшная вещь, как поглядишь. В русском языке есть грубоватая, но точная поговорка: если человеку постоянно твердить, что он свинья, он захрюкает. И если кому-то изо дня в день твердят: ты можешь, он, скорее всего, действительно сможет, о чем бы ни шла речь. Повторение же бесконечного «у тебя все из рук валится» приводит к тому, что человек начинает регулярно спотыкаться на ровном месте.
Вернемся, однако, к нашим девочкам. Относились к ним, повторю, по-разному. Причем буквально с первых дней их жизни. Да, обе они были желанными детьми, но на этом сходство заканчивалось.
Анжела появилась на свет в чудесный летний день, Настя, годом позже, – мрачной октябрьской ночью, под грохотание поздней осенней грозы и завывание ураганного ветра. В результате Марине первые роды показались легкими и быстрыми, а вторые – затяжными и очень болезненными, хотя объективно дело обстояло скорее наоборот. Рожая Анжелу, Марина чувствовала сильнейшую эйфорию – первый ребенок, долгожданный, ура-ура-ура, и вся природа радуется вместе с нами, да здравствуем мы! А эйфория, как известно, сильнейшее болеутоляющее. Ну а во время вторых родов все было уже привычно, никакого особенного восторга не чувствовалось, да еще и ночь, и буря за окнами воет на все лады, жутко. Ну как тут не счесть все это дурным предзнаменованием? Тем более что у женщин во время беременности и после родов психика частенько теряет устойчивость.
Действительно трудно сказать, с этих ли пустяковых, в сущности, обстоятельств началось в их семье неравное распределение любви, но – началось. Причем не то чтобы Марина невзлюбила младшую дочь. Заботилась она о девочках поровну, не выделяя и не обделяя ни одну, ни другую. Но вот тепла – то есть того, что не измеришь никаким термометром, – тепла Насте доставалось явно меньше.
Мог ли Андрей, столь прозорливый в бизнесе, способный видеть насквозь мотивы и стремления своих партнеров, конкурентов и подчиненных, не видеть этого разделения? Как ни странно, мог. Проницательный руководитель, глядя на своих домашних, бывает, оказывается чуть ли не слепым. Гениальные врачи, случается, «просматривают» серьезные болезни у себя или у своих близких. Недаром же в медицине считается, что ни один врач не должен лечить своих родных. Взгляд слишком туманится эмоциями, какая уж тут проницательность.
Мог ли Андрей видеть семейную «рознь» и пустить все на самотек? Да тоже мог. Он словно бы разделил мысленно сферы влияния. Ему – внешняя «политика», он обеспечивает семье достаток, его дело – заботиться о том, чтобы хватало на все: и на необходимое, и на «баловство» (конфета иногда бывает важнее куска хлеба). Маринино же влияние сосредотачивалось внутри дома.
Можно сколько угодно рассуждать о том, что принцип Kinder, Küche, Kirche ограничивает и потому унижает женщину. Но рассуждают так обычно те, кто не понимает, что поддержание огня в домашнем очаге – это тоже работа, которая не проще, не легче и тем более не хуже всякой другой. Ведь, по сути-то дела, это одна из самых важных человеческих работ. Можно прожить без автомобилестроения или без телевидения, а вот без домоводства не проживешь. И к тому же есть немалое количество женщин, для которых роль домохозяйки и матери – источник не только удовольствия, но и гордости. Марина была – ну, или по крайней мере стала – именно такой. И Андрей отдал семейный руль в ее руки. А раз уж отдал, значит, вмешиваться и дергать руль в соответствии со своими соображениями и представлениями – последнее дело. Да и надо ли? Рознь – слишком сильное слово, внешне-то ведь все было прекрасно.
Быть может, он с самого начала подсознательно воспринимал Анжелу как наследницу и потому так же подсознательно уделял ей больше внимания? Пожалуй, и это верно. Пусть даже «избыток» внимания заключался нередко «всего лишь» в лишнем взгляде, лишней улыбке или лишнем сказанном слове.
Вероятнее же всего, что свою роль в том, как складывались отношения в семье, сыграли все эти причины. И чья скрипка была первой – Марины или Андрея, – уже не определить. Муж и жена, говорят, одна сатана.
В результате все могло сложиться совсем скверно, но всеобщее обожание Анжелу, старшую, как ни странно, не испортило, она не выросла, к счастью, ни капризной, ни избалованной, никогда не претендовала на роль принцессы, которой весь мир обязан просто потому, что вот она я, носите меня на руках. Вероятно, привыкнув с младых ногтей к всеобщей любви и напитавшись ею, Анжела попросту не чувствовала необходимости требовать чего-то сверх. Ведь, в сущности, человеку – в том числе и женского пола – вовсе не нужны ни бриллианты, ни норковые манто, ни даже короны всех на свете конкурсов красоты. Человеку нужно, чтобы его любили. Чтобы не смотрели на него, как на пустое место. То есть чтобы любили его самого, с его собственными чертами, желаниями и взглядами, а не придуманный в чьей-то голове объект для любви. Анжелу, похоже, любили именно так. В конце концов, даже кукол ей дарили именно тех, которых хотелось ей самой, а не тех, которые нравились родителям. Куклы – это, конечно, лишь символ. Анжела предпочитала книжки. Ну да как бы там ни было, надутой самовлюбленной «прынцессы» из Анжелы, к счастью, не получилось.
Это было похоже на кино. Он рассказывал, а я видел все как будто наяву, живьем. Но не так, когда сам попадал в чужую «шкурку», а словно бы присутствуя при всех событиях невидимым наблюдателем. И не только видел, но и чувствовал отзвуки эмоций, мыслей, желаний.
Капли ползли по стеклу лениво, точно нехотя – мол, что нам сила тяготения. Внезапно налетевший порыв ветра подхватывал их, ускорял, заставлял бежать наискось – и бросал, улетев куда-то по своим важным ветряным делам. Капли, вздохнув, снова начинали сползать вниз – до следующего шквала. Они встречались с ветром на разной высоте, и оконное стекло покрывала бледная струящаяся сетка.
Вылезать из теплой постели не хотелось. Совсем. Вылезать, бриться, одеваться, зачем-то проделывать еще миллион обязательных движений – ехать в офис, заниматься кучей дел разной степени необходимости… Да ладно, миллион, одернул сам себя Андрей, максимум сотню. Или что? Буду сидеть тут, как говорил Винни-Пух, до завтра? Или до послезавтра. Или это говорил не Винни-Пух, а еще кто-то? «Надо же, девчонки подросли, и я уже всех детских персонажей перезабыл. Впрочем, не особо-то и помнил, с дочерями всегда Марина занималась, кормила, ухаживала, воспитывала, я-то все деньги зарабатывал. Ну так что ж, это у меня вроде неплохо получается. И можно ведь, если честно, и не вылезать из постели, если не хочется». Никакой катастрофы не случится, заместителей он себе толковых подобрал. Но незапланированный выходной должен хоть какое-то удовольствие доставлять, а лежать, глазея на сонные дождевые капли, невелика радость.
Октябрь, етить его налево. Хуже только ноябрь, когда совсем темно. Может, в отпуск на недельку слетать? К теплому морю? Но одному как-то неловко, а Маринка скажет, что ах, кто же за девочками присмотрит, завтраком перед школой накормит, обед подаст. Уж будто он не в состоянии домработницу с гувернанткой пригласить. Да хоть пять! Но Марину сама эта идея приводит в ужас. Хотя и девчонки взрослые почти, вот-вот школу закончат, присмотр разве что безалаберной Насте нужен, а умница Анжела сама за кем хочешь присмотрит.
Андрей улыбнулся, представляя, как уже всего через несколько лет начнет посвящать Анжелу в тайны бизнеса. И хватку его, и решительность старшая дочь унаследовала. Есть кому империю передать. Ну ладно, пусть не империю, но компания-то выросла вполне солидная, и расширяется постоянно, стройматериалы, как еда и лекарства, всегда нужны.
И чего в таком случае валяться?
Расхлябанности Андрей не терпел. Хотя, по правде сказать, все чаще ловил себя на том, что строительство фамильной империи доставляет ему все меньше удовольствия. В сущности, после первого миллиона дальше идешь как будто по инерции. Ведь какая разница: владеть международной корпорацией или компанией регионального значения? На черную икру и бриллианты и так и эдак хватает, а здороваться за ручку с президентами – тоже мне, достижение. Но, с другой стороны, а чем еще, кроме бизнеса, можно заниматься? Пузо на варадеровских пляжах греть и отращивать? Вот поваляешься день, поваляешься месяц, глядишь, наследница подрастет, а передавать-то и нечего будет.
Он выдернул себя из-под шелкового, на гагачьем пуху покрывала, потянулся, выглянул из спальни…
Ну вот, ванная занята. Что это Марина нынче припозднилась? Обычно-то к моменту его подъема у нее уж завтрак на столе.
Бухнулся поверх покрывала, закинул руки за голову, прикрыл глаза…
– Можешь заходить! – Окрик жены вырвал его из подступившей дремы.
Андрей вздрогнул всем телом и тупо огляделся, словно не понимая, где он находится и как тут очутился. На то, чтоб осознать реальность, хватило нескольких секунд.
– Иду, – буркнул он себе под нос, не слишком заботясь о том, услышит Марина или нет.
Из приоткрытой двери ванной комнаты на пол коридора легла полоса голубоватого света. Все-таки надо было лампы более теплого оттенка подобрать, подумал Андрей. Но скорее по привычке, без особого энтузиазма. Дом, строительство которого он затеял, будущим летом наверняка уже будет готов, так что какая разница, что так или не так в этой квартире. Вот там он все постарался распланировать и обустроить с максимальным комфортом – уж в чем, в чем, а в современных строительных технологиях он, слава богу, понимает. Хотя забавно: «химические» отделочные материалы, сделавшие его по-настоящему богатым, в его собственный дом – пусть он пока еще не совсем готов, но уже почти, почти – допущены не были. Только традиционные, испытанные веками дерево, стекло, камень, керамика. Солидно, комфортно, уютно. Правда, девочек придется на занятия возить, но это не проблема. Вот, кстати, почему где-нибудь на Западе даже старшеклассники ездят в школу на собственных машинах, а у нас – никак нельзя. Смешно. Жениться можно, а за руль не положено. С другой стороны, как подумаешь, сколько опасностей вокруг – хоть криминальный хаос девяностых и закончился, но все же то тут, то там что-то случается, – так сразу и согласишься с мыслью, что лучше будет без лишней подростковой самостоятельности. Спокойнее.
Все это было сто раз думано и передумано, так что мысли текли лениво, по самой поверхности сознания. И не только из-за своей привычности. По правде сказать, весь домашний уют давно уже стал ему почти безразличен. Да и не только уют.
Андрей отлично помнил, как покупал Марине первую «приличную» шубу. Продавщицы в меховом салоне – не первой руки, но вполне достойном – сперва глядели на него чуть свысока. Завидуют, каким-то верхним чутьем – вот уж чего ему всегда было не занимать – почуял он и, заговорщицки подмигнув, в две минуты заболтал, увлек, сделал своими союзницами. Обаятельного напора ему тоже всегда хватало, «меховые» девушки поддались так же, как поддавались бизнес-партнеры. «Сюрприз для любимой жены, девушки, а я ж ничего в этих ваших шубах и манто не понимаю, поможете, красавицы?» – И все радостно бросаются помогать, так что выбирали «сюрприз» всем салоном. У одной из красавиц почти точно совпали размеры с записанными на бумажке размерами Марины. Девушки деловито уточнили цвет волос, добыли где-то пепельный парик, обрядили в него самодеятельную «модель» и устроили что-то вроде демонстрации, перемерив, должно быть, десятка три разных шуб: потемнее, посветлее, подлиннее, покороче, таких, эдаких… У Андрея голова пошла кругом. Чаевые – за усердие – он им тогда отстегнул приличные и не жалел ни капельки: за такое удовольствие стоило заплатить.
Норка была как будто двухцветная: темноватая, с матовыми бликами, просвечивающими «топленым молоком». И невероятно нежная. Андрей и не предполагал, что мех может быть таким нежным. Всю дорогу до дома совал руку в фирменный пакет и осторожно касался драгоценного содержимого. Да и потом, когда шуба давно уже висела в шкафу, иногда заглядывал в темные недра, прислонялся к ласковому меху щекой, закрывал глаза…
И первое кольцо с бриллиантом помнил: тоненькое, белого золота, с трогательным хрупким листочком, обнимающим крохотную, в четверть карата, блестку. Помнил, как радовался и гордился, как подносил к свету, восхищаясь «игрой». Подумаешь, «игра»! Камень – он и есть камень.
Он свозил Марину несколько раз в Париж, в Ниццу, далее, что называется, везде – все как положено, с романтическими прогулками и щедрым шопингом, – но она уже настолько погрузилась в домохозяйство (которое тоже уже вполне можно было переложить на профессионалов), что на выездах чувствовала себя как будто неловко. Вроде и благодарила мужа за заботу, но продлить вояжи никогда не пыталась, скорее наоборот. Словно дорогие развлечения были ей в тягость и тянуло поскорее домой, на кухню. Как клуша, подумал Андрей, но без раздражения, тоже привычно и лениво.
– Ты чего сегодня так поздно поднялась? – автоматически, без особого интереса спросил он, даже не глядя на жену, крутившуюся возле стеклянной душевой кабинки. – Разве тебе не нужно… куда ты там по утрам ходишь? – Андрей внезапно поймал себя на мысли, что понятия не имеет, куда бегает по утрам его вечная домохозяйка. Ну не бегает же трусцой, в самом-то деле!
– Хожу в парк гулять, но это позже, а с утра выпечку к завтраку покупаю, – с радостной улыбкой сообщила Марина, заматывая голову тем же полотенцем, которым только что вытиралась. – Те чудесные круассаны, что вы все так любите, привозят в дальнюю булочную из одной маленькой пекарни, пекарня маленькая, поэтому привозят немного, и разбирают их моментально. Если бы ты уделял семье хоть чуть-чуть больше внимания, ты бы это помнил, – вдруг добавила она почему-то сразу заледеневшим тоном. – Но тебе наплевать. Ладно я, но ты и про дочерей забываешь…
– Ой, вот только не начинай, – взмолился Андрей, которого сегодня раздражало все на свете: и «не тот» свет, и болтовня жены (зачем она столько лишних слов говорит?), и даже занятая не вовремя ванная. Какое же неуютное утро выдалось!
– Завтракать будешь? – Марина сняла с головы только что намотанное полотенце, аккуратно сложила его (почему не повесить на сушилку, влажное ведь, с раздражением подумал Андрей) и пристроила на кожаный пуфик в углу. – Я что-то проспала сегодня, погода, должно быть, но в булочную вполне успею.
– С мокрой головой? – саркастически хмыкнул он.
– Да ну, пустяки, – улыбнулась Марина, – сейчас феном за две минуты подсушу. – Ее голос снова источал тепло и ласку. Образцовая жена и мать семейства.
Андрей внезапно устыдился и своего раздражения на пустом месте, и тем более своей неожиданной грубости. Марина заботится о тебе совершенно искренне, со всей душой. Ну да, тебе на все эти заботы наплевать, но она-то в этом не виновата, а ты срываешь на ней дурное настроение, как истеричная баба, тьфу.
– Прости. – Он погладил ее теплую, немного шершавую от домашней работы руку (есть же миллион всяких кремов и притираний, почему она ничем не пользуется?). – Я сегодня будто не с той ноги встал.
– Да ничего. – Марина опять улыбнулась, и сеточка морщинок вокруг глаз стала очень заметной. – Это все пустяки. Погода нынче хмурая.
Так и не одевшись, даже не набросив халат, она обняла его, прижалась всем теплым, чуть влажным после душа телом. Когда-то он любил такие моменты чуть не больше всего на свете, опаздывал из-за этого на работу, а потом весь день с лица не сходила улыбка.
Сегодня, однако, что-то было не так. Андрей покрепче прижал к себе жену, стараясь пробудить в себе если не желание, то хотя бы нежность… ну хоть благодарность! Ничего. Ни-че-го. Только неловкость и желание высвободиться, отодвинуться от прижатого к нему тела. Обнаженные Маринины ягодицы – когда-то один короткий взгляд на них поднимал внутри жаркую неудержимую волну – казались почему-то чужими, так что смотреть на них было… стыдно! Словно он делает что-то неприличное, словно он подросток, подглядывающий за женщинами в бане. И ведь ничего хорошего он там не увидит: рыхлые бледные телеса немолодых теток вызывают скорее стыд, чем вожделение, но пацан все не может оторваться от запретного окошка, и жарко ему, и неловко, и… Но он-то давно не пацан! И никакой горячей волны, никакого вожделения, одна неловкость, и ничего больше.
Господи, как же она постарела! Еще и сорок не отмечали, она ж его на год младше! Андрей покосился на себя в зеркало: плотная загорелая кожа, выпуклые мышцы, плоский живот, нигде ничего не висит, возле глаз чуть-чуть гусиные лапки намечены, да возле рта жесткие складочки, но это скорее знак бизнеса, а не возраста. Он-то сам тренажерным залом не пренебрегал – просто чтоб кровь разогнать, чтоб мозги лучше работали, – и массажист в сауне при бассейне из него чуть не отбивную делал – потому что запускать себя не-при-лич-но!
От этих мыслей стало совсем стыдно, но ничего с собой поделать Андрей не мог:
– Не стой так, прохватит. – Он отстранился от жены и, стараясь не смотреть, заботливо окутал ее пушистым халатом. – Погода какая-то… простуда изо всех щелей лезет.
Хотя, конечно, никаких таких щелей в их тщательно отделанной, ухоженной, недешевой квартире не было и быть не могло.
– Но уж в ванной-то… – удивилась Марина. Никогда еще он не отказывался от ее объятий. – Да здоров ли ты? Бледный-то какой! Андрюша…
– Прости… мне что-то не по себе, – пробормотал он, стараясь не глядеть на ее бледные ноги с выступающими синеватыми венами. – За булочками не ходи, я завтракать не буду, а девчонки и без круассанов денек проживут. – Схватив полотенце, он выскочил из ванной.
Дверь туалета Андрей захлопнул за собой с такой силой, словно за ним гнался разъяренный тигр. Или скорее даже (тигр при всей своей опасности прекрасен), какая-нибудь гигантская мокрица. Отвратительно перебирающая многочисленными тонкими лапками – точно щупальцами, – шевелящая усиками… бр-р-р!
Рвота на пустой желудок отдавала горечью. Вернувшись в уже опустевшую ванную, он долго и с остервенением чистил зубы, изведя чуть не полтюбика зубной пасты. Но мерзкий привкус преследовал его весь день. Горечью отдавало все: минералка, которую он прихлебывал, проводя совещание топ-менеджеров, кофе на переговорах с потенциальным партнером, осетрина, заказанная на обед.
Заехав по дороге домой в один из лучших салонов красоты (договариваться по телефону, а уж тем более озадачивать этим секретаршу было почему-то неловко), он полчаса, не меньше, слушал серьезную и внимательную даму-консультанта и в итоге записал жену чуть не на два десятка всевозможных процедур. И в бассейн бы еще, да.
– Ты… зачем? – Марина глядела на абонемент с расписанием массажей и прочих косметических штучек с абсолютно потрясенным видом. И еще с какой-то… растерянностью, что ли? Как тогда, когда он пытался вывозить ее на модные курорты. – Андрей, ну зачем это?
– Затем, что пора уже начинать следить за собой, – чрезмерно сурово из-за ощущаемой им неловкости сказал Андрей. Таким вот тоном он обычно проводил инструктаж новых сотрудников. – Вообще-то женщины начинают всем этим заниматься гораздо раньше, но, раз уж ты сама не подумала, придется мне за тебя подумать. – Он кривовато улыбнулся, пытаясь смягчить жесткость высказывания.
– Что значит «пора»? – Марина нахмурилась.
– То и значит, – отрезал он, как делал на тяжелых бизнес-переговорах. – Тебе не двадцать лет. И даже не тридцать. Мы, знаешь ли, не молодеем. – Андрей помолчал и добавил еще один аргумент, казавшийся ему неоспоримым: – Не забывай, мне… как бы тебе помягче объяснить… хотя должна бы сама понимать. Какое ко мне может быть уважение в делах – а я все-таки кое-чего достиг в бизнесе, – если не могу собственную жену в приличный вид привести.
– Значит, у меня неприличный вид? – Марина явно собиралась не то разрыдаться, не то закатить скандал.
– Пока еще нет, но, если собой не займешься, скоро будет. – Ему хотелось, чтобы это прозвучало свойской шуткой, но вышла откровенная грубость. Ну и ладно, что уж теперь, все равно потом извиняться придется, ну так семь бед – один ответ. – Ты даже волосы ни разу не пробовала красить!
– Зачем? – искренне изумилась Марина, кажется, не воспринявшая сказанное как грубость. – Я натуральная блондинка, прекрасный пепельный оттенок, зачем краситься?
– Зачем? – Андрей почувствовал, как внутри все неудержимей поднимается раздражение. – Ты про седину когда-нибудь слышала? Ну и про все остальные… приметы возраста задумывалась? Вот и задумайся.
Не дожидаясь ответа (еще истерику, не дай бог, устроит, кто их, женщин, разберет), он развернулся и вышел из комнаты.
Пошарив по шкафам, отыскал старый фотоальбом, открыл наугад. Вот они, совсем еще юные… Сколько им тут? Ему двадцать пять, ей двадцать четыре. Или на год побольше? А какие сияющие у них улыбки! Настолько заразительные, что Андрей невольно улыбнулся, точно эти двое – оттуда, из далекого далека – могли его видеть. Андрей отлистнул несколько страниц назад: да, вот они сразу после ЗАГСа. Марина, неправдоподобно тоненькая (каскад пепельных локонов кажется слишком тяжелым, стройная длинная шея, гордый точеный подбородок), в изысканном белом платье с кружевными вставками выглядит сказочной принцессой. Неземная, ангельская красота. Глаза… огромные, прозрачные, бездонные. Ну почему? Ведь глаза-то даются человеку при рождении. Морщинки морщинками, но почему сейчас эти когда-то бездонные озера как будто уменьшились? Заплыли? И шея словно сплюснулась с годами, точно укоротилась и раздалась вширь.
Смотреть на «сказочную принцессу» было больно. Андрей вытащил снимок из альбома и сунул его в карман халата. Утренняя неловкость, страх обидеть, жалость – все куда-то улетучилось, сменившись раздражением, растерянностью, гневом. Точно кто-то ворвался в его мир – а ведь Андрей так старался его строить, так стремился, чтобы все было идеально! – и начал крушить все подряд.
Как она посмела так постареть, так… распуститься?
Ну в самом-то деле, неужели это так сложно? Другие женщины по полдня в салонах этих проводят, еще и удовольствие получают. Но даже если без удовольствия, есть же такая вещь как «положение обязывает», нельзя же распускаться, все-таки не продавщица в овощном ларьке. И финансовый вопрос не стоит – трать сколько нужно, пожалуйста! «Да при тех возможностях, которые я обеспечиваю, она могла бы двадцатипятилетней журнальной красоткой выглядеть! Неужели роль кухонной феклы – идеал женского счастья?! Ведь это же смешно! И меня в смешном виде выставляет. Не могу же я на официальные мероприятия, где положено быть «с женами», секретаршу таскать. А клуша в кухонном фартуке – тоже не украшение для успешного бизнесмена. Ну вот что с ней делать, как убедить?» Ему ведь даже не нужно, чтобы она демонстрировала свою благодарность. Может не ценить то, как он для нее старается (ну ладно, и для себя, конечно, но ведь и для нее тоже, ведь у женщин стремление выглядеть красивее должно быть на уровне инстинктов), он это вполне переживет, но пусть хоть куда-то сдвинется! Неужели самой-то не тошно на себя в зеркало смотреть?
Он долго сидел в кабинете, бессмысленно пялясь в рабочие документы, как будто они сейчас имели какое-то значение. Так и уснул на диване, уронив на пол бесполезные бумаги.
Проснулся Андрей ни свет ни заря. От неудобной позы – засыпая, он даже подушку под голову не подтащил, так и отключился полусидя-полулежа – все тело затекло, словно он ночью не бумаги читал, а вагоны, как в студенческие времена, разгружал. Но в юности «грузчицкая» тяжесть в мышцах бодрила и радовала, как радует ладонь тяжесть спелого яблока. Сейчас мышцы ныли нудно, как застуженный зуб, руки-ноги не то чтобы казались чужими, но были словно не на месте. Словно бы, пока спал, какой-то великанский ребенок разобрал его на детальки, а собрал не глядя, как попало. Даже суставы, кажется, скрипели, ужас, стыд и позор.
Стиснув зубы, Андрей потянулся как следует – эх, ну надо же все себе так отлежать! – поприседал, понаклонялся, покрутил головой, телом, руками, ногами. Прислушался: вроде получше. И суставы скрипеть перестали, и мышцы размялись, все вроде действует, как положено. Вот! А кто-то говорит – возраст. Поблажки себе давать нельзя, вот и весь возраст.
Он крадучись пробрался в спальню и осторожно вытянул из гардероба свежую рубашку.
От двери зачем-то обернулся. Марина мирно посапывала и даже чуть улыбалась во сне. Вялую щеку наискось пересекал красноватый рубец – след от складки подушки. Кожа рядом с рубцом отливала серым, у крыльев носа проступила сосудистая сеточка, точеный подбородок… подбородков было три.
Ну вот и что он должен делать? По-прежнему ложиться с этой чужой женщиной в постель? Обнимать, прижимать… В горле опять стало горько.
Только бы дверью не стукнуть!
Как же здорово, что костюм он вчера, как раздевался, так и оставил в кабинете! Можно спокойно собраться и отправиться в офис, а там за повседневными делами само собой забудется все, о чем думать совершенно не хочется. Да и просидеть за делами можно долго, хоть до ночи. Работал же он когда-то по четырнадцать часов и отлично себя чувствовал…
Работа – такая штука, которая лечит от всего. А уж от дурных мыслей и вовсе лучшего средства нет.
Андрей не спрашивал, послушалась ли Марина его советов, ходила ли в салон. И проверять – хотя позвонить было легче легкого – не проверял. Нет уж, поглядим на результаты, говорил он себе. Если результат будет, он будет виден без всяких объяснений или проверок. Если же ничего не изменится… Но эту мысль додумывать не хотелось.
И домой после работы возвращаться не хотелось.
Семья начала рассыпаться буквально на глазах. Марина с утроенным усердием набросилась на домашние дела: изощрялась в кулинарных изысках, чуть не каждый день проводила генеральную уборку, словно любая, самая крошечная пылинка была ее личным врагом. Наведение чистоты в Маринином исполнении начинало напоминать «Карфаген должен быть разрушен!».
Все попытки вытащить ее из раковины, куда она себя добровольно законопатила, терпели крах. Хуже того. Милая, приветливая, ласковая, заботливая Марина при любом намеке на «пора проснуться» превращалась в сварливую мегеру.
Скандал за скандалом, обвинение за обвинением вырастали каждый день из ничего, на пустом месте, именно они были теперь основной жизнью семьи. Никто больше не радовался совместным ужинам и воскресным обедам. Ну да, положа руку на сердце, эти совместные трапезы давно превратились в формальность, но ведь и зоной боевых действий до сих пор не становились. Анжела и Настя – и это, кажется, злило Марину сильнее всего – приняли сторону отца и наперебой уговаривали мать поухаживать за собой. Но это приводило ее либо в бешенство – молоды еще мать учить! – либо в слезливое уныние: что я за несчастная, даже собственные дочери против меня!
Поначалу Андрей Марине сочувствовал: действительно, трудно с бухты-барахты изменить образ жизни и отношение к себе самой. Но запасы сочувствия оказались небесконечны. С каждым скандалом, с каждой претензией («Почему это тебя моя внешность не устраивает? Столько лет устраивала, а теперь нет? Что еще за фокусы?») желание «навести мосты» все уменьшалось и уменьшалось.
В какой-то момент Марина вроде бы опомнилась, записалась в бассейн, начала наконец ходить к косметологам – в шкафчике над зеркалом выстроились ряды баночек, тюбиков и флакончиков, даже скандалить и демонстрировать обиды почти перестала.
Но… время было упущено.
Вздохнув, Андрей позвонил одному из своих адвокатов. Не из тех, кто обеспечивал юридические тылы в его компании, а тому, что помогал – или мог помочь – решить личные проблемы. Правда, и проблем-то такого рода вроде бы не было, но – умный человек готовит сани летом, а о спасательном жилете вспоминает еще на берегу, а не во время кораблекрушения. Кораблекрушение, знаете ли, такая штука, что может случиться даже с самыми осторожными капитанами. Так что есть ли проблемы, нет ли проблем, а хороший адвокат должен быть в запасе. Вроде как завещание впрок написать. И молод ты, и на здоровье грех жаловаться, и вообще… но – похмельный ремонтник, которого ты никогда в жизни не видел, роняет на тебя с крыши гаечный ключ, и… и привет семье. Да-да-да, как писал классик, кирпич на голову никому просто так не падает. Но, поскольку любой человек видит лишь свою собственную жизнь, причем изнутри, не сверху, и об этих «просто так» и «не просто так» ничего не знает, значит, случиться может всякое. Поэтому и завещание пусть лежит в банковском сейфе, и подушка безопасности в автомобиле пусть стоит, и спасательный жилет должен быть приготовлен. Не пригодятся – прекрасно. Но – мало ли. На всякий случай.
Андрей поужинал с адвокатом – весьма, кстати, недешевым, но хорошие специалисты дешевыми не бывают, это аксиома – в небольшом малоизвестном ресторанчике, в отдельном кабинете, разумеется. И дал команду подготовить документы для развода. Не только документы, конечно, а вообще весь комплекс: судью лояльного подыскать и так далее. Чтобы, если придется, можно было проделать эту малоприятную процедуру в мгновение ока, а не трепать себе нервы многонедельным бракоразводным процессом на радость журналистам светской хроники. Нет, это вовсе не означало, что Андрей собирался разводиться с Мариной прямо завтра. Да и вообще не собирался, по правде говоря. Но, следуя тому же принципу «готовь сани летом», подумывал: а вдруг соберусь? Неизвестно ведь, как дальше дело пойдет.
Может, так оно и тянулось бы годами. Тысячи и тысячи семей живут в той же атмосфере: внешнее благополучие, под которым – холодное безразличие всех ко всем. Но Андрея происходящие с Мариной перемены напугали глубже, чем он готов был показать. Даже самому себе. Он заталкивал этот страх в самую глубину сознания, но тот, затихнув на какое-то время, вдруг выскакивал, злобно скалился из зеркала – вот морщинки, видишь? А на висках-то, на висках – ага, седина! И нечего притворяться, что мужчина, как коньяк, с возрастом лишь лучше делается, приобретая благородную выдержку. Это дурацкое утешение придумали те, кому ничего, кроме утешений, уже не остается. Как там говорят? Старики любят давать хорошие советы, потому что уже не могут подавать дурных примеров? Честно, но обидно.
Он отдалялся от жены по причине ее старения, словно старение – это какая-то заразная болезнь. В сущности, наплевать ведь, как Марина выглядит. И вроде бы нет никакой безусловной надобности демонстрировать ее одряхлевшие прелести в том кругу, где он привык общаться, – в кругу успешных, богатых… молодых! Ну да, половина этих «молодых» разменяла шестой, а то и седьмой десяток, но как выглядят! А Маринино увядание – точно первый звонок для него самого, первый осенний заморозок, хрустящий утренним ледком на стылых темных лужах. За ним, может, и будут еще теплые золотые деньки, но никуда не денешься: впереди – только зима. Седая, бледная и мертвая.
Ему надоела даже работа. Зачем?
Он выстроил свой собственный мир, он победитель, его компания процветает, деньги текут рекой… и что?
Тягучий домашний «нейтралитет» казался вязким болотом, только попади – не вырвешься. Липкая жижа ползет все выше, выше, заливается в рот, жадно хлюпает у самых ноздрей, чавкает в ушах… бульк! Растворяйся, дорогой друг, в теплой бесцветной серости!
Пару раз Андрей принял от партнеров приглашение в традиционную мужскую баньку с девочками. Но от гладких юных, безлично ласковых профессионалок тошнило ничуть не меньше, чем от мыслей о подступающей старости. Нет, это не выход. Неужели содержанием жизни теперь так и будет бесконечно разрастающаяся скука и безразличие? Невозможно ведь так жить, тоска заедает!
Но еще хуже было то, что и Марину, как выяснилось, условное перемирие не устраивало, ей хотелось большего. Как-то раз – наверное, уже весной, Анжела как раз готовилась к выпускным экзаменам – она явилась к Андрею в кабинет под каким-то надуманным предлогом. Чаю, что ли, принесла. Из-под нового шелкового халата выглядывало прозрачное кружевное неглиже, халат продуманно распахивался, от тяжелого запаха сладких терпких духов мутило и к горлу подкатывала тошнота. Андрей тогда, отговорившись срочной работой, ловко уклонился от супружеских объятий. Через пару дней «чайная церемония» повторилась. Потом еще раз. Халатик распахивался все более откровенно, объятия становились все настойчивее, работа уже переставала быть аргументом… Андрей начал запирать дверь кабинета. К счастью, стучаться Марина, видимо, считала ниже своего достоинства, так что вечерние супружеские визиты прекратились.
Он, впрочем, понимал, что запертая дверь – не спасение, нужно было что-то решать. Но ломать то, что строилось годами (да ладно, шептал ехидный внутренний голос, строилось ли, скорее уж распадалось), было страшно.
– Андрей Александрович, – безукоризненно интонированный голос секретарши из селектора прервал бесконечные размышления на тему «куда ж нам плыть?». – Максим Петрович на первой линии. Соединять?
– Да, Ольга, конечно. – Он нажал нужную кнопку и снял трубку.
Ольгу он переманил у партнера из дышащего на ладан НИИ. Когда тот сокрушался о потере ценного кадра, Андрей только посмеивался: мол, кормить надо лучше, тогда не улетят. Платил он секретарше вдвое против прежнего места и вдобавок согласился – да что там согласился, сам предложил, чтобы компания выступила для нее гарантом по ипотеке: после неудачного развода Ольга мыкалась с шестилетним сынишкой по съемным квартирам, так что вопрос жилья был для нее самым важным вопросом в жизни. Невзирая на наличие малолетнего «хвоста», Ольга никогда не пренебрегала сверхурочной работой: надо, значит, надо, дело оценивается по результату, а не по часам. Правда, поначалу Андрей в случаях вечерних переработок оплачивал исполнительной секретарше бебиситтера. Но надобность в этом вскоре отпала. Ольга увлекалась исторической реконструкцией, среди ее приятелей была принята логика «хочешь, чтоб было, – возьми и сделай», и, вероятно, поэтому она полагала, что мужик должен расти самостоятельным. Умение развести костер с одной спички, наловить на обед рыбы или, на худой конец, вымыть пол и сварить картошку считалось ею для «нормального человека», хотя бы и первоклассника, само собой разумеющимся.
Ольга была маленькая, шустрая и, если бы не официальный деловой костюм, больше походила бы на курьера, чем на классическую секретаршу. Ни тебе форм Памелы Андерсон, ни тебе ног от ушей, ни тем более наращенных ресниц и силиконовых губищ. Зато документы, встречи, расписание, почта – все было в идеальном порядке, сложный офисный механизм (если вам кажется, что в нем нет ничего сложного, вы сами попробуйте его наладить!) двигался словно бы сам по себе. Ну и – высший секретарский пилотаж – виртуозно чувствовала, с кем когда и как разговаривать. Кому сочувственно улыбнуться «его не будет, перезвоните завтра» (хотя Андрей в это время мог в кабинете корпеть над документами), для кого, наоборот, в мгновение ока отыскать шефа хоть на краю земли.
Сейчас в ее голосе не прозвучало ни тени удивления, хотя Макс, директор по маркетингу, то есть практически правая рука Андрея, ну, или как минимум одна из правых рук, звонил шефу всегда напрямую. Но раз позвонил по «внешней» линии, значит, так надо. И Ольга подхватила предложенный сценарий мастерски: не переключила вызов сразу же, а сперва уточнила протокольно: соединять ли?
– Максим Петрович, ты чего так официально-то? – хохотнул Андрей.
– Ну так дело официальное, – ответила трубка. – Нашел я, Андрей Александрович, правильного человека. Ну, вместо себя, чтоб не бросать тебя совсем уж без.
– Так, может, все-таки останешься? – довольно безнадежным, почти умоляющим тоном переспросил Андрей. – Ну что ты, в самом деле. – Он произносил обязательные фразы, прекрасно зная, что это лишь слова, что уговаривать бесполезно, что Макс все равно уйдет, все уже обсудили и удобных вариантов, позволяющих ему остаться в компании, увы, не нашли. Но лишний раз показать кому-то, как высоко ты его ставишь, это, знаете ли, никогда не вредно. Тебе произнести лишний десяток добрых слов ничего не стоит, а человеку приятно. Может, когда-то в будущем еще и зачтется. В конце концов, бизнес делают люди, поэтому он всегда делается только на личных связях, так было, есть и будет всегда, и умение создавать и сохранять эти самые связи – абсолютно необходимая часть профессиональных навыков.
– Ну, Андрей Александрович, не тяни из меня душу! – возмутился голос в трубке. – Самому, думаешь, хочется все тут бросать? Но ты ж мою ситуацию знаешь. – Макс вздохнул. – Обстоятельства неодолимой силы, ничего не попишешь.
– Ну так а чего тогда от меня-то сейчас хочешь? – немного удивился Андрей. – Нашел и нашел, спасибо тебе.
Трубка опять вздохнула, якобы над непонятливостью шефа:
– Так ты собеседование будешь проводить или как?
– Или как, – хмыкнул Андрей. – Толку с того собеседования. Ты человека нашел? Нашел. Сам говоришь, правильного. И чего я стану тебя перепроверять? Ты все равно в своей кухне в двадцать раз лучше меня понимаешь. – Насчет «в двадцать раз» он, само собой, лукавил: не понимая, не чувствуя рыночных тенденций, многомиллионную компанию не создашь. Но правило остается правилом: комплименты говорить необходимо даже тем, кто увольняется. Как раз этим-то, может, еще и более необходимо, надо ведь, чтобы человек ушел с хорошим отношением к бывшему начальству. Мало ли как будущее сложится. Впрочем, если «в двадцать раз» и было преувеличением, по сути, он сказал правду: в своей «кухне» Макс разбирался лучше, просто потому, что это именно его «кухня». Не было у Андрея привычки дублировать работу своих специалистов. Контролировать слегка – это да, это нужно. А дублировать? Специалисты от этого обижаются и хуже работают. А главное, если дублируешь своих работников, зачем тогда им зарплату платишь? Глупость. И если Макс говорит, что человека нашел «правильного», то что такого Андрей может выяснить на личном собеседовании? Вот и нечего время попусту тратить. Андрей подтянул к себе одну из рабочих папок и закончил разговор, почти не задумываясь: – Так что давай, приводи сразу на «паркет», представишь и мне, и коллективу.
«Паркетом» в компании назывались еженедельные совещания «верхушки», поскольку проводились они в переговорной, где оформлявшие помещение дизайнеры устроили все, как в XIX веке: стол на львиных лапах, «кабинетные» шкафы мрачноватого темного дерева с узкими стеклянными дверцами, похожими на окна, бронзовые светильники, стилизованные под керосиновые лампы. Ну и наборный паркет, разумеется, не забыли.
Через три часа после этого разговора Андрей, постукивая носком дизайнерского итальянского ботинка (ручной работы, положение обязывает!) по львиной лапе (XIX век, чтоб его!), рисовал в рабочей папке бессмысленные загогулины и костерил себя на все корки. Ну хоть что-то можно было у Макса уточнить насчет этого «правильного человека»? Хотя бы имя. Хотя бы – мальчик или девочка! Был бы сейчас хоть отчасти готов. Не уточнил – сам дурак. Впрочем, почему не уточнил, понятно. Сам же всегда повторял, что делить людей по гендерному принципу – такая же глупость, как делить их по цвету глаз, к примеру. Люди бывают толковые и бестолковые, профессиональные и не очень, все прочее – внешняя шелуха. Но Макс, Макс тоже хорош, мог бы и предупредить!
«Правильный человек» оказался девочкой. Не в смысле возраста, конечно, а в том же смысле, что у Ильфа с Петровым про Воробьянинова: «Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень!»
Андрей бормотал мысленные проклятья и радовался, что экстренных ситуаций, требующих его вмешательства в ход заседания, к счастью, не наблюдается. «Паркетное» совещание катилось по привычной колее: руководители направлений докладывали об итогах, поругивали логистов, которые опять недостаточно точно рассчитали сроки доставки (Андрей вспомнил бессмертное «а теперь заслушаем начальника транспортного цеха»), намечали планы на ближайшую неделю. В общем, все, как всегда.
Представление новенькой не заняло и пяти минут:
– Вот, господа и… – Макс коротко поклонился в сторону царственно откинувшейся на спинку дивана главной бухгалтерши и традиционно присутствующей на «паркетах» Ольги с блокнотом на коленях, – и дамы, ваш новый директор по маркетингу. О моем уходе вы все осведомлены, останавливаться на этом не стану, поезд уже ушел. Спасибо всем, мне очень приятно было с вами работать.
– Максим Петрович, а отвальную? Зажал? – пробасила главбух, которой, разумеется, было можно все. Это ж всем известно: в любой фирме главный кто? Думаете, директор? А вот и нет, директор – генеральный, а главный – бухгалтер. По той простой причине, что генеральный директор – это голова, но главный-то бухгалтер – сердце. Ведь кровь любого бизнеса – деньги. И именно от профессионализма главбуха зависит «правильное кровообращение» любого дела: отношения с банками, налоговиками, аудиторами и так далее. Голова без сердца попросту умрет. А сердце без головы… а сердце можно и в другой «организм» пересадить, оно и дальше будет работать столь же успешно.
Макс повернулся к бухгалтерше, картинно прижав руки к груди:
– Что вы, Надежда Степановна, как вы могли такое подумать? Отвальная на следующей неделе, в последний мой рабочий день. Мне ж еще дела нужно передать. – Он оглядел конференц-зал и повел рукой в сторону приведенной «девочки». «Девочка» слегка улыбнулась и коротко кивнула, сразу всем. – Итак, вот вам вместо меня отличный работник Вера Михайловна. Прошу любить и жаловать.
Любить и жаловать, похоже, готовы были многие. Шепотки, шевеления, взгляды исподтишка. Тоже, в общем, все очень обыкновенно: новый человек пришел, всем любопытно. Директор по логистике, известный тем, что не пропускал ни одной юбки по принципу «не догоню, так хоть согреюсь», поправил галстук, застегнул пиджак и вообще приосанился. Даже директор по IT, молодой лохматый парень, оторвался от ноутбука и одобрительно прищелкнул языком. Надежда Степановна поглядывала на новенькую не то чтобы неодобрительно, но – осторожно. Оценивающе.
Вера, как бишь ее там, Михайловна переглядываний и перешептываний словно бы не замечала. Села скромненько возле Максима Петровича – колени вместе, лодыжки скрещены, спина идеально прямая, в руках небольшой блокнотик. При взгляде на длинные пальцы, сжимающие авторучку, сердце вдруг пропустило удар. «Интересно, а Макс с ней спал? – неожиданно подумал Андрей и сам себя одернул. – Ты что, спятил? Для Макса не существует никого, кроме его Томочки. Вон даже увольняется из-за того, что у нее внезапно обнаружилась двоюродная сестра – в Бразилии, можете себе представить? – и непременно нужно с этой самой сестрой срочно воссоединиться, бросив тут успешную карьеру и вообще все». Странно, конечно, думать о таких вещах, когда к тебе приходит новый специалист, от которого будет в немалой степени зависеть работа всей компании. Да будь она хоть крокодилицей, рычал Андрей сам на себя, какая разница! Ты что, смотреть разучился?
Во время становления бизнеса Андрею приходилось, конечно, быть «мастером на все руки». А как иначе? Это потом, если доработаешься до успеха, наберешь на каждое рабочее направление соответствующих специалистов, а поначалу все сам. Сам себе технолог, сам себе экономист, сам себе маркетолог, водитель и грузчик – и то нередко сам. Ну и кадровик, разумеется.
Сейчас он попытался взглянуть на «нового специалиста» отстраненно. Нейтрально, как когда-то. Умел ведь людей оценивать. Если не с одного взгляда, то с десяти – точно. Вот и поглядим.
Лицо спокойное, голос негромкий, но четкий и внятный. На вопросы отвечает кратко и по существу. Красива, очень красива, но стиль подчеркнуто деловой, строгий, без выпендрежей. Юбка ровно на ладонь выше середины колена, пиджак сидит идеально, явно не в магазине готового платья куплен, а сшит у хорошего портного. Прическа не зализана сверх меры, но – волосок к волоску, ни один не выбивается. Макияж то ли вовсе отсутствует, то ли очень дорогой, профессиональный, незаметный. Маникюр идеальный, но лак неброский, не то телесный, не то вовсе бесцветный.
Сердце опять пропустило удар, и в голове зашумело, как в морской раковине. Андрей даже потрогал лоб – не приделали ему вместо головы какого-нибудь гигантского рапана или рог тритона – и поймал обеспокоенный взгляд идеальной секретарши Ольги. Решила небось, что у меня голова разболелась.
Голова не болела, но как-то словно бы кружилась. Так бывает, когда, сбежав из города, пробродишь целый день по лесу: хруст сучка под ногой, бесстрашный еж, сердито фыркающий на непрошеного гостя, внезапно распахнувшаяся прогалина, затянутая пестрым травяным ковром, в котором стрекочут невидимые кузнечики. Посреди прогалины – непременный пенек, а на нем – ленивая изумрудная ящерка и хрупкая до прозрачности стрекозка.
К вечеру в голове начинает шуметь, точно водки хлопнул. Но сейчас-то с чего?
Андрей пролистал скупое досье из отдела кадров: диплом с отличием, замужем, сын-школьник, рекомендации с предыдущих мест превосходные.
Ничего не было проще, чем вызвать к себе нового сотрудника, ответственного за руководство столь важным направлением. Да хоть каждый день можно совещания с глазу на глаз устраивать. Ничего проще. И – ничего сложнее.
Андрей видел Веру только во время еженедельных «паркетов». За работу она взялась рьяно, выстроенные Максом схемы не только не разрушила, наоборот, кое-где даже кое-что усовершенствовала. Андрей читал отчеты отдела маркетинга так, как другие читают любовные письма, и сам над собой издевался.
Ну что ты маешься, как пацан пятнадцатилетний? Свози ее на строительный форум – что там у нас по календарю ближе всего? – хоть в Дрезден. Ну переспишь там с ней – она ж большая девочка, вряд ли упираться станет, да и по глазам похоже, что и сама не прочь, – будет тебе легкий необязательный командировочный роман. Погуляешь и успокоишься.
Правда, он отлично понимал – точнее, чувствовал нутром, солнечным сплетением, глубинами сознания, – что легким командировочным романом дело не обойдется. Но Дрезден – это да, это хорошая мысль, это может все упростить. Вообще-то он собирался взять с собой в Дрезден Анжелу – в награду за успешное поступление в университет, – но ей об этом еще не говорил, так что не поздно все переиграть. Да, в Дрезден надо ехать с Верой.
В первый дрезденский вечер Андрей страшно напился, потому что никак не мог набраться духу, чтобы постучать в Верин номер и пригласить на ужин. Да что там! Хотя бы просто постучать… а ужин можно и в номер заказать. Как же, как же!
Для храбрости он опрокинул в себя порцию коньяка – как лекарство, не чувствуя вкуса. Потом еще одну. Из соседнего номера не доносилось ни звука: то ли Вера, компенсируя разницу часовых поясов, легла пораньше спать, то ли гостиничное здание было построено на совесть. Он подумал и выпил еще.
Утром Андрей поднялся ни свет ни заря, отработал час в гостиничном тренажерном зале, пропарился в сауне, поплавал в бассейне, чтоб выгнать из организма остатки алкоголя.
Вместо предусмотренных программой форума мероприятий он потащил Веру гулять. Музеи, даже Дрезденскую галерею, они игнорировали – жаль было тратить чудесный летний день на закрытые залы. Но город и особенно парки обошли основательно и даже покатались на речном трамвайчике. Эльба весело блестела под высоким летним солнцем, Верины глаза смеялись, Андрей с воодушевлением рассказывал историю восстановления дрезденского центра, разбомбленного до основания в феврале сорок пятого. Сорок лет по кусочку собирали, представляешь? Он фотографировал Веру в каждом мало-мальски симпатичном уголке, благо из таких состоит весь Дрезден, и чувствовал себя мальчишкой. Портфеля у Веры не было, а то нес бы за ней и сиял от гордости и счастья.
Уже вечером, на мосту Августа, у Веры сломался каблук. Неловко подвернув ногу, она с размаху села прямо на тротуар, ахнула и всхлипнула – больно. Андрей кинулся на помощь, обнял, стал утешать. Наступать на ногу было больно, и они чуть не час сидели на бордюрчике – отдыхали. Со стороны, наверное, это выглядело диковато: сидят на тротуаре двое взрослых людей и смеются…
Вернувшись из Дрездена, Андрей в первый же вечер забыл запереть кабинетную дверь, и Марина моментально это обнаружила. Учуяла, что ли?
Размяк, расслабился, кретин, идиот, недоумок, ругал он себя, осторожно высвобождаясь из цепких супружеских объятий. Но что толку ругаться, когда уже прошляпил! Самое скверное, что Марина учуяла не только незапертую дверь. Она учуяла произошедшие в муже изменения. Сцена вышла безобразная.
– Баньки с девочками тебе уже мало? – орала взбешенная Марина. – Постоянную подстилку захотелось? Седина в голову, бес в ребро? Старая жена уже не устраивает? На молоденькое мясцо потянуло? Длинноногую красотку прямо под боком завел?
Уворачиваясь от бросающейся на него Марины, Андрей выскочил из кабинета, сунул ноги в ботинки, схватил так и не разобранную после «командировки» сумку, валявшуюся под вешалкой, и пулей вылетел из квартиры.
Доехал до офиса, переночевал у себя в кабинете и к утру решил: пора разводиться, иначе нечестно выходит.
Утром позвонила Марина. Просила прощения, говорила, что не знает, что на нее нашло, плакала в трубку. Под ее рыдания Андрей прокручивал в голове все обстоятельства. Так, у Анжелы до начала занятий в университете еще почти три недели, у Настюхи последние школьные каникулы, отлично. Когда Маринин плач несколько утих, Андрей предложил ей съездить с девочками куда-нибудь к теплому морю – мол, им обеим отдохнуть перед учебным годом не помешает, да и ты развеешься.
Марина, разумеется, согласилась.
Адвокат оказался молодцом. Двух недель, пока «девочки» отдыхали на Кипре, на оформление развода хватило с лихвой, даже вопрос о детях как-то ловко удалось обойти.
Марина восприняла новость на удивление спокойно. Андрей готовился к тому, что она устроит ему полный Армагеддон, но нет. Может, морские купания помогли, думал он, но, по большому счету, думал без особого интереса. Не скандалила – и хорошо, и слава богу.
После развода они еще какое-то время жили вместе. Ну… как вместе? В одной квартире. В новый дом он Марину тащить не хотел и подбирал для бывшей жены подходящее жилье – чтоб и не очень далеко, и удобно, и чтобы девочкам, если что, места хватило бы. Вопрос, с кем будут девочки, оставался пока открытым: Анжела сразу сказала, что с папой, Настя только плакала, закатывала скандалы и кричала, что ее никто не жалеет, лучше она вообще уйдет из дома и будет ночевать под мостом. Давить на нее не хотелось, разлучать сестер тоже, и ясно было, что жить в новом доме было бы удобнее всего, но Андрей, как и в бизнесе, старался учитывать все варианты и поэтому решение квартирного вопроса откладывал.
Все делали вид, что жизнь течет по-прежнему и ничего не изменилось. Спал Андрей в кабинете, вламываться к нему туда Марина больше не пыталась. Иногда он снимал номер в маленькой, хорошо знакомой гостинице, но свидания с Верой были редкими. Хотя, казалось бы, свобода оформлена юридически, можно себе позволить. Но сперва ей тоже нужно было развестись, потом она сказала, что давить сейчас на Марину, добавлять ей переживаний – немилосердно, а они вполне могут и потерпеть. Так и так скоро все наладится.
Армагеддон случился в декабре.
– Марина, ты дома? – Андрей запер дверь, стащил с себя пальто, сковырнул с усталых ног ботинки, один о другой, Маринка всегда ругается, что от этого обувь портится, ну да и черт с ними, и с замечаниями бдительной бывшей супруги, и с обувью. – Ау, я пришел, где вы все? Марина? Девочки?
Откуда-то доносилось слабое похрустывание. С кухни, что ли? Нет, из большой комнаты, которую Маринка, так и не отвыкнув от советской традиции, называла залой. Очень аристократично.
Он заглянул туда, в залу, и даже не сразу понял, что он видит.
Улыбающаяся Марина сидела на полу, усеянном какими-то блескучими крошками. В некоторых, покрупнее, еще можно было узнать осколки. Марина брала осколок и ломала его. Потом еще раз. И еще. До тех пор, пока ломать было уже нечего. Оглядывалась, находила следующий, опять ломала. Пальцы, колени, стеклянная крошка, ковер – все было заляпано кровью. Зеркальная – когда-то зеркальная – дверца шкафа сейчас зияла темным провалом, по бокам которого тоже щерились зубастые осколки.
Увидев мужа, Марина радостно рассмеялась:
– Вот и ты! А я и не услышала!
– Что ты делаешь? – сдавленно проговорил Андрей.
– Да ну, – она махнула рукой в сторону бывшего зеркала, в темную зубастую пасть, – оно ужас какой-то показывает. Как будто я – это не я, а какая-то толстая жуткая тетка. А я же молодая! Краси-и-ивая! Иди ко мне!
Надо было что-то делать, куда-то бежать, но ноги не шли, не двигались, как бывает в кошмарном сне.
– Где девочки? – задыхаясь, прошептал он.
– Ну спят же! – радостно отозвалась Марина. – Здорово, да? Можно пока пошали-и-ить. – Она подмигнула и потянулась, выгнувшись и выпячивая грудь. – Ну иди же скорей!
Андрей отшатнулся, захлопнул дверь. Черт, почему в этой квартире ни одна внутренняя дверь, кроме кабинетной, не запирается?! Он хотел придвинуть к ней вешалку, но понял, что та стоит не на месте. Не у входной двери, а у соседней, в бывшую их с Мариной спальню. Андрей осторожно приоткрыл соседнюю дверь – в комнате девочек было чисто и пусто. Проклятье!
Отшвырнув тяжеленную вешалку, он ворвался в спальню. На супружеской постели лежали два длинных, замотанных одеялами свертка. На неверных ногах он шагнул ближе…
Лица девочек были безмятежно спокойны, только у Насти перемазано чем-то белым.
Сердце пронзила острая боль. Потемнело в глазах. Чувствуя, что падает, Андрей уцепился за тумбочку, свалив стоявшую на ней вазу.
Настя открыла глаза и, задыхаясь и всхлипывая, заговорила:
– Папа! Она… она… я…
Андрей кинулся к кровати и начал распутывать Анжелу.
– Папа? Мама с ума сошла, – открыв глаза, совершенно спокойно сообщила она.
Пока Андрей освобождал девочек от их коконов, те сбивчиво рассказали ему о произошедшем.
Первой домой вернулась Настя. Мать открыла ей дверь и…
– Что-то темное сверху, я чуть не задохнулась! – рыдала Настя. – Потом не помню… Очнулась, когда она пыталась меня манной кашей накормить.
Анжела сохраняла все то же спокойствие. Вернулась она часа на полтора позже сестры и встречена была так же, только сознания, в отличие от Насти, не теряла:
– Она меня запеленала как-то сразу и очень ловко, укачивать пыталась, что-то вроде «спи, малютка». Ну, ясно, свихнулась. – Анжела поморщилась. – Я и не сопротивлялась, а то, думаю, еще придушит. Так-то вроде ничего ж такого мне не сделала, даже кормить не пробовала. – Она усмехнулась. – Повезло, не то что Настюхе. Потом ушла и дверь чем-то задвинула. Настасья, слышу, рядом всхлипывает, я и сказала ей, что лучше не шуметь, а то мало ли что сумасшедшей в голову еще взбредет. Надо пока потерпеть, скоро папа придет, выручит. Вот ты и пришел. – Она улыбнулась.
– Но… – Андрей изумился самообладанию дочери. – Ты ведь, когда я пришел, спала?!
– Ну да, – спокойно подтвердила Анжела. – А что еще делать? Да и вообще, спать же все время хочется, знаешь, сколько перед сессией учить приходится.
Настя, вцепившись в локоть отца, всхлипывала.
Марину поместили в хорошую – Андрей не поскупился – клинику и вроде даже обещали, что все наладится, мол, острые психозы, особенно климактерические (вот уж о чем Андрей и думать не думал), лечатся очень неплохо, вероятность рецидива невелика. И, что самое замечательное, не соврали: Марина пришла в себя довольно быстро и вела себя вполне адекватно.
После выписки она поселилась в купленной бывшим мужем небольшой квартире – вопрос о том, с кем жить девочкам, исчез сам собой. Андрей, понимая, что нигде и никогда не работавшей (коротенький отрезок после института можно не считать) женщине с дипломом четвертьвековой давности устроиться непросто, деньги бывшей супруге давал регулярно. Поначалу, правда, так же регулярно уговаривал устроиться хоть на какую-нибудь работу, хоть вахтершей – просто чтоб не маяться от безделья. Время от времени Марина даже следовала совету бывшего мужа, но хватало ее ненадолго. Уговаривать бывшую ему надоело года через два.
Для пущего спокойствия Андрей с самого начала договорился с соседкой Марины, чтоб приглядывала, ну, приплачивал, конечно. И та приглядывала. Впрочем, врачи не соврали – рецидивов не было. Раза два-три за первые полгода Марина совершала попытки самоубийства, но в основном для демонстрации, всегда оставляя лазейку, чтоб наверняка успели спасти: то руку слегка разрежет – крови много, а толку чуть, то пачку аспирина выпьет. Но вскоре ей это надоело: резать руки, даже если слегка, было больно, после аспирина тошнило и сводило желудок. В общем, Марина утихомирилась.
Но жизнь начала ей казаться какой-то пустой, все как будто чего-то не хватало. Хлопотать, наводить чистоту, суетиться, изощряясь, на кухне теперь было не для кого. Времени на раздумья – и вообще на что угодно, – наоборот, стало навалом. Собственно, вся жизнь теперь была – одно сплошное свободное время, помноженное на вполне приличные деньги: Андрей содержал бывшую супругу, не скупясь. Но даже такая жизнь требовала смысла. А то что же это получается? Всегда смысл был – обстирать, накормить, обиходить, а теперь что? Ясно было, что супруга – даже в мыслях Марина не могла, не в силах была назвать его бывшим – надо было вернуть во что бы то ни стало.
Ну или, если уж вдруг вернуть не выйдет, хотя бы доказать, насколько он не прав.
Хотя лучше, конечно, вернуть.
Марина зачастила к гадалкам, магам и экстрасенсам. Тоннами скупала мистическую литературу, амулеты и прочий эзотерический хлам. Объявления о всевозможных «Поисках Пути», где каждое слово непременно писалось с заглавной буквы, притягивали ее, как магнитом. В доме было не продохнуть от ароматических свечей, по углам валялись листочки с заклинаниями, карты Таро, комки узловатого шелка, четки всех видов, китайские дырявые монеты – Марина не отдавала предпочтения ни одной из традиций, ни одному из направлений, практикуя все подряд, под настроение. Сегодня – пентаграмма с черными свечами, завтра – «семитравные» отвары под «древнеславянские» заговоры, послезавтра – «Книга перемен» или восковая кукла с булавками… Гадалки и экстрасенсы тянули из Марины деньги, предлагая все новые и новые привороты, заговоры, способы снятия сглаза (не просто же так семья развалилась, непременно кто-то сглазил), обряды на очищение и просто амулеты «на удачу». От совсем уж безумных трат женщину уберегала привычная прижимистость, так что экспериментировать с колдовскими чарами можно было десятилетиями. Раздражало Марину лишь отсутствие видимого результата, но в целом она была своей жизнью вполне довольна.
– Надо же, гад какой! – искренне возмущаюсь я. – А я-то его еще жалел. Надо же, как шикарно устроился! Жена его двадцать лет обихаживала, лелеяла, обстирывала, а как постарела-подурнела, моментом сменил ее на длинноногую силиконовую красотку. Точно-точно, всех этих богатеев на молоденькое мясцо тянет.
– Ну, насчет красотки ты прав, – насмешливо щурится дьявол. – И насчет длинных ног тоже. А вот насчет силикона и молоденького мясца – это ж Маринина точка зрения.
– А на самом деле? – Я спрашиваю не потому, что мне так уж интересно, просто чувствую, что не спросить будет нехорошо, неправильно.
– На самом, говоришь, деле? Что такое это ваше «самое дело»? С одной стороны, так, с другой – эдак. Как поглядеть. Ну что ж, гляди сам…
Сказка о гадком утенке, который, вырастая, превращается в прекрасного лебедя – нет, это к ней, к Вере, не имело никакого отношения. Красивой она была всегда. Самой красивой. Весьма вероятно, что даже в роддоме, среди красненьких сморщенных монстриков, симпатичных только для собственных мамочек, и то звучало: ах, какой ангелочек! Впрочем, что там было в роддоме, Вера, разумеется, не помнила. Но уже в детском саду – да, уже там она всегда была в центре. Именно ее выбирали, чтобы вручить букет какому-нибудь важному гостю, которому вздумалось – бывает такое с большими чиновниками – проинспектировать районный детский сад. Именно к ней бежали, когда надо было вызволять влетевший в чужой палисадник единственный на весь двор приличный футбольный мяч. Стоило виновато похлопать длиннющими ресницами – и самые сердитые старушки, самые похмельные дяди Пети не только отдавали мяч, но еще и угощали «ангела» конфетами. Именно она была самой красивой первоклассницей. В мае, когда наступает пора «последних звонков», в ее школе и сомнений ни у кого не было – разумеется, ехать на плече самого достойного выпускника, звеня символическим колокольчиком, должна Верочка из 1 «Б». Как же иначе! Кудри, румянец, глазищи вполлица, улыбка ослепительная – ну красотка, не в каждой школе, даже не в каждом районе такая есть!
Мальчишки дрались за право нести ее портфель, готовы были решать ее вариант на контрольной раньше своего – лишь бы помочь, лишь бы получить ее улыбку – и чуть не хором подсказывали, если она вдруг запиналась, отвечая урок.
Впрочем, запиналась Вера редко, списывала и того реже. Учиться ей нравилось. Это было гораздо интереснее, чем сталкивать лбами скучных влюбленных одноклассников или злить шипящих одноклассниц. Да и полезнее, это она усвоила твердо. Учись, Верочка, твердила мать, бросая в угол синий уборщицкий халат, я свое профукала, ты не пробросайся. Красота – как миллион, кто бы спорил, да только этим миллионом еще распорядиться нужно. Мать слабо улыбалась и на мгновение становилась похожа на висевшую за шкафом большую фотографию, с которой глядела невероятной красоты девушка в пышном светлом платье. Вере долго казалось, что этого не может быть, что снимок не имеет к ее матери никакого отношения и мало ли что она говорит, мало ли как вздыхает. Девушка с фотографии могла быть феей, герцогиней, в крайнем случае – кинозвездой. При чем тут мать, с ее серой землистой кожей, костлявыми руками в жгутах вздувшихся вен, тощей куриной шеей, недоумевала Вера. Потом поверила, конечно. И сызмальства усвоила: бедность – это не просто тяжело, это гадко, мерзко и стыдно. Отвратительно все время чувствовать себя человеком второго сорта, скрывать, хитрить, выкручиваться. Как Скарлетт О’Хара из «Унесенных ветром» твердила себе: «Я никогда, никогда больше не буду голодать. Ни я, ни мои близкие. Бог мне свидетель, я скорее украду или убью, но не буду голодать». Так и Вера повторяла: никогда, все, что угодно, только не бедность! И красота, как легко было убедиться, – отличный инструмент для достижения чего угодно, главное – уметь им пользоваться.
К счастью или несчастью Веры, время конкурсов красоты, интердевочек и прочих способов торговать внешностью тогда еще не настало, по утрам радио пело «Союз нерушимый республик свободных», а водка стоила знаковые три шестьдесят две. Цену эту Вера помнила очень хорошо, не понаслышке.
Отец, электрик в домоуправлении, мог бы, как шептались соседки, зарабатывать «у-у-у какие деньжищи». Еще бы! В той квартире починить, в этой люстру повесить – тут трешка, там пятерка, а то, если срочно, может, и четвертак – да где это видано, чтоб сантехники и электрики на зарплату жили. Мог бы. Но Вера во всякие такие разговоры не вслушивалась. Какая чепуха! Отец и деньги были понятиями несовместимыми. Под хорошее настроение – это когда она еще детский садик ходила – он, бывало, приносил ей конфеты. Долго шарил в кармане, вылавливая их по одной, – это ж не все, там еще одна должна быть, – пересчитывал, гордо протягивал дочери пригоршню карамелек. В линялых фантиках, с прилипшими крошками, карамельки воняли табаком и больше напоминали горсть мусора, чем конфеты. Из внутреннего кармана обвисшей грязно-серой спецовки – отец носил ее непрерывно, утомительно пошучивая про «зимой и летом одним цветом», – извлекалась бутылка. Когда – заработанная какой-нибудь мелкой починкой, но чаще – купленная на те самые три шестьдесят две, в добывании которых отец был истинным виртуозом. Поставив на стол бутылку, он устраивался на обшарпанном столетнем диванчике, устанавливал на кухонный стол локти и орал: «Мать! Обед тащи! Усталому рабочему человеку обед подать полагается!» Мать суетилась, грела неизменные макароны и борщ из «собачьих» костей (мослы, именуемые «собачкам погрызть», на рынке продавали за какие-то совсем смешные копейки), резала хлеб – подавала, как барину. Но это когда бывала дома. Чаще ее не было – мыла очередной подъезд или какую-нибудь из расположенных неподалеку контор. Отец, как ни странно, по поводу отсутствия «обеда усталому человеку» не скандалил. Грохал рядом с бутылкой стакан, отламывал – а закусить? что ж я, алкоголик, что ли? – кусок от буханки и погружался в многословные рассуждения все на ту же тему «вот как я есть рабочий человек и хозяин жизни». Когда бутылка (а то и не одна) пустела, отец падал там же, где сидел, на диванчике, и отключался. С утра рычал на всех: что за семья, никто не позаботится, чтоб было чем полечиться рабочему человеку, – но рычал без особого энтузиазма. Чего-чего, а злобы в нем совсем не было.
– Ну что ж, что пьет, мужик же, как без этого, спасибо, что не бьет, повезло, – приговаривали сердобольные соседки и наперебой приносили – девочке нужно хорошо одеваться, а такой красивой девочке тем более – «почти не ношеные» платьица, юбочки, пальтишки, которые мать виртуозно на Веру подгоняла. Ночи, конечно, частенько из-за этого не спала, но оно того стоило. Швейную машинку – дряхлый, кажется, дореволюционный еще «Зингер» – им подарил кто-то из жильцов. На тебе, боже, чего нам негоже. «Зингер» служил безропотно, и мать все боялась: как бы не пропил этот оглоед. Пропить благословенную машинку отец, к счастью, не успел, его похоронили, когда Вера переходила в девятый класс. До окончания школы они с матерью наслаждались наступившим в доме покоем.
Легко поступив в институт, Вера поначалу слегка растерялась: все было другое, не такое, как в школе. Впрочем, довольно быстро стало ясно, что отличия невелики. Подумаешь, лекции! Сиди да пиши под диктовку. А если лень, всегда найдется, у кого переписать. Подумаешь, семинары! Те же уроки. Подумаешь, профессора! Так же ведутся на коленки, улыбки, потупленные – чтоб ресницы показать – глазки, нежный голос и прочие отработанные приемы. Про однокурсников и прочую студенческую шушеру и говорить нечего – преснятина. Бесперспективняк. Хотя…
Виктор был старше, разумеется. Дипломник, с уже готовым – родители постарались – приличным местом работы, с квартирой «от бабушки». В общем, очень, очень неплохой вариант. Какой-нибудь пожилой профессор был бы, пожалуй, еще лучше, но профессора, жадно разглядывавшие Верины коленки и неглубокое декольте, были все женаты. Закрутить с красивой студенткой романчик каждый из них еще был готов – да и то, по правде сказать, не каждый, – но ради чего-то большего пришлось бы долгонько с кандидатом возиться, да еще и успех не гарантирован.
Все ж не одной красотой в этом мире место завоевывается, права была мать, к красоте еще мозги необходимы, а главное – удача. Виктор и был такой удачей. Он пал к Вериным ногам, как водится, мгновенно. Причем сперва – в буквальном смысле: засмотрелся на идущую навстречу красивую девушку и, поскользнувшись на коварном первом ледке, растянулся поперек тротуара, ведущего к институтскому крыльцу.
– Девушка, – нимало не смутившись, обратился он к ней прямо «из-под ног». – Теперь вы просто обязаны компенсировать мне ущерб, нанесенный вашей красотой. Думаю, чашка кофе из прелестных рук исцелит поверженного героя. Кстати, как зовут ту, что низвергла меня оземь, практически как Люцифера с небес?
Вера расхохоталась и согласилась отправиться в ближайшее кафе. Да, ухаживать Виктор умел. В ухаживании ведь что главное? Заболтать – женщины любят ушами. Ну какая устоит, если ей рассказывают про «твои глаза, как горные озера, в которых плещутся тайны» и «я целовал бы каждый след твоих крошечных ножек»? Ну и прочую дребедень в этом духе. Ну и пусть брехня! Ну и что, что Верин тридцать седьмой размер был хотя и не великанским, однако и не крошечным. Но ведь романтично! Как в кино! А то ведь влюбляется каждый второй, а что толку? Тупо пялятся маслеными глазами и ни бе ни ме. А Виктор нежен, галантен и слова красивые говорить умеет. А гитара? А песни проникновенным голосом и взгляды поверх гитарного грифа?
Разумеется, Вера не устояла. Еще и радовалась: надо же, какая удача в жизни подвалила, брак получался не просто выгодный, но еще и по любви. Которая, как это обычно бывает, не замедлила принести свои плоды. Плод то есть. Мать тут же кинулась на помощь, да и родители Виктора, которые были рады-радешеньки и внучонку, и невестке, умнице-красавице, не оставляли заботами. Так что Вере даже академический отпуск брать не пришлось. Только свободное посещение в деканате выбила, но это уж совсем легко было. Она же умница-красавица, весь мир к ее услугам, правда?
Виктор готов был носить жену на руках хоть буквально, хоть в переносном смысле, хоть вместе с ребенком, хоть по отдельности. В сыне он души не чаял с самых первых дней, даже раньше: едва Вера сообщила о своей беременности, он, и так влюбленный по самую маковку, и вовсе начал сдувать с ненаглядной пылинки, провожал в институт, помогал с контрольными и рефератами, закармливал фруктами и вообще готов был исполнить любой каприз. После родов он мгновенно выучился всем премудростям обращения с младенцами, пеленал, разговаривал, пел колыбельные, после работы кидался стирать пеленки. Вере оставалось только учиться.
Красный диплом, неплохая работа, родители помогают – казалось, вот она, обеспеченность, а дальше будет все лучше и лучше, только двигайся, только не спи. Но тут вмешалась Ее Величество История. Первый удар лихих девяностых пришелся по родителям Виктора. Причем удар в буквальном смысле: машину его отца снес с дороги массивный джип одного из новоявленных братков. Верина мать, простудившись на похоронах свата, слегла с тяжелой пневмонией и больше уже не поднялась. Овдовевшая свекровь, погоревав, поплакав, повздыхав о безвременно умершем муже, уехала к родне в Приазовье. Хотела было забрать с собой внука – мол, и мне радость, и молодым полегче, но тут уж Вера встала стеной: справимся, не безрукие.
Справляться оказалось очень и очень непросто.
Без помощи матери и постоянных «вот малышу на фрукты» от родителей Виктора денег вдруг стало катастрофически не хватать даже на самое необходимое. Да и зарплату начали платить с утомительно регулярной нерегулярностью, спасибо еще, что хоть что-то платили. Со всех сторон только и слышалось: тут сокращения, тут половину сотрудников в бессрочные неоплачиваемые отпуска отправили. А уж цены росли с такой скоростью, что и регулярных-то зарплат ни на что не хватало.
– Верочка, ну погляди, сейчас всем трудно, время такое, тяжелое, все так живут. Мы все-таки с голоду не умираем, – успокаивал ее Виктор.
Но Веру ненавистные (как в нищем детстве!) бесконечные макароны приводили в бешенство. Вот за что, за что жизнь такую подлянку подстроила?! Конечно, ясно было, что в итоге все как-то устаканится, но время! Время-то утекает стремительно! Кожа уже не светится юной свежестью (да и какое там свечение, когда питаешься черт знает чем, а спишь вдвое меньше, чем надо бы), в углах глаз намечаются предательские морщинки (пока только у глаз, но это ведь дорога в одну сторону), губы теряют свежесть. Молодость уходит, а с ней – и красота, всегдашний верный помощник и безотказный инструмент. Вера вспоминала рано постаревшую мать и готова была биться головой об стену. Но что толку биться головой, это никогда не решало никаких проблем.
Потом это время вспоминалось Вере как одна сплошная ночь: черный провал кухонного окна, бледная серая пленка на остывшем чае, подтекающий кран – сантехников нет, деталей нет, да и денег на замену тоже не предвидится – сводит с ума неравномерностью падения капель. И бесконечные, как заоконная темнота, мысли: если смириться, если склонить голову перед грядущей старостью – безнадежно нищей старостью! – что будет с сыном? Счастливые дети бывают только у счастливых родителей! Это звучало издевательски, но в самом издевательстве была неподдельная правда.
Виктор бросался в разнообразные авантюры, продавал мифические компьютеры со склада в Челябинске (эту десятитысячную – не кот начихал! – партию компьютеров продавала тогда, кажется, вся Россия), начинал выращивать грибы-вешенки, распространял какие-то дикие таблетки для похудения – в общем, хватался за все подряд. Надежда на успех – ну теперь-то точно повезет! – каждый раз вспыхивала в нем, как тополиный пух, белые июньские сугробы которого так любят поджигать мальчишки, – бурно и кратко. Р-раз, и нет. Пару дней после очередного фиаско Виктор пил – чтобы снять стресс, – потом валялся на диване, обзванивая знакомых на предмет доступного заработка, а после все повторялось. Кое-какие деньги он добывать все же ухитрялся, и вместе с тупой, но непрерывной Вериной работой на самое необходимое все же хватало, с голоду не умирали.
В начале нового тысячелетия стало как будто полегче. Виктор, разочаровавшись в «молодых динамичных компаниях» и идее стремительного обогащения, пристроился на какую-то офисную должность с заработком хоть и невеликим, но стабильным. Эх, пропала жизнь, ни за что пропала, загубили страну и народ загубили, сокрушался он каждую субботу, открывая бутылку. Набравшись, рычал на Веру, мол, если бы не ее придирки, была бы у них нормальная семья. В воскресенье похмелялся, в понедельник с больной головой плелся в свой надоевший офис.
Вера, не особо вслушиваясь в мужнины претензии, потихоньку работала, набиралась опыта, в надежде на лучшее следила за объявлениями о вакансиях, рассылала резюме. Получив приглашение в фирму Андрея – известную, стабильную, надежную, – она поняла: наконец-то. Вот он, шанс. Возможность подняться на другой уровень, достичь если не богатства, то обеспеченности и, быть может, если все сложится удачно, даже расстаться с почти спившимся уже Виктором. Почему она не развелась раньше? Дурацкий вопрос. Развестись-то не проблема, но куда потом деваться с сыном-школьником на руках? Разменивать убогую двушку в панельной девятиэтажке? Смешно. А солидная должность в приличной компании – это возможность обеспечить себе и сыну ту самую независимость.
Ни на что больше Вера, по правде сказать, не рассчитывала. Заводить романы на рабочем месте – это такая пошлость. Хотя – уж перед собой-то можно не врать, – глядя в зеркало, она иногда едва не выла в голос: ведь я ж молодая еще! Мне ж любить хочется! А кого? Этого? Она косилась на сопящего после возлияний мужа. Ведь была же любовь, а? Ведь точно же – была! Куда все подевалось? И что теперь – крест на себе поставить? В тридцать-то с небольшим.
Поэтому сказать, что, отправляясь на новую работу, Вера ни на что не надеялась, не совсем верно. Рассчитывать не рассчитывала, а надеяться ей никто не запрещал. Женщина она или кто? Красивая, между прочим, женщина. Вот только стала уже об этом забывать.
Новая работа – новая жизнь, почему нет?
Она собиралась на первое в этой самой новой жизни совещание так, как не собиралась даже на свадьбу: костюм (единственный по-настоящему приличный, подруга-портниха сшила), самая официальная из всех блузок, классические туфли, свежий маникюр с бесцветным лаком, прическа… с прической было мучение. Вера перебрала чуть не десяток вариантов: зачесывала, закалывала, распускала, перечесывала, укладывала то так, то эдак. Все ей казалось то слишком легкомысленно, то простонародно, то банально, то вульгарно. Даже сын, которому в его подростковом возрасте на все эти тонкости было плевать, и тот удивился:
– Мам, ты на свидание, что ли, собралась?
– Нет, сынок, – Вера чмокнула его в макушку, он привычно увернулся, мол, большой я уже для этих телячьих нежностей, – на работу.
– А чего так наряжаешься? – Он скривился.
Вера вздохнула:
– Работа новая, очень приличная, надо сразу произвести впечатление.
Впечатление она произвела, ничего не скажешь. Народ шушукался и косился так, что в груди ворохнулось давно забытое ощущение собственной неотразимости. Жизнь-то продолжается, вздохнула тихонько Вера, чувствуя, как пересохло вдруг в горле. Глава компании упорно на нее не глядел – вот не глядел, и все тут.
Когда она все же поймала его взгляд – ох, мама моя дорогая! Глаза у него были темно-карие, почти черные, это ж омут какой-то, а не глаза! Как взглянет – под ложечкой сразу сладко и холодно становится. И что тут прикажете делать? К счастью, Андрей Александрович вел себя предельно корректно: «на ковер» не вызывал, не навязывался, вообще как будто забыл о Верином существовании. Только на «паркетах» так же, как в первый раз, упорно на нее не смотрел.
Когда секретарша Ольга сообщила ей о командировке – в Дрезден, подумайте только! – Вера испугалась. Вроде все ясно, и надо бы радоваться, но радоваться почему-то не было сил. Вопреки своему имени она давно уже не верила, что в ее жизни еще будет свет, будет радость, будет любовь. Надеяться – надеялась, но ни любви, ни вере в ее жизни как будто уже не осталось места. А надежда… надежда, как известно, умирает последней.
Перед поездкой Вера не спала почти всю ночь. Только когда в окно начал заглядывать бледный юный рассвет, вдруг пришло решение: ничего не будет. Ни веры, ни любви, ни надежды. Будет легкое, ни к чему не обязывающее командировочное приключение. Маленький праздник. Имеет она право на маленький праздник? Вера приготовилась делать вид, что все в ее жизни в полном порядке, а Дрезден – просто приключение. Она почувствовала себя Одри Хепберн в «Римских каникулах» – и провалилась в сон.
Но принцессу на каникулах изображать не пришлось.
Андрей Александрович был такой милый, такой надежный, такой… свой.
И так трогательно робел, с ума сойти. Весь день они бродили по фантастически прекрасному Дрездену – и хоть бы под руку ее взять попытался! Так и гуляли на пионерском расстоянии. Как школьники, честное слово!
К концу дня у Веры гудели ноги, так что ей даже притворяться не пришлось (ну… почти не пришлось), что нога подвернулась, она действительно подвернулась. От усталости.
Они сидели на теплом поребрике и смеялись, а Вере хотелось плакать. Не потому, что нога болела и уж точно не из-за каблука (хотя туфли были куплены совсем недавно и очень ей нравились), нет-нет. Но ее уже миллион лет никто не утешал. И не помогал. Впрочем, помощь-то ей была, в общем, не нужна, сама привыкла справляться. Но вот чтоб по голове погладили, обняли, да хоть за руку подержали…
Виктор это раньше умел. А потом, когда она стала зарабатывать больше его, как-то сник: зарабатываешь? Ну и отлично. И чего тебе еще? Ах, устаешь? Так сама этого добивалась, достатка тебе хотелось, вот и радуйся.
Вера сидела на поребрике – в самом центре Дрездена, подумать только! – глотала сладкие-пресладкие слезы и улыбалась. Только бы Андрей Александрович не заметил, что у нее глаза на мокром месте! Хотя какой уж тут Александрович, смешно, право слово. Того и гляди на руках в гостиницу понесет!
– Вот стерва! Даже силиконовые гламурные куклы и то безобиднее. У тех хоть мозгов нет, а эта все соображает, и все в свою пользу оборачивает. Мужа себе выбрала – выгодного, не какого-нибудь. Пока достаток был – любила, а как трудные времена настали – подавай ей олигарха. Мерзкая баба! Манипуляторша! – Я не мог сдержать возмущения.
Дьявол смеялся:
– Что, совсем не понравилось?
Я замялся. Вообще-то я не возражал бы досмотреть историю хотя бы до постели. Ну да и так довольно.
– Я так и не понял, я-то тут где?
– Ну так ты еще не все про всех и посмотрел. – Он прищелкнул пальцами и продолжил рассказ.
– Разводитесь? Мам, ты с ума сошла! – Миша швырнул ботинок через всю комнату. – С какой стати переезжать к твоему новому мужу? Да плевать, что там удобнее! Черт бы вас всех побрал с вашими любовями! Ничего, вот будет мне восемнадцать, не удержишь, все равно к отцу вернусь, так и знай!
Переехать «к новому маминому мужу», конечно, пришлось, но первое время Миша с решением матери мириться не желал, злился, скандалил. Он поклялся, что будет приезжать к отцу каждый день, и поначалу соблюдал обещание неукоснительно. Приезжал к нему то после школы, а иногда и даже вместо нее или просто так, в выходной, нередко устраивая из своего отъезда настоящее представление, так что поглядеть сбегалась даже прислуга. Мать успокаивала его, уговаривала, плакала, укоряла за неуважение к новой семье, которое он выказывает совершенно незаслуженно, иногда срывалась на крик. Но Мише было плевать. Он считал дни до своего восемнадцатилетия, до того момента, когда наконец сможет уйти из ненавистного нового дома. Правда, он начал-таки пользоваться техникой, которой была оборудована его комната. В конце-то концов, невозможно ведь жить в информационном вакууме, правда? Да и к университету нужно постепенно готовиться. Значит, нет ничего плохого в том, чтобы включать компьютер, телевизор и все остальное. Отцу от этого хуже не станет. Это был первый шаг к отступлению, хотя в тот момент Миша этого еще не понимал. Или, скорее, не хотел понимать.
Квартиру, подаренную матерью в честь поступления в университет, он принял уже как должное. В самом деле, не из пригорода же ему каждый день на занятия кататься? Да и вообще, у молодого парня должна быть своя собственная жизнь. А какая может быть собственная жизнь без собственного жилья? Ой, вот только не надо указывать на то, что у большинства молодых людей ничего такого нет. Какое ему дело до большинства? Он единственный сын, значит, мать должна позаботиться о том, чтобы у него все было, так? Тем более что именно она разрушила их семью. Любой психолог скажет, что для подростка это страшная травма. Каково Мише без отца расти? Ну да, никто не запрещает его навещать, но это ж совсем другое дело, сплошная нервотрепка. Ну а раз мать не в состоянии обеспечить своему единственному ребенку теплую и уютную семью, значит, пусть хотя бы просто обеспечивает. Материально то есть.
Итак, к восемнадцати годам у Миши было все, о чем мечтает большинство его сверстников: квартира, машина, непрерывный денежный поток, гарантированный безоглядной материнской любовью и тщательно подогреваемый в ней чувством вины, популярность среди ближних и дальних приятелей обоего пола. Парни радостно поддерживали любую Мишину идею – еще бы, финансировал-то развлечения он, не кто-нибудь. Девицы вились вокруг послушными мотыльками, только выбирай.
Голос, поначалу еще всплывавший где-то на задворках сознания – отца-то забросил, а ведь обещал с ним, невзирая ни на что, оставаться, – донимал его негромко и нечасто. Миша легко успокаивал себя тем, что вот позже, когда он закончит университет и уже не будет зависеть от материнской щедрости, когда у него самого будет все, вот тогда он заберет к себе отца и нечего по этому поводу переживать, надо только подождать. Откуда возьмется это «все», Миша как-то не задумывался. У всех берется откуда-то, а он что, лох?
А пока – молодость-то бывает один раз – можно просто наслаждаться жизнью и не портить себе настроение скучными бессмысленными рассуждениями.
А то станешь как свежеобретенная старшая сестрица. Та, что совсем старшая – Анжела. Вроде и красотка, а без слез не взглянешь: на лице три будущие Нобелевские речи нарисованы. Крупным шрифтом. Да будь она хоть вчетверо красивей, от такой любой нормальный парень сбежит без оглядки. Кому понравится зануда с задранным до небес носом?
С чего, спрашивается, столько высокомерия? Ах, лучшая студентка курса, ах, красный диплом уже в кармане, ах, на трех языках свободно изъясняется. Королева ботаников! Притом что поговорить-то с ней не о чем. В ночном клубе ни разу не была, музеи, выставки, кино – сплошь «для узкой аудитории». Глянцевых журналов небось тоже в руках не держала. А там, между прочим – Миша как-то листал от скуки, – правильные вещи пишут: девушка ни в коем случае не должна показывать, что она умнее мужчины (да и с чего бы ей быть умнее-то?), показывать нужно идеальные формы, идеальную кожу и все прочее такое же идеальное. Знать назубок все модные бренды, названия модных фильмов, модные кафе и курорты – именно этим достойные девушки отличаются от всяких колхозниц.
Вот за что этот материн новый муж (у которого, фыркал про себя Миша, кроме денег, никаких больше достоинств и нет) свою Анжелу обожает? Похоже, задался когда-то целью вырастить идеального человека и теперь счастлив, что удалось. Она знает, какой вилочкой полагается есть папайю и чем Кортес отличается от Кортасара. Классику читает! А если не классику, то – Миша сам видел – сборники каких-то юридических документов, статистические отчеты и толстые «экономические» журналы. Вот скажите, будет нормальный человек такое читать?
Да Миша в первые же дни в новой семье понял, что у Анжелы мозги набекрень, и как раз на примере книжек.
Он тогда еще не думал, что останется в этом доме надолго, все планировал сбежать к отцу, так что с новоявленными родственницами общаться не стремился: буркнет «привет», столкнувшись в коридоре, – и привет! Да и сталкиваться особо не приходилось: домище себе отчим отгрохал немаленький, хоть неделями по нему броди.
В библиотеку Миша тогда забрел почти случайно. Но раз уж забрел, почему бы не приглядеть какую-нибудь книжку поувлекательнее? Что-нибудь про звездные корабли, отважных космопроходцев и галактических злодеев – чтобы все бегали с лазерами и в одиночку побеждали целые флотилии космических пиратов. Не то десять минут, не то полчаса он шарил наугад по высоченным, до потолка, стеллажам, но книжки попадались все какие-то неудобочитаемые.
– Привет! Ищешь что-то конкретное? – Тихий голос прозвучал за Мишиной спиной так неожиданно – он едва не свалился с верхней ступеньки библиотечной стремянки.
Эта самая стремянка, кстати, понравилась ему больше всей библиотеки: широкие деревянные ступени, удобные поручни, колесики внизу, чтобы не таскать от стеллажа к стеллажу, а возить, «как белый человек». Вот он и возил. И по верхним полкам шарил не оттого, что рассчитывал именно там найти что-то интересное, а просто ради удовольствия. Почему-то стоя на этой солидной конструкции – ее даже стремянкой было как-то неловко называть, – Миша чувствовал себя таким же солидным и значительным. И вот – здрасьте! Приперлась зануда-сестрица:
– Привет, – буркнул он не оборачиваясь. – Про космос в этом завале есть что-нибудь?
– Разумеется, – тоном завзятого библиотекаря ответила Анжела и указала на стеллаж, который Миша уже проглядывал. – Вот здесь карты звездного неба, справочники, история космонавтики и тому подобное.
– Какие еще справочники? – возмутился он. – Мне нужно про космических пиратов, дальние планеты и все такое.
– А, фантастика! – тем же «библиотекарским», подчеркнуто дружелюбным тоном воскликнула Анжела. – Ты предпочитаешь космическую оперу, затерянные миры или?..
– Какую еще оперу? – перебил Миша. – Это где все поют наперебой, что ли? Чушь какая! Мне бы просто книжку. Почитать. Перед сном. Ферштейн? – Он заподозрил, что занудная сестрица просто решила над ним поиздеваться, и потому начал грубить.
Анжела, не обратив никакого внимания на его выпад, продолжила все так же дружелюбно, но без улыбки:
– К жанру космической оперы относят произведения, где приключения героев происходят в космосе…
– Во-во! – обрадовался Миша. Все-таки эта зануда не издевалась, зря он так решил. – Приключения. В космосе.
Анжела слегка сдвинула брови и потерла кончик носа:
– Ну, классики у нас, конечно, есть. Вон там, – она махнула куда-то в угол, – Берроуз, Азимов, Гаррисон, Гамильтон, «Дюна» гербертовская, Нортон, кажется, хотя я точно не помню. Но самая современная литература, я имею в виду фантастику, боюсь, только в электронном виде. Мы, естественно, покупаем все новинки, но не на бумаге. Библиотека все-таки не резиновая.
Все-таки! Все-таки она над ним издевалась. Перечисленные фамилии ничего Мише не говорили. Может, он просто не помнил? Он вообще не привык обращать внимание на автора. Современная литература, фу-ты ну-ты, как серьезно! Литература – это книжка, от которой не клонит в сон, и какая разница, кто ее написал. Но этой ботаничке такого не понять, слишком просто. Таким занудам надо на все ярлычки повесить, да еще с пятью вывертами и десятью поворотами. И чтоб непременно смысл жизни был. То-то она и не улыбается никогда. Хотя огорчаться этой кукле вроде бы и не с чего. Но, может, ей тоже надоедает быть такой правильной? А как по-другому, она и не знает, откуда? И Мишу стесняется так же, как он ее? Надо бы хоть из вежливости разговор поддержать.
Он плюхнулся в кресло и попытался «поддержать разговор». Но для начала этот самый разговор надо было хотя бы завязать, а о чем с этой куклой можно разговаривать, Миша совершенно не представлял.
Зато «кукла», кажется, не испытывала ни малейших затруднений. Присев в соседнее кресло – на краешек, спина прямая, руки спокойно легли на сомкнутые колени, как на королевском приеме, черт бы ее побрал! – Анжела легко подхватила какую-то Мишину реплику (довольно косноязычную, если честно, чего уж там) и заговорила о картинах:
– Я совсем не специалист в живописи, и вкусы у меня довольно примитивные. Предпочитаю все традиционное. – На этих словах она чуть-чуть, уголком рта, улыбнулась. Или показалось? – Малые голландцы с их натюрмортами, жанровые типа Ватто. Когда просто смотришь и получаешь удовольствие. А тебе что больше нравится?
– Ну… я тоже… чтоб понятно было, что нарисовано. А не то, что тут глаз, тут нога, а посередине вообще не разберешь. Этот, как его, квадрат – ну и чего? Я и сам такой могу нарисовать. И что, все хлопать будут?
– Да. – Она, кажется, опять улыбнулась. – Мне тоже бум вокруг малевичевского «Черного квадрата» и вообще вокруг супрематистов и других абстракционистов кажется сильно раздутым. Ну вот то ли дело… – Анжела потянулась куда-то за спину, выдернула с ближайшего стеллажа – Мише показалось, что наугад, – какую-то здоровенную книгу, привычным движением раскрыла…
Книга оказалась альбомом репродукций, на открытой странице улыбающаяся темноглазая девушка тянулась к виноградной грозди.
– Да, красиво, – протянул Миша. Девушка на картине действительно была очень даже ничего. Хотя сегодняшние девицы наверняка сказали бы, что она толстая. И ничего и не толстая. Такая вся… аппетитная.
– У Брюллова весь итальянский цикл как будто светится, столько в нем солнца, – дружелюбно сообщила Анжела. – Ведь правда?
– Ага, здорово, – согласился он.
– Но мне кажется, для русской живописи это скорее исключение, – продолжала она рассуждать, сама, кажется, потихоньку этими рассуждениями все больше увлекаясь. – Ужасно непатриотично, но я наших художников не очень люблю. Они, конечно, гениальные, кто бы спорил, но мрачноватые, ты не находишь? – Она показала Мише еще несколько репродукций, вероятно, для иллюстрации своей точки зрения. – Ну, кроме пейзажистов, конечно.
Анжела еще пораскрывала альбом в разных местах, Миша согласно кивал: на открытых страницах было что-то серо-коричневое и совсем неинтересное.
– Вот даже странно, – не унималась Анжела. – Европейские импрессионисты и наши передвижники творили примерно в одно время. Но у тех даже краски, кажется, светятся, а наши как будто специально грязь разводят. И ведь это не отдельные художники, это целые направления, этапы в истории живописи. – Анжела нахмурилась. – Непонятно.
Миша кивал, стараясь подавить зевоту. Девушка, должно быть, заметила, что он скучает, потому что прервала сама себя:
– Но ты ведь книгу хотел выбрать. Кого бы ты предпочел?
Опасаясь еще одной лекции – теперь уже на тему жанров, видов и этапов в истории фантастической литературы, – Миша схватил первую попавшуюся книжку с указанной полки и сбежал, буркнув что-то вроде «мне надо». Ну а что? Может он в туалет захотеть?
Книжку он собирался потом тихонечко вернуть на место, будучи абсолютно уверен, что ему железно подсунули какую-нибудь зевотную тягомотину. Но «Стальная Крыса» какого-то Гаррисона (вроде Анжела его даже упоминала?) ему неожиданно понравилась. Полночи он веселился, читая про авантюры межпланетного жулика, и даже решил, что надо бы запомнить автора. Да и с этой ботаничкой Анжелой надо, пожалуй, еще попытаться наладить контакт. Может, и не полная она зануда, и не всегда такие лекции закатывает, что челюсть от зевоты сводит.
Однако пару месяцев спустя Миша окончательно оставил попытки «наладить контакт». Анжела, когда он к ней обращался, вежливо старалась поддержать разговор, но уже через пару-тройку фраз он переставал понимать, о чем она вообще говорит, и, кроме «ага» и «угу», ничего ответить не мог. Самой Анжеле тоже, видимо, вскоре надоело распинаться в пустоту, и вместо попыток «поддерживать разговор» (какой уж тут разговор, когда один сплошной монолог выходит) она бросала «добрый день» или «привет» и ускользала. Впрочем, Миша совсем не возражал против такого расклада, хотя и сам на себя удивлялся. Кто бы мог подумать, что он будет убегать от красивой (очень и очень красивой, если честно) девчонки, как черт от ладана. Вот как, скажите, с такой внешностью можно вырасти такой занудой?
Хотя, конечно, это только для дряхлых пенсионеров пять лет – тьфу и растереть, а в молодости разница в пять лет – пропасть, но не совсем же он, Миша, зеленый безмозглый пацан?
Разгадать, что это за фигня перед глазами и откуда вообще такое может быть, удалось примерно через год. Зануда Анжела просто была идеально воспитанной дочерью. Отец – в смысле Мишин отчим – создавал из нее какую-то супергерлу, старательно впихивая знания и навыки из всех мыслимых и немыслимых областей. Анжела разбиралась не только в литературе и живописи – это-то Миша выяснил еще с первого разговора. Математика, история, биология, медицина, бухгалтерское дело, римское право, социология, черт бы ее побрал! Для нее не было проблемой оказать первую помощь – Миша убедился в этом, когда ухитрился как-то очень неудачно подвернуть ногу, а Анжела легко и сноровисто вправила вывих, – написать бизнес-план или сделать сальто. Она недурно играла на рояле, назубок знала тонкости этикета, и Миша не удивился бы, если бы обнаружилось, что в ее арсенале еще и навыки снайпера вкупе с черным поясом по какому-нибудь «до».
Возможно, будь Миша постарше, он бы понял, что по-настоящему хорошо Анжела разбирается в экономике и в основах юриспруденции, ну, пожалуй, еще в литературе и музыке. Все остальные же знания и навыки вполне укладываются в формулу «необходимый культурный багаж». Но Миша всю свою, хоть и невеликую пока, жизнь старался не отягощать голову лишними знаниями, поэтому образованность новоявленной сестрицы казалась ему не только неправдоподобной, но почти неприличной. Неприятной – уж точно! Буквально до тошноты. Ведь все, что Анжела делала, она делала – правильно. С ума сойти! Это ж не живой человек, это какой-то андроид (Миша только что прочитал Азимова и был несколько под впечатлением)!
А самое ужасное – Миша при этой мысли ежился, точно ему за шиворот сосульку сунули, – она ведь даже не пытается сопротивляться тому, что отец лепит из нее идеального человека, наоборот, искренне наслаждается своей правильностью! Если, конечно, она вообще способна чем-то наслаждаться, тем более искренне. Да рядом с ней кипяток замерзать должен!
Младшая из сестер – Настя – была совсем другая. Не старалась тоннами поглощать знания, не стремилась куда-то карабкаться, не пыталась быть совершенством. Просто плыла по течению, уверенная: кривая, которую зовут судьбой, куда-нибудь в итоге да выведет, вот тогда и поглядим, а пока можно радоваться жизни, благо денег у отца хватает. А если судьба никуда не выведет, значит, тем более можно ни о чем не задумываться, а просто получать удовольствие.
Настя, впрочем, дома бывала редко, так что Миша с ней почти не сталкивался. Поначалу даже считал, что она и живет где-то на стороне – не то в отдельной квартире, не то у кого-то из приятелей. У нее, конечно, была в доме своя комната, но Мише казалось, что это так, для порядка, а на самом деле Настя в ней даже не ночует. Впрочем, если уж говорить о «на самом деле», то на самом деле Миша об этом даже не задумывался. Хотя и невозможно, конечно, жить с человеком в одном доме – даже если видишь этого человека раз в неделю – и совсем ничего не знать о его привычках. Поэтому что-то он, разумеется, замечал. Но ему было наплевать.
До поры до времени.
Как-то раз мать остановила его в коридоре:
– Отыщи Настю, пожалуйста! Телефон у нее вне зоны доступа, опять, должно быть, зарядить забыла. Передай, что отец хочет с ней поговорить.
– Так, может, она и не дома? – пожал плечами Миша. – Я вообще-то в город собирался. Мне там надо…
Мать покачала головой:
– Найди ее, потом поедешь? Ладно? – Мать просительно потрепала его по плечу. – Она точно должна быть где-то дома. Или в крайнем случае по окрестностям гуляет. Отыщешь?
Миша лениво кивнул и сразу направился в сторону внешнего гаража.
Один гараж, как полагается, примыкал к дому. В саду, почти у границы участка разместился еще один, так называемый внешний – отчим любил машины. Просторный, с несколькими закоулками – не то кладовками, не то запланированными, но так толком и не оборудованными мастерскими.
Дежурная лампочка освещала лишь самую середину. Миша не помнил, где тут еще выключатели, и начал обходить помещение, подсвечивая себе телефоном. Не то чтобы ему действительно так уж хотелось отыскать сестрицу, но, раз уж все равно сюда пришел, надо проверить. Для очистки совести. А матери потом можно сказать, что не нашел.
– Эй, есть тут кто? – крикнул он в темноту, искренне надеясь, что ответит ему только эхо.
В одном из закоулков что-то грохнуло. Миша посветил в сторону звука – в углу кто-то был.
– Ты тут? – довольно глупо спросил он, подходя ближе. Настя, сжавшись в комок, сидела прямо на полу. – Ты чего тут делаешь?
– Отвали, мелкий, – огрызнулась она, пряча правую руку за спину. – Ты-то чего здесь забыл?
– Тебя отец ищет, – буркнул Миша. – Поговорить хочет. Мать меня послала, у тебя телефон вне доступа.
– А! – Настя махнула левой рукой. – Я его утопила. Ну чего вытаращился? В сортир уронила. Да фигня, высохнет – заработает. Проверено. Он у меня неубиваемый. – Она с минуту помолчала. – Слышь, а давай ты скажешь, что меня не нашел? Ну никаких сил нет сейчас в этих терках участвовать, ведь каждый раз одно и то же. Опять будет есть мне мозг на тему «вести себя прилично, учиться, не позорить семью». Тоска!
– Почему бы тебе самой ему не сказать, чтоб отстал? – Мише совершенно не хотелось влезать в чужие разборки. Ну кто ему эта Настя? Ну пусть она не такая зануда, как старшая, и вообще вроде бы на человека похожа, но ему-то что за дело?
– Я, что ли, не говорю? – фыркнула девушка. – Так и долбимся: он мне про хорошее поведение, я ему про отвали. Ну не доходит до него. Это он в бизнесе у-у-умный, а по жизни дурак дураком. – Настя хихикнула, подмигнула и вытащила из-за спины спрятанную руку. В руке, между пальцами которой дымилась длинная тонкая сигарета, была зажата довольно большая плоская фляжка.
– Что это? – насторожился Миша.
– Виски, что ж еще! – подмигнула Настя. – Пятьдесят семь оборотов, жидкий огонь, не хухры-мухры. Чтоб жить стало легче, жить стало веселее! Хочешь?
– Давай, – согласился Миша. Он пробовал алкоголь не впервые, конечно, хотя ему не слишком нравилось, пример отца не радовал. Но выражение «жидкий огонь» заинтересовало, да и слабаком перед сводной сестрицей выглядеть не хотелось. – А почему ты здесь? Не боишься, что засекут? – Он плюхнулся рядом и взял фляжку.
– Ой, ну засекут, и что они сделают? – Настя махнула рукой. – Наорут? Мозги промоют? Тоже мне! Так и так орут и мозг компостируют чуть не каждый день. Ну и какая разница? Фигня делов, ничего страшного. – Она рассмеялась, глядя, как Миша, хлебнув из фляги, закашлялся. – Дай сюда, неумеха! Первый раз приличный напиток пробуешь, что ли? Гляди!
Настя отобрала у него флягу и, отхлебнув, демонстративно прополоскала им горло, прежде чем проглотить:
– Слышь, мелкий, тебя самого-то искать не станут?
Миша пожал плечами:
– Да я матери сказал, что в город собираюсь, ну она говорит, найди ее, тебя то есть, потом поедешь.
– Ну тады нормуль, – кивнула Настя. – Телефон только выключи, вроде как будто у тебя батарейка села.
Они просидели до глубокой ночи, покуривая и болтая обо всем подряд. Хотя Мише казалось, что, если бы его тут не было, Настя говорила бы то же самое, обращаясь к потолку:
– Понимаешь, он ведь только и знает, что деньги зарабатывать, да еще считает, что это черт знает как круто. Ну типа раз он сам всего добился, теперь у него и бабло, и власть какая-никакая, и значит, он терминатор, а мы все амебы. Ну и типа он нами всеми рулит, потому что амебы сами ж ни на что не годятся, да? Из нас с Анжелкой он еще, когда мы мелкие были, начал чего-то эдакое лепить. Типа если нами не управлять, из нас ничего и не выйдет. Смешно! Из него ведь вышло. Ну Анжелке такие мысли в голову не приходят, а я сразу уперлась. Какая-никакая жизнь, а моя, сечешь? Ну дык и вся любовь у папули на Анжелку переключилась.
– Бред какой-то, – фыркнул Миша. – Разве можно любить меньше из-за того, что ребенок не слушается?
– О-о! Ну ты наивняк! – расхохоталась Настя. – Да только так и любят! Не только детей, мать вон нашу… не, маман вообще та еще овца была, таких тараканов, как у нее, поискать, и, в общем, туда ей и дорога, но суть не в том. Папуля ж сколько хошь бабла готов был ей отсыпать, чтоб сиськи подтянуть, морду и вообще причепуриться. Только ей-то это все было параллельно, ей надо было на толстой попе ровно сидеть, и отвалите все. Ну и начала огрызаться, хоть из дому беги. А! – Настя дернула плечом, словно комара отгоняла. – Потом хвать-похвать, а поезд уже тю-тю, папуля уже сквозь нее смотрел. Вот не по нему – и адью!
Миша задумался:
– Наверное, моя мать такая же. Она отца пилила-пилила, что денег не зарабатывает. А он не мало зарабатывал… ну, то есть, наверное, мало, я точно не знаю… но не все же могут! Он нас любил, как сумасшедший! И сейчас любит! А ей одной любви мало было!
Настя неожиданно приобняла его и погладила по голове. Мише вдруг стало удивительно спокойно. Вот ведь, нашелся человек, который не осуждает, не толкает к свершениям, не пытается переделать, а просто позволяет быть таким, какой он есть.
– Насть, я… – Он хотел сказать сестре что-нибудь теплое, но вместо этого жалобно признался: – Я дико жрать хочу, и глаза слипаются…
– Эк тебя разобрало, – рассмеялась она. – Ладно, потопали уже, ограбим слегка кухню.
На следующий день Настя бесцеремонно ввалилась к нему в комнату, заявив, что вечером собирается в клуб, где всегда можно добыть хорошую травку, и, так уж и быть, может прихватить с собой и его. Миша этому «так уж и быть» слегка удивился, потому что ни о чем таком вроде бы не просил – или у него вчера память отшибло? – да и клубы его не слишком привлекали, пока что он еще старался почаще навещать отца, но…
Вот именно – но. С ночи помнилось то удивительно теплое чувство: я не один, вот человек, который меня понимает и принимает. Это дорогого стоило. Уж как минимум того, чтобы отправиться с «понимающим человеком» в клуб. Так что согласился он, даже не раздумывая. Но, уж конечно, не из-за травки. По правде сказать, насмотревшись уже на то, как отец под действием алкоголя постепенно превращается в не слишком вменяемое, пугающе чужое существо, Миша опасался и наркотиков, даже легких, и выпивки. Но ведь можно же ходить по клубам и обходиться без этих стимуляторов? Ведь можно? В самих-то развлечениях ведь нет ничего дурного?
Впрочем, довольно быстро обнаружилось, что бокал коктейля или косячок отлично избавляют от мучительных мыслей и внутренних метаний между отцом и матерью. Оказалось, что совершенно не обязательно между ними выбирать. Можно и не выбирать, можно быть самому по себе. Весело и приятно.
Настя вон не заморачивается ни из-за отцовских попыток ее воспитать, ни из-за родительского развода, ни из-за того, что у нее теперь мачеха – подумаешь, проблема! Про Мишину мать говорит, что она «ничего, нормальная тетка, а впрочем, все по фигу, пока есть возможность из дома сваливать, лишь бы не запирали».
Вот бы мне такую легкость, думал Миша, с восхищением глядя на веселый пофигизм сводной сестры. И ведь, что самое важное, легкомыслие вовсе не означает глупость! Кем-кем, а дурочкой Настю точно не назовешь.
– Брось ты уже над папочкой своим трястись, как клуша над тухлым яйцом, – говорила Настя, когда, маясь после очередной пьянки головной болью, Миша начинал себя казнить за равнодушие к отцу, за нарушенные обещания, практически предательство (почему-то мрачные самоуничижительные мысли посещали лишь с похмелья, словно бы головная боль открывала для них специальную дверцу). – Ему-то на тебя насрать.
– Он меня любит! – злился поначалу Миша. – Я же помню, как он со мной всегда возился!
– Ну и возился, это ж пока ты мелкий был, – объяснила Настя. – Как с куклой. Типа мое продолжение и все такое. Мой папуля вон тоже, пока мелкие были, с нами обеими возился, это мамахен сразу на Анжелке почему-то сосредоточилась. А папуля сперва разницы не делал, это уж когда подросли и стало ясно, что Анжелка – деловая колбаса, вся в него, а я попрыгунья-стрекоза, ни в мать, ни в отца, ни в проезжего молодца. Ну папуля тогда тоже на нее весь переключился, а меня побоку. И твой такой же, на черта ты ему сдался. Мать твою любит до сих пор, потому и бухает без перерыва. А может, и ее не любит, а просто в обиде, что его кинули. Проигрывать никому не в кайф.
– Но я же так ничем ему и не помог, – сокрушался Миша. – Если бы я, как обещал, переехал к нему, помог пить бросить, он работал бы, человеком бы себя чувствовал…
– Мелкий ты, – снисходительно трепала его по голове Настя. – Наивный. Пить бы он от твоих уговоров бросил, ага три раза! Или скорее уж тебя бы грохнул, когда ты между ним и бутылкой встал бы. Бемц сковородкой по башке – и нет Мишеньки. Твоему папаше, братец, не пять лет, он вообще-то большой дяденька. И свою жизнь себе сам выбрал. Понял, Микки? – Она почти сразу начала называть его Микки, а он не возражал, даже не спрашивал, почему это, ну, Микки так Микки, прикольно.
Чем дальше, тем больше правды виделось Мише в словах легкомысленной, но совсем даже не глупой Насти. И тем больше находилось причин, чтобы отложить очередной визит к тому, кого еще совсем недавно он считал самым важным для себя человеком.
Тот, кто хочет что-то сделать, – ищет способ, кто не хочет – причину. Миша не знал этой поговорки, а и знал бы – что бы изменилось?
Скучал ли он по отцу? О да! Но скучал по тому доброму, веселому, заботливому папе, который читал ему книжки, рассказывал о первых космонавтах и объяснял непонятные параграфы по физике. Этот же, сегодняшний, с мутными глазами и мятым серым лицом, казался чужим. Он то кидался к Мише с пьяными поцелуями, то бычился угрюмо: «Продал отца, щенок! Такой же, как мамаша твоя! И тебя купили за тридцать сребреников!» Правда, со сковородкой пока еще не кидался, но, как ни крути, Настя была права.
Ее мир, легкий, веселый, бездумный, был куда привлекательнее. Тем более что пока был не слишком доступен. Ну раз, ну два раза в неделю можно заявить «отца поеду навещу». Но не каждый же день. Ничего, мечтал Миша, вот поступлю в университет, начну жить отдельно, тогда и повеселюсь как следует. О данном отцу обещании «переселиться к нему, как только стукнет восемнадцать» он старался не вспоминать. В конце концов, отец и в самом деле взрослый уже дяденька и давно вырос из того возраста, когда его надо за ручку водить. А до старческой беспомощности еще не дорос. Так что отцовская жизнь – это его выбор, а Миша тут совершенно ни при чем. Права Настюха, ох, как права.
Временами, обычно после расставания с очередным бойфрендом – да ну его в пень, опять придурок попался! – на сводную Мишину сестренку нападала мрачность. Точно забыв о роли заводилы и центра вселенной, которую она играла на любой тусовке, Настя забивалась в самый темный угол в очередном клубе и угрюмо пялилась в ближайшую стену. Миша, щурясь от слепящих сполохов цветомузыки, отыскивал сестру – в левой руке неизменный стакан с коктейлем, в правой столь же неизменная сигарета, – обнимал, гладил по голове и чувствовал, как сердце сжимается от жалости. Настя взглядывала на него глазами потерявшегося ребенка, прижималась, точно прячась от чего-то, и говорила, говорила, говорила.
С детства чувствуя себя «вечно второй», она пыталась бороться за внимание родителей любыми способами. А раз нет возможности переиграть старшую сестру в «хорошести», значит, надо быть плохой. Самой плохой. Раз не получается вызывать восхищение, значит, будем вызывать досаду. Все лучше, чем безразличие.
Изначальная задача – борьба за родительское внимание – за безуспешностью попыток как-то подзабылась. Чем хуже, тем лучше – стало самоцелью, постепенно превратив Настю в сущую оторву. Она куролесила на ночных улицах с байкерскими компаниями, зависала в клубах, пробовала разнообразные «вещества» и столь же разнообразных, сколь и случайных мужчин. Ночевки в «обезьяннике» (подумаешь, папуле опять придется раскошелиться!), фотографии на грани пристойности, пьяные выходки и, разумеется, множащиеся лавиной слухи, которых было в десять раз больше, чем реальных происшествий. Как оно всегда и бывает.
Насте было наплевать, правду о ней рассказывают или врут. Ей нравилось злить отца. Тяжелых наркотиков она, впрочем, избегала. Слишком рано ощутив одиночество и собственную никому не нужность, Настя панически боялась любой зависимости. Главное в жизни – никого и ничего не любить, ни к кому и ни к чему не привязываться. Временами она даже сбегала на пару-тройку дней в какой-нибудь санаторий поглуше: без выпивки, без мужчин, даже без сигарет – просто чтобы убедиться, что ни одна из этих потребностей еще не стала неодолимой, не превратилась в удушающую петлю.
Почему отец не запер ее, не отправил в какую-нибудь закрытую школу или лечебницу в какой-нибудь Англии или Швейцарии? Трудно сказать. Быть может, чувствовал свою вину? Или, как в бизнесе, списал младшую дочь со счетов, как издержки производства? А может, надеялся: перебесится – образумится? Или все сразу. Деньги давал без возражений (точнее, выделил пару личных счетов «на разграбление»), адвокатов предоставлял, когда она влипала в очередную историю, временами пытался «воздействовать на мозг» – чего же больше?
Да и Настя вроде бы большего не ждала. А что тоска временами нападает, так ведь нечасто и ненадолго. Ах, жизнь проходит? Да идите к черту, жизнь вообще дорога в один конец, болезнь со стопроцентно летальным исходом. Так было бы из-за чего беспокоиться. Еще пара коктейлей да косячок позабористее – и тоску как рукой снимет, проверено.
После одного особенно буйного загула Миша, продрав глаза, обнаружил себя в незнакомой квартире. Оно бы и ничего, такое уже случалось, у Насти была масса знакомых, у которых можно было заночевать, но… Такое, да не такое. Рядом спала Настя. Без ничего. Ч-ч-черт! Миша знал, что Настя предпочитает спать голышом: она не раз о том говорила. Но – в одной постели?! И на нем самом – он нервно сглотнул – одежды не больше. То есть ноль.
Стоя под душем в обшарпанной, с ржавыми потеками ванне, Миша мучительно пытался вспомнить: было что-то? не было? Ч-ч-черт! Докатился! Строго-то говоря, Настя ему, конечно, не сестра, даже вообще не родственница, так что вроде бы, даже если что-то и было, ничего в этом особенно ужасного, наверное, и нет. Но это – «строго говоря». В мыслях-то он о ней иначе как о сестре никогда не думал. Мерзость! Мерзость.
Пора завязывать, короче.
– Чем дальше в лес, тем толще партизаны, – констатировал я, стараясь не глядеть на ухмыляющегося дьявола.
– А что это ты так встрепенулся-то? Прям дева невинная. Монашка посреди борделя, – издевался он. – Даже до самого интересного не досмотрел.
– Куда уж интереснее. – Меня передернуло. – Жуткая семейка.
– Да ладно тебе, жуткая. – Дьявол скептически хмыкнул. – Семейка как семейка. Думаешь, хоть у кого-то хоть где-то хоть что-то по-другому? Снаружи-то у всех все всегда, ну почти всегда, прилично, а по углам-то, по углам-то – все шкафы, и в каждом, только приоткрой – скелет скалится.
– Тьфу, гадость какая. – Мне и в самом деле было тошно.
– Экий ты высокоморальный, однако. – Он удивленно, а может, снисходительно покачал головой. – Такого слова, как «милосердие», похоже, в жизни ни разу не слышал.
– К кому милосердие-то? – изумился я. – К вот этим вот гадам?
– Гадам? – Дьявол аж в ладоши прихлопнул. – Ну ты даешь! Ну не ангелы, да. Ну так ангелам-то милосердие без надобности, знаешь ли. – Он постучал по стакану ногтем. Звук был звонким, точно ноготь выковали из металла. Хотя… может, и выковали, кто их тут знает.
– Ты же дьявол, тебе положено быть злым, – подумав, указал я на очевидное несоответствие. – А ты о милосердии говоришь.
– Положено? – Он откровенно веселился над моими репликами. – Кем это, с позволения сказать, положено? Твои стереотипы просто умилительны. Гадам, видите ли, это надо же такое придумать. Людям, мой юный друг. Людям. Один из которых, кстати сказать, ты сам. Не вспомнил – кто?
Я помотал головой:
– Может, все-таки Миша? Или Мишин отец?
– Ну вот, я же говорю, что до самого интересного не досмотрел.
Ухмыльнувшись еще шире, он щелкнул пальцами…
– Так, значит, не переедешь? – с непонятной интонацией спросил отец. – Мы же собирались…
– Ну да, я обещал. – Миша нервно расхаживал по изрядно захламленной комнате, морщась от неаппетитного хруста под ногами, черт его знает, что там валялось. – Но я теперь… видишь? – Он поболтал кольцом с ключами. – Тоже не бездомный. Мать квартиру к совершеннолетию купила, чтоб в университет ближе было ездить. И машину обещала, если первый курс хорошо закончу. И так даже лучше, правда? Я теперь часто смогу заходить. И деньги. Я и тебе смогу как следует помогать.
– Да иди ты!.. – Отец выругался. – На черта мне деньги этого урода? Пусть в задницу себе засунет! – Он хрипло засмеялся, вытащил откуда-то из-под кресла бутылку, хлебнул прямо из горла, сильно двигая щетинистым кадыком.
Водка явно была из самых дешевых. Ой, только бы не паленая, привычно подумал Миша и продолжал, не обращая внимания на отцовские возражения:
– Так это же не его, это же мои деньги! Какая разница, откуда они у меня. А тебе нужно. И ремонт тут давно пора сделать, и нанять кого-нибудь, чтобы чистоту наводить, и телевизор чтоб хороший, чтоб, когда ты без работы, тоска не заедала. – Он говорил быстро-быстро, не особо вдумываясь в слова. Ведь, наверное, если накидать аргументов побольше, можно убедить… На мгновение ему показалось, что он убеждает не отца, а самого себя. Но подумаешь! Главное, такой симпатичный план действий! Ну правда, нормальный же план!
Потому что отец – он, конечно, отец, но представить, что нужно переселиться вот сюда… Миша невольно вздрогнул, отодвигаясь от ободранного заляпанного косяка кухонной двери. В раковине громоздилась гора посуды, которую пора было уже не мыть, а брить – так пышно кустилась на ней плесень. На потолке над посудным натюрмортом (вот уж воистину – «мертвая природа») вольготно разлеглось рыжее крокодилоподобное пятно от старой протечки. Миша помнил «крокодила» с детства. Разинутая пасть была нацелена на болтавшуюся посередине сероватого потолка лампочку, и зимними вечерами он придумывал, как крокодил наползет на лампочку, сглотнет… Мать вскрикнет в навалившейся темноте, отец, наткнувшись на какой-нибудь угол, загремит кастрюлями, из черного окна потянется ледяной сквозняк… А он, Миша, лихо запрыгнув на чахлый кухонный диванчик, заставит крокодила выпустить лампочку, и кухню опять зальет теплый желтый свет, зима отпрыгнет от окна, утянет из их дома холодные когтистые щупальца… А убивать крокодила он не будет, пусть живет себе на потолке, он же не виноват, что тут появился, да? Он, может, в Африку хочет, а его посадили на грязный потолок, сиди и не рыпайся. Оставалось придумать, как заставить зубастого выпустить лампочку – да и достанет ли Мишиного росточка, чтоб дотянуться с хлипкого диванчика до крокодильского брюха? – но тут Миша обычно засыпал.
Крокодил за эти годы как будто тоже постарел, поседел, а может, и вовсе помер. Пахло, во всяком случае, чем-то дохлым. Запах лежал в облезлой кухонной коробке сплошным душным слоем, как старое толстое ватное одеяло, из которого во все стороны вылезают вонючие и даже как будто липкие серые клочья. Ну должен же где-то быть просто воздух?
– Чего нос-то кривишь? – Отец поддернул сваливавшуюся с худого плеча майку.
Миша рванул язычок молнии на едва не свалившейся с плеча сумке. Застежку, конечно, заело. Вот почему даже на самых дорогих сумках молнии заедает? Ну же! После нескольких лихорадочных рывков сумка наконец разинула пасть. Дыша через раз – странно, раньше вроде у отца в квартире так не воняло, – Миша вытащил из сумки два хрустящих пакета. Футболки он купил только сегодня. Настя, которая зачем-то поперлась его провожать и даже обещала дождаться, ткнула пальцем в витрину фирменного магазинчика: глянь, тебе пойдет. Футболки были черные, на одной вздыбился мотоцикл с огненными крыльями, на другой скалились друг на друга два ягуара – животное и автомобиль.
Футболки Мише нравились очень. А, ладно!
– Пап, возьми. – Он с треском вскрыл один из пакетов, выдернул майку (оказалась с мотоциклом), развернул, помахал в воздухе, демонстрируя, и сунул отцу вместе с другим пакетом через облезлую глыбу кухонного стола. Отец принял подарок осторожно, неуверенно, как будто недоумевая: что это? Помял в пальцах, зачем-то даже понюхал, нахмурился… и, внезапно решившись, натянул прямо поверх драной своей одежки. Одернул, приосанился, погладил себя по черному хлопковому плечу, подумал с минуту и, просветлев лицом, протиснулся мимо стола, мимо Миши. Убежал в комнату любоваться в зеркало на шифоньерной двери. Шкаф был старый, зеркало уже несколько помутнело, но других в квартире не было. То, что висело в ванной, должно быть, пало жертвой одного из приступов алкогольного гнева. Интересно, как же он бреется, думал Миша, когда споласкивал руки над раковиной.
– Сынок. – Вернувшись на кухню, отец обнял его.
– Пап, ты старую-то снял бы, – слегка отодвинулся Миша. – А то топорщится. А так очень тебе идет. И стиральную машину я тебе куплю, чтоб руками не стирать, ладно?
Не спрашивая, отец разлил водку по двум стаканам, один сунул Мише:
– Ну, давай! Подарок-то обмыть надо. – Он хрипло засмеялся. – Ты ведь ночевать-то останешься? – уже совсем ласково спросил отец. – Посидели бы, как два мужика. Нормально, че?
Миша осторожно поднес стакан к губам. Водка почему-то воняла химией.
– Пап, меня ждут, я не могу.
– Подружка, что ли? – Отец одним глотком выпил свою порцию и криво подмигнул. – Так зови ее сюда. Да ты не думай, я на диване постелю, сам в маленькой комнате лягу. Ты ж взрослый уже, подружку-то потискать хочется, а? В меня пошел! Давай, давай, зови сюда свою подружку, места навалом, есть где с девкой поваляться. Диванчик-то крепкий еще!
Колючие пружины под грязной обивкой, желто-серые простыни, пьяный отцовский храп за тонкой стенкой. Что может быть лучше для соблазнения «подружки»?
– Не, не подружка, сестренка, – автоматически ответил Миша и мгновенно понял, какого дурака свалял.
– Сестрё-о-онка? – угрожающе процедил отец. – Родственнички у тебя теперь, значит? Новая семья, да? А от отца родного тряпками откупаешься? Майка моя тебе не нравится? Стиральную машину он мне купит, поглядите! Отец ему грязный! Забери свои тряпки! – Он содрал с себя «мотоциклетную» футболку и вместе с нераспакованным пакетом швырнул в Мишину сторону. Пакет улетел в прихожую, майка уныло повисла на краю кухонного стола. – Мне и мои хороши! Лучше бы водки ящик припер, чем на всякое дерьмо деньги выкидывать! Майка ему не нравится! Может, и я не нравлюсь?
– Пап, ты чего?
– Я чего? Это я – чего? Да ты… Да я… Я тебя родил! Я тебя воспитывал! Значит, когда на загривке катал и мороженки покупал, папочка был хорош, а теперь не нравится?! Теперь тебе не мороженки, теперь тебе покруче надо! Машину обещали ему! Квартиру купили! Тебя самого купили, ты… Щенок неблагодарный! Ненавижу вас всех!
Миша попятился, нашарил за спиной входную дверь – сумка, к счастью, так и висела на плече, можно не делать лишних движений.
Подбирать брошенные футболки он, конечно, не стал, гадко было.
Не рискнув дожидаться лифта, бегом – точно отец мог за ним гнаться – ссыпался по лестнице. Впрочем, сообразил он этажа через три, какой уж там лифт. На месте кнопки вызова на отцовском девятом чернело выжженное пятно – местные пацаны развлекались. Миша вспомнил, как совсем недавно – ну, может, лет пять всего назад – и сам развлекался подобным образом. И сейчас мог бы. Поджигал бы лифтовые кнопки, на пару с отцом глушил вонючую дешевую водку, громыхая мутными стаканами по липкому кухонному столу, орал бы: «Ненавижу!» Ненавижу!
Вылетев из подъезда, Миша едва не сшиб маленькую сухонькую старушку в бирюзовом тренировочном костюме (размеров на шесть больше, чем надо!) и драных шлепанцах на босу ногу. Голова старушки была туго повязана платочком: по черному полю – белые черепа и желтые ромашки. Красота!
– Ой, Мишенька! – защебетала старушка. – Какой же ты большой стал! Красивый! Мама-то здорова ли?
Миша буркнул что-то утвердительное. Старушку он не помнил. Совсем. Где вы видели, чтоб мальчишки замечали старушек – пока те не слишком докапываются?
– Ну и слава богу, – продолжала щебетать старушка. – Дай вам всем бог счастья! Сколько намыкались-то! Ты небось, Мишенька, к отцу заходил?
Он кивнул. Вот прямо взять и уйти было как-то неловко.
– Добрый ты мальчик. А и брось ты его, брось, не ходи! Отца-то навестить – благое дело, да ведь он-то, ирод, не оценит. Да и погубит тебя, ой, погубит! Совсем ведь с катушек уже скопытился, мы тут все стоном от него кричим. Как нажрется, бездельник, водяры своей, как почнет из окна дрянь всякую швырять – у-у-у! На той неделе Масика моего едва не зашиб, паскудник!
К левой ноге в бирюзовых тренировочных штанах жался косматый песик невнятной породы. Видимо, Масик.
– Убью, щенок! Продал отца! – донеслось сверху.
Миша и старушка синхронно вскинули головы: Виктор торчал в кухонном окне, размахивая чем-то кривым, черным и, похоже, тяжелым.
– Это ж он, стервец, решетку с кухонной плиты снял, сейчас швыряться начнет. Он больше-то с той стороны швыряется – там внизу асфальт, нравится ему, как громыхает. А с этой стороны до асфальта еще добросить надо… Ох, не ровен час, зашибет кого! Да еще не раскурочил бы плиту-то напрочь, ведь весь дом подвзорвет! Иди, Мишенька, пока он тебя не углядел, может, затихнет еще. Иди, милый, вон влево потихонечку. Маме-то привет от Степановны передавай, хорошая у тебя мама-то, вон какого сыночка вырастила. Иди, иди.
За спиной грохнуло. Видимо, отец все-таки дошвырнул чугунную решетку до линии асфальта.
Обогнув соседний дом, Миша крадучись – окна второй комнаты выходили на эту сторону, старушка как раз про них говорила – дошел до кафе, где обещала ждать его Настя.
Она сидела в углу боковой террасы, задумчиво таская из пакета орешки. Рядом стоял квадратный стакан с толстенным дном – такие полагаются для виски, это Миша уже давно выучил. Виски было довольно много, почти половина стакана.
– Эй, ты чего такой зеленый, как будто тебя жабами накормили? Он тебя выгнал, что ли?
– Сам ушел, – едва сумел выдавить Миша, помотав головой.
Вместо сочувственных фраз или боже упаси реплик в духе «я же предупреждала» Настя довольно безразлично кивнула на Мишину сумку:
– Застегни.
Миша послушно застегнул сумку. Футболок было жалко. До слез. Он сглотнул стоящий в горле ком, чувствуя, что сейчас разревется, как последний малолетка. Вот будет позорище!
Когда Миша был еще первоклашкой, он любил рассматривать витрину газетного киоска, что стоял возле дома. На стеклянных полочках лежали сказочные сокровища: фонарики размером в палец, игральные кубики, зажигалки-пистолетики (прямо как настоящие, честное слово!) и много-много всевозможных подвесок (слова «брелок» он тогда еще не знал) – крошечные машинки, кружечки, лилипутские ботиночки, непонятного назначения загогулины и, конечно, звери. Слева, почти с самого края, сидел смешной бульдожек размером с куриное яйцо и такого же, как «коричневые» яйца, цвета. От ошейника тянулась коротенькая цепочка, оканчивающаяся карабинчиком – цеплять куда захочется. По дороге из школы Миша «прилипал» к витрине, и минут через десять собачка начинала ему подмигивать. Миша останавливался возле киоска каждый день и смотрел, смотрел. Он и думать не думал попросить родителей, чтоб купили: как раз перед этим куда-то делись дедушка и обе бабушки, и почему-то сразу стало совсем мало денег. Даже мороженое теперь можно было есть не когда захочется, а иногда, как редкое лакомство. И апельсины мама покупала не килограммами, а поштучно – для него, для Миши. Сама не ела, говорила «я уже». Но считать-то он уже выучился! Видел, сколько оранжевых «мячиков» лежит в холодильнике.
Наверное, собачка стоила какие-то смешные копейки, такие фитюльки, тем более в газетном киоске, дорогими не бывают, но какие уж тут собачки. Баловство одно, это Миша понимал. Но мать однажды увидела его возле киоска. Хмыкнула как-то странно, погладила по голове и увела домой. А утром песик сидел возле его подушки!
Отец тогда, помнится, к подарку отнесся скептически, даже посмеялся: мол, ты девчонка, что ли, в куклы играть? Ну и пусть! Миша назвал песика Рексом, прицепил к школьному рюкзаку – чтоб сторожил! – и радовался целый день. Гладил мягкий коричневатый плюш, глядел в блестящие черные глазки.
А на следующий день после уроков наткнулся на компанию больших мальчишек – спустился со школьного крыльца, шел себе по двору вдоль серой кирпичной стены, шел и шел, а они там… Совсем большие – класса из пятого, наверное, или даже из седьмого! Они молодецки, хотя и с шиканьем и с оглядкой, посасывали пиво из спрятанных под куртками бутылок и делали вид, что круче их нет никого на свете. Мишин рюкзак показался им подходящим развлечением. Миша даже не заплакал тогда, только тупо повторял: «Отдайте, ну, отдайте, ну, чего вы!» В сущности, мальчишки ничего плохого ему не сделали, даже не побили. Пошвыряли друг другу лениво рюкзак, оторвали прицепленного к лямочному кольцу Рекса, покидались им, уронили, попытались изобразить футбол, но для мяча игрушка была маловата. Песика отшвырнули в угол и потеряли было к нему интерес, но тут пиво начало проситься наружу, и пацаны затеяли соревнование на меткость.
Когда они наконец ушли, Миша подобрал рюкзак и хотел поднять Рекса, но не стал: мокрый, извалянный в грязи и мусоре песик был похож на кусок половой тряпки и невыносимо вонял мочой. Наверное, его можно было отстирать. Но память-то не отстираешь! Миша обломком ветки выкопал у ствола ближайшего дерева ямку, болезненно морщась, носком ботинка подтащил туда загаженного Рекса, закопал. Подумав немного, приволок еще тяжеленный булыжник размером с полтора ботинка и уложил сверху. Похоронил.
Матери он тогда, конечно, ничего не сказал, чтоб не расстраивать. К рюкзаку подвесил купленный на сэкономленные от завтраков деньги пластмассовый футбольный мячик. А она не спрашивала, думала, наверное, что просто поменялся с кем-то, а забот у матери было и без того достаточно.
Протянув сегодня руку, чтобы поднять брошенные отцом футболки – нет, только подумав о том, чтобы протянуть руку, – Миша опять почувствовал тот самый нестерпимо мерзкий запах. Конечно, он не мог их забрать. Но жалко было – до слез.
Настя глядела на него молча, как будто даже безразлично. Как будто даже не на него, а в пространство, а он так, на линии взгляда случайно оказался. Потом дернула бровями, поднялась, пододвинула к нему стакан:
– Слышь, я отойду ненадолго, а ты чтоб до моего прихода это выпил. Усек?
Миша замотал головой – нет, мол, не буду.
– Ой, я тебя умоляю! Вот не надо ща песен про страшный ужас алкоголь и все такое. Это, Микки, как со жратвой. Едят все, а до состояния беременных гиппопотамов разъедаются некоторые. И что теперь, глядя на обжор, всем остальным вообще есть перестать? Все, я сказала, ты услышал.
Вернулась она не через десять минут, но быстро. Плюхнулась в кресло, допила виски, оставшийся на донышке, кивнула одобрительно, махнула официанту, мол, повторить, и выложила на стол два хрустящих пакета. Вскрыла, сгребла выдернутые тряпичные кучки себе на колени:
– Значит, слушай сюда. Ну на фига тебе мотоцикл на пузе? Мотоциклы на стенку хорошо вешать. Машинки, впрочем, тоже. Да и черное тебе на самом деле не в цвет. Вот это получше будет.
Футболки были зеленовато-серые. На одной пасся, оглядываясь на «зрителей» через плечо, тигрово-рыжий жираф, со второй целился танк.
– Вот гляди. Во-первых, они как мои глаза, видишь? – Настя приложила футболку к щеке, цвет и впрямь был один в один. – Во-вторых, жираф такой же длинный, как ты. В-третьих, он глядит на всех сверху и, если что, плюнет. А если совсем что, то вот этот и стрельнуть может.
– Спасибо, – улыбнулся Миша.
– Погодь со своим спасибо, я только начала. Слушай, салага, и учись, пока можно. Футболки, мелкий, которые мы тебе купили, что те, что эти – это просто деньги, а деньги у нас, спасибо моему папуле, таки есть. Футболок таких миллион. Так что грустить по ним – ничего нет глупее. Ну не миллион, но несколько тысяч точно. Никакие они. Прекрасные, кто бы спорил. Но никакие.
Миша кивнул. Ему показалось, что он понимает, о чем говорит Настя. Она потянулась, как сытая кошка, пощелкала языком, глядя на лежащую перед ней зеленовато-серую тряпичную кучку:
– Ладно, продолжим. Эй, ты вообще меня слушаешь? – Настя шутливо дернула его за нос.
– Ну ты говорила, что футболки отличные, но неотличимые. – Миша попытался сформулировать высказанную мысль покрасивее.
– Эх, хорошо излагаешь, черт побери, мне бы так! – восхитилась она. – Неотличимые… – Растянув ткань на коленке, Настя покопалась в сумке, вытащила черный маркер. – Вуаля! – Она несколькими легкими движениями пририсовала жирафу очки и дымящуюся сигарету. Танк украсился галстуком-бабочкой. Немного подумав, Настя «надела» на танковую башню набекрень крошечную шляпу-цилиндр. Все детали выглядели схематичными, но при этом очень натуральными. И вдобавок очень смешными.
Настя протянула Мише обе футболки:
– Вот. Теперь даже если кто-то на себе изобразит то же самое, точь-в-точь, это по-любому будет уже повтор. Ну чего, норм?
– Здорово, – выдохнул Миша. – А почему ты никогда не рисуешь?
– А, скукотень! – Она бросила в рот пару орешков. – Ты слушай, не отвлекайся. Фигня все это, понял? И те маечки, которых в магазине миллион, и эти, которые единственные в мире. Фигня. Вот я могу их прямо сейчас взять и выкинуть – что в жизни изменится? Ничего.
– Но зачем же тогда?.. – Он помотал головой, словно пытаясь уложить в мозгу рассыпающиеся мысли. – Мне что, и не радоваться на них?
– Ну ты тупо-о-ой, – протянула Настя с задорновской интонацией. – Я зачем рисовала? Чтоб ты радовался. Но, – она подняла указательный палец, – не привязывайся. Ну мало ли! Кофе опрокинешь или в бетономешалку уронишь. И как начнешь горевать! Вся радость насмарку. Не привязывайся.
– Кажется, понял.
– Ну, значит, не тупой. – Настя хмыкнула и подмигнула. – Но к шмоткам ты быстро перестанешь привязываться, сейчас с нашими достатками моментом привыкнешь, что шмотки – полная фигня. Но, – она опять задрала палец, акцентируя сказанное, – к людям тоже не привязывайся. Никогда и ни к кому.
– Как это – ни к кому? Как можно никого не любить?
– Да ой! Люби на здоровье. Но не привязывайся. Как только привяжешься, из тебя сразу начнут кровь пить. Потому что, как только привяжешься, сразу начнешь стараться быть незаменимым. И будешь не тем, кто ты, а тем, кого хотят видеть. А сам сдуешься, как воздушный шарик. Высосут. Из меня пытались лепить «чего изволите», а когда не вышло, гнобить начали. Так что…
– Насть, а откуда ты все это знаешь? Ты ж вроде… А иногда такая взрослая, что оторопь берет.
– Договаривай уж! Я ж вроде главная оторва, да? И откуда это я могу всякие серьезные штуки соображать? Ну оторва, и что? Голова-то у меня есть. – Минуты две Настя молча курила, пуская колечки и сосредоточенно глядя куда-то в потолок. – Знаешь, мне иногда кажется, что мне семьсот лет. А иногда, что двенадцать и завтра каникулы… А ты говоришь – откуда знаю. Есть, Микки, такая страшная штука – похмелье. Когда охота только сдохнуть, ничего больше, но хреново так, что даже в окно шагнуть не можешь, потому что шевельнуться не можешь. Только и остается, что лежать и думы всякие думать. Так что не пей, Микки, козленочком станешь! – Она горько рассмеялась, закашлялась, махнула рукой. – А впрочем… делай что хочешь! Это ж твоя жизнь, не чья-то там. Не давай никому себя за ниточки дергать. Вон маман твоя вовремя от твоего папашки вырвалась, молодец!
– Молодец? Она его предала!.. – Миша осекся, чувствуя, что он сам сегодня сделал что-то похожее. Потому что идти снова в ту вонючую квартиру, выслушивать обвинения… черт! ну вот совершенно душа не лежит.
– Предала? – усмехнулась Настя. – Ну ты, похоже, уже сам понял, да? Чем она его предала? Он что, грудной младенец, который без мамочки пропадет? Лежачий больной, из-под которого надо судно выносить и кормить с ложечки?
– Ну… говорят ведь, когда женятся, «в радости и в горе, в здоровье и в болезни, в богатстве и в бедности», – не слишком уверенно проговорил Миша.
– А тебе не кажется, что горе и бедность – не землетрясение и не холодная зима, которые просто пережить надо вместе. Ни горе, ни болезни, ни бедность сами не пройдут. А твоему папашке как раз очень удобно было. В горе и в бедности. Он же не постарался сделать их радостью и богатством.
– Ну не все же могут стать миллионерами. – Миша попытался оправдать то ли отца, то ли себя, то ли жизнь.
– То есть, если папашка твой не умеет богатеть и учиться не желает, маман твоя должна была смирно сидеть и не рыпаться, не мечтать о приличной жизни? – сердито и очень быстро проговорила Настя. – Он неспособный типа и меняться не хочет, значит, пусть она поменяется, так? Пусть терпит то, что ей противно, да? У нее ж тоже какие-то желания были. Или она должна была следом и себя, и тебя в том же болоте держать?
– Ну… когда ты так говоришь, это как-то нехорошо выглядит… – промямлил Миша. – Но, понимаешь, вот она его бросила, и он совсем пропал. Разве так можно делать?
– Можно, нельзя… – Настя пожала плечами, прищурилась. – Не знаю, Микки. Но ты так говоришь… Неправду ты говоришь, вот. Можно подумать, она ему ручки-ножки поотрывала, глазки повыковыривала. Здоровый же мужик! И? Лежит на диване и беды свои пережевывает, ах, какой я несчастный, ах, какие все сволочи. Тоже мне – пропал. Да он счастлив пропадать, вот в чем хрень-то!
– Счастлив? – Миша изумился, словно Настя сообщила, что его отец получил Нобелевскую премию.
– Ну, может, не счастлив, но доволен – точно, – уверенно уточнила Настя. – Сперва из маман твоей жилы тянул, теперь из тебя. Смешал тебя сегодня с говном – ой, да не возражай, я ж рожу-то твою видела – и доволен. Вон, орет в белый свет как в копеечку. Тот, что ли, дом? Вон, глянь, на девятом окно.
Выше тополиных крон действительно виднелись верхние этажи отцовского дома – далеко, мелко, так что отцовская фигурка в окне казалась персонажем кукольного театра. Фигурка махала руками и что-то орала – из-за расстояния крика было не слышно, только рот распахивался темным провалом, как в черно-белой военной кинохронике, когда солдаты идут в атаку и беззвучное «ура» так же раздирает их рты.
Ненадолго темный квадрат окна опустел. Когда отец вернулся, в руках у него было что-то зеленое, корявое, размером с табуретку. Танк, понял Миша. «Танком» они называли подаренный бабушкой трехколесный детский велосипед – первую Мишину «машину». Велосипед был пластмассовый, мутно-зеленый, «солдатской» расцветки. В первый же день Миша врезался на нем в забор. Отец мазал зеленкой Мишину разбитую коленку, отмывал велосипед и пел про «экипаж машины боевой». С тех пор велосипед иначе как танком не называли.
Отец, пошатываясь, прислонился к подоконнику и резким движением оттолкнул от себя «танк». Миша рефлекторно отшатнулся: казалось, старый детский велосипед летит прямо ему в лицо. Ну, казалось, конечно. «Танк» мгновенно канул вниз и пропал за листвой.
Настя ахнула.
Бросок, видимо, был слишком резким. Фигурка в окне зашаталась, навалилась боком на подоконник, странно вывернутая рука потянулась, попытавшись ухватиться за раму в некрасивых колючих струпьях облезлой белой краски. Конечно, на таком расстоянии не то что трещины, само окно толком было не разглядеть, но Миша помнил эту облупившуюся краску, сворачивающуюся, как засыхающие листья. Если такую чешуйку поддеть ногтем, она отрывается с чмокающим щелчком, открывая бледную древесину…
Мелькнули нелепо задранные ноги в серых тренировочных штанах… В следующее мгновение в окне было уже пусто.
Настя сгребла в сумку футболки, зажигалку, сигареты и почему-то пакетик от орешков, рывком застегнула молнию, вскочила:
– Там внизу что? Газон? Кусты?
Миша тупо помотал головой:
– Площадка грузовая. Слева магазин, под нами склад его был.
– Ёперный театр! – Настя резко дернула его за руку. – Вставай же! Валим отсюда!
Миша очумело тряс головой:
– Ну да, помочь же надо, да?
– Какой помочь, ты спятил? – прошипела она. – Девятый этаж, да на асфальт…
Выскочив из кафе, Настя втянула в себя воздух, шумно выдохнула и все-таки свернула туда, к отцовскому дому. Миша двигался следом, механически переставляя ноги.
Метров за сто она, резко затормозив, рывком развернула его в обратную сторону:
– Не смотри туда. Все. Все, понял? Там уже народ собирается, нам туда точно не надо. – Миша хотел было все-таки двинуться «туда», но Настя с неожиданной силой его остановила, на мгновение ему даже показалось, что она его сейчас ударит. – Валим, говорю. У меня в сумке кокса граммов десять. Да не пялься ты так. Я не нюхаю, что я, дура полная? От этого нос, говорят, отваливается. Ну если кому на тусняк передать – да, бывает. А если нас сейчас в свидетели заметут, да вдруг в сумку заглянут… Конфискуют-то не беда еще, не так много, чтоб не расплатиться, но не приведи бог копать начнут… не хотелось бы, в общем… – Бормоча торопливые объяснения, Настя тащила Мишу за собой, то сворачивая в переулки, то целеустремленно шагая по улице, то ныряя в подворотни. – Давай, братишка, давай, шевели лапками. Топаем, говорю, быстрее! Держись за мной.
После пятнадцатиминутного блуждания по улицам, дворам и переулкам Миша почувствовал, что окончательно потерял направление. Ему казалось, что они ходят кругами, что за очередным поворотом сейчас вновь откроется отцовский дом и толпа возле – вокруг изломанного тела. Или все привиделось, и не будет там никакого тела, никакой толпы, ничего? Но тут Настя наконец замедлила темп:
– Ну, хватит. Ушли вроде. – Настя нахмурилась, помолчала, словно вглядываясь внутрь себя. – М-да, пора, пожалуй, с этим делом завязывать. Давно надо было, вот уж точно. Весело, конечно, рисковать туда-сюда, но… не доиграться бы. Плохие мальчики могут рассердиться, если я им нечаянно в компот написаю… Так что да, хватит. Станция Березай, кто приехал, вылезай.
– А разве от… ну, которые плохие мальчики… разве от них можно просто так уйти? – Миша скорее удивился тому, что говорила Настя, чем испугался: словно все было не взаправду, вроде какого-то кино. И лучше это кино, чем то, где крошечная кукла летит из темного окна. Не думать. Забыть. Переключиться сюда, в живые, понятные, пусть и не слишком приятные проблемы. – Там же вроде ход только в одну сторону.
– Ой, я тебя умоляю! Ты решил, что я в страшную мафию попала? Брось. Это ж мелочовка. Ну наплету, что папуля подозревать стал, шмоны устраивает. Такого геморроя на фиг никому не надо, пнут меня под зад – и адью! Мои «отдай-принеси» погоды не делают, а проблем может быть до фига. Причем в конечном итоге у меня же. От ментовки-то папуля меня, если где заметут, всяко отмажет, не впервой, ему такое счастье на фиг не сдалось. А вот на плохих мальчиков, если что, его связей точно не хватит, он же у нас бизнесмен весь из себя законопослушный. Так что, если что, чем меня из проблем выковыривать, проще будет забыть, что была такая Настя. И как-то мне это, знаешь, не по кайфу. Сдохнуть-то не жалко, но ведь это смотря как сдохнуть. Лучше уж со скуки дохнуть… – Она откашлялась. – Как наша идеальная Анжела.
Настя выудила из сумки сигарету, пощелкала зажигалкой. Несмотря на лихость монолога «хватит в мафию играться», прикурить ей удалось не сразу – рука все-таки дрожала, и сигарета прыгала мимо огонька. Девушка глубоко затянулась, оглядела улицу:
– Опаньки! – Она вдруг резко потянула Мишу за ближайший угол. – Вот уж помяни черта к ночи! Ты глянь! Да не на меня, вон туда, только сам не светись. Идеальная-то наша с молодым человеком, надо же!
На улице, куда осторожно выглянул Миша, было довольно людно. Торопились по своим важным или неважным делам прохожие, повизгивали тормозами машины, гипнотически мигал светофор на соседнем перекрестке.
– Нет, но какова наша тихоня-то, а? – бормотала Настя, выглядывая из-за Мишиного плеча. – И, главное, я ж этого мужика-то знаю, вот цирк! Ну, то есть не буквально знаю, в личность. Он в нашем ТЮЗе на ролях романтических героев подвизался, прикинь? Я в школе-то поприличней была, чем сейчас, даже в театр с общей толпой ходила, ну вот рожу его запомнила. Сейчас-то он, может, уже в нормальном театре, а не перед детишками выламывается. Где-то ж его Анжелка-то подцепила. Не, я с нее фигею просто.
Миша наконец увидел на противоположной стороне улицы стоявшую у витрины небольшого кафе Анжелу, которая действительно была не одна, а с высоким худощавым мужчиной. И только полный идиот принял бы эту пару за деловых или случайных знакомых. Неважно, что одета девушка была в деловой костюм. А рассыпавшиеся по плечам волосы вместо всегда строго приглаженной прически? А сияющие от счастья глаза? Сейчас никто не дал бы Анжеле больше шестнадцати лет.
Спутник ее выглядел старше, хотя и ненамного. Будь он темноволосым, легкая смугловатость кожи и чеканный – что называется, медальный – профиль делали бы его похожим на киношного злодея. Но светлые волосы превращали «злодея» в переодетого сказочного принца. В благородного рыцаря, пусть даже и не семнадцатого века, а современного. Вытертые джинсы, кожаная жилетка и серьга в ухе шли «рыцарю» чрезвычайно.
Даже странно, как меняет человека всего-то цвет волос. «Как летошняя солома», говорила бабушка. Миша не знал, что такое «летошняя», но слово ему нравилось. Оно пахло июлем, низким гудением пчел, колодезной водой, от которой ломит зубы, нагретой пыльной тропинкой посреди пестрого разнотравья.
Кафе называлось «Тайна». Общая тайна объединяла остановившуюся перед кафе пару, заслоняя, отгораживая от шумной пестрой толпы. Темная, до зеркального блеска вымытая витрина, где слабо двигались фигуры отражений – как проводников «туда»! – казалась порталом в другое измерение, другой мир. Мир, где нет суеты, повседневных пустяков, утомительно необязательной мельтешни. Только двое.
Анжела протягивает руку своему спутнику… Прикосновение кажется таким нежным, таким родным. Я чувствую его всем своим существом…
Что? Я?! Я чувствую ее прикосновение!..
– Ну как? Теперь узнал?
Я пока не в силах вымолвить ни слова, поэтому лишь киваю.
– Но я же не помню, как…
– Ну вспоминай, что ж. Вспоминай. Должен же и ты хоть какое-то удовольствие от процесса получить. – Он усмехнулся и щелкнул пальцами.
– Леша… Лешенька! Алекс! – Нежный голос ласкает кожу теплым дыханием.
Анжела! Ангел мой! О небеса, какое счастье вы мне послали! Наконец-то я могу получить воздаяние за все свои неудачи, беды, унижения. За презрительные взгляды, за бесконечные безнадежные кастинги, за «оставьте телефон, мы вам позвоним». Безработный актер – это клеймо, отравляющее не только того, кто его несет, но и всех окружающих. Им плевать, насколько ты талантлив, им плевать, какой ты актер. Ты безработный, и этим все сказано. Ты безработный, и, значит, ты никуда не годишься, никого не интересуешь.
Подумаешь, Том Круз! Ну что в нем такого особенного? Да ничего! Кроме того, что о нем знает весь мир. Про наших я вообще молчу. Что такое этот ваш Безруков? Повезло пацану, и ничего больше. Ни рожи, ни таланта, а поди ж ты! Как актер я круче его, а толку? И вот появился наконец человек, для которого я – не неудачник, не никто, не пустое место. Человек, который верит в мой талант, верит, что я получу заслуженную славу, что не только достану рукой до звезд, а и встану – по праву – рядом с ними.
Анжела! Ангел мой!
– Вставай, – шепчет ангел. – Опоздаем.
Я вспоминаю, что сегодня Анжела представит меня «своим», и настроение слегка портится. Цену ее семейке я знаю заранее. Папаша – надутый сноб, как все богачи. Мачеха – жадная длинноногая стерва. Младшая сестрица – совершенно никчемная особа, которой папашины деньги настолько снесли башню, что она уже не знает, какой бы еще гадостью развлечься.
Анжела, конечно, ничего такого про них не говорила, она вообще никогда ничего плохого о людях не говорит. Но я-то не мальчик зеленый, я ж понимаю. И теплота, с которой она упоминает об отце, ничегошеньки не означает. У моего ангела сердце настолько огромное, что может оправдать и согреть любого. Конечно, она благодарна отцу за то, что родил и вырастил, как же иначе. Но благодарность – не любовь, не пудрите мне мозг.
– Алекс, подъем! Я уже оделась! – по комнате кружится прекрасный эльф в облаке чего-то легкого, небесно-голубого.
В этом платье Анжела выглядит великолепно – мне хочется его немедленно сорвать! Я пытаюсь дотянуться до своего сокровища, до своей девочки, но она ускользает и хмурится:
– Ну же! Поднимайся.
И вот, вместо того чтобы схватить, прижать, не выпускать, я послушно вылезаю из постели и тащусь в душ. Перспектива грядущего знакомства с родственниками Анжелы меня не слишком радует. Я долго торчу в душе, намыливаюсь, споласкиваюсь, опять намыливаюсь, опять споласкиваюсь – так и кожу недолго до нуля стереть, – приходится вылезать. Бреюсь сверхъестественно тщательно, бритвой двигаю еле-еле, осторожничаю, не дай бог порезаться, будут потом пялиться. Разглядываю полученный результат – вот тут не щетинка пропущенная? Вроде нет, но на всякий случай обрабатываю сомнительное место еще раз. Все должно быть безукоризненно. Дважды чищу зубы. Натягиваю на мокрое тело банный халат, стаскиваю его, вытираюсь полотенцем, опять надеваю халат – фу, он уже влажный, гадость какая! Снимаю, еще раз вытираюсь, ныряю в халат Анжелы. Он сухой, теплый и пахнет чем-то нежным, умиротворяющим. Беспокойство немного отпускает.
Когда-то давно, помню, один мой приятель издевался над понятием «люди с тонкой душевной организацией»:
– Да ладно, – махал рукой, – вы все это специально придумали, чтоб внимание окружающих привлекать. Ну какая такая повышенная эмоциональная чувствительность? Придумали, что творческие натуры – это люди прям вовсе без кожи, и довольны теперь. Вот чего ты все время дергаешься, то в облаках витаешь от восторга, то на стену в отчаянии лезешь оттого, что сосед косо на тебя посмотрел? Сам себя накручиваешь, и ничего больше.
Тупой придурок! Сам бы попробовал пожить с этой самой «тонкой душевной организацией»! Когда все струны натянуты так, что даже нежное прикосновение отзывается почти болью, как будто действительно нет никакой кожи, содрана, и чувствуешь окружающий мир прямо оголенными нервами. А уж от грубого слова или фальшивой улыбки и вовсе весь мир превращается в пылающий ад, хоть в петлю лезь.
Понятно, что для актера тонкая организация – основа основ. Он же должен публику зажечь, а чем зажигать, если сам тупой и ничего у тебя не горит, не болит? Без этой тонкости, без темперамента, без нерва, без надрыва артист никогда ничего толкового не создаст. Но жить с этим – тяжко, поверьте. Вот просто возьмите и поверьте, если уж сами никогда ничего подобного не чувствовали.
– Какой ты смешной в моем халате! – Анжела целует меня на пороге кухни. От ее поцелуя где-то меж ключицами начинает светиться маленькое теплое солнышко, такое же умиротворяющее, как запах Анжелиного халата.
Кофе я пью медленно, делаю между глотками «мхатовские» паузы. Из-за этого предвизитного мандража я даже вкуса кофе толком не чувствую. Обидно. Анжела меня не торопит, говорит рассудительно:
– Все равно еще ждать, пока у тебя волосы высохнут, не пойдешь же ты с мокрой головой.
Успокаивает. Понимает. Ангел мой!
Ну… я ведь тоже понимаю, не тупой. Уж кто-кто, а я точно не тупой. Если Анжеле так хочется познакомить меня с семьей, значит, никуда не денешься, придется. Иначе что ж это за любовь?
Допиваю кофе, досушиваю волосы феном, одеваюсь.
Мы спускаемся вниз, садимся в машину, Анжела выруливает на проспект, машина вливается в общий поток, становится бусинкой в многорядном ожерелье из таких же, только разноцветных, бусинок на длинной-длинной нитке. Машина неустанно, метр за метром, километр за километром, втягивает, пожирает эту нитку, расстояние до назначенной встречи становится все короче, короче, короче…
Анжела нежно гладит меня по щеке, заправляет за ухо прядь волос и возвращает руку на руль. Тонкие пальцы постукивают по кожаной оплетке. Моя любимая тоже нервничает. Я легонько сжимаю ее плечо:
– Может, не надо? Может, ну их, вернемся домой? А то… они могут…
– Они – нет, – усмехается Анжела. – Отец – да, может. Но сделать это нужно. Молча, тайком – нехорошо. Нужно сказать. А они… Ну, они как хотят. Отец рассердится, конечно, это к гадалке не ходи. Он-то рассчитывал, что я не сегодня завтра стану его правой рукой. А я вдруг обнаружила, что не хочу быть ничьей рукой. Даже правой. – Она смеется. – Ничего, Леш, посердится и перестанет. А даже если не перестанет… Бог с ним! Сами справимся. Правда?
– Ты мой ангел! – Я наклоняюсь и целую сжимающие руль пальцы. Анжела улыбается:
– Алексей по-гречески означает «защитник». Ты мой защитник, с тобой мне ничего не страшно. Все будет хорошо, Лешенька!
Еще не поздно остановиться, развернуть машину, поехать домой и непременно взять по дороге шампанского (какой дурак придумал, что шампанское должно быть французским? Кислятина, и ничего больше). И потом до самого вечера валяться на шелковом покрывале и, потягивая шампанское, смотреть какой-нибудь глупый сериал или старые советские комедии, где все просто, никаких надрывов, проблемы решаются с шутками и песнями и влюбленные в финале целуются целомудренно, как дети. Ужасающая пошлость, согласен, но такая спокойная, такая безмятежная…
Э-эх, лучше бы вернулись, честное слово!
Андрей Александрович, встретивший нас на крыльце, подтянут, сдержан и подчеркнуто вежлив. Прямо английский посол, фу-ты ну-ты! Вот повезло Анжелке с папашей, кто ж его так… посолил? Он сухо здоровается и ведет нас куда-то внутрь поражающего размерами и отделкой дома.
Гостиная, куда мы попадаем после путешествия по полутемному коридору с картинами и вазами меж декоративными дубовыми панелями, столь же сдержанно роскошна. Семейка в полном составе вкушает кофе. Наше появление отвлекает их на минуту, не больше – вежливые приветствия, кивки, сопровождаемые скупыми полуулыбками (только вторая сестра, Настя, кажется, хихикает в кулачок), – и церемониал продолжается с прежней неспешностью. От этой ледяной сдержанности мне сразу хочется проверить, достаточно ли тщательно я почистил ногти и не надел ли случайно непарные носки. Бросаю взгляд на руки, на ноги – вроде порядок. Но все равно. Приглаживаю ладонью волосы – вдруг растрепался и не заметил. Анжела тихонько сжимает мой локоть – мол, ничего, держись, все будет в порядке.
В порядке, как же!
Меня трясет, ладони все время влажные, я потихоньку вытираю их о джинсы и страшно боюсь, что это заметит кто-нибудь из проклятой семейки – нет уж, не дождетесь! Я холоден, спокоен, и вообще мне наплевать и на вас, и на все, что тут происходит. На изображение ледяного безразличия уходит масса сил, поэтому сам разговор по большей части проходит мимо моего сознания. Актерский навык: если тебе нужно выходить на сцену больным или с похмелья, сосредоточься на своей роли и не обращай внимания на остальных, замечай лишь «ключевые» реплики (ага! вот тут я вступаю!) – и все пройдет гладко. Вот и сейчас я стараюсь игнорировать происходящее, лишь краем сознания слежу: вдруг кто-то обратится непосредственно ко мне. Но им на меня наплевать, беседа сосредоточена между главой семейства и моей Анжелой. Как бы я хотел ей помочь! Но чем? Только и остается, что сидеть статуей и делать бесстрастную морду, ну или, если выражаться прилично, физиономию игрока в покер.
Анжела с таким же вежливо-неподвижным лицом (а я-то знаю, каким переменчивым оно бывает!) говорит что-то о том, что ее не привлекает роль руководителя корпорации, ей не нравится командовать. И ни юристом, ни экономистом ей быть совсем не хочется, поэтому и из аспирантуры она, уж извините, ушла. А хочется ей (ну это она и мне тысячу раз с горящими глазами рассказывала!) заниматься историей, предпочтительно историей литературы, тихо сравнивать источники, копаться в архивах и тому подобное. И не пропадать на работе круглосуточно, а домой возвращаться, чтоб была нормальная семья, а не такая, где домочадцы друг друга разве что перед сном видят, да и то не всегда.
– Может быть, тебе и у плиты стоять, и пеленки стирать хочется? – слегка вздернув бровь, ледяным тоном интересуется ее папочка.
– Может быть, – абсолютно без всякой интонации отвечает моя любимая.
Что он там говорил обо мне, я старался не слушать. Сжимал кулаки, влажная кожа противно и, как мне казалось, оглушительно скрипела, я незаметно вытирал ладони о джинсы, снова сжимал кулаки… Что-то все же доносилось до моего сознания – что-то гадкое, мерзкое, унизительное, что-то про «ответственность», про «рай в шалаше», про «не обеднею, но в своем доме не хотелось бы». Плевать, чего ему там «не хотелось бы», но мне хотелось дать ему в морду! Я еле сдерживался, честное слово!
Но моя любимая, как всегда, на высоте. С вежливой полуулыбкой она выкладывает на стол слабо звякнувшую связку:
– Вот ключи от дома и от городской квартиры.
– Вещи тебе оттуда не нужно забрать? – вежливо, как спрашивают «вам налить еще чаю?», интересуется ее папочка. Тьфу, айсберг! Насобачился на деловых переговорах безразличие изображать.
Анжела лишь поводит плечом и кладет – почти роняет – на стол еще одну связку, поменьше:
– Ключи от машины, – сообщает она очевидное. Сообщает без эмоций, как сообщают о том, что «Волга впадает в Каспийское море».
– Это правильно, – произносит после паузы Андрей Александрович. Лицо его не выражает никаких эмоций. Абсолютно. Как у статуи. Или у мертвеца. И глаза без малейшей искры тепла – тоже мертвые. – Я распоряжусь, в город вас отвезут.
– Не нужно, – все так же бесцветно, с той же безукоризненно вежливой полуулыбкой отвечает Анжела. – Мы сами.
Сами-сами-сами-сами, повторяю я в ритме шагов. До шоссе, где можно сесть на автобус или поймать попутку, километра три перелесками. Теплыми, пестрыми – осенними. В березово-кленовом золоте кое-где бодро зеленеют сосны, тускло рдеет боярышник, пылает рябина, темнеют редкие елочки. Не лес – шкатулка с драгоценностями. Или дворец. Не какой-нибудь там царский, королевский, княжеский – сказочный. Где живут феи, эльфы и волшебные фениксы, где нет времени и нет страданий, одно лишь пестро-золотое безмолвие.
Паутинные нити так тонки, что в тени их вовсе не видно, только на солнечных участках становится заметен легчайший серебряный блеск, словно переливается сам воздух. Анжела отводит этот блеск ладонью и еще несколько раз проводит по щеке, словно стирая прикосновение. Прикосновение паутины или?
Она идет молча, то хмурясь, то взглядывая по сторонам, и кажется странно чужой. Словно палатами сияющего золотого дворца проходит… кто? Фея? Зачарованная принцесса? Сказочно красивая и… незнакомая.
– Анжела!
Она слабо улыбается:
– Ничего, Лешенька. Мне просто нужно немного подумать. Ничего, все в порядке…
Анжела вдруг резко останавливается, бледнеет, словно кто-то выключил в палитре красный цвет: щеки становятся изжелта-серыми, губы синеют – она хватается за корявый ствол придорожной дикой яблони и сотрясается в приступе рвоты. Я придерживаю ее за хрупкие плечи и чувствую, как они дрожат под моими ладонями.
– Анжела, девочка моя, что?..
– Ничего, Лешенька, – шепчет она, прислонившись виском к стволу и медленно, тяжело дыша. – Ничего, все нормально. Отпусти меня, я не упаду… салфетки в сумке… и вода.
Она полощет горло, сплевывает, обтирается влажными салфетками, осторожно, мелкими редкими глотками, пьет. Горло ее вздрагивает при каждом глотке, как у птицы.
– Маленькая моя, что это…
– Порядок. – Она улыбается. – Я… я не уверена… потом, ладно?
– Анжел, – вспоминаю вдруг я. – А что там твой отец про вещи говорил? Ну, с городской твоей квартиры.
– Да ничего, пустяки. – Она качает головой. – Что нужно было, я уже забрала.
До меня внезапно доходит очевидное:
– Так ты… знала? Знала, что так будет?
Анжела поводит узким плечом:
– Предполагала. Надеялась, что обойдется, но… Предполагать предполагала. Отец… он… ну неважно. Он сам меня учил готовиться к худшему варианту развития событий.
– Но раз ты заранее собрала вещи, – я начинаю понемногу закипать, – значит, не очень-то и надеялась?
– Ну… – Анжела печально улыбается. – Всякое бывает.
– Всякое?! Бывает?! – уже ору я. – И полные кошельки кто-то посреди улицы находит. Бывает и такое! Но никто почему-то не надеется, что вот выйду на улицу и найду. Так какого черта мы туда поперлись? Клоунов изображать на потеху почтенной публике? Нельзя все это было по телефону сказать, а не корчиться там, как лягушки на сковородке? Телефоны отменили?
– Нет, – коротко выдыхает Анжела. – Нельзя такие вещи – по телефону. Трусливо, гадко. Нехорошо.
Я понимаю, что сейчас скажу гадость, что лучше промолчать, но сдержаться не могу:
– Ты уж впредь предупреждай меня загодя, когда тебе захочется в благородство поиграть!
Анжела опять поводит плечом и не отвечает. Ну да, действительно.
Со всей дури я луплю кулаком по ни в чем неповинному березовому стволу. Проклятье!
До шоссе мы идем молча. Я почему-то вдруг страшно устал, вот как-то в одну минуту взял и устал. Кажется, что в ботинки налили свинец, но приходится шагать, переставлять эту тяжесть и думать: вот еще шаг, вот еще два, скоро шоссе, там будут автобусы и попутки, можно будет сесть, доехать до дому, выкинуть наконец из головы всю мерзость этого дня, отдохнуть. «Не пылит дорога, не дрожат листы, погоди немного – отдохнешь и ты». Хотя там, в стихах, кажется, была ночь.
Дома Анжелу опять тошнит, и на следующий день – тоже. Я начинаю что-то понимать, а через три дня она приносит заключение из женской консультации.
Время до родов вспоминается как страшный сон. Носила Анжела очень тяжело, у нее отекали ноги, прыгало давление, ее непрерывно тошнило. Не только в самом начале, как полагается, а почти все время. Ужас какой-то.
От страха за нее меня трясло так, что я не мог спать ночами, пялился в темное кухонное окно, смолил сигарету за сигаретой и пытался гнать от себя панические мысли. Все говорили: ну что вы хотите, обычное дело, первая беременность, нервы – а мне уже казалось, что организм Анжелы отторгает, не хочет этого ребенка. Моего ребенка! Я был уверен, что будет девочка. Маленькая, смешная, она будет держать меня за палец и гордо говорить: «Это мой папа!»
И денег совсем не было. Анжела чувствовала себя так скверно, что ни о какой постоянной работе и речи идти не могло, а разовые приработки… ну, сами понимаете. Она брала где-то технические переводы, английский и французский у нее были прекрасные. А я… Что я мог? Практически ничего.
Как мне было страшно! Как я боялся ее потерять! А уж когда моя любимая рожала, я думал, либо с ума сойду, либо в окошко брошусь. Проклинал природу, сочинившую такой идиотский способ размножения, себя, будущего ребенка, все на свете! Звонил в роддом каждые пять минут, тамошняя диспетчерша – или как там они называются – узнавала меня еще до того, как я задавал вопрос. По дыханию, наверное. Не волнуйтесь, говорила, папочка, роды – дело долгое. Шутила типа. Скотина равнодушная!
Впрочем, часа через три я уже напился до такого состояния, что ни о каких звонках и речи быть не могло, просто упал и отрубился, как сознание потерял. Проснулся от звонка моей ненаглядной:
– Поздравляю, Лешенька, ты теперь папа! – Голос Анжелы в трубке звучал тихо и даже как будто незнакомо.
Я… я… заплакал, представляете? От счастья, что все наконец-то закончилось.
Мне и в голову прийти не могло, что мытарства только начинаются. Денег не стало совсем. Приближалось лето, для актеров – мертвый сезон, если ты, конечно, заранее не числишься в гастрольной труппе. Я, конечно, не числился. Переводов у Анжелы тоже стало маловато, да и времени на них, в общем, не было. Настя, не то из сочувствия, не то из стремления в кои-то веки стать для старшей сестры благодетельницей, иногда кое-что подбрасывала, даже коляску подарила. Но это все, конечно, были крохи. На жизнь хватало еле-еле. Я обзвонил всех ближних и дальних знакомых, я готов был хвататься за любую работу, но всем, конечно, было плевать на мои проблемы. Я возненавидел актерские агентства с их вечными «оставьте-телефон-мы-вам-позвоним». Это такой вежливый способ послать к черту. Никто, конечно, никогда не звонит. А если звонит, то это больше похоже на издевательство: «Не могли бы вы на детском утреннике изобразить Бэтмена?» Бэтмена. На детском утреннике. Спасибо, что не Красную Шапочку. Нет, я понимаю, что все с чего-то начинают, никто не позовет с бухты-барахты князя Мышкина играть. Я и на сериалы был бы согласен, хотя для уважающего себя актера это профанация полная. Но Бэтмен! На детском утреннике! Я все-таки актер, а не массовик-затейник! От ненависти к этим уродам я кидался на стены, а Анжела гладила меня по руке, шептала что-то на ухо – утешала.
В полном отчаянии я дошел до того, что подстерег однажды ее папеньку… Ну он же отец, не может быть, чтобы ему было совсем наплевать на то, что происходит с его дочерью! Ей же плохо, ей помощь нужна! И внучка! Это же не просто ребенок, это же его родная внучка! Ей завтра три месяца исполняется!
Короче, я скрутил всю свою гордость в узел, засунул ее подальше и полдня торчал возле его офиса. Небольшой особнячок в тихом переулке смотрелся игрушечкой, нигде ни пятнышка, ни царапинки, застекленное крыльцо сверкает, как хрустальный бокал в дорогом кабаке. Э-эх, куда девались те времена, когда я мог зайти в дорогой кабак? Теперь мне и дешевый-то не по карману. Только стоять и любоваться на чужое великолепие: бордюрчики под мрамор, стены сияют чистотой и новизной. Ну еще бы! Они ж все-таки стройматериалами занимаются, смешно было бы сидеть в обшарпанной избушке, вроде как сапожник без сапог.
Глядеть на всю эту красоту было обидно: торчу тут, словно милостыню пришел выпрашивать, как те некрасовские ходоки у парадного подъезда. Фу, мерзость! Но я затоптал собственное самолюбие, затолкал его в самый дальний угол: а куда деваться? Больше-то пойти не к кому, вот в чем ужас. Ничего, говорил я себе, главное – сейчас выкарабкаться, а потом все наладится, потом можно будет и про гордость вспомнить. Сейчас главное – Анжеле помочь.
Несколько раз я не выдерживал, порывался уйти, но, отойдя на квартал, возвращался. Терпи, говорил я себе.
Лучше бы ушел.
Лучше бы вообще не приходил.
«Сапожник» узнал меня мгновенно, но разговаривать не пожелал. Даже не дослушал! Вздернул слегка бровь и бросил через плечо:
– Мой номер телефона у нее есть. Если ей что-то нужно, она может позвонить сама, вместо того чтобы подсылать парламентеров.
Нырнул в свой «Мерседес» – черный, разумеется! – и укатил.
Этот, тьфу, бизнесмен даже по имени Анжелу ни разу не назвал! «Она», «у нее», «ей» – и вся любовь! Ненавижу!
Конечно, я пошел и напился. А кто бы не напился на моем месте? Анжелке наврал, что встретил старого знакомого, который может помочь с работой, вот, дескать, надо было с ним посидеть по-дружески. Она почувствовала, разумеется, что я вру, она всегда это чувствовала. Но никогда не цеплялась, понимала. Я ж не просто так врал, а чтобы от лишних переживаний свою любимую избавить.
С утра я маялся головной болью, и Анжела не стала меня беспокоить, в детскую поликлинику на осмотр (взвешивания всякие и прочие глупости никому не нужные, но попробуй не приди – медсестра весь телефон оборвет, делать ей больше нечего!) одна отправилась. Ну, то есть с Катюшкой, конечно.
А потом они позвонили и сказали какую-то чушь. Что Анжела вдруг потеряла сознание и умерла прямо там, в поликлинике. Вот как такое может быть? Там же одних врачей сто штук, не считая медсестер! А у них человек прямо перед носом умирает – как это?!
Катьку сразу забрала эта проклятая семейка. А я и не возражал.
Зачем? Мне никто не нужен, раз Анжелы, моей Анжелы, моего нежного ангела больше нет. И меня теперь нет.
Пустота.
Пустота.
Густая, непроглядная, вязкая, как смола. Знакомый багровый свет расчерчивает ее жутковатыми пляшущими бликами.
Тот же камин. Тот же стол с клубящимися в стеклянной черноте звездами. Те же два кресла подле. Но сейчас пусты оба они. И стакан на столе только один.
Движимый злостью, обидой, чувством противоречия – черт знает чем! – я плюхаюсь в то кресло, в котором раньше сидел дьявол. Ну, или кто он там был, неважно.
Вместо мягко обнимающего кожаного уюта меня охватывает антарктический холод. Словно это не кресло, а сугроб. Провожу рукой по сиденью – ладонь на мгновение ощущает кожаную шершавость и тут же мертвеет от пронизывающего ледяного холода.
Согреться! Как угодно – только согреться! Смешно – умирать от холода в метре от пламени камина. Но я не чувствую этого пламени. Видеть – вижу ясно, но – никаких горячих или хотя бы теплых дуновений. Как Буратино перед нарисованным очагом.
Как холодно! Хватаю тяжелый – полный – стакан и выпиваю залпом. Рот, горло, живот – все тело наполняет вязкая тягучая горечь.
Горечь потери.
Я не хочу, не хочу этого вспоминать – и вспоминаю. Тогда я хотел расстрелять только Андрея. Это он, он убил Анжелу. Мою Анжелу. Моего ангела. Просто взял и выбросил, когда она не захотела больше быть его послушной марионеткой. Любой ценой доказать свою правоту хотел. Или свое господство восстановить. А! Какая разница, чего он хотел. Пальцем не шевельнул, чтобы помочь. Знал, как ей будет тяжело, и радовался, сволочь!
Мог ли я его не убить? Тем более в годовщину того дня, когда он выкинул нас из своего дома.
Остальные?
Остальные просто под руку попались. Забавно, как они все, не сговариваясь, в этот дурацкий «Чайник» приперлись. Р-романтики хреновы! Но так еще и лучше. Ни один из них – ни один! – не то что не двинулся, слова не молвил, чтобы нам помочь. Им было наплевать. А может, еще и радовались, что отец Анжелу выгнал – меньше претендентов, больше денег достанется.
Стакан опять оказывается полон, и меня это почему-то совсем не удивляет. Горькое зелье, кажется, уже пропитывает меня насквозь, до последней косточки, до последнего нерва, но я продолжаю глотать и глотать, не отрывая взгляда от багровой, рыжей, золотой огненной пляски в каминном жерле. Языки пламени завораживают, вьются, сплетаются, в их линиях я вижу то фантастических крылатых существ, то загадочные иероглифы, то лица. Лица, дьявол бы их побрал! Такие, какими я видел их год назад. Слегка нахмуренное, словно бы в задумчивости – Веры. Равнодушное, с фальшиво изображаемой – я актер, уж я-то в этом понимаю – заинтересованностью – ее тупого отпрыска, мамочкиными стараниями дорвавшегося до богатства и пожирающего доставшееся с жадным свинским чавканьем. Словно бы удивленное – ах, святая невинность, как бровки-то поднимает! а на самой клейма ставить негде! – дешевой потаскушки Насти. И – ах, чтоб тебя наизнанку вывернули! – презрительная усмешка Андрея Александровича.
Вот уж кто заслужил адское пламя! И он, и все они!
Тошнит глядеть на эти рожи!
Тошнота плещется в желудке, подкатывает к горлу, затопляет мозг. Мерзкие людишки! Копошатся, как пауки в банке, готовы поубивать друг друга, а все потому, что на кону – огромное наследство. Отвратительно. Как я мог быть каждым из них? Еще и спасти их пытался! Да одним воздухом с ними дышать – и то противно.
– Да неужели? – Шепот, почти неслышно прошелестевший в голове, буквально оглушает меня.
Что это? Голос? Тот самый? Решил «спасти меня из лап дьявола»? Или…
– Они, значит, мерзкие и потому заслуживают смерти, а ты весь в белом? И у Анжелы на шее не ты сидел? А когда любимая женщина сломалась под тяжестью, которую ты даже не попытался облегчить, кого обвинял в ее смерти? Всех, кроме себя? И на несправедливость судьбы не ты все списывал? И дочь безропотно отдал в чужие руки – не ты?
Отвращение к себе скручивает желудок спазмами…
Во рту кисло и горько, на грязном линолеуме расползается отвратительная желто-серая лужа…
Но голова, как ни странно, прояснилась.
– И кого же это ты, сияющий рыцарь, во всех на свете мерзостях упрекаешь? Жестокого диктатора Андрея? Который всех кормит, поит и вообще содержит? Причем денежки на это не своровал, а заработал. Настю, потому что спит с кем ни попадя? Да тебе-то что за дело? Племянницу-то, которую ей насильно, по сути дела, навязали, она худо-бедно обихаживает? Не своего собственного ребенка – ребенка не слишком любимой сестры. Однако в дом малютки не подбросила, папаше – тебе! – сплавить не пытается, заботится, как умеет, хотя вовсе не обязана. Вера тебе мерзкая? Считаешь, она за бриллианты и норковые шубы с Андреем связалась? И где те бриллианты? Да при таких деньгах она могла бы мужу-паралитику двадцать сиделок нанять, а сама на Багамах загорать. А она с ним нянчится. Миша тебе гадок? А может, он просто глуп по молодости? От кого же это тебя так тошнит? На других стрелки переводить куда как просто, – шелестит оглушительный шепот. – Обвиняя других в том, что они отвратительные монстры, мечтающие о наследстве, ты просто пытаешься оправдать собственную слабость и никчемность.
Я зажимаю уши. Не помогло.
Никакой это не Голос. Точнее, голос, конечно, но мой собственный. Как его там? Внутренний голос? Совесть? Тихий шепот, который оглушительнее сотни колоколов. Который хочется заткнуть любыми средствами, хоть бы даже головой об стену. Потому что говорит он – правду.
Может, все прожитые мной персонажи и не ангелы, но они хотя бы не старались списать свои грехи на кого-то другого. А я? Только попытался взять на себя ответственность – я вспомнил бездонный провал повернутого к себе пистолетного дула и вздрогнул – и тут же испугался возмездия за поступок. А ведь если уж кто в этой ситуации и заслуживал смерти, так это я сам. Самоубийство было самым честным выходом.
– Честным? Вот те на! – упрямо шелестит в мозгу. – Дочку круглой сиротой оставил, это ничего? Мать умерла, отец застрелился – ай, молодца, вот девочке-то счастье жить с таким анамнезом!
Я что, издеваюсь сам над собой? Шизофрения какая-то.
В заляпанной полированной дверце одежного шкафа смутно отражается чья-то перекошенная физиономия. Моя, вероятно. Из-за спины подмигивает циферблат настенных часов. Мы покупали их – я помню, помню! – с Анжелой: улыбающаяся кошачья морда с фосфоресцирующими усами-стрелками. Левая чуть выше правой и неуклонно движется к вертикали.
Без пяти два. Темнота. Два часа ночи. Час Быка. Где-то когда-то в какой-то «прошлой» жизни я читал, что именно в это самое темное предрассветное время случается больше всего самоубийств…
Не дождетесь!
Вытащив из-под кухонной раковины половую тряпку, я собираю грязно-желтую лужу. Получается плохо. Тряпка изрядно заскорузла, а дотрагиваться до мерзкой жижи страшно: кажется, едва коснешься – проест насквозь, до кости, а то и вместе с костью, и руки стекут на дряблый линолеум такой же грязной жижей.
Лужа, однако, исчезает почти бесследно. Хотя я почему-то ожидал, что на линолеуме останется как минимум выжженное пятно. Или даже дыра с черными, рвано обугленными краями. А вот и нет. Только грязные разводы. Но это, честное слово, пустяки, это я вмиг отмою.
Заталкиваю изгаженную тряпку в первый попавшийся пакет, швыряю к входной двери. Включаю свет во всей квартире. Глядеть на последствия скольки-то-там-недельной пьянки, честно говоря, жутковато.
Ну да ничего. Ремонт вот прямо сейчас я не сделаю, а грязь ликвидировать – уж это точно в моих силах.
Из-под кровати извлекаю две – а, нет, три – футболки. Сойдет. Раздираю добычу на тряпки. Тряпок – обозреваю постзапойный пейзаж – понадобится много.
Пускаю в ванну теплую воду и почти без разбора швыряю туда постельное белье, кучкующиеся там и сям рубашки, джинсы, полотенца, черт знает что еще, туда же отправляются содранные с окон шторы – пусть все это хоть немного отмокнет.
Методично выгребаю изо всех углов окурки, осколки, мятые сигаретные пачки, паутину. На кухне от меня сломя голову убегает маленький серый паучок. Не бойся, милый, иди сюда! Подставив ладонь, транспортирую «зверя» за окно: извини, дорогой, в квартире ты больше жить не будешь.
Отключаю холодильник, который, по идее, тоже неплохо было бы помыть, все равно там ничего нет, кроме плесневелого сыра каменной твердости и двух гнилых луковиц. Ну, почти ничего. В морозилке стынет большая бутылка водки.
Я откручиваю пробку – вылить! вылить эту дрянь сию же секунду! – и останавливаюсь. Значит, она все-таки победила? Значит, я такой слабак, что рядом с Ее Величеством Бутылкой тут же превращаюсь в марионетку? И не выпить могу, только если ничего нет? Да в конце-то концов, кто в доме хозяин – я или мыши?
Усмехнувшись, завинчиваю пробку, сую бутылку куда-то в угол. Ничего, мы еще повоюем. Я потерял Анжелу, я проиграл сражение. Но проиграть сражение – еще не значит проиграть войну. Я пока живой. И Катюшка пока живая. Вот пусть и дальше так будет.
Чищу, мою, скребу, вытаскиваю на помойку мешки с мусором. Даже напеваю: «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер!»
Заоконный мрак постепенно сереет, светлеет, наливается слабым золотистым сиянием. Такой свет бывает только в сентябре: даже когда нет солнца, все вокруг озарено теплым золотом, светится, кажется, сам воздух.
Уютно гудит стиральная машина, переваривая очередную порцию белья. В раковину сильно бьет веселая белая вода. Я слизываю с руки брызги – сладко.
Почему-то вспоминаю, как наводил порядок перед тем, как встречать Анжелу из роддома. Гордился собой страшно. Как же! Бутылки вынес – квасил-то, кажется, все пять дней без продыху, вот как переживал! – и даже полы помыл. Герой!
На больничном крыльце жадно прижимал к себе своего странно похудевшего ангела, царапал ее щетиной, дышал перегаром, скотина! А она не отворачивалась, нет – она улыбалась мне! И дома, еще слабая после родов, принялась драить раковины, окна, стены – и хоть бы слово упрека!
Алексей – значит «защитник», говорила она. И улыбалась: ты мой защитник, с тобой мне ничего не страшно. З-з-защитничек!
Страшно захотелось дать самому себе в морду.
Стоп. Не надо сейчас об этом думать. Виноват, да. Проиграл, сдался – да. Но жизнь продолжается. Схожу на кладбище, попрошу у нее прощения. Да хоть в церковь, лишь бы услышала! Но – не это ведь главное. Попросить прощения – это только слова. Даже если внутри все разрывается от боли, если стыд едкой кислотой выжигает нутро, оставляя сухие серые хлопья. Это, мальчик, твои личные проблемы. Все твои переживания не стоят ровным счетом ничего. Единственное, чем ты можешь сейчас заслужить прощение Анжелы – да ведь она тебя и не обвиняла, никогда, ни в чем, ни словом, ни взглядом, – это позаботиться о Катюшке. А корчиться от стыда, боли и тоски можешь в свободное от этих забот время. Если оно останется. И лучше бы его не оставалось. Потому что, если осталось, значит, ты недостаточно тратил время на свою собственную дочь. Хватит уже упиваться собственными терзаниями, хватит!
За окном небо уже налилось прозрачной – только осенью такая бывает – голубизной. Асфальт разрисован по-утреннему длинными тенями. Солнца не видно, оно с другой стороны дома. Вот и отлично! Самое время помыть окна.
И снова тру, споласкиваю, отжимаю, снова тру как заведенный. Рамы и кухонные шкафы – да и холодильник тоже – отмываются плохо. По какому-то наитию я отрываю от очередной футболки чистую тряпку, наливаю на нее водки… Ура! Победа! Знаете, оказывается, водка отлично отмывает крашеные поверхности. И пластик. И зеркала. И просто стекло – окна прозрачны, словно их вовсе нет.
Воняет, конечно, что да, то да. Но с распахнутыми окнами запах выветрится быстро.
Развешиваю в ванной и на балконе последнюю порцию свежеотстиранного белья.
Цепляю на окна обнаруженные в глубине шкафа чистые шторы – бледно-желтые, солнечные, с тонкими рыжими искрами.
Ну вот.
Чисто.
Время.
Выхожу из квартиры, спускаюсь по лестнице. Соседка с первого этажа глядит на меня не то как на исчадие ада (вот уж воистину!), не то как на небесного духа. Ну да, еще бы ей не изумляться, я ж всю ночь мимо ее двери мешки с мусором на помойку выносил. А, пусть думает, что хочет.
Ноги сами несут меня к «Желтому чайнику».
Толстая липа напротив входа на террасу просверкивает сквозь пыльно жухлую серость листвы теплым сентябрьским золотом. Стена дикого винограда подернулась рыжим, багровым, коричневым, словно живая зелень постепенно превращается в жестяные поделки.
Настя со своим соседом сидит в глубине, я их едва вижу. Поближе, в двух-трех столиках от них – Миша. Майкл, да. Смешно. Он улыбается Соне и, кажется, ужасно доволен происходящим. Из подъехавшего справа минивэна Вера выкатывает кресло, из-за спинки которого мне виден пронзительно-седой затылок. А ведь Андрей в одночасье поседел после смерти Анжелы. И инвалидное кресло – куда более жестокое наказание, чем смерть…
Кажется, когда-то я хотел его убить. Дичь какая!
Опускаю руку в карман – пусто. Пусто! Никакого пистолета!
Может, в этот раз ничего и не будет? Поговорю с Настей, заберу Катерину – я все-таки отец, не возразишь. Екатерина Алексеевна! С ума сойти!..
В дальнем конце улицы смутно различима фигура полицейского. Далеко, но я готов поручиться чем угодно – это тот самый полицейский, что застрелил меня в первый раз! Пожилой. Идет медленно, но, несомненно, в эту сторону.
Снова трогаю карман – пусто. Пусто, черт побери!
Улица перед «Желтым чайником» тиха и почти пустынна. Мимо меня с деловым видом проходит молодой человек в строгом костюме – в такую-то погоду! – типичная офисная крыса.
Метрах в пятидесяти чешут языки две старухи, мимо них пролетает веселый пацаненок на самокате. Близко, почти задевая. Одна из старух грозит ему вслед палкой.
На крышке водопроводного люка рассыпаны крошки. Вокруг громко болбочут толстые ленивые голуби. Из-за липового ствола за ними следит трехцветный кот с драным ухом. Прижался к земле, прыгнет…
Голуби шумно взлетают. Кот шарахается в сторону от появившейся из-за угла смешной толстухи в пестром балахоне до пят, приседает на задние лапы, разевает пасть – шипит возмущенно.
Пожалуй, я тоже на такую зашипел бы: балахон разрисован какими-то дикими загогулинами, поверх навешано килограмма два цепочек, кулончиков, черт знает чего еще, вся эта бижутерия звенит и дребезжит, как тачка с металлоломом.
Толстуха кажется мне смутно знакомой. Где я ее видел?
Она сворачивает на террасу «Желтого чайника»… и я вспоминаю! Это не мои воспоминания – но я именно вспоминаю!
Крик вылетает из кафе, как снаряд из артиллерийского орудия:
– Сдохни, тварь!
Выстрела я не слышу, но вижу все неправдоподобно отчетливо. Как будто во время грозы, когда сверкнет молния. И так же отрывисто. Не движение событий, а цепочка отдельных кадров…
…Настя сжимает руки под грудью и сползает – стекает, точно в теле ее нет ни одной косточки – на пол. Колени поджались к животу, девушка скорчилась комочком, напоминавшим скорее кучку тряпья, собранного для стирки, чем человеческое тело. Из приоткрытого рта вздуваются кровавые пузыри.
…не могу двинуться с места…
…полицейский, услышавший выстрел, бежит, тяжело хватая воздух по-рыбьи раскрытым ртом, тащит из кобуры пистолет, дергает…
…Андрей Александрович вскакивает с инвалидной коляски одним слитным движением, как актер, играющий калеку, встает после крика режиссера: «Стоп! Снято!» Делает к жуткой женщине шаг, другой:
– Марина! Ты… Она же твоя дочь!
– Ты врешь, врешь, врешь! – страшно разинув рот, орет она и пытается дотянуться до его лица скрюченными, как когти, пальцами. – Это твое отродье! Ты мне их подсунул, чтобы они из меня кровь сосали так же, как и ты! И сейчас врешь! Инвалидом притворился! Ненавижу!
Про пистолет Марина, кажется, забыла – правая рука, сжимающая его, висит сломанной веткой. Андрей Александрович протягивает руку, чтобы отнять оружие, – и не успевает.
…мне кажется, он падает еще до выстрела.
…Вера падает на колено, пытаясь его поддержать…
Марина страшно улыбается:
– И ты отправляйся туда же!
…Миша оказывается перед матерью, заслоняя ее от выстрела, замирает на секунду, с удивлением глядя на темное пятно, стремительно расползающееся на зеленой ткани футболки со смешным жирафом в очках, опускается на колено, на оба, на бок, словно собирается прямо здесь поспать…
…полицейский, наконец добежавший до ступенек, стреляет…
…женщина оседает громоздкой кучей, на пестроте которой совсем не видно крови.
Трехцветный кот тычется мне в ногу, и я словно просыпаюсь.
Катенька! Я должен ее забрать!
Такси! Изумрудный огонек посреди пыльно-рыжей осенней улицы сияет, как обещание будущей весны.
Когда я плюхаюсь в машину, меня трясет так, что невозможно выдавить из себя ни звука, не то что адрес назвать. Машина, однако, трогается, и вскоре я уже вижу за окнами Настин дом. Но я же так ничего и не сказал…
– Тоже мне, бином Ньютона! – Водитель, заметив мое изумление, смеется – и тут я его узнаю! Дьявол! Ну или кто он там есть? Галлюцинация, архангел, антропоморфная визуализация моих теологических представлений.
Сиденье подо мной обтянуто темно-серой, колючей на ощупь синтетикой. Я тайком провожу по нему ребром ладони – тьфу, чешется. Ничего себе, визуализация! На зеркале заднего вида болтается круглая подвеска – «инь»-«ян», кто бы сомневался! Материал незнакомый, похожий одновременно и на металл, и на стекло. При движениях подвески «инь» и «ян» словно меняются местами: темное становится светлым и наоборот. Вот черт, мне что, думать больше не о чем?
Дьявол (или кто он там) опять смеется:
– Ну ты меня удивил! С таким потенциалом горы можно двигать и мировое правительство организовывать. Надо же так все поменять! Экая жизненная сила!
Я вспоминаю, как на Настиных губах вздувались и лопались кровавые пузыри, и в горле опять становится кисло и горько. Постой! Вздувались и лопались? Значит, она еще дышала?
– Марина их всех… убила? – выдавливаю вопрос, сглатывая на каждом слове.
Он дергает плечом:
– Убила, не убила – тебе какая разница? Это их жизни и смерти, не твои. Тебе теперь вон есть о ком заботиться. – Он тычет большим пальцем в сторону Настиного дома. Там, в одной из квартир сейчас нянчится с Катюшей соседка Галина Семеновна. – Ты же девочку хотел забрать, разве нет? Новую жизнь начать собирался… Ну и вперед! – Он ухмыляется. – Только заплатить не забудь…
Отпустив заклинившую почему-то дверную ручку, я лезу в карман, одновременно косясь на счетчик.
На черном прямоугольнике кроваво горят три цифры – 666.
Эпилог
Волны яростно бросаются на парапет набережной, вздымаются все выше, выше, словно стремясь дотянуться до низких, таких же черно-сизых туч…
Молния!
С оглушительным треском небо разрывается от зенита до горизонта, распахивая рваные края, за которыми на мгновение открывается ослепительный свет. Так в темной душной комнате рвется пополам пыльная тяжелая штора, и за ней вдруг – яркая голубизна, и доброе тепло, и бездонная свежесть…
Гроза опускается все ниже и ниже, сшивая небо и землю кривыми сверкающими стежками.
В их ослепительном свете коротко взблескивает первая сорвавшаяся с мрачного небесного полога капля. Десять, сто, тысяча… Короткие серебряные искры молний сменяются серебряными нитями ливня.
Река, принимая блудные капли, освобожденно вздыхает.
Волны, только что с остервенелым рычанием бросавшиеся на холодные камни парапета, разглаживаются, гаснут, пропадают.
Пропадают и тучи.
Распахнутый купол неба щедро осыпают крупные яркие звезды. Разноцветные, подмигивающие, как сияющие сквозь тьму окна лежащего внизу города. Ночь сгущается. И уже не разобрать, где заканчиваются звезды и где начинаются пестрые огоньки дышащих жизнью окон.