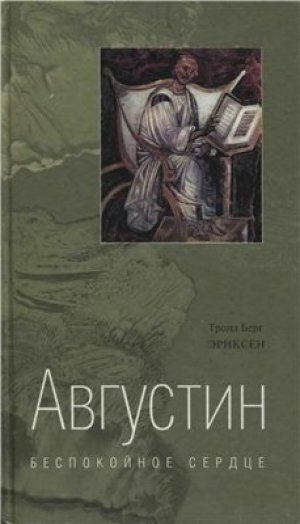
Предисловие
В книге, призванной дать читателю представление об Августине и его трудах, необходимо высветить эту фигуру по крайней мере с трех сторон: показать его как ритора (в том числе проследив за его образованием и становлением в оном качестве), как философа, который свел воедино неоплатонизм и христианство, и как пастыря, который правил своим епископством накануне развала Римской империи. Кроме того, следует коснуться беспримерного влияния его идей на современников и последующие поколения. Разделить три роли, которые играл Августин на протяжении своей жизни, весьма сложно, но можно сказать, что отчасти они соответствуют трем этапам его развития: начав как ритор, он постепенно превращается в философа и заканчивает свои дни церковным деятелем. Иными словами, сначала Августин хочет ввести мир в заблуждение, затем наблюдает за ним, а под конец пытается с ним бороться.
В наше время интерес к Августину заметно возрастает во всем мире. Свыше тысячи лет пропагандой его идей занималась тесная кучка членов монашеского ордена. Теперь же мыслитель Августин, похоже, порвал церковные узы, и его не менее часто цитируют лингвисты и исследователи риторики, специалисты по эстетике и психологи. Для приверженцев так называемой «философии мьюли» (philosophy of mind) Августин стал одним из ее основоположников. Среди тех, кто внес наиболее весомый вклад в привлечение Августина к современным философическим спорам, не последнее место занимают Чарлз Тейлор с его работой «Источники «Я»». Становление современной личности» (Taylor, С. The Sources of the Self. The Making of the Modern Identity. 1989) и историк Брайан Сток (Brian Stock), выпустивший книгу о роли чтения в мировоззрении и деятельности данного отца Церкви под названием «Августин–читатель» (Augustine the Reader. 1996). Подтверждением и результатом этого новообретенного интереса стали весьма полный и в то же время компактный энциклопедический словарь под редакцией Аллана Д. Фицджеральда ««Августин на протяжении веков» (Allan D. Fizgerald O. S. A.: Augustine through the Ages. An Encyclopedia. 1999), а также прекрасно написанный, подробный и сугубо современный труд, посвященный Августину во всех его ипостасях, — я имею в виду работу Сержа Ланселя «Святой Августин» (Lanceis, S. Saint Augustine. 1999).
Благотворно сказался на внимании к Августину и распространившийся в последние десятилетия интерес к экуменизму, поскольку Августин оказался единственным представителем древней Церкви, который пользуется уважением не только среди католиков, но и среди протестантов и приверженцев других конфессий. Кроме того, мистика Августина помогает найти взаимопонимание между западной и восточной ветвями христианства. И все же наиболее близок Августин современным религиозным индивидуалистам, которые, несомненно, воспринимают аго как своего предтечу. Между прочим, Мартин Лютер тоже был монахом–августинцем — разумеется, прежде чем стал Лютером.
Помимо всего прочего, наше время — рубеж тысячелетий — представляется особенно благоприятным для обращения к Августину, поскольку он весьма серьезно повлиял на трактовку истории в системе христианских воззрений. В его сочинении «О граде Божием», которому я давно собираюсь посвятить отдельную книгу, вкратце излагается понимание древней Церковью хода истории. Фактически в этом труде предпринимается наиболее смелая из всех попытка выявить смысл исторического процесса в целом и распада Римской империи в частности. Августин рисует картину огромного масштаба, в которой всем и каждому отведено строго определенное место.
Подзаголовок моей книги — «Беспокойное сердце» — кажется позаимствованным из дешевого романа. Но это выражение настолько точно передает мироощущение Августина, что обойтись без него затруднительно. Такая формулировка важна и в историческом плане, поскольку Августин первым описал беспокойство как основное состояние человека, как его судьбу. Бог сотворил человека прямоходящим, и это подсказка человеку, где и как ему следует искать свою цель. Люди не должны, вроде бессловесной скотины, склоняться к земле. Так ведут себя потакающие своим порочным страстям. Истинные же человеки призваны устремлять взср ввысь, тянуться душой к Господу. Лишь в Боге мы обретаем «покой» (quies), т. е. свободу от страстей и желаний. И пока мы наконец не предстанем пред лицом Создателя, сердца наши будут пребывать в «беспокойстве» (inquietum est cor nostrum). Античные стоики идеализировали бесстрастие и «спокойствие» (tranquillitas). Но Августин не считает спокойствие возможным или достойным идеалом — во всяком случае, если говорить о земной жизни человека. Здесь, на земле, наши сердца всегда будут испытывать беспокойство — и это вполне закономерно. Страшиться и желать, скорбеть и радоваться правильно, только если эти душевные волнения касаются правильных вещей (О граде Бож. XIV, 9). Беспокойство свидетельствует о том, что мы не дома, что наше пребывание в этом мире лишь временно, что мы направляемся далее.
Наиболее раннее изображение Августина находится в римском Латеране, на фреске середины VI века, где философ–богослов в епископском облачении сидит на кафедре, правой рукой указывая какое–то место в огромной Библии, а в левой держа пергаментные свитки. Он словно не хочет привлекать внимание к себе как к епископу и высокопоставленному лицу, а, склонив голову набок, приглашает верующих совершить путешествие по Великой Книге, т. е. Библии. Свитки, которые он сжимает в другой руке, символизируют античное естествознание и философию. Сам массивный фолиант служит наглядным свидетельством христианского откровения. Удивительно то, что Августин изображен сугубо по–человечески. Художник не посчитал нужным даже прикрыть лысину епископа головным убором, словно в данном случае не требовалось ни малейшего приукрашательства. Августин тоже явно не стремится выдвинуться на первый план. Он предстает в образе посредника, а все его честолюбие направлено исключительно на найденное им сокровище, которое он хочелг показать проходящим мимо.
Все, кто писал о жизни Августина, включая его самого, неизменно задерживались на более ранних ее этапах, когда он еще не стал священником и тем более епископом. Его юношеские годы изобилуют драматическими событиями и прочими необычными эпизодами. Легко забыть, что потом, будучи епископом, Августин сорок лет подряд исполнял одни и те же обязанности, — этот период дает биографу слишком мало материала. Посвятив себя Церкви, Августин кардинально изменил свою жизнь: перешел от действий к высказываниям. Драматизма в ней от этого не убавилось, но теперь Августин выражал себя в полемике и в поучениях, с которыми он обязан был выступать в качестве епископа.
Итак, биография нашего героя должна включать и знакомство с его сочинениями. Ведь именно в текстах возмужавший епископ продолжал борьбу, которая не раз приводила к резким переменам в его жизни. Августин превосходит всех писателей древности по количеству и разнообразию трудов, дошедших до нашего времени. Только в прошлом веке обнаружилось множество писем и проповедей — весомый добавок к череде фолиантов, для прочтения которых и так требуется целая жизнь. В 1981 г. было издано 30 новых писем Августина, найденных австрийским ученым Йоханнесом Дивьяком (Johannes Divjak), во вновь опубликованных манускриптах сперва в Марселе, затем в Париже.
Можно ли извлечь из сочинений Августина идеи, которые бы пригодились нам сегодня? Увы, таковых очень мало. Непосредственный перенос истин из одной эпохи в другую всегда дело рискованное, тем более что Августин был так погружен в проблемы своего времени. Среди того немногого, чему мы можем у него поучиться, — его умение глубоко вникать в эти проблемы. Если мы считаем, что библейская и церковная традиция еще способна поставлять образцы, объясняющие, что значит быть человеком на этом свете, пример Августина подсказывает нам, что мы не ошиблись в выборе: никто не занимался такими объяснениями основательнее его.
В восточном богословии говорят: Троица — это три лица, выражающие единую сущность. В западном богословии вслед за Августином говорят иначе: Троица — это одна сущность, предстающая в виде трех лиц. В последнем случае больше акцентируется равноценность божественных ипостасей. Как нам известно из истории церкви, подобные абстрактные и в конечном счете чисто словесные разногласия могли иметь серьезные организационные и политические последствия. Изучать процесс формирования христианских догматов необыкновенно интересно, поскольку из него явствует, что человек прежде всего словесное существо, спасение или погибель которого иногда зависит от какого–нибудь незначительного нюанса формулировки.
Любому должно быть ясно, что наши словесные излияния ни в коей мере не воздействуют на Бога — независимо от Его желания или нежелания вмешиваться в наши споры в качестве третейского судьи. Вот почему особенно увлекательно следить за жаркими баталиями по поводу какого–нибудь прилагательного или союза, баталиями, которые могут с неослабевающей силой продолжаться веками. Единственное, что вне всякого сомнения подтверждает история догматов, это что человек полностью отождествляет себя со своими знаками и символами. Само представление о священном тексте и полемика о догматах стали школой использования понятий, которая оказалась плодотворной для развития всех прочих областей, оперирующих символами: юриспруденции, литературы, философии и естествознания. Именно невыполнимость интерпретационных задач, которые ставили перед собой таллектуальных способностей.
В своих попытках разгадать тайну Троицы Августин едва не выходит за грань осмысленного. Божественное существо, утверждает он, обладает абсолютным совершенством, одинаковым для всех трех ипостасей. Тождество этих ипостасей столь абсолютно, что не только Отец не может быть больше Сына, но ни одна из составляющих существа не может быть меньше всей Троицы (О Троице, VIII, 1)! Или, выражаясь несколько иначе: «Отец, Сын и Дух Святой каждый сам по себе — Бог. В то же время они суть единый Бог. Каждый из них представляет собой целиком и полностью божественное существо, но одновременно они составляют единую божественную субстанцию. Отец — это не Сын и не Дух Святой. Сын — это не Отец и не Дух Святой. Дух Святой—это не Отец и не Сын. Но Отец — это только Отец, Сын — это только Сын, а Дух Святой — это только Дух Святой. Все трое обладают одинаковым бессмертием, одинаковой неизменностью, одинаковым величием и одинаковым могуществом» (О христ. учен. 1,11–12).
Человек, тратящий силы на построение подобных формулировок, явно считает собственную жизнь вписанной в повесть, малейшее изменение которой следует рассматривать как физическое покушение на жизнь повествователя. При этом неважно, что такая ревностность обращается к предметам воображаемого мира. Августин первым подчеркивал мысль о том, что с помощью слов нам никогда не удастся до конца познать божественную тайну. Тем не менее он готов подвергать порке еретиков, отлучать от церкви ослушников, а также днями и ночами размышлять над смыслом Священного Писания. Такое поведение нельзя назвать внутренне противоречивым или аморальным, оно всего лишь несколько парадоксально, т. е. человечно.
До самой середины XVIII века сочинялось множество богословских трудов, в которых систематизировались высказывания Августина и других отцов Церкви о пороках и добродетелях, Боге и ангелах, пророках и апостолах, грехе и благодати, литургии и таинствах. Теперь эти тома пылятся на полках букинистических магазинов, нечитаные и незаслуженно дешевые. Нельзя сказать, чтобы за истекшие века человечество поумнело или ушло далеко вперед. Просто мало кто согласен вписать свою жизнь в ту повесть, которая некогда была вопросом жизни и смерти для Августина. Старинная вязь идей и понятий сменилась узором более простым и современным — не потому, что была доказана несостоятельность прежней, но оттого, что по непонятным причинам она утратила способность приносить самую богатую добычу.
Ни современная психология, ни этика, ни обществоведение или метафизика не предлагают нам столько тонких наблюдений и взвешенных суждений, сколько высказано, например, в грандиозном труде «Сумма теологии» Антонина Флорентийского (Antoninus Florentinus. Summa theotogica. 1458) или не менее фундаментальной «Латинской библиотеке» Джана Доменико Манси (Gian Domenico Mansi. Bibliotheca Latina mediae et rnflmae aetatis. 1754). Оба высокоученых монаха пали безымянными на поле чести, поскольку их традиции умерли немедленно по завершении этих колоссальных трудов. Вклад Августина в историю западной теологии в основном сокрыт в таких же сборниках, среди которых можно, в частности, назвать «Сентенции» Петра Ломбардского (Petals Lombardus. Sententiae. 1160), служившие в раннем средневековье основным учебником богословия для всей Европы и на девять десятых состоявшие из текстов Августина. Пробудить к жизни эту часть Августинова наследия сейчас невозможно никакими силами.
Тем не менее Августин через все препоны времени напрямую говорит с нами в «Исповеди», а также при описании своего мистического опыта. Удивительно другое: очень немногие согласны прислушаться к великому сочинению Августина — хотя почти все безоговорочно признают, что современный человек существует в рамках давних мировоззренческих конструкций. Историки всегда много писали о том, почему кто–то выходит победителем и избегает забвения с течением времени. Не менее интересно было бы разобраться и в том, почему какие–то идеи оказываются в проигрыше и забываются, хотя старое и новое могут не обменяться ни единым выстрелом в прямом противостоянии.
Получим ли мы после воскресения из мертвых тела, схожие с ангельскими? Августин сомневается в этом, поскольку не знает, какие тела у ангелов. Не уверен он и в том, сколько ангелов поет в разных небесных хорах. Весьма туманно высказывается он и по поводу ангельской власти как в отношении Бога, так и в отношении человека. Ангелы любят нас и желают, чтобы мы поклонялись правильному Господу (О граде Бож. X, 7). Августин убежден, что ангелы не совечны Богу (О граде Бож. XI, 32; Исп. XI, 17), но долго ли они пребывали в небесном блаженстве, пока некоторые из них не последовали за Люцифером в его падении, он сказать не может. Однако же он знает, что добрые и злые ангелы по сути своей одинаковы и что добрые блаженны, тогда как злые несчастны (О граде Бож. XII, 1 и 6).
Отпадение от Господа связано в первую очередь с тем, что ангелы злоупотребили свободой воли. Изначально ни одного из них не сотворили злым. До самого Судного Дня падшие ангелы будут носиться туда–сюда в земной атмосфере и подстраивать злосчастья. Наказание в аду ждет их только после второго пришествия (О граде Бож. XXII, 3). В наше время они существуют в виде демонов, которые распространяют по свету беды, неудачи и болезни. Некоторые из нас умеют творить чудеса, мысленно направляя действия демонов. Точно Августин знает об ангелах одну–единственную вещь: у каждой твари есть ангел–хранитель. Даже звездам положено по ангелу, которые управляют их передвижением. Кроме того, ангелы могут рассказывать тем, кто еще жив, новости из царства мертвых (ср. Лк. 16, 30). Праведные уже теперь получают дополнительную поддержку от ангелов, среди которых им предстоит жить в небесном Иерусалиме. Нередко ангелы творят чудеса с дозволения Господа и по его распоряжению (О граде Бож. X, 8).
Следует прибавить, что в эпоху Августина ангелов предствляли бескрылыми юношами, которые могут мгновенно явиться и столь же мгновенно растаять в воздухе. Современное представление об ангелах отталкивается от образов греческой или римской богини победы — Ники или Виктории. Во времена Августина греческая и римская богини победы еще зримо присутствовали в городах, о чем мы можем судить, в частности, по борьбе, развернувшейся в 384 г. из–за святилища богини Виктории в здании римского сената. Вот почему христианские ангелы могли сбрести образ Виктории или Ники лишь после того, как языческие божества перестали играть свою первоначальную роль. На протяжении всего средневековья изображения Виктории продолжали красоваться в Риме на триумфальных арках. Но постепенно народ стал забывать, кто она такая и чему служат ее образы. Тогда–то и стало возможно их отождествление с созданиями, которых в христианских текстах называют «ангелами». Один из парадоксов истории заключается в том, что язычник Симмах выступал за сохранение в сенате скульптурного изображения, ставшего прообразом ангелов, тогда как христиане не менее страстно требовали убрать его!
Августиновы ангелы в основном заимствованы из нео-· платонической философии, но привязаны к различным историям о мистических посланцах из Ветхого и Нового Заветов. В учении об ангелах Августин без излишнего скептицизма дает волю творческой фантазии, населяя мир живыми существами, от которых, видимо, была большая польза, но с которыми он едва ли многократно сталкивался сам. Чисто логически можно сказать, что ангелы исполняют весьма важную роль, на которую к тому же не было других претендентов: будучи орудиями Божия промысла, они служат посредниками между вечностью и преходящим (О граде Бож. X, 15). При столь резком разграничении земного и божественного, какое характерно для неоплатонизма и Августина, необходимо было дополнить картину мира связующими звеньями, иначе жизнь в этом мире казалась слишком неуютной. С помощью ангелов и их падших собратьев, демонов, воплощались отношения между вечностью и земным, бренным, преходящим. Если человек всерьез хотел быть вписанным в великую Августинову повесть, ему было не обойтись как без ангелов, так и без демонов.
Если в этом изложении учения Августина об ангелах кто–то усмотрит отстраненность или иронию, они непреднамеренны, хотя и неизбежны. Разумеется, индивидуум обладает безграничными способностями к вере, однако Для каждой эпохи существуют свои ограничения. Если в IV веке положения, выдвигавшиеся Августином, обеспечили ему центральное место среди тех, кто полемизировал о Путях Провидения, то в наше время поборника тех же идей неминуемо сочли бы маргиналом. В связи с этим у меня возникает вопрос — скорее исторический, нежели богословский. Почему стало невозможно верить в ангелов? В эпоху, когда литературоведение, физика, астрономия, психология… да чуть ли не все науки порождают огромное множество понятий, которые выходят за рамки конкретного и поддающегося осязаемой проверке, почему в ангелов труднее поверить, чем в герменевтический круг, кварки, антивещество или неврозы?
Возможно, мы утратили способность читать религиозные тексты так, как это следует делать. В соперничестве с прочими авторитетами церковно–религиозная традиция привыкла отстаивать свои истины в том же стиле, как доказывают свои историки или естествоиспытатели. Вместо того, чтобы спорить с Коперником и Галилеем, Ньютоном и Дарвином, Фрейдом и Моно, Церкви предпочтительнее было бы уделить внимание своеобразию собственных истин. Развернувшееся вовсю соперничество с современной наукой привело ее лишь к отходу от мира образов и личных переживаний. В результате место церковных обрядов заняли различные виды искусства, в которых теперь проявляет себя новая религиозность, нашедшая иные формы для применения своей фантазии, нежели жизнь в угоду Богу.
Так великие сочинения Августина проиграли битву за души. Он и проиграл не потому, что его тезисы утратили правдоподобие (правдоподобием они никогда не отличались), и не потому, что им недоставало теоретической отточенности (этого у них было с избытком), а исключительно потому, что, когда Церковь в своем стремлении оспаривать научные истины отказалась от опоры на воображение, Августиновы тезисы просто стало невозможно представить себе. Если Бог умер, в этом виноват не Августин, а те, кто лишает себя его интеллектуальных изысков, не признавая за богословами и философами того же авторитета, что и за представителями естественных наук. Августин мечтал о том, чтобы точные науки заняли подчиненное положение по отношению к религиозно–философским откровениям (О Троице, XII, 12 и 15). Эта мечта принадлежит прошлому, однако никому не возбраняется надеяться, что когда–нибудь в мире смогут сосуществовать самые разнотипные истины. История религиозной мысли помогает нам сохранять память о такой возможности.
Из Монцы ходит обшарпанный пригородный поезд на север, к озеру Комо. Он идет не напрямую в Лекко, а кружным путем, связывая с Миланом неказистые предместья и промышленные предприятия с дешевой рабочей силой. Протрясясь около часа, поезд доползает до Кассаго–и–Брьянца, который многие считают Кассициаком, где осенью 386 года Августин сочинял свои первые философские диалоги. На станции нет ни одного железнодорожного служащего, вход в туалеты замурован, но здания недавно отремонтированы за счет местного охотничьего союза, о чем сказано в специальной табличке. К станции примыкает территория какого–то промышленного объекта, а до центра отсюда, как мне подсказали, топать с километр без тротуара. Вообще–то туда изредка ходит автобус, но расписание его известно только местным жителям.
После пятнадцатиминутной прогулки с риском для жизни, в облаках пыли, которую поднимают проносящиеся мимо грузовики, я добираюсь до заурядного и довольно неказистого поселка на холме — в таких местах любили, спасаясь от летнего зноя, обосновываться римляне. С северной стороны открывается вид на заснеженную вершину горы Гринья в Бергамских Альпах и на Монте–Санто–Примо, возвышающуюся между двумя заливами озера Комо. Одна из основных улиц поселка носит название виа Сан–Агостино, по чему я догадываюсь, что попал туда, куда стремился.
В церквушке на гребне холма я обнаруживаю статуи Моники и Амвросия, под самым куполом, и крохотную часовенку с мрачными фресками, на которых изображены эпизоды из жизни Августина в Кассаго. Впрочем, главная здешняя достопримечательность находится за храмом — это заброшенный парк с развалинами и двумя высоченными пальмами, вероятно, призванными напоминать посетителям об Августиновой родине, Африке. Посреди парка — мемориальная плита, которую поставили в 1986 году в память событий, якобы происходивших в этих местах тысячу шестьсот лет тому назад. На огромном бронзовом барельефе — Августин с гусиным пером в руке, а сзади него, чуть справа, выглядывает из–за портьеры Мойика, как бы говоря: «Обед готов!» Августин, склонив голову набок, откликается вопросом: «Пожалуйста, можно я попишу еще немного?»
Высокопарная подпись к барельефу гласит, что Августин удалился сюда, на виллу Верекунда, дабы отдохнуть от «мирской суеты» (aestus saeculi) в обществе своих самых близких друзей. Разумеется, местные власти сделали трогательный вклад в споры о местонахождении античного Кассициака, однако едва ли его можно назвать слишком убедительным. На обратном пути я спрашиваю официантку в привокзальном баре, много ли туристов приезжает в Кассаго полюбоваться местом отдыха блаженного Августина. Она окидывает вызывающим взглядом мои черные туфли, темные брюки и синюю зимнюю куртку, на мгновение задерживается на обручальном кольце и отвечает: «Нет, только священники».
Теперь мне остается поблагодарить Яна Линдхардта, епископа Роскилльского, и моего коллегу Яна Шумахера за то, что они взяли на себя труд прочитать рукопись и высказать предложения по ее улучшению. Заслуживает благодарности и Оддмунд Йелде и как переводчик на норвежский десяти первых книг «Исповеди» (этот перевод используется в данной работе), и как эрудированный и неизменно старавшийся помочь преподаватель университета, которому я обязан своим знакомством с Августином. Я также благодарен Кнуту Улаву Омосу, в очередной раз проявившему себя замечательным издательским редактором и немало вдохновлявшему меня.
Малоя, 22 июля 2000 года Тронд Берг Эриксен
Глава I. Век Константина Великого
Если события IV века можно отнести на счет воли и решений одной личности, то такой личностью был император Константин Великий. В военном отношении он, придя к власти, совершил примерно то же, что некогда Цезарь. Константиново войско размещалось частично в Англии, а частично в долине Рейна, когда он задумал повести его против своих соправителей. Как ни отговаривали Константина, как ни предостерегали, он перевалил через Альпы и двинулся на Рим, где в 312 году наголову разбил у Мульвийского моста второго цезаря Максенция.
По причинам, в которых нам не суждено до конца разобраться, Константин полагал, что одержать эту победу ему помог христианский бог. За исключением гонений на христиан при императорах Деции (в 249–251 гг.) и Диоклетиане (в 303–305 гг.), некоторое время до прихода к власти Константина вокруг новой религии царило относительное затишье. Обращение же Константина в христианство поставит этот культ в центр государственного внимания. По утверждению императора и его приближенных, только христианскому Богу было под силу обеспечить salus publica (благо государства). Себя Константин называл servus Dei, или «раб Божий». Вся его семья тоже приняла новую веру. Особенную набожность проявляли мать и теща, которые совершали паломничества в Святую землю, собирали реликвии и поощряли возведение церквей в нескольких святых городах, особенно в Риме. Константин окружил себя христианскими советниками и идеологами, в числе которых были Евсевий, Лактанций и Осия.
Император сразу же взял дела Церкви в свои руки. Политическое признание нового культа обернулось политическим контролем над Церковью. Уже в 314 году Константин созвал всех западных епископов в Арль для улаживания разногласий между ними. Император использовал монотеизм для обоснования своих полномочий. Он указывал на то, что summa divinitas (верховное божество) требует от Церкви единства и спокойствия, со всей очевидностью намекая на собственную роль — дескать, на земле обеспечить такое единство может только император. Константин был императором милостью Божьей. Он выступал не как партнер Церкви, а как ее глава.
Он стремился обеспечить христианству место в политической жизни, раньше отведенное культу Юпитера и других богов как легитимизирующей основы государства и императорской власти. Каждый год Константин созывал в разных концах страны епископальные синоды и руководил ими либо самолично, либо через своих уполномоченных. Старинный жреческий титул pontifex maximus (верховный понтифик), которым со времен Августа наделялись императоры в качестве глав государственного культа, внезапно приобрел новое значение. Все христианские священники, включая епископов, получили освобождение от уплаты налогов, поскольку их воспринимали как служителей государственного культа.
Максенция Константин победил в 312 году, но третий их соправитель, Лициний, обосновался на Востоке и до самого 324 года формально сохранял за собой часть власти, причем все это время оба воинственно настроенных цезаря всеми средствами боролись друг с другом. В 313 году Константин с Лицинием подписали в Милане эдикт о примирении, по которому христианство стало reiigio ticita (дозволенной религией). Впоследствии Лициний стал склоняться к Юпитеру и другим античным богам, тогда как Константина жесткое противостояние между двумя претендентами на единовластие склонило к Христу.
Лициний подозревал христиан в заговоре с целью захвата власти, Константин питал такие же подозрения в отношении язычников. Лициний запретил собрания епископов в надежде, что без вмешательства извне христианские группировки просто–напросто истребят друг друга. Учитывая резкость противоречий между различными группировками, его стратегию следует признать удачной: когда власть снова начала преследовать христиан, они оказались настолько ослаблены междоусобицами, что едва не погубили себя как единое религиозное направление.
Все это свидетельствует о роли императора Константина в качестве посредника. Спустя некоторое время противостояние Констанина с его соправителем вылилось в открытую религиозную войну. Через год после победы под Адрианополем Константин велел казнить Лициния и его сына (324 г.). Христианам Востока вернули имущество, отобранное у них в период правления Лициния, причем Константин, хотя и не поддерживал язычников, позволил им также сохранить свою веру. Теперь Церкви прежде всего следовало обрести единодушие в своих рядах, поэтому в 325 году Константин созвал собор в Никее. Император сам председательствовал на этом собрании, а его участники считались государевыми гостями.
Константин настоял на предании анафеме еретиков–ариан, которые не признавали учения о Христе как истинном Боге и истинном человеке. На Никейском соборе император единолично отдал победу Афанасию в споре с Арием. Для предотвращения смуты Константин сослал Ария в Иллирию, а Афанасия — в Трир. Решения собора были обнародованы как императорские эдикты.
Двадцатилетие своего правления Константин праздновал в окружении епископов со всех концов империи, а не язычэских жрецов, как можно было ожидать от римского императора. Начиная с 313 года, Константин и его семья строят один за другим: храм Вознесения в Иерусалиме, храм Рождества в Вифлееме, церковь во имя апостола Петра и церковь во имя апостола Павла в Риме, что было лишь немногим из задуманного ими. Христианские святыни обретали монументальную архитектуру, достойную государственной религии. Идея заключалась в возведении подобающих культовых зданий для новой веры Римской империи.
Храмы строились по образцу императорских зал для аудиенций. Богослужение предполагало prosKynesis, т. е. склонение ниц перед образом Христа, а потому в помещении не предусматривались скамьи для сидения (как их нет и в современных мечетях). Кроме того, Константин ввел строгие законы против евреев, этого «народа–убийцы». Он проявлял гораздо больше жестокости к иудеям и еретикам, чем к язычникам. Большая часть государственных служащих, особенно знать Рима и его окрестностей, продолжала поклоняться старым богам. Высказываются предположения, что, когда в 326 году Константин перебрался из прежней столицы в Константинополь, он сделал это, чтобы избежать строптивости римских язычников.
Рим был львиным логовом. Послание апостола Павла к Римлянам было поступком беспрецедентным, революционным. Представьте себе: человек пишет из какого–то захолустья в Рим и осмеливается давать советы и предписания, как вести себя столичным христианам! Рим привык считать себя пупом земли. «…Вышло от кесаря Августа повеление», — сказано в Евангелии от Луки (2,1), иными словами, послания должны исходить из Рима, а не наоборот. При Константине победило внешнее, восточное влияние, которое воплотилось в содержании императорских указов. Между тем ни сам император, ни прочие римляне, признав себя христианами, далеко не сразу проникались христианским мировоззрением. Для Константина Христос в первую очередь служил покровителем его воинства. Простые же римляне быстро сообразили, какие выгоды несет с собой приобщение к религии, которую объявило своей семейство государя.
Император Константин запретил выставлять в храмах свое изображение. Зато он воздвиг в римской базилике Максенция огромную статую, изображавшую его с крестом в руке. Таким образом он хотел изгнать старых богов из их святилищ. Языческие божества утрачивали былое уважение оттого, что их перестал чтить император. По мнению Константина, он был избран Богом, чтобы осуществлять Его волю на земле. Современного разделения политики и религии еще не было. Религия оставалась политической, а политика — религиозной. Лишь с начала Нового времени, с флорентийца Макиавелли (1469–1527), возникает взгляд на политику как на обособленное и весьма своеобразное поле деятельности.
Тридцатилетний юбилей своего правления Константин отмечал в иерусалимском храме Вознесения. Столь долгое пребывание у власти тоже расценивалось как свидетельство Божьей милости, ибо ничего подобного Римская империя не знала со времен Августа. Более поздняя христанская традиция в основном не жаловала римских императоров, но для Августа и Константина всегда делались исключения. В правление первого наш мир посетил Христос, в правление второго христианство обрело статус имперской религии. Приняв крещение на смертном одре, Константин упокоился в мавзолее, в окружении двенадцати кенотафов — пустых гробниц для апостолов. Император был и пожелал остаться представителем Бога на земле.
Император Константин любил называть себя «епископом», но образ жизни и погребения он избрал апостольский. В загробной жизни он хотел быть не просто апостолом, а первым среди них — тринадцатым, который бы, на манер Христа, повелевал другими апостолами. Многое указывает на то, что император хотел распространить на христианство культ цезарей. В панегирических псалмах его превозносят как «бога и владыку владык».
Интересно, что такое использование христианства со стороны императора не вызывало у верующих серьезного противодействия. Вероятно, церковные иерархи рассчитывали на привычное, относительно недолгое пребывание верховного правителя у власти. С другой стороны, они могли наконец вздохнуть после гонений на христиан Деция и Диоклетиана, хотя в отдельных случаях использование Константином христианства вызывало не меньше вопросов, чем былые преследования. Римский епископ Сильвестр, которого молва связывает с обращением Константина в христианство и легендой о его «дарении» Церкви города Рима, был весьма удивлен вниманием императора и ограничился отсылкой на Никейский собор двух наблюдателей — при том, что зван был туда самим императором.
Самое главное, что политика Константина была прежде всего религиозной политикой. Имея дело с массой претендентов на императорский престол, правителю чрезвычайно важно было обеспечить себе легитимность. Принадлежность к семейной династии никогда не играла в римской системе правления решающей роли, хотя зачастую и приносила свою пользу. Традиционно законность политической власти подтверждалась религией. После смерти Константина, последовавшей в 337 году, руководство империей перешло к трем его сыновьям, которые продолжили отцовскую политику опоры на религию. Ключом к продвижению по социальной лестнице при императорском дворе в Константинополе стала христианская вера. Тем не менее, Рим сохранял свою независимость и противостоял новой религии. Константиновы наследники поселились на Востоке и лишь изредка наведывались в Рим. Потомки старых сенаторов не поддавались новомодной вере и с сомнением воспринимали обращение в христианство императора и его сыновей.
В 361 году императором стал Юлиан Отступник, племянник Константина. Он получил христианское воспитание, был крещен и, возможно, готовился к карьере церковнослужителя, однако под влиянием пергамской школы неоплатонизма, а также неоплатоника Ямвлиха еще в юности окончательно и бесповоротно обратился к язычеству. В 355 году Юлиана провозгласили одним из цезарей, и он получил в управление Галлию. Образцом для подражания послужил ему Марк Аврелий (121–180), философски настроенный император–воин, который примерно на двести лет ранее тоже преследовал христиан. Марк Аврелий был враждебно настроен к христианству прежде всего потому, что оно угрожало традиционной вере. По мнению Юлиана, Римскую империю могло спасти только возвращение к античным богам.
Со смертью второго правителя в 361 году, Юлиан стал единодержавным главой империи. Он стремился воссоздать mos majorum (обычай предков), что по сути дела означало поклонение древним римским богам. Возрождение язычества Юлиан Отступник намечал осуществить по образцу организации Церкви. Более того, он находился под влиянием своего главного врага и в богословских вопросах. Он называл сутью религии philanthropia, или «человеколюбие». Этим греческим словом пользовались многие христианские богословы, рассуждая о Божией благодати и милосердии. Юлиан был прекрасно знаком с Библией и богословским мировоззрением, однако не разделял его.
Вот почему он хотел подорвать влияние христианства, заменить его политические функции обновленной верностью старым богам, т. е. фактически хотел повернуть время вспять.
За время своего недолгого правления император Юлиан разрешил иудеям снова отстроить храм в Иерусалиме, но землетрясение сорвало их попытки восстановить разрушенное Титом в 70 году. В 363 году, прежде чем Юлиан успел осуществить намечавшиеся гонения на христиан, его настигла внезапная смерть. Верующие торжествовали, а язычники поговаривали о том, что за этой смертью стоят христиане. В последующие пятнадцать лет в Римской империи царила подлинная свобода вероисповедания, которую обеспечили императоры Иовиан, Валентиниан и Вале нт. Рим переживал тогда период национального пробуждения, повлекшего за собой интерес к его древней истории. Самосознание нации, прежде чем его окончательно подавят, обычно на некоторое время обостряется. Значительная часть дошедшей до нас классической римской литературы сохранилась благодаря так называемому «антикварному ренессансу» в Риме, который пришелся на вторую половину IV века. Уже тоща был сформулирован лозунг «Назад к античности!». Возрождение древних обычаев и текстов шло параллельно с распространением христианства и служило противовесом его победам.
Борьба за настоящее происходила в виде борьбы за прошлое. Христиане также пытались навести мосты между эпохой преследований и периодом, когда их вера стала привилегированной имперской религией. Им необходимо было увериться самим и уверить друг друга, что Церковь осталась прежней и в условиях, радикально изменившихся по сравнению с тем временем, которое сплотило их. Точками опоры для новой религиозной культуры стали поклонение святым и реликвиям, церковные праздники и монументальная архитектура. Христианство стремилось — и могло—соперничать с язычеством на всех уровнях. Многие ощущали свою принадлежность к обоим лагерям. Они переходили из одной группировки в другую в зависимости от ситуации, не понимая, что такой выбор по сути дела исключает оба варианта.
Распространившаяся терпимость способствовала тому, что начали набирать силу аскетические и особенно фанатичные секты христиан. Истовые верующие были разочарованы отсутствием гонений со стороны властей. Раньше именно преследования вынуждали набожных отшельников селиться вдали от римской цивилизации, отказывавшей им в свободе совести. Теперь тех, кто мечтал о совершенстве, гнало в безлюдную глушь официальное признание христианства: им хотелось доказать, что они предъявляют большие требования к себе, нежели другие верующие.
В 378 году на Балканы пробились вестготы. После Валента, который пал в борьбе против них, империя перешла к Грациану (его убили в 383 году) и к Феодосию Великому. Император Феодосий был талантливым полководцем и организатором Востока. Он возродил религиозную политику Константина и в 381 году созвал очередной собор в Константинополе, где Никейский Символ Веры был объявлен распространяющимся на все христианство. На соборе Грациана с помощью красноречия и энергичной закулисной поддержки победили епископ Римский Дамас (366–84) и епископ Миланский Амвросий (374–97). Грациана принудили следовать в том же направлении, которое избрал на Востоке император Феодосий. Оба вынашивали планы превращения христианства в главенствующую, если не единственную, религию для всей империи.
Одним из символических событий стала борьба между христианами и римскими сторонниками более традиционных верований, развернувшаяся в 384 году вокруг алтаря богини победы Виктории в здании сената. Отголоски этой полемики можно найти даже в трактате «О граде Божием» (IV, 14 и 17). В конце концов статуя Виктории была, невзирая на ожесточенные протесты, выдворена из сената. Жертвенник был установлен в сенате Юлианом Отступником как символ его отступничества . Но статую и алтарь воспринимали и как реальную божественную защиту империи от вражеских армий. Присутствие богини Виктории было гарантией того, что в решающем сражении Римской империи всегда будет обеспечена победа. Император Грациан настаивал на удалении богини из сената на вечные времена. Римский епископ Даше и миланский епископ Амвросий устно и письменно поддерживали императора.
Сенат же сплотился вокруг человека, который впоследствии станет покровителем Августина, — столичного префекта Симмаха. До нас дошла речь Симмаха, сочиненная им для юного императора Валентиниана II, который унаследовал власть в 383 году, когда Грациан был убит Максимом. Речь эту можно считать последним признаком жизни, поданным язычеством. В ней содержались зачатки всех обвинений, выдвигавшихся против христиан в 410 году, после падения Рима. Христиане якобы молились об уничтожении Римской империи, подрывая авторитет древних богов и таким образом отказываясь от их покровительства. Но эти два вероисповедания были несопоставимы. В политеизме Симмаха находилось место и для христианства — он был, например, близким другом поэта Авзония, — тогда как в христианском монотеизме места для богов античного Рима не было. Нетерпимость христианства объяснялась неукоснительным требованием универсальности и исключительности, содержавшимся в понятии о единственном в своем роде христианском откровении.
Христиане никогда бы не воздвигли жертвенник «неведомому Богу», который апостол Павел обнаружил на афинском ареопаге (Деян. 17. 22–35). В разгар конфликта из–за алтаря Виктории епископ Амвросий Миланский пункт за пунктом опроверг речь Симмаха с помощью традиционных риторических приемов, которые теперь использовались во благо новой религии. И Амвросий, и Симмах сыграли значительную роль в жизни Августина. В пространном историческом экскурсе трактата «О граде Божием» Августин, в частности, пытался доказать, что лица, убравшие жертвенник Виктории из сената и таким образом лишившие страну традиционной религиозной защиты, все же не повинны в распаде Римской империи.
Тем временем живший на территории восточной церкви талантливый ритор Либаний (314–393) сочинил трактат «В защиту храмов» (Pro templis), направленный против ограбления древних храмов монахами–христианами. У старых богов все еще находились обладающие даром слова приверженцы как на западе, так и на востоке. Однако с 388 года император Феодосий Великий правил фактически единовластно, а потому во время его правления христианство было официально объявлено государственной религией. Время от времени Феодосий делал своей штаб–квартирой Милан, где еще долго, до 397 года, жил епископ Амвросий. В лице этих двоих мы впервые сталкиваемся с политическим и религиозным властителями, между которыми установились отношения напряженного, но равноправного сотрудничества: влиятельный епископ не склонен был отдавать императору роль главы Церкви.
Амвросий придерживался мнения, что император, будучи христианином, обязан подчиняться его епископской власти. Подобное утверждение было бы неслыханным при Юлиане Отступнике. Его правление словно напомнило Церкви, что ей не следует целиком и полностью доверять политическим правителям — ведь император может внезапно изменить свое отношение к христианской вере. Следовательно, Церкви нужно было учиться стоять на собственных ногах. Амвросий первым из священнослужителей пригрозил императору отлучением, чтобы добиться от него благоприятных для Церкви решений. Он также был первым епископом, который подверг церковной каре верующего правителя. Феодосий вынужден был признать свой грех и молить о прощении за то, что в отместку за восстание повелел убить в фессалоникийском цирке семь тысяч человек. Наложенное епископом наказание научило императора смирению, и впоследствии Амвросий практически стал при Феодосии министром по делам церкви.
Именно Амвросий взял на себя неприятную обязанность ограничить главенство императорской семьи над Церковью. То, что он осмелился проделать это с наипервейшим церковным благодетелем, императором Феодосием Великим, свидетельствует о тонком понимании Амвросием юридических пределов. В ведении императоров — дворцы, в ведении епископов — храмы, утверждал он. Император воцерковлен, но он не стоит над Церковью. В вопросах веры решающее слово в отношении христиан–императоров принадлежит епископу, а не наоборот. Так благодаря историческому бунту Амвросия против своего высокопоставленного покровителя Церковь превратилась в независимое учреждение с собственным кругом ответственности. Фактически угроза Церкви со стороны ее политических союзников была не меньшей, чем прежние угрозы со стороны преследователей.
В 391 году в Риме были запрещены жертвоприношения языческим богам. Запрет распространялся также на посещение их храмов и почитание их изображений. Год спустя как официальное, так и частное поклонение языческим богам запретили и на остальной территории империи. Все относящиеся к языческому культу сооружения и прочая собственность были конфискованы. Затем император Феодосий позволил монахам вернуться в города, из которых их изгнали в 390 году, что способствовало продолжению грабежей и уничтожению древних храмов, не говоря о мелкой травле жреческого сословия. В 392 году был наложен запрет на Олимпийские игры.
Еще через два года, после окончательной победы Феодосия над своим соперником Евгением, христианство стало единственным разрешенным вероисповеданием по всей Римской империи. В 399 году сын и наследник Феодосия император Гонорий со своими приближенными распустил общины при языческих храмах в Карфагене и уничтожил изображения языческих богов (О граде Бож. XVIII, 54). Августин неустанно обращается к отдельным историческим событиям и положениям, дабы продемонстрировать их богословское значение. В типичной для себя манере он толкует и достоинство, и идолов через обращение к их метафизическим свойствам или внутренним качествам. Христиане, говорит он, обладают достоинством, которого у них никто не может отнять (Проп. 51,4). Достоинство нужно искать не в крови, но в душе. Сходным образом он объясняет ожесточенную борьбу с языческими символами как выражение нового умонастроения. Однако: верующему легче сокрушить материальные изображения богов, чем уничтожить идолов в своем сердце (Толков, на Пс. 80,14).
В то же время Августин имеет довольно конкретные представления о тупости богов и бессмысленности их покровительства. Напрасно римляне вверили себя таким охранителям, которые не сумели даже защитить Трою, говорит он в одной из глав трактата «О граде Божием» (I, 3), где он не раз цитирует Вергилия, полагаясь на него, как на надежный исторический источник. Августин рассуждает о римских богах с удивительным знанием дела. Тексты Вергилия входили в школьную экзаменационную программу, и из них Августин в значительной степени позаимствовал язык, на котором размышляет и пишет – Вергилий был не только автором поэтических вымыслов, но пророком и мыслителем, который сформулировал незыблемые истины для всех, кто пользовался тем же языком. Августин называет Вергилия «величайшим из поэтов, самым знаменитым и лучшим» (О граде Бож. I, 3). Заслуживающие доверия многократные упоминания Августином Вергилия способствовали укреплению авторитета этого поэта в средние века — в частности, у Данте. Через Вергилия Августин познакомился с мифами, на которых основывалась античная религия.
Нельзя сказать, чтобы Августин всерьез сомневался в существовании древних божеств. Они представляют собой иллюзию, обман, и одновременно сами суть активные обманщики; подобно предателям демонам, они появляются в нужном месте и совершают какие–то поступки, но не заслуживают поклонения. Христианство выигрывало в противоборстве с язычеством и без того, что Августин упрощал беспорядочную метафизику политеизма. Отвергая языческих богов и злых демонов, он, однако, не сомневается в их существовании. Его утверждение о том, что языческие боги суть обман, означает лишь, что таким богам не стоит поклоняться. Возможно, они представляют собой обожествленных людей, или демонов, или вымышленные создания из сочинений поэтов, говорит Августин во IWV книгах трактата «О граде Божием», рассуждая об античной религии. В любом случае они были достаточно реальны, чтобы Августин высказывал надежду на христианского Бога, который может и должен вытеснить их. Храм Юноны в Трое не оградил горожан от огня и меча греков, сказано у Августина, а вот римские апостольские храмы, когда Рим был в 410 году захвачен Аларихом, обеспечили и христианам, и нехристианам защиту от необузданных варваров (О граде Бож. 1,4). Из чего ясно, с каким богом следует поддерживать хорошие отношения.
Заглянув в законы Римской империи IV века, касающиеся христианства и язычества, мы получим лишь приблизительное представление о происходивших в то время событиях. И все же оно может оказаться полезным. Итак, рассмотрим несколько примеров из «Кодекса Феодосия» (Codex Theodosianus) — собрания законов, изданного Феодосием II в 430 году, т. е. в год смерти Августина.
9 октября 319 года император Константин Великий освобождает всех служителей христианского культа от налогообложения. Мы больше не поклоняемся идолам, утверждает в законе от 341 года его сын, император Констанций, а потому следует наказывать всякого, кто осмелится и далее предаваться идолопоклонству. В 346 году он же заявляет, что, хотя идолопоклонство подлежит искоренению, согласно его повелению храмы вне городских стен должны быть оставлены в покое: не следует, дескать, уничтожать места, в которых римляне развлекаются на старый манер. Тем не менее вскоре Констанций приказывает закрыть языческие храмы повсеместно.
Язычникам предписывалось воздерживаться от жертвоприношений. Те же из них, кто не будет соблюдать этого правила, подлежат наказанию. В 356 году тот же Констанций грозит смертной казнью всем, кто поклоняется или приносит жертвы изображениям богов. 2 мая 381 года Феодосий Великий с соправителями постановляет — в законе об отступниках (De apostasis), — что все, переметнувшиеся от христианства к язычеству, теряют право писать завещания, а если таковые были составлены ранее, они объявляются недействительными. Таким образом у наследников отнималось право на фамильное имущество, которое переходило к государству.
Многие из этих запретов повторялись при императорах Грациане, Валентиниане и Феодосии Великом (30 ноября 382 г.), из чего явствовало, что одно только издание законов не могло покончить с древним культом. Те же законодатели, однако, выступали в защиту храмов, издавна служивших местом собраний; в них даже сохранялись статуи богов — не ради их культового предназначения, а исключительно «из–за их художественной ценности» (pretium artis). Такие храмы оставались открытыми.
23 мая 385 года было запрещено гадать по печени и предсказывать будущее по внутренностям жертвенных животных. Гадальщиков следовало подвергать суровому наказанию, если они «будут допытываться истины о грядущих событиях» (futurarum rerum explorare temptaverint veritatem). Деятельность гадателей играла важную роль в традиционной римской религии. Запрет ее был направлен на роспуск большинства жрецов, у которых практически не было иных занятий.
Все запреты были еще раз повторены императором Феодосием (14 июня 391 г.) и подтверждены Феодосием, Аркадием и Гонорием (8 ноября 392 г.). В последнем законе особо оговаривался культ ларов и пенат, т. е. покровителей домашнего очага. В домах запрещены были венки, благовония и возжигание свечей. У того, кто поклонялся изображениям божеств, воскурял фимиам или молился предметам собственного изготовления, все имущество конфисковалось в пользу государственной казны. Тут законодатели шли дальше объявления одной религии официальной, они вмешивались в частную жизнь семьи и наносили ощутимый удар по традиционному культу предков. Исключительное положение христианства оказалось несовместимым с идеей о том, что отправление культов дома может быть личным делом семьи.
Отбирались последние привилегии, которыми еще пользовались прежние священнослужители. Одновременно в законах появлялись статьи против лиц, попустительски относящихся к отправлению языческих обрядов и не доносящих о нарушениях властям. Очевидно, что у императоров возникли проблемы с практическим исполнением законов. 10 июля 399 года было постановлено, что алтари, стоящие «в чистом поле» (In agris), тоже дблжно сровнять с землей, дабы у «суеверия» (superstitio) не осталось более никакой опоры. Впрочем, императоры не желали вмешиваться в праздники, носившие характер массовых увеселений, и не поддерживали тех, кто физически уничтожал монументальные культовые сооружения и произведения искусства. Народу дозволялось собираться вместе и предаваться развлечениям, но без каких–либо официальных церемоний и суеверных обрядов (20 августа 399 г.). Статуи, служившие объектами языческого поклонения, следовало убрать, а культовые сооружения — использовать по другому назначению (15 ноября 408 г.).
Наконец издание столь непримиримых законов прекратилось, из чего мы можем заключить, что императорам удалось насадить предпочитаемую ими религию. «Оставшиеся еще, вероятно, язычники» (paganos qui supersunt) — говорилось в законе от 8 июня 423 года. Даже Августину было известно, что язычество ушло в подполье (Проп. 62, 11). «В настоящее время число христиан превышает число иудеев и язычников вместе взятых», — писал он Гонорату примерно в 390 году (О пользе веры, 19). До некоторой степени пыл законодателей угас из–за неспособности центральной власти и далее контролировать все происходящие в государстве процессы, но основная причина была явно в том, что практически требования законов оказались выполнены.
Еще в 359 году, когда Риму грозил голод, потому что затянувшиеся штормы задержали поставки зерна из Африки, столичный префект пытался утихомирить море принесением жертвы богам–близнецам Кастору и Поллуксу, после того как вывел к толпе своих малолетних сыновей, рассказывает Аммиан Марцеллин (XIX, 10). Очевидно, кое–кто хотел, пока это было возможно, заручиться помощью обеих сторон — как языческой, так и христианской. Наиболее горячо христианские авторы спорили не с принципиальными язычниками, а с теми, кто не считал для себя обязательным сделать выбор между Юпитером и Христом.
Глава 2. Христианство в Северной Африке
КIV веку Африка уже давно находилась под властью Римской империи. Пунические войны, за время которых римляне три раза (264–241,218–201 и 149–146 гг. до н. э.) сражались против карфагенских полководцев, в том числе против Ганнибала с Гамилькаром, закончились победой Рима и подчинением ему Карфагена и окружающих областей. Римские колонии в Африке имели важное хозяйственное значение, поскольку с последнего века до Рождества Христова служили главной житницей империи. Города Гиппон Регий, Тагаста и Мадавра, которые мы знаем в связи с биографией Августина, находились неподалеку от Карфагена.
Эти края хорошо известны из литературы, в частности, из четвертой книги «Энеиды», где Вергилий изображает конфликт между Дидоной и Энеем. Прежде чем троянский герой отправился дальше и основал Рим, он гостил у карфагенской царицы Дидоны. Их любовный союз, который Эней разорвал, чтобы выполнить свой долг перед богами, под пером Вергилия стал легендарным объяснением исторической вражды между пунийцами и римлянами. Всем памятно бесконечно повторявшееся Катоном preterea censeo («кроме того, я считаю»): «Кроме того, я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен!»
Африканец же Августин принял сторону Дидоны — по крайней мере, в детстве (Исп. 1,13). Это напоминает нам о том, что «Энеиду» можно было читать по–разному, в зависимости от происхождения читателя. Впоследствии Августин использовал образ скитающегося по свету Энея для описания собственного многотрудного пути к истине (Пр. акад. II, 5; III, 5–6). Августин читал Вергилия так же, как читал Библию, т. е. аллегорически. В другом месте трактата «Против академиков» (III, 10) он изобразил противостояние разума и скептицизма через борьбу Геркулеса с великаном Каком из восьмой книги «Энеиды». Геркулес как воплощение добрых сил знаком нам и по христианским гробницам.
Северная Африка играла ведущую роль в истории Церкви — даже если отвлечься от Александрии и Египта. Первый ее латинский апологет, Тертуллиан (160–225), был африканцем. Его страстность и блеск его красноречия передались и Киприану (умер в 258 г.), и Августину. По мнению многих, сочинения каждого из троих отличаются особым африканским своеобразием. Все они любят игру слов, загадки, красочные образы и безжалостную полемику. Августин одиннадцать лет преподавал риторику и целых сорок четыре года служил епископом. В обоих качествах его дар речи был силой, с которой приходилось считаться.
Африканская колония была тесно связана как с Египтом, так и с Грецией. Это означало, что после разделения империи в поздней античности на Западную и Восточную христианская Африка заняла неопределенное положение между Римом и Константинополем. Уроженец Северной Африки писатель Апулей (умер ок. 190 г.) сочинил там свой знаменитый роман «Золотой осел». Помимо этого, его перу принадлежит ценное введение в философию Платона. 3 тех же краях жил Марциан Феликс Капелла (ок. 420 г.), написавший замечательное сочинение «О браке Филологии и Меркурия». До наших дней дошли развалины греческих сооружений в Турции и Южной Италии, но самые красивые римские акведуки и амфитеатры мы находим в Северной Африке.
Впрочем, в IV веке на христианстве отразился экономический спад. Африка превратилась в полузабытые задворки, так что Августин вырос в провинции и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Даже такой крупный город, как Карфаген, лежал вдали от пересечений политических и экономических путей империи. Для бедного, хотя и одаренного, юноши единственный способ сделать карьеру заключался в получении образования. Амбициозная молодежь мечтала о том, чтобы попасть «в город», под которым подразумевался либо Рим (центр религии), либо Милан (резиденция императора). Если человеку выпадало переплыть через море в Италию, это считалось событием и большой привилегией. Одна из основных метафор у Августина — navigare. т. е. идти под парусами, направляясь в открытое море или на родину. Особенно часто он прибегает к мореходным метафорам в самом начале сочинения «О блаженной жизни»: «гавань», «бурное море», «на всех парусах и веслах», «встречный ветер», «ветер от кормы», «привести разбитый корабль в желанное затишье» и т. п. В трактате «О пользе веры» (20) образ морского путешествия использован Августином для описания своего перехода от манихейства к христианству — тем более, что это соответствовало и обстоятельствам его биографии.
Во времена Августина Африка была измученной налогами отсталой колонией. Тем не менее, он проявлял оптимизм и веру в будущее, поскольку христианство распространялось все дальше и дальше. На радостях по поводу того, что их религия обрела признание и что на их стороне император, христиане долго не замечали признаков политического развала империи. Неприятие всего мировоззрения поздней античности примирило религиозный восторг с политическим упадком.
Я вспоминаю Августина каждый раз, когда вижу в Риме его современных соотечественников, собирающихся со своими пластиковыми пакетами на вокзале Термини. Наружность и характерный диалект сделали их римлянами второго сорта. В социальном плане они занимают положение, сопоставимое с положением австралийцев, шотландцев или ирландцев в Англии XIX века. Зато в их среде присутствуют солидарность и взаимовыручка, до известной степени уравновешивающие скепсис, с которым их зачастую встречают столичные жители. Рядом с Августином всегда находились родные и друзья.
Африканцы никогда не были хорошо знакомы с олимпийским сонмом богов, а потому Тертуллиан, Киприан и Августин исходят из других предпосылок, нежели римские аристократы, которые усвоили греческую мифологию как часть своего образования. У африканцев были иные религиозные традиции, чем у греков или европейских граждан Римской империи. Карфагеняне были финикийцами, т. е. семитами. Для них видоизмененная богиня плодородия Астарта и бог кочевников Яхве были важнее Диониса и Аполлона. В религии Северной Африки важная роль отводилась трансу, экстатическим обрядам, предупреждениям во сне и т. п. Как явствует из «Исповеди* (в частности III, 11), Моника с Августином придавали большое значение таким видениям. Занимаемое Африкой промежуточное положение между греческой и римской традициями позволяло Августину более широко смотреть на мир, чем его коллегам в Риме или Константинополе. Экуменический характер Августиновой теологии может объясняться его исходной связью с религиозной историей, отстраненной от обеих партий, борьба между которыми впоследствии привела к великому расколу Церкви на Восточную и Западную.
С одной стороны, Августин жил в эпоху единой Церкви, до ее разделения на восточную и западную традиции. С другой стороны, североафриканская Церковь и сама была расколота на непримиримых донатистов и более терпимых католиков. В любом городке их церкви стояли друг против друга. Донатисты не были еретиками в привычном смысле слова. Их догматы и Символ Веры были теми же, что и у католиков. Разногласия между ними скорее были вызваны конкретными историческими событиями и заключались в разном представлении о том, какими следует быть прихожанам и священнослужителям.
В 305 году епископом Карфагенским избрали некоего Цецилиана. Его покровителем, который и посвятил его в этот сан, был епископ Феликс Аптунгский, во время Диоклетиановых гонений предавший свою паству. Ради спасения собственной шкуры он вместе с другими подвергал пыткам христиан, не согласившихся отречься от своей веры и избравших венец мученичества. Цецилиан служил диаконом при Феликсе, когда тот предпочел подчиниться государству вместо того, чтобы поддержать готовых умереть за веру. Впоследствии приверженцы донатизма резко осуждали предательство Феликса.
Донатисты выработали свои строгие понятия о Церкви и епископском служении, считая, что ни то, ни другое не должно оскверняться политическими манипуляциями правителей. Даже после того, как правители тоже стали христианами, донатисты сохранили свою подозрительность и потребность держаться подальше от властей. Если католики, т. е. христианское большинство, признавшее институт Церкви, радовались, когда им удавалось заполучить поддержку императора, и пользовались обещаниями властей и их средствами воздействия на народ для поддержания порядка внутри Церкви, то сторонники донатизма на протяжении всего IV века оставались раскольниками и оппозиционерами.
Яблоком раздора в африканской церковной жизни послужил Киприан Карфагенский. На него претендовали как донатисты, так и католики. Конфликт между ними возник, в частности, по вопросу о том, кто лучше воплощает в жизни христианские идеалы Киприана. Во многих городах эти две группы противостояли друг другу, утверждая, что именно они представляют истинную Церковь.
Церковь — это мать, которая вскармливает детей своим молоком, говорили донатисты. Мир управляется дьявольскими силами, но крещение, словно по мановению волшебной палочки, способно очищать от всех грехов и пороков. Церковь должна служить местом отдохновения, оазисом, обнесенным стеной садом. С распространением христианства различия между Церковью и «миром» постепенно стирались. В эпоху Киприана, когда христиане подвергались гонениям, они чувствовали себя привилегированными, избранными. Впоследствии же понятие о святости Церкви видоизменилось.
Донатисты стремились сохранить Церковь как источник святости. Долой недостойных епископов! — требовали они. Все таинства, совершаемые недостойным епископом, объявлялись недействительными. Донатисты защищали свою Церковь, видя в ней альтернативу окружающему их обществу. Более, чем преследований, они страшились компромиссов. Августин же с католиками хотели посвятить себя переделыванию мира. Если в том возникала необходимость, они протестовали против решения властей, однако чаще всего они поддерживали наместников императора. Первоначально донатисты хотели всего лишь избавиться от епископов, которые содействовали императору Диоклетиану в его гонениях на христиан 303–305 годов. Но эти протесты вылились в борьбу против самой императорской власти.
В этот период ряд епископов «выдал» представителям властей книги Священного Писания, чтобы римские чиновники могли сжечь их; это было двойное «предательство» (traditb). Цецилиан Карфагенский был рукоположен в епископы именно таким «предателем» (traditor). Никто не сомневался в том, что сам Цецилиан прекрасный человек, но, утверждали донатисты, если священнослужитель, посвятивший его в сан, был негодяем, то посвящение считается недействительным. Альтернативным епископом Карфагена через поколение после Цецилиана был выбран Донат, от которого и пошло название раскольнического течения. Со временем в большинстве североафриканских городов епископы двух церковных направлений служили бок о бок друг с другом. Император Константин недвусмысленно поддержал Цецилиана, тогда как более поздние императоры — за исключением Юлиана — лучше находили общий язык с католиками, а не с донатистами, поэтому католиков воспринимали в Северной Африке как представителей чужеземцев–римлян.
Донатисты считали себя членами истинной, независимой и свободной африканской Церкви. Примерно к 347 году противостояние с католиками приобрело насильственный характер. Эмиссар императора Макарий применил против донатистов власть. При Юлиане Отступнике (361–363) императорская власть ненадолго обратилась против католиков. Движение донатистов приобрело на этот период высокое покровительство, с помощью которого Юлиан хотел обострить противоречия в лагере христиан. Эти два направления церкви пользовались разными переводами Библии, однако как их учения, так и обряды оставались весьма схожи. Единственным серьезным поводом для раздоров было понятие о Церкви и о сане священнослужителя.
Между тем Церковь играла важную роль в развитии богословия еще со времен апостола Павла. Умаление значения Церкви вполне могло восприниматься как ересь. Если католики не одумаются, утверждали донатисты, они будут с открытыми глазами прокладывать себе дорогу в ад. Донатисты использовали Закон и отпадение иудеев для обоснования собственного скептического отношения к политическим властям. Они хотели сохранить христианские нормы морали, чтобы бьггь чистыми. Ритуальная чистота была основным пунктом учения и Киприана, и донатистов. Нечистые могли испортить все богослужение. Среди донатистов господствовал тот же магический страх перед нечистыми вещами, что и в Ветхом Завете. «Избранным народом» они считали себя. Донатистские епископы были прямыми последователями мучеников. Со временем эта церковная община заняла особую — оборонительную — позицию, превратилась в держащий оборону Ноев ковчег.
Приверженцы донатизма забились в уголок и спорят о том, действительно ли только они являются подлинными христианами, тогда как Церковь обязана разносить свою весть по всей земле, говорили их противники. Церковь представляет собой объективную силу, утверждали католики, а потому чистота и справедливость Церкви не зависит от безгрешности епископов. Церковные обряды имеют мистическую ценность, отнюдь не связанную с личными качествами тех, кто их отправляет. Сию минуту определять, кто чист и незапятнан, было бы равносильно предвосхищению откровений Судного Дня. Августиново учение о предопределении и было направлено на то, чтобы люди не знали, кто из них избран для спасения. Донатисты же пытались подглядывать в чужие карты, т. е. в карты Господа, чтобы затем стройными рядами войти в рай в качестве избранных. По мнению Августина, Церковь призвана постепенно вобрать в себя все общество. Ведь люди гфоизошли от одного праотца, Адама, подчеркивал Августин, когда стал епископом. Его учение о первородном грехе также возникло из споров с донатистами Грешны все, поэтому все могут и должны жить под знаком благодати.
Глава 3. Простак из провинции
Августин родился в Тагасте, в Северной Африке, 13 ноября 354 года. Его отец. Патриций, принадлежал к классу свободных мелких землевладельцев, ни богатых, ни бедных. Он занимал должность decurio, то есть был чиновником местного муниципалитета. Знакомый с влиятельными людьми этого небольшого города, Патриций мог позволить себе держать слуг. Семья его не была зажиточной, но концы с концами сводила (Исп. II, 3). В будущем Августин откажется принять в подарок дорогой плащ, объясняя, что, став священнослужителем, не хочет жить в большей роскоши, чем жил β детстве (Проп. 356, 13). Чтобы иметь возможность дать сыну приличное образование, Патрицию приходилось строго следить за своими расходами. Ведь только образование и посещение школы позволило бы его сыну избежать угрозы пролетаризации. Родовое имя Августина было Аврелий, семья носила его с тех пор, как в 212 году император Каракалла дал предкам Августина римское гражданство. Юридически семья Августина получила римское гражданство именно тогда.
Позиция Августина часто свидетельствует о его африканском патриотизме. Однако он столь же естественно защищает и римское государство. Определенное расстояние, отделявшее его от греческого богословия, обуславливает самостоятельность Августина как религиозного мыслителя. Не менее важно и расстояние, отделявшее его от Рима (Об ист. рел. 34, 64). Африканец Августин всегда немного сдержанно относился к римской мифологии и имперской идеологии, что отличало его от Евсевия, Оросия и Иеронима. Впервые в качестве ритора он выступил еще в школе, изложив прозой гневную речь Юноны против Трои и троянцев (Исп. 1,17; Энеида, I, 37–49). Выбор темы для этой декламации говорит о том, что ни Августин, ни его учитель не могли индентифицировать себя с Энеем и его спутниками, ставшими основателями города Рима.
Массы неимущих сельскохозяйственных рабочих жили за пределами класса, к которому принадлежал Патриций. Августин, в известном смысле, был гарантом своей семьи. Все, потраченное на его образование, родители надеялись получить обратно в дни своей старости (Исп. II, 5). У Августина были сестра и брат. О сестре нам ничего не известно, а брат Навигий появляется позже в круге Августина в Кассициаке и Остии. Мать Августина Моника играла в семье главную роль. Родители Моники были христиане. Тем не менее ее выдали замуж за язычника. Монике было двадцать два года, когда она родила сына, названного Августином. Патриций оставался язычником почти до самой смерти (Исп. Ill, 7; IX, 9). Поэтому религиозным воспитанием Августина занималась главным образом мать. В то время подобные смешанные в религиозном смысле браки были довольно обычным явлением. Женщины часто первые присоединялись к Церкви.
Моника занимала важное место в жизни сына (О блаж. жизни, 10). Она вмешивалась во все его начинания, и, дабы направлять ход его жизни и управлять его устремлениями, использовала то, что в будущем станет их общей верой. Со временем Августин сам назовет влияние Моники инструментом милости Божией в своей жизни (Исп. II, 3; О порядке, II, 1). Она заронила в него имя Христово, и Августину уже не хватало его каждый раз, когда он позже сталкивался с объяснением мира без упоминания Его имени, говорит он сам в «Исповеди». В детстве он не был крещен, только оглашен, — в те времена в Африке опасались рано крестить детей, чтобы у них потом было меньше причин отпасть от веры (Исп. 1,11; Пр. акад. II, 2–5). Считалось, что крещение изменяет отношение человека к Богу, писал он. А потому предпочитали ждать до тех пор, пока обстоятельства не начинали угрожать жизни. Многие принимали крещение уже на смертном одре. Моника заботилась о благе сына. Однако нам, посторонним и родившимся намного позже, такие отношения матери с сыном кажутся весьма экзотическими. По–видимому, именно Моника назвала сына Августином, это имя означает «маленький император».
Как бы там ни было, отец связывал с ребенком немалые социальные амбиции, тогда как мать почитала его за чудо. Удивительно, что Августин оправдал ожидания семьи, не утратив равновесия и не сломившись. Комментаторы, относившиеся к Августину с меньшей симпатией, утверждали, будто вся религиозная история Запада носит на себе следы конфликтов, пережитых Августином в детстве. Однако можно назвать множество людей, переживших в детстве похожие конфликты и не ставших Августинами.
Этот епископ в зрелые годы один из первых в истории проявил интерес к собственному раннему детству. Он понимал, что ребенок создан для того, чтобы играть, а не зубрить уроки (Исп. 1,9). Римляне считали детей неготовыми людьми и начинали уделять им внимание лишь в конце первой фазы их жизни. Но Августин рассказывает о жадности, с какой он сосал материнскую грудь, и пользуется этим примером для подтверждения учения о первородном грехе (Исп. 1,7). Если младенческую плоть еще можно считать невинной, то их детские души — нет. Это проявляется уже в раннем возрасте, в том числе и в ревности между братьями и сестрами. Еще до того как характер ребенка сформируется, он разделяет общий жребий людей в качестве грешника, который нуждается в милосердии (Исп. 1,12).
«Исповедь», которую Августин написал, когда ему было сорок три года, охватывает первые тридцать три года его жизни. Ее любят называть первой в истории автобиографией. Но что такое «авто»? Для Августина это «сердце» и весь внутренний мир человека. Поэтому в своей биографии он описывает противоречия между своими мыслями и чувствами и, особенно, свою зависимость от Других людей. Отношения между Августином и его матерью являют собой странную историю любви. Придет время, и Августин тайно покинет ее, чтобы завоевать Рим и Милан. Обманет, сказав, что переночует в часовне, воздвигнутой в честь святого Киприана, тогда как сам поднимется на борт корабля, идущего в Остию.
Можно сказать, что мать и сын повторили историю царицы Дидоны и героя Трои Энея, с той только разницей, что конец их истории оказался счастливым. Моника была не из тех женщин, которые, оказавшись покинутыми, сжигают себя на костре, как поступила Дидона, когда ее покинул Эней (Исп. V, 8). Моника была Дидоной, последовавшей за своим сокровищем, говорит Серж Лансель в своей изобилующей документами книге о жизни и творчестве отца Церкви. В «Исповеди» Августин рассказывает, что по приезде в Рим он тяжело заболел. Нет никакого сомнения, что сам он считал эту болезнь наказанием за непослушание матери, которую он обманул и покинул.
Об отце Августина Патриции мы знаем совсем немного. Строгий и бережливый, он копил деньги, чтобы получивший хорошее образование сын мог потом обеспечить старость родителей. Понятно, что современные феминистки отрицательно относятся к Августину, который восхищался матерью, всегда и во всем подчинявшейся мужу–холерику. «Она спокойно переносила его измены; никогда по этому поводу не было у нее с мужем ссор… У многих женщин, мужья которых были гораздо обходительнее, лица бывали обезображены синяками от пощечин» (Исп. IX, 9). Монику же мы знаем благодаря ее портрету, нарисованному сыном. Она была ревностной христианкой и потому принудила, умолила и упросила сына принять христианство. Духовный ландшафт Августина отмечен сталкивающимися друг с другом волями и людьми, которые то создавали некое единство, то боролись друг с другом.
Не считая таинственного света, Августина не слишком интересовали феномены природы. Люди, лица, глаза, голоса и слова были для него куда важнее. Язык для ритора был главным выразителем мыслей и чувств. Социальная действительность, такая, какой она предстает по текстам, высказываниям и заявлениям, была для Августина важнее отношения к природе и архитектуре.
Во время учения в школе образцами для Августина были Вергилий (70–19 гг. до н. э.) и Цицерон (106–43 гг. до н. э.). Надо сказать, что Августин был единственным крупным римским философом, который обладал лишь элементарным знанием греческого языка. Платона и Плотина он читал в изложениях и переводах. Он, безусловно, читал «Тимея», но вообще признавался, что прочитал очень мало книг Платона. Может быть, именно благодаря этому Августин был более самостоятельным, чем большинство мыслителей в истории античной философии. Он, несомненно, стал самым оригинальным философским писателем на римской почве. В школе, где он учился, риторика была главным предметом, и там Августин овладел искусством мастерски выражать свои мысли.
Мы чувствуем, как у него учащается сердцебиение, когда ему предстоит аргументировать то или иное трудное положение, и думаем: «Ему с этим не справиться». Но он всякий раз справляется. Ни один другой писатель за всю историю не испытывал большего доверия к словам, не сплетал из них таких сложных узоров и не разрешал с их помощью все проблемы. Епископ Августин, возможно, и был исполнен смирения, но при этом он был необыкновенно искусный оратор и полемист. Ему было нетрудно объяснять, как первородный грех, предопределение, незаслуженная благодать и свободная воля человека занимают свои места в лишенной противоречий картине. А вот его последователи часто не могли с этим справиться. Он балансирует с таким мастерством, что повторить подобное после него удавалось очень немногим. В его текстах можно найти опору для самых противоположных мнений. Вот почему на него ссылаются самые разные лагери.
Августин ненавидел школьное обучение с его зубрежкой и дисциплиной (Исп. I, 19). Но в автобиографии этот период приводится еще и затем, чтобы показать трудности человеческой жизни во всех ее фазах от начала и до конца. В Римской империи господствовали два языка. Каждый, кто хотел сделать карьеру в императорской администрации или принять участие в интеллектуальной жизни, должен был знать греческий. И епископ Валерий, предшественник Августина в Гиппоне Регии, и близкий Друг Августина Алипий были греческого происхождения. В лучших семьях, как правило, держали домашнего учителя, дабы обеспечить детям эту часть образования. Августину пришлось довольствоваться изучением греческого в школе, где важнейшие правила, в буквальном смысле, вколачивались в головы учеников (Исп. I. 9).
Отвращение к греческому, оставшееся у Августина на всю жизнь, объясняется отчасти его школьным опытом, отчасти социальными причинами, по которым ему многое пришлось изучать самостоятельно без домашнего учителя. В дальнейшем он добровольно уже не читал греческих книг (Исп. 1,13). Неприятие Августином греческого языка предупреждает о той пропасти, которая со временем разделила культурные традиции Восточной и Западной Римской империи и из–за которой они стали еще более разными. Августин — первый великий богослов Запада. До него бйльшая часть христианских богословских трудов была написана по–гречески.
В западноевропейском средневековье греческий — это в основном забытый ученый язык, тогда как латынь, на которой велись богословские диспуты, обязана этому, главным образом, текстам Августина. В период поздней античности они сыграли такую же важную роль при переложении греческих философов на более удобную латынь, как сочинения Цицерона при переводе понятий греческих философов в период поздней республики. Это отнюдь не означает, что Августин был переводчиком, нет, он создал столь богатый богословский язык, что на долгое время сделал на Западе ненужным изучение греческих богословов.
В одиннадцать лет Августина отправили в школу в Мадавру (Исп. II, 3), который был родным городом Апулея — одного из самых известных и читаемых писателей поздней античности (О граде Бож. VIII, 14). Там на площади стояла статуя Апулея. Там же Августин познакомился и с «Энеидой» Вергилия, которая потом будет сопровождать его всю жизнь как главный источник учености и мудрости (Исп. I, 13). Он навсегда запомнил наизусть большие отрывки из «Энеиды». Стихи Вергилия служили ему своеобразной справочной системой. Он часто ссылался на «Энеиду» не только потому, что она была многим известна, но потому, что она считалась авторитетным изложением римской государственной идеологии и ранней истории Рима.
Осенью 369 года Августин вернулся из Мадавры в Тагасту. Семья, конечно, понимала, как рискованно было отпускать мальчика на чужбину. Но, с другой стороны, это был единственный способ, который мог обеспечить ему успех на социальном поприще. Августин рассказывает о порочных наклонностях, свойственных ему в детстве, в истории о краже груш, которая ассоциируется у него с непослушанием Адама и Евы. Он пишет: «По соседству с нашим виноградником стояла груша, отягощенная плодами, ничуть не соблазнительными ни по виду, ни по вкусу. Негодные мальчишки, мы отправились отрясти ее и забрать свою добычу в глухую полночь; по губительному обычаю наши уличные забавы затягивались до этого времени. Мы унесли оттуда огромную ношу не для еды себе (если даже кое–что и съели); и мы готовы были выбросить ее хоть свиньям, лишь бы совершить поступок, который тем был приятен, что был запретен» (Исп. II, 4).
В тот год, пока Августин жил дома в Тагасте, не занятый никаким делом, он был особенно падок на подобные искушения. Кража груш дает ему повод порассуждать над тем, стремится ли человек ко злу ради самого зла. Почему сердце наше бывает похотливым на злое? (Рим. 6,12; 1 Кор. 10, 6; Гал. 5, 24). Епископ, пишущий «Исповедь», только что обнаружил, что апостол Павел подчеркивает лежащую в основе всего испорченность человека. И потому ищет подтверждений представлению Павла о человеке в истории своей собственной жизни. Лишь много лет спустя в саду в Милане вопрос о воровстве груш в юности получит ответ (Исп. VIII, 8). Голос, который в том саду велел ему читать Библию, не был голосом искусителя.
В поздней античности уважение к классикам сменилось уважением к Священному Писанию. Почитание классиков и почитание Священного Писания имело много общих предпосылок. Обе группы почитателей исходили из того, что авторитетные тексты безгрешны. Таким образом ответстветость за толкование возлагалась на читателя. Бессмысленности объяснялись исключительно ограниченностью читающего. Опытные толкователи имели право и даже обязаны были учить других Для поддержки христианских толкований Августин использует и свое римское образование, и свое врожденное красноречие. В школе он даже получил награду за речь, в которой передал гнев Дидоны, когда Эней уехал от нее в Италию. Со временем его красноречие стало обслуживать все те миропонимания, которые он разделял.
И начальная школа в Тагасте, и школа в Мадавре, и Высшая риторская школа в Карфагене, в котором Августин позже работал, учили его только языческой мудрости. Но в то же время он, молодой человек, сталкивался с большими трудностями и в другой сфере жизни. Знакомство с лупанариями Карфагена и жизнью большого города оказалось вызовом для этой наивной души из провинции. Не надо забывать и о находившейся рядом энергичной матери, которая прилагала все силы к тому, чтобы этого жизнерадостного и амбициозного студента не покидало чувство греха.
В «Исповеди» Августин анализирует не только интеллектуальные вопросы, но и вопросы, связанные с физиологией и проявлением эмоций. Он использует богатство своего интеллекта и словаря для того, что не есть язык. Вот почему спустя 1600 лет мы распознаем собственные мысли и чувства скорее у Августина, чем у его современников, принимавших участие в интеллектуальных дебатах. В Карфагене Августин обзавелся подругой, которая тут же родила ему сына — смышленного Адеодата. В 373 году, девятнадцати лет отроду, Августин пережил философское обращение, прочитав увещевания Цицерона. Вряд ли христианство играло значительную роль в этом случае. Но чтение «Гортензия» Цицерона дало толчок активным двадцатилетним поискам истинного смысла жизни.
Некоторые полагают, будто Августин настолько изменился за время, прошедшее между его первой и последней книгой, что о его мышлении можно говорить только как о процессе развития. Что его мировозрение невозможно выстроить в систему, ибо оно изменялось от десятилетия к десятилетию. Это так и не так. Конечно, нужно учитывать все изменения, однако жизнь Августина сопровождают столько мотивов и характерных моделей, что можно говорить об основополагающих структурах его мышления. Систематическое представление и история развития имеют свои преимущества, потому что их внимание сосредоточено на разных чертах творчества Августина.
Первый тип представлений группируется вокруг сквозных, постоянных идей Августина. Второй касается всего нового, что он обнаружил и временно отодвинул на задний план. Но обе эти перспективы необходимы для понимания основного в его рассуждениях. В известном смысле обе эти перспективы обусловливают друг друга. Изменения в мышлении Августина следует рассматривать как изменения в некоей системе, а описать эту систему можно лишь используя фрагменты из работ, разных по времени, которые постепенно займут свои места в реконструированном целом.
Другой вопрос, понятен ли нам вообще Августин? Может, историческое расстояние между нами так велико, что все разговоры о его «актуальности» объясняются нашим невольным заблуждением? Одни исследователи настолько преувеличивают расстояние и исторические различия между нами, что Августин становится неким экзотическим растением, не имеющим соприкосновения с почвой, питающей мышление нашего времени. Другие разговаривают с ним так, словно он находится перед нами. Однако разделяющее нас расстояние нельзя ни увеличить, ни сократить. Но даже те, кто заявляет, будто Августин далек от нас и непонятен, хоть что–то да понимают в его текстах. А следовательно, они не могут быть совершенно недоступными для понимания современных читателей.
Доступность сочинений Августина объясняется в первую очередь не чем–то вечно человеческим в его мышлении, а тем, что он содействовал формированию европейско–христианского исторического мышления, тем, что мы, вольно или невольно, сознательно или бессознательно, отчасти повторяем его вопросы и думаем по его моделям. Ведь история состоит не из бессвязных отрывков, и каждое столетие не одиноко со своими вопросами. Поколение за поколением мы получаем в наследство историю и воспоминания, так что частица старого всегда продолжает жить в новом. Что же касается понимания творчества Августина, эту связь легко обнаружить, ибо каждый более поздний период западного мышления соотносится с ним более или менее тесно. Нас до сих пор пленяет его игра слов. Это объясняется не только его личными заслугами, но тем, что он принимал участие в формировании традиции, которая, в определенной степени, жива до сих пор и является историей христианской Церкви.
Глава 4. Не очень серьезный молодой человек: у манихеев
Вскоре Августин отправился дальше. При денежной поддержке своего друга Романиана он покинул Тагасту и прибыл в Карфаген. Романиан был одним из богатейших жителей Тагасты. Он унаследовал большие земли и жил как римский патриций в большом имении, окруженный роскошью. Романиан был щедр по отношению к своим согражданам и завоевал такую популярность, что ему еще при жизни воздвигли памятник перед магистратом (Пр. акад. Предисл. 1).
Впервые после Тагасты Августин оказался в большом городе, таившем многие соблазны для ищущих и юных душ. Чувства «увлекали неокрепшего юношу по крутизне страстей и погружали его в бездну пороков» — напишет потом Августин в своих благочестивых воспоминаниях (Исп. II, 2). В то время Карфаген был третьим городом на Средиземном море, он был меньше Рима и Александрии, но больше Антиохии. Августину было шестнадцать лет. Он наконец освободился от надзора матери и стесненных условий жизни в Тагасте.
Карфаген был крупнейшим культурным центром Африки. Один из весьма серьезных исследователей так рисует новую среду Августина: «Город кишел людьми, но еще больше кишел мерзостями. Он купался в богатстве и вдвойне купался в пороках. Никто не мог состязаться с жителями Карфагена в алчности, распущенности, пьянстве и грубости. Этот город и в самом деле был полон безумия, и несчастья, которые ему сопутствовали, превосходят все слова. Невозможно описать мораль, господствовавшую на его улицах. Одним словом, в городе было все необходимое для того, чтобы он мог считаться центром цивилизации» (Sparrow Simpson).
По словам самого Августина (Исп. II, 2; III, 1), он хотел любить и быть любимым. Посещение театральных представлений давало возможность завязывать знакомства с противоположным полом (Исп. Ill, 2). Церковь тоже была удобным местом для молодых людей, которые хотели познакомиться друг с другом (Исп. Ill, 3). Где именно Августин познакомился с той, что вскоре родила ему сына Адеодата, мы не знаем. Но, по–видимому, он нашел свою будущую конкубину вскоре по приезде в Карфаген. Он нигде не упоминает ее имени, несмотря на то, что они прожили вместе пятнадцать лет (Исп. VI, 15).
В риторской школе Карфагена Августин был первым учеником (Исп. Ill, 3). Занимаясь риторикой, необходимо иметь образец для подражания, и Августин нашел его в Цицероне (Исп. Ill, 4). Его пленяла не только формальная сторона речей Цицерона. Он очень серьезно отнесся и к их содержанию. Позже Августин вернется к скептицизму Цицерона по отношению к истине, но, прочитав в девятнадцать лет диалог Цицерона «Гортензий», он решил серьезно заняться философией (О блаж. жизни, Состяз. 1). Сам Августин сравнивает впечатление, произведенное на него этим философским диалогом, с «обращением». Диалог будет сопровождать Августина уже всю жизнь. И в трактатах «О граде Божием» и «О Троице» (XIII, 8; XIV, 26), и позже, во время полемики с Юлианом Экланским, Августин будет ссылаться на отрывки из «Гортензия».
В «Исповеди» проводится аналогия между чтением Цицерона и тем, что случилось, когда блудный сын решил вернуться домой. Задним числом Августин понимает, что в книге Цицерона ему не хватало только имени Христа. Ученые много спорили о том, кто стоял в центре христианства Августина, Бог или Христос. Эти дискуссии только сбивали с толку, потому что изменения в понятии Бога и в представлениях о Христе, характерные для стадий развития Августина, — это не выбор между Богом и Христом, но и сама суть его веры. Для юного Августина Христос был прежде всего учителем мудрости. Любовь к мудрости превосходила у него все другие страсти. Мудрость, в его понимании, охватывала и глубокие знания, и соответствующий образ жизни. Впоследствии светский успех и философская мудрость в сознании Августина исключат друг друга. После пребывания в Кассициаке в 386 году брак и мудрость тоже станут для него целями, несовместимыми друг с другом.
На первых порах «обращения» Августина к философии в 372 году христианство не играло для него никакой роли. Чтение Цицерона привело к тому, что Августин стал искать спасения в широком толковании мира. Первой группировкой, предложившей ему искомую им «философию», были гностики–манихеи. «Так и попал я в среду людей, горделиво бредящих, слишком преданных плоти и болтливых» (Исп. Ill, 6).
В то же время Августин пытался читать Библию, но ему была неприятна жестокость Ветхого Завета и его грубый тон. Как нам известно, так же реагировал на Ветхий Завет и молодой Иероним, который впоследствии перевел Библию на латынь. Августин жаждал чего–то более изысканного, вернее, он искал эстетически ценного совета, как спастись (Исп. Ill, 5). Он не хотел «наклонять голову». В сочинении «О пользе веры» (2) он пишет, прибегая к цветистым метафорам, что плакал, вздыхал и бил кулаками в грудь матери Церкви, чтобы на него упало хоть несколько капель ее спасительного молока. Но в ту пору он не получил оттуда никакого питания.
Августин изучал диалог Цицерона «Гортензий», который представлял собой латинский парафраз Аристотелевского «Протрептика». Обе работы были утрачены, однако известно, что их главная цель заключалась в том, чтобы склонить читателей к философии. Из диалога Цицерона сохранилось 103 фрагмента, 16 из них — в цитатах, приведенных в сочинениях Августина. Термин «обращение» широко применялся в философской связи до того, как его стали употреблять в связи с христианством. Августин говорит, что Цицерон зажег его душу (Исп. Ill, IV). В поздней античности философия была так же близка к религии, как наука. Философская мудрость требовала определенного уклада жизни, а не только умения красиво говорить и убедительно аргументировать. В Цицероновском диалоге «Гортензий» говорилось о том, как благодаря чистому знанию душа может очиститься и вернуться на небеса. Цицерон называл Сократа мудрым героем, и позже Августин употребит похожее выражение (О граде Бож. VIII, 3).
Авторитет Цицерона как философа подкреплялся тем, что его все еще считали величайшим оратором. Августин почти не делал различия между философской мудростью Цицерона и его ораторским мастерством. Цицерон пробудил в нем любовь к мудрости и стал для него великим образцом оратора и ритора. Способность человека говорить, которая является первым признаком нашего вида и отличает нас от животных, дала философское обоснование для высокой оценки риторского искусства уже во времена Аристотеля и Исократа.. Следуя этой традиции, «Гортензий» Цицерона вполне мог «обратить» Августина к философии. Именно поэтому выбор профессии ритора сыграл главную роль в его понимании самобытности человека. Всесторонние и глубокие ораторские способности были ключом к истинному образованию.
Во времена Августина риторика уже перестала быть основным политическим инструментом, каким была в последние дни республики при жизни Цицерона. Она отчасти лишилась своего содержания и использовалась для того, чтобы льстить и восхвалять власть имущих. Позднее Августин перевел риторику из имперской сферы в сферу Церкви. Само собой разумеется, что христианская апология и раньше не была чужда искусству риторики. Но бегство Августина из императорских кругов в Милане в 386 году следует рассматривать почти как символическое событие: с этого момента все искусство его риторики служит исключительно проповеди христианства.
Так Августин наполнил риторику новым содержанием и установил близкое родство между красноречием и жизненной мудростью, которые он некогда нашел у Цицерона. Он спас риторику от загнивания, приправив ее новой солью. Августин выбрал Цицерона в качестве философского спутника потому, что его работы помогли ему познакомиться и со стоицизмом, и с сочинениями Аристотеля, и со скептицизмом. Образование Цицерона было суммарным как раз в той степени, которая позволяла ставить новые вопросы, не привязывая читателя к определенной философской школе.
Влияние Цицерона на Августина было настолько всеобъемлющим, что в результате изучения его трудов Августин фактически примкнул к манихеям. Совершенно очевидно, что его привлекли к ним серьезное отношение к жизни и высокая оценка мудрости, а не какие–то определенные аргументы, понятия или точка зрения. Манихейство стало для Августина точкой, где встретились христианские и философские идеи. Лишь спустя много лет он обнаружил религиозные и философские возражения против системы мышления гностиков. Позже он назовет манихеев «обманчивыми ловцами птиц», которые возле открытой воды мажут жердочки клеем, чтобы прилетевшие напиться птицы сели на такую намазанную клеем жердочку (О пользе веры, 2). В первый год жизни в Риме Августин пережил фазу скептицизма и временно оказался рядом с неоплатониками (Исп. V, 10).
Манихеи ввели Августина в социальную среду, где концентрировались их единомышленники, познакомили с новой формой философского культа дружбы. От Платона до Сенеки «дружба» — philia, как она называлась по–гречески, или amicitia по латыни — была главным ключом к философской форме жизни. Поэтому Августин привлек в эту манихейскую секту и своих друзей. Когда же он сам обрел почву в христианстве, ему пришлось приложить немало усилий, чтобы вызволить их оттуда. Своеобразным мотивом большой части его творчества является желание объяснить в письмах и поучениях свои превращения так, чтобы его друзья соблазнились и пошли тем же путем, каким следовал он сам.
Переписка Августина заслуживает особых комментариев. Письмо в античности было средством вести долгий, полный напряженной мысли разговор. Пересылка писем занимала много времени, потому что их отправляли с нарочным. Часто нарочному приходилось ждать ответа по нескольку дней. Но другой формы связи для споров, просьб и обмена мнениями не существовало. С письма мог снять копию сам отправитель, посланник или адресат так что содержание писем не было частным делом. Августин сам считал письма частью творчества и планировал тщательно пересмотреть свои письма наподобие того, как он исправил свои ранние произведения в «Пересмотрах». Эпистолярный жанр на христианской почве несомненно был инспирирован Посланиями Нового Завета, в котором этот жанр использовался именно для того, чтобы направлять и указывать путь всем верующим.
Человек, пишущий письма, рассчитывал на то, что их будет читать не только адресат, но большой круг людей. Когда Августин стал епископом и знаменитым писателем, ему приходилось отвечать на множество вопросов, приходивших к нему отовсюду. Кроме того, у него была потребность вмешиваться во все споры, о которых ему становилось известно. Все это послужило причиной того, что он за свою жизнь написал очень много писем. Взятые вместе, эти письма могли бы стать темой отдельной диссертации. Для писания и писем, и книг Августин пользовался услугами профессиональных писцов, которые писали под его диктовку. Письма от знаменитых писателей и ответы им часто сохранялись для будущего. До нас дошло 249 писем Августина и 49 писем, написанных ему; во многих речь идет о делах, к которым он имел непосредственное отношение. У него были самые разные корреспонденты, начиная от анонимных, спрашивающих у него совета, до таких как Иероним, Павлин Ноланский и, конечно, близкие друзья, которые позже стали епископами в соседних африканских городах — Алипий, Эводий и Аврелий.
Еще задолго до своего крещения Августин стал искать смысл жизни в потустороннем мире. И у манихеев, и у неоплатоников земная жизнь была только средством для чего–то иного. Бог и душа — великие собеседники, которые могут встретиться только в том случае, если человек отринет мир плоти и чувств. Через несколько лет Августину стало ясно, что это не соответствует христианскому пониманию человеческой жизни. Тем не менее фрагменты дуалистических мотивов появлялись в сочинениях Августина и после того, как он стал епископом.
Манихейство было элитарной религией для небольших групп, презиравших основную массу суеверных читателей Библии. Это движение мощно вошло в образованные слои христианства. Августин присоединился к манихеям в результате чтения Цицерона и оставался с ними примерно девять лет. «Я валялся в этой грязной бездне и во мраке лжи», — вздыхал потом он (Исп. Ill, 11; V, б; О пользе веры, 2). Манихейство распространилось на территории от Месопотамии до Индии и Китая на востоке и до Северной Африки на западе.
Это было дуалистическое учение, ибо оно не соглашалось с тем, что зло в определенных случаях может происходить от добра. Приверженцы манихейства считали, что мир имел два самостоятельных и разных источника (Исп. V, 3). Доброму Богу и Царству Света противостоял злой Князь Тьмы. Первый защищал все, что имело духовную природу. Другой защищал то, что было материальным. Unde malum — «Откуда зло?» (Исп. Ill, 7; VII, 5 и 7). «Что такое зло?» (О прир. блага, 41–47). Эти богословские вопросы были главными для движения. «Они столь ревностно ищут источник зла, что ничего, кроме зла, не находят», — скажет Августин в будущем (О пользе веры, 36).
Верующие манихеи создали полулегальный, тайный союз, который ненавидели и христиане, и язычники. Манихейство могло бы быть признано как христианское вероисповедание, если бы на ранней стадии оно не получило статус еретического учения. Пророк Мани (216–276) называл себя «апостолом Иисуса Христа, выбранным Богом Отцом». Ряд основополагающих христианских понятий были заимствованы из системы манихейства. Сами манихеи считали, что они и есть истинная Церковь и чистая Невеста Христова.
У манихеев было собственное учение о Троице — Отце, Сыне и Святом Духе. Они трое были одним Богом с тремя именами (sub triplid apellatione). Бог живет в недостижимом свете. Сын, напротив, — в достижимом свете. Как «сила Божия» он живет в солнце. Как «мудрость Божия» он живет в луне. Святой Дух имеет свои чертоги в атмосфере (Пр. Фавста, XX, 2). Так манихеи материализовали Троицу в небесном пространстве. Духовное, или свет, тоже представлялось манихеям материальным, правда, оно происходило из иной материи, нежели земные вещи.
Поэтому последователи Мани и не могли принять инкарнацию. Это бы означало смешение материй, принадлежавших разным мирам, на различии которых строилась ся их религия. Они полагали, что Бог Сын не мог быть рожден Марией, не заразившись при этом злом земной материи. И потому Христос стал у них неким привидением из мира света, привидением, не имевшим тела, не способным умереть и снова возродиться. Пока Августин принадлежал к манихеям, он тяжело переживал, что они не празднуют Пасху (Пр. послан, маних. 8). Отказав Христу в человеческом теле, манихеи, как и следовало ожидать, столкнулись с трудностями в понимании Священного Писания. Большую часть Ветхого Завета манихеи просто не признавали, а многие части Нового считали фальсификацией иудеев (Пр. Фавста,15).
Для манихеев зло в мире было главной проблемой. Свет и «просвещение» были положительными метафорами. Призвание, зов пробудили Августина от сна. Чистая, добрая человеческая душа атакуется врагами со всех сторон. Душа пассивна, тогда как зло активно. Душа жаждет освободиться от стеснения. Зло — это вторжение извне. Царство тьмы нападает на царство света. Так полагали манихеи Чистые могли освободить душу от объятий плоти. Нечистые были привязаны к земле как скот. Августин, по известным причинам, относился к подвергаемому нападкам меньшинству, и это постоянно вовлекало его в дискуссии, в которых он мог и хотел победить. Позже он скажет, что от христианства его удерживало в том числе и то, что побеждать в дебатах католиков было слишком легко (О двух душах, 11).
Впоследствии, став христианским епископом, Августин будет пользоваться искусством аргументации, которым он овладел еще будучи молодым членом секты манихеев. Манихеи были фанатиками совершенства и стремились избегать низких материй. Две части человека противостоят друг другу. Позже Августин подчеркнет целостность человека и пассивный характер зла. Учение о первородном грехе следует понимать как полемику против деления человека на две части. Грех находится в воле, в душе, говорил зрелый Августин. Поэтому насилие над девством, над воней жертвы не могут запятнать самое жертву (О граде Бож. • 16). Тело не опора для зла. Христос для манихеев был образцом страдающей в мире души, зерном света, плененным материей. В будущем Августин не раз вернется к образу силы и активной роли Бога. Манихеи могли занимать по отношению к миру лишь оборонительное положение. Они были преследуемым меньшинством, тогда как христианство было имперской религией. Поэтому католикам легче было говорить об активной роли добра в мире.
Во времена Августина манихейство было весьма влиятельной сектой. Его, пожалуй, следует назвать одной из античных мировых религий. Тексты пророка Мани и сочинения о нем имелись на греческом, латыни, коптском, арабском, сирийском, персидском, турецком и китайском. Мани ставил себя в один ряд с Заратустрой, Буддой и Иисусом Христом. Он был последним пророком в этом ряду, и тем, кто должен был довести до совершенства откровения других. Манихейство было божественным и спасительным познанием, это был gnosis, который шаг за шагом посвящал верующих в тайны космоса. Мани хотел быть тем «Духом истины» (Исп. V, 5; О пользе веры, 7), о котором предупреждал Христос через Евангелие от Иоанна (16,13): «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину; ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Сам Августин никогда не принимал манихейства всем сердцем.
Эта система мышления носила явный отпечаток дуализма: духа и матеоии. добра и зла, света и тьмы, царства Божия и царства зла Кое–что из этой двойственности проявится потом в церковных сочинениях Августина. Можно также предположить, что Августина в полемике привлекала такая ситуация, при которой границы между «за» и «против» были бы более четкими. Однако постепенно он отказывается от материализма манихеев и принимает менее определенную метафизику платоников. Мнения всех остальных философов уступают мнениям платоников, говорит Августин в своем главном историко–философском труде (О граде Бож. VIII, 5–10). Никто не подошел так близко к истинам христианства, как Платон.
Впоследствии Августин попытается растолковать до конца параллели между мудростью Платона и Священного Писания. Он сошлется на епископа Амвросия, который говорил, что Платон был в Египте и благодаря пророку Иеремии, жившему в то же время, познакомился там с «нашими книгами»! Платон и в самом деле жил раньше, чем происходили события, описанные в Новом Завете, но было бы «чистым безумием» верить, будто учение Иисуса Христа ведет свое начало от Платона (О христ. учен. II, 28). Проблема приоритета ясно показывает веру Августина в близкое родство между мудростью платоников и христиан.
В 375 году Августин на короткое время возвратился из Карфагена в Тагасту, чтобы преподавать риторику в родном городе. Между ним и матерью сложились весьма напряженные отношения потому, что он выбрал в сожительницы женщину, не отвечавшую мечтам Моники о восхождении сына вверх по социальной лестнице, но главное; потому, что Августин присоединился к манихеям. На некоторое время она даже отказала ему от дома (Исп. Ill, 11). Августину пришлось поселиться у своего покровителя Романиана. Между тем Монике приснился удивительный сон, из которого явствовало, что Августин со временем станет истинным христианином. Он будет там же, где и ты — было сказано ей во сне (Исп. Ill, 11). Это помогло Монике примириться с Августином, не уронив своего достоинства. Ведь, живи он не дома, она не могла бы контролировать его поведения. Кроме того, у нее сохранялась возможность быть бабушкой Адеодату, которому тогда было три года. И твердость принципов, и хорошие отношения были спасены благодаря этому вовремя приснившемуся сну.
Живя в родном городе, Августин встретился со своим старым школьным другом, которого он пытался соблазнить манихейством (Исп. IV, 4). Но друг заболел и принял католическое крещение, несмотря на насмешки Августина над его «суеверием». Увидев реакцию Августина на. свое обращение в христианство, друг пригрозил, что порвет с ним всякие отношения. Потом друг умер. Между строчками этого рассказа мы читаем, что его смерть была большой утратой для Августина. И победой для религии его матери. Когда Августин потерял друга, он, по его словам, не находил себе места. «Стал я сам для себя великой загадкой (magna quaestio) и спрашивал душу свою, почему она печальна и почему так смущает меня, и не знала она, что ответить мне» (Исп. IV, 4).
На этом духовном ландшафте потом возникнут «Монологи». Августин как будто потерял частицу собственной души (Исп. IV, 5 и 7): «Повсюду со мной была моя растерзанная, окровавленная душа, и ей невтерпеж было со мной, а я не находил места, куда ее пристроить. Рощи с их прелестью, игры, пение, сады, дышавшие благоуханием, пышные пиры, ложе нег, самые книги и стихи — ничто не давало ей покоя… Куда мое сердце убежало бы от моего сердца? Куда убежал бы я от самого себя? Куда не пошел бы вслед за собой?» И Августин еще раз уехал из Тагасты в Карфаген, ему было тогда двадцать два года.
Моника закрыла для манихеев двери дома, где прошло детство Августина. Она сдалась только после того, как ей приснился сон, что Августин станет христианином. Этот поучительный переход от одной религии к другой не был столь уж большим. В богословии манихеев большую роль играли толкования на апостола Павла. Однако существовало и народное манихейство, особенно среди странствующих купцов, и оно было куда более фундаменталистским и менее умственным.
Для пророка Мани мир был своего рода аптекой, в которой очищался свет. Все, что существовало и случалось в мире, имело прямое отношение к защите святых частиц света. Весь kosmos был сценой для драмы, являвшей собой единое целое с драматическим путем каждого человека в отдельности к чистоте и ясности. Манихеи жили в системе метафор, к которым сами они относились, как к непреложной истине. Августин был жадный читатель и, помимо того, увлекался тогда книгами по астрономии и астрологии. Он думал, что в астрономических расчетах содержится истина, которую манихеи не смогли объяснить. Это заронило в него первые сомнения в манихействе, позже он разделил эти сомнения с теми, кто сделал сомнение своей философией, а именно со скептиками или с «академиками», как он их называл (Исп. V, 10; О пользе веры, 20). Здесь он тоже мог опираться на авторитет Цицерона.
Одновременно Августин встретил одного из гл авных теоретиков и защитников манихейства Фавста Милевского. Фавсттоже был африканец и владел искусством увлекать за собой массы. Однако Августина он не убедил (Исп. V, 3 и 6). В более позднем и отчасти автобиографическом письме к другу Гонорату (391) Августин описывает разочарование и растерянность, оставшиеся в нем после встречи с Фавстом (О пользе веры, 20). Он нашел, что Фавст — всего лишь малоосведомленный болтун. С теми, кто не мог состязаться с ним в красноречии и знаниях, Августин вел себя как заядлый сноб.
После дискуссии на встрече в 383 году Августин вышел из общины манихеев. Манихеи объявляли свою религию выбором разума, но именно разум Августина не нашел у них удовлетворения. Теперь он понял, что истину, которой не мог постичь манихейский разум, ему может предложить только христианская вера. Понятие веры, из которого исходит Августин, не является абсолютным противоречием разуму. Верить, говорит он позднее, это «мыслить с убеждением»: cum assensione cogitare (О предопр. свят. 2,5). В вере нет ничего неразумного. Напротив, мы всегда можем полагаться на слова других. Все знания состоят из того, до чего мы дошли сами или слышали от других.
Мы должны верить другим, но это не то же самое, что верить в них. Мы верим им, когда полагаем, что они говорят правду. Но мы верим только в то, что мы любим (Гал. 5, 6). Поэтому решающие знания зависят от удостоверения веры (Ис. 7, 9; Мф. 7, 7). Вера ищет, но разум находит (О Троице, XV, 2). Понимание — это «награда веры»: тегces fidei (Рассужд. на Еванг. от Иоан. 29,6). Больше всего Августин стремился избежать противоречия между верой и знанием. Третьим элементом здесь выступает любовь, которая, впрочем, выделялась также и платониками (О граде Бож. VIII, 8). Счастлив тот, кто может наслаждаться Богом, которого любит. Именно любовь заставляет веру открыться для знания и поддерживает знания, питающиеся верой (Письма, 120, 3).
Августин долго считал, что посвящение в манихейство приведет его к новым и более глубоким знаниям. Он полагал, что все, чему он научился до сих пор, лишь предворяет те истины, которые потом должны перед ним раскрыться в гностическом единстве (О блаж. жизни, 4). Однако ему не нравилось, что манихейство считало себя универсальным решением, а потому лишалось каких–либо возможностей для развития. Труд, саморазвитие и рост личности были для Августина важной частью смысла жизни. Поэтому вместо манихейства он обратился к неоплатоникам и Плотину, не сочтя при этом, что такой поворот означал личный разрыв с манихеями. Потребовалось довольно много времени, чтобы он обнаружил, как велика на деле разница между этими двумя мировоззрениями.
Встреча с Фавстом Милевским должна была ответить на скептические вопросы Августина, алчущего истины. Но после того как Августин обнаружил, что Фавст вообще не отвечает за свои слова (Исп. V, 6), произошло внутреннее отчуждение между ним и этой гностической религией спасения. Однако, когда Августин наконец покинул Карфаген, чтобы искать счастья в Риме, этой мировой столице, его сторонниками по–прежнему были в основном манихеи. Чтобы покинуть Африку, ему пришлось обмануть Монику и тайно, под покровом ночи сесть на корабль (Исп. V 8). Августин должен был так или иначе вырваться из Карфагена, но и Моника была не из тех, кто легко сдается. Очень скоро она отправилась на поиски сына.
Августин всегда был окружен друзьями. Одаренные люди, разделявшие его энтузиазм, всегда поддерживали его. Многие из них жили в безбрачии, но Августин, как известно, рано оказался связанным отношениями со своей конкубиной (Исп. IV, 2). В те времена брак был серьезным юридическим делом и предусматривал принадлежность супругов к одному социальному классу. Вступление в брак было нелегким мероприятием. Поэтому конкубинат — сожительство с постоянной женщиной — получил широкое распространение. Однако в 385 году, когда Августин уже сам, а не только под нажимом Моники, понял, что сржительница мешает его дальнейшей карьере, он покинул ее, несмотря на то, что она была матерью его сына. С тех пор близкое окружение Августина состояло только из друзей–мужчин. Но это случилось позже, уже в Милане.
Глава 5. Учитель риторики завоевывает мир
Августин обладал блестящим талантом, и многие стремились заручиться его расположением. С его красноречием было почти невозможно проиграть какое–либо дело. В течение семи лет, проведенных в Карфагене, он обрел множество почитателей. У него было много студентов, которых он учил и наставлял не один год. Из ближайших друзей Августина нам известны имена Алипия, Лиценция, Небридия и Тригеция. Августин был «школьным учителем» Алипия—grammaticus—вТагасте, и потом они снова встретились в Карфагене, где Августин заставил Алипия отказаться от посещения жестоких и грубых цирковых представлений и вместе с ним примкнуть к манихеям. Впоследствии Алипий станет католическим епископом в Тагасте и в 411 году примет участие в большом соборе, на котором произошел разрыв с донатистами. Алипий «вырвался из этой глубокой ямы, куда с удовольствием влез, наслаждаясь собственным самоослеплением; мужественное самообладание встряхнуло его душу, и с нее слетела вся цирковая грязь» (Исп. VI, 7), напишет потом Августин. В те времена индустрия развлечений представляла собой для веры большую опасность, чем культ древних римских богов.
Должно быть, римляне понимали, что боги, требовавшие грубых театральных представлений в свою честь, не заслуживают уважения как боги, говорит Августин (О граде Бож. II, 13). Римские боги не были озабочены тем, чтобы помешать крушению Римской империи, которое произошло из–за падения нравов (О граде Бож. II, 22). Если кого и следовало обвинять в падении Римской империи, то в первую очередь богов, которые требовали, чтобы их чествовали кровавыми или лживыми «цирковыми представлениями» — spectacula. Эти представления долго держали Алипия в своем плену. В конце концов он вместе с Августином принял крещение в Милане в 387 году.
Небридий тоже принадлежал к узкому кругу Августина в Карфагене. Он был самым самостоятельным из друзей Августина. Августину так и не удалось увлечь его манихейством. К тому же Небридий смеялся над быстро прошедшим у Августина увлечением астрологами (Исп. IV, 3). Августин явно умел собирать вокруг себя своих почитателей и организовывать их на благо общей цели. И в Кассициаке, и потом в качестве основателя монастыря он проявлял ту же потребность собирать вокруг себя небольшой круг и руководить им.
В последние годы жизни в Карфагене Августин принимал участие в состязаниях драматических поэтов и даже написал для этой цели несколько драм; одновременно с этим он страстно увлекался и астрологией (Исп. IV, 3). Одно состязание Августин выиграл и получил венок из рук знаменитого врача, проконсула Виндициана, который позже с помощью аргументов пытался отвратить его от астрологии (Исп. IV, 2–3; VII, 6). Астрология была частью и политической, и медицинской сферы жизни. Желание добиться успеха не может быть отделено от объективных возможностей, открытых расположению звезд, считали астрологи.
У Августина было смутное чувство, что астрология может располагать некоторыми знаниями о будущем. Очевидно, определенный интерес к астрологии он сохранил и после разрыва с манихеями (О 83 разл. вопр. 45). Но этот интерес не согласовывался с его христианскими убеждениями. История Исава и Иакова из Ветхого Завета показывала, что время рождения человека не может объяснить ни его удачи, ни несчастья (О граде Бож. V, 4–7).
В зрелом возрасте Августин с жаром нападает на живущих в его время астрологов (mathematia). Многое из того, что он пишет о свободе воли, можно понимать как полемику против астрологии, которая раньше так занимала его. Он вспоминает слова Иисуса, сказанные им в храме исцеленному человеку: «Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже» (Иоан. 5, 14). «Это спасительное наставление они ведь пытаются целиком уничтожить, говоря: «Небом суждено тебе неизбежно согрешить» (Исп. IV, 3). Астрология хотела снять с человека ответственность за его поступки и жизнь. И потому была неприемлема.
Люди могут родиться в одно и то же мгновение, и все–таки их судьба будет совершенно различна, говорит Августин. Астрология либо обман, либо ее исполнившиеся предсказания объясняются случайностью и демоническими знаниями. Достаточно вспомнить Исава и Иакова. Они родились в одно время, но жизненный путь их был разный (Исп. VII, 6). Нападая на астрологию, Августин хотел подчеркнуть ответственность человека за случившееся. В его трактате «О блаженной жизни» астрология возникает среди мореходных метафор, как, например, «вести свое судно по звездам» (О блаж. жизни, 4).
Августин согласен, что звезды и планеты могут оказывать влияние на жизнь человека, но это влияние ни в коем случае не может быть настолько сильно, чтобы освободить нас от ответственности за наши поступки. Венера не может извинить того, кто нарушает узы брака. Марс не может отвечать за поножовщину. Скряга не может винить в своей жадности Сатурна. Жулик отнюдь не является рабом Меркурия. Бог создал звезды, но было бы нелепо ставить Ему в вину то, что ими пользуются для объяснения грехов и проступков. Вера в судьбу подрывает мораль, лишая человека представления о свободе воли. С астрологией особенно связан тот период жизни Августина, когда он, будучи манихеем, пытался объяснять, что зло в мире является результатом материальных сил.
Не разумнее ли считать, что под руководством звезд находятся коровы, растения, собаки, не имеющие свободной воли, чем полагать, что в их власти находится человек, который способен сам принимать решения? Вера в судьбу — это удобный выход для тех, чья жизнь полна пороков. Епископ Августин смеялся над теми, кто объяснял повседневные события выгодным или невыгодным положением звезд. Ведь дошло даже до того, что некоторые люди «замечали время, когда разрешались от бремени домашние животные (если это случалось дома), и соответственное этому времени положение светил» (Исп. VII, 6). О Вифлеемской звезде, на которую любили ссылаться христиане, защищавшие астрологию, Августин говорит, что не звезда была судьбой Христа, а сам Христос был судьбой этой звезды.
Не ребенок шел под звездами, но звезда сама пришла к ребенку в яслях. В каждой проповеди и в каждом тексте Августин упоминает звезды, солнце, луну и направляет свой сарказм против тех, кто полагал, будто их судьба записана в звездах. В зрелости Августин считал, что звезды не могут быть причиной происходящих на земле событий, однако могут предупреждать о переменах и быть знаками. (О граде Бож. V, 1). Римская религия оставила после себя такую мешанину из пророчеств, астрологии, суеверий и веры в таинственное (О христ. учен. II, 20–23), что бороться против этого с помощью аргументов было почти невозможно.
В Карфагене началась долгая и напряженная работа Августина над artes liberates, свободными искусствами, которые были обязательной частью образования ритора (Исп. IV, 1 и 16). Многое говорит за то, что именно эти занятия подсказали Августину мьюль написать Disciplinarum liber— введение в семь свободных искусств или наук. Единственное сочинение, которое он успел довести до конца, — «О музыке», посвященно ритмам и поэтическому языку. В то же время, примерно в 380 году, он написал небольшой труд по эстетике — «О прекрасном и соответствующем», который вскоре был утрачен (Исп. IV, 13–14). Эта работа была посвящена малоизвестному римскому оратору Гиерию, которым Августин восхищался, но никогда не встречал лично. Епископ Августин ставит себе в заслугу, что он никогда не заботился о сохранности своих юношеских сочинений и не старался отыскать их, если они терялись. Когда–то в Карфагене он придавал им значение, но не теперь, говорит он. В то же самое время Августин изучал трактаты Аристотеля о категориях, которые позже использовал и превзошел в своей работе о Троице.
Проблема, затронутая в том полемическом труде по эстетике, вращалась вокруг «прекрасного» и «соответствующего». Этот вопрос был затронут Платоном еще в «Гиппии Большем». Опирается ли красота на что–то, кроме одних условностей? Матафизична ли она? Не является ли она откровением скрытого порядка? Исчерпывается ли действительность красоты тем наслаждением, которое она дарит? (ср. Исп. II, 5–6). По мысли Августина, рукотворная красота, как правило, представляет собой искушение. Для него истина Бога прекраснее и восхитительнее всего остального. Вместе с тем, само это сочинение представляло собой искушение ученика пойти на все ради достижения известности. Писать такие сочинения — не что иное, как суета, говорил Августин позднее (Исп. IV, 14).
Мы не знаем эстетических рассуждений Августина, но знаем, что вопрос об объективности красоты вскоре всплыл в его богословских сочинениях. Позднее его учение о красоте вошло в богословие, и Бог стал вечной мерой также для красоты искусства. «Искусные руки узнакгг у души о красивом, а его источник — та Красота, которая превыше души» (Исп. X, 34). Работа над вопросами, поставленными Платоном, подготовила разрыв с манихейским материализмом. Августина привлекало то, что платоники делали упор на математическую науку, и несомненно, он сравнивал их учение о бестелесном свете с манихейским образом света как тонкой субстанции (Исп. IV, 16; VII, 1; О блаж. жизни, 4).
Карфаген был крупным городом Римской империи. Во времена императора Константина он продолжал оставаться важнейшим центром на западе после Рима и Милана. В Карфагене Августин познакомился с сыном и зятем богатого поэта Авзония и, вероятно, с будущим префектом Рима Симмахом, который выступил против закрытия алтаря богини Виктории в здании римского сената. Речь Симмаха в защиту старой религии была последним проявлением интеллектуальной сипы, которое по своей напористости могло сравниться с новым христианским мышлением. Не исключено, что Симмах был двоюродным братом епископа Амвросия Миланского (339–397), с которым он вел борьбу, так что отношения в высших кругах римского общества часто были достаточно семейными. Августин вписался в эту среду.
В 373–74 годах Симмах был проконсулом в Африке и жил в Карфагене. Августин в то время заканчивал там свои занятия риторикой. Когда они встретились в Риме, Симмах был уже префектом Рима, то есть высшим чиновником. Милан нуждался в учителе риторики, и Симмах рекомендовал туда Августина (Исп. V, 13). Возможно, это произошло не без помощи манихейского лобби в Риме. Тяжело заболев после бегства от матери, Августин жил тогда в одном манихейском доме. Год, проведенный Августином в Риме (382), принес ему одни разочарования.
Многое указывает на то, что Симмах выбрал Августина из–за его манихейских связей. Сам префект был в Риме человеком императора. Будущая работа Августина состояла в том, чтобы сочинять панегирики императору и его семье по случаю официальных мероприятий. Августин точно знал, что представляет собой Симмах, а префект знал, что Августин, получив место учителя риторики, будет перед ним в долгу. Как бы то ни было, парадоксально, что за отправкой Августина в Милан к епископу Амвросию стоял последний ярый защитник язычества в Риме. В Милане Августин встретил целый сонм философов, поэтов и ораторов, приближенных к императору. Он принимал участие в совместном изучении Платона и слушал проповеди Амвросия. В Милане собрался весь ученый мир империи.
Августин почти ничего не пишет об архитектуре городов, которые он повидал. Многое из того, на что обратил бы внимание современный человек, он просто не заметил. Мы могли бы ждать, что он, уроженец маленького провинциального города в сердце Северной Африки, хоть что–то скажет о великолепии Рима и Милана. Но во всем его творчестве нет ни малейшего намека на то, что его поразила их роскошь. Прежде всего он обращал внимание не на здания и пейзажи, а на людей и их го/юса.
Во время своего первого приезда в Рим Августин почти не заметил христианской части города. Он жил с манихеями, которые враждебно относились к Церкви и всему, что ей сопутствовало. А ведь те годы были очень важны для христиан, живших в этой мировой столице. Именно тогда Иероним проповедовал римскому высшему классу аскетическое христианство, вскоре после чего уехал в Святую землю (385). Однако нет никаких свидетельств, что писавшие друг другу письма Иероним и Августин когда–либо встречались. Как раз в 380 году папа Дамас составил перечень находящихся в Риме мощей великомучеников и перечислил важнейшие могилы. Именно благодаря ему Рим навсегда превратился в город, куда стремились паломники. И все–таки христианское великолепие Рима не произвело на Августина никакого впечатления.
Римский круг общения Августина говорит о том, что в 383 году он по–прежнему оставался манихеем. И даже общался с теми, кто принадлежал к внутреннему кругу манихейской секты (Исп. V, 10). Однако в то же время он открыл в платонизме скептические традиции и скептические стороны в текстах и мышлении Цицерона (О блаж. жизни, 4). Для скептиков мудрость равнялась отказу от вынесения приговора (Исп. V, 10). Пока что это Августина устраивало. Правда, осенью 386 года он придет к заключению, что скептицизм подобен огромной скале, мешающей мореплавателю попасть в желанную гавань (О блаж. Жизни, 3). Это принципиальное сомнение было последним препятствием, которое он преодолел, прежде чем обрел твердую почву под ногами. Августин говорит об «отчаянии в погоне за истиной», которую испытывает скептицизм: desperatio verum inveniendi. Совершенно очевидно, что он приписывает сочинениям скептиков страстность, в которой они сами вряд ли признались бы. Августин верит, что говорит от имени всех скептиков, но на самом деле он говорит только о себе и о своих неудовлетворенных поисках знания, которое одно может дать покой.
Вторая встреча Августина с Цицероном происходит в конце того периода, когда он был манихеем. Теперь его вдохновляют диалоги из сочинения «Учение академиков». Начиная с бесед с Фавстом Милевским и до знакомства с работами Платона в 385 году, Августин остается верен скептицизму. Его диалог «Против академиков» свидетельствует о том, что искушению скепсисом пришел конец. «Им казалось вероятным, что истину найти нельзя, а мне кажется вероятным, что ее найти можно», — говорит он (Пр. акад. ||, 9). Августин должен был преодолеть скептицизм, чтобы двигаться дальше по своему философскому пути.
В Карфагене Августин преподавал риторику студентам (Исп. V, 7), этим он занимался в течение десяти лет вплоть до знаменитого лета 386 года в Милане. Но для того, чтобы занимать такие посты, надо было иметь хорошие политические связи. Можно предположить, что получить место в Карфагене Августину помог его друг Романиан, но кто обеспечил ему должности в Риме и в Милане, мы достоверно не знаем. У Августина были связи среди сенаторов (Пр. акад. 1,2). Первые, кто приходит на ум, — это проконсул Виндициан в Карфагене и префект Рима Симмах — Симмах был связан с Карфагеном по своей прежней должности и имел большие поместья в Северной Африке. Авзоний и его родственники тоже могли приложить к этому руку. Но нам неизвестны точно причины, заставившие их продвигать Августина. Единственное, что можно сказать с уверенностью — в этот решающий период в поведении Августина не было никаких признаков, что он христианин. Иначе Симмах не стал бы помогать ему. Но когда Августин покинул Рим, он вместе с тем навсегда выбросил общину манихеев из чувств и из мыслей своих (Исп. V, 14).
Глава 6.Между императором, Амвросием и Моникой
Августин приехал в Милан осенью 384 года. Именно в Милане императоры Константин и Лициний в 313 году провозгласили веротерпимость. Тридцатилетний Августин приехал в политическую столицу Западной империи скептически настроенным, уставшим от жизни человеком, который благод аря своим талантам, случайностям и хорошим связям поднялся на вершину быстрее, чем мог ожидать. Он окружил себя скептиками и читал «Учение академиков» Цицерона, сочинение, говорившее о смирившейся жизненной мудрости последнего периода республики (45 год до н. э.). Августин переживал, так сказать, кризис тридцатилетнего возраста — все его желания как будто исполнились, а он, тем не менее, чувствовал ббльшую неудовлетворенность, чем когда бы то ни было. Только новый авторитет мог собрать воедино все оборванные нити. Даже сам император не произвел на Августина никакого впечатления.
В Милане он должен был преподавать риторику, а также писать панегирики в честь сомнительных императорских отпрысков и капризных генералов (Исп. VI, 6). Вскоре к нему присоединились два его старых африканских друга — Алипий и Небридий (Исп. IV, 7). Весной 385 года в Милан вслед за ним приехала и Моника (Исп. VI, I). Первым делом она постаралась устроить помолвку своего сына с подходящей женщиной, которая могла бы в будущем обеспечить ему надлежащее социальное положение (Исп. VI, 15). Мать Адеодата отослали обратно в Африку.
Знатной невесте, которую Моника нашла для Августина, было всего двенадцать лет, и потому она еще не могла выйти замуж. Жениху было около тридцати, и он на время ожидания обзавелся новой конкубиной. Юная невеста была дочерью знатного чиновника, христианина; он–то и должен был открыть Августину доступ в христианскую часть императорского двора. Впоследствии Августин всегда говорил о браке как о части суетности этого мира. Красивая женщина — не менее вредное смятение духа, чем богатство и пустое тщеславие (О пользе веры, 3). Сын Августина Адеодат остался с ним, потому что право на детей по римским законам принадлежало отцу. Что стало с прежней сожительницей Августина, не знает никто. Она просто исчезла.
Епископом в Милане в то время был Амвросий. Он был на четырнадцать лет старше Августина и уже в течение одиннадцати лет служил епископом. Амвросия рукоположили в епископы в 374 году, и он оказался первым ортодоксальным епископом в епископстве, где относительно свободно действовали ариане. До рукоположения в епископы Амвросий был губернатором провинции, ему тогда было тридцать три года. Он происходил из христианской семьи, но, несмотря на то что среди его предков был один христианский великомученик, принял крещение, когда уже стал епископом. Его брата и сестру — Сатира и Марцеллину, — как и его самого, впоследствии причислят к лику святых. Амвросий уже был духовным пастырем для трех императоров — Валентиниана, Грациана и Феодосия — и теперь всеми силами старался направить на путь истинный Валентиниана II.
Амвросий не раз боролся с молодым императором и его матерью–арианкой Юстиной и побеждал их. Император с матерью симпатизировали арианам, Амвросий осуждал арианство. Епископ был ловкий наставник, его семья привыкла повелевать. Властный по натуре, он умел в нужное время находить новые мощи святых. И вместе с тем кокетничал, говоря, что и сила Церкви, и его собственная состоят в слабости. У Амвросия Августин нашел столь же сильную склонность к целомудрию и аскетизму, какую нашел бы у Иеронима, если бы они в свое время встретились.
Несмотря на сопротивление сенаторской знати, Рим было сравнительно легко привести к христианству. А вот христианская история Милана началась только после того, как он стал городом императора. В 386 году Амвросий нашел мощи святых мучеников Гервасия и Протасия и хранил их под алтарем в своем огромном соборе. Речь идет о сыновьях святого Виталия, чьи портреты в мозаичных медальонах украшают церковь, построенную в честь их отца в Равенне. Эта находка увенчала победу Амвросия над Юстиной, матерью императора. Кроме того, епископ сочинял псалмы и был прекрасным оратором. Он позаимствовал с востока новые мелодии и ритмы и буквально зачаровал верующих своими псалмами. Августин слушал его проповеди критическим ухом профессионала: действительно ли они так хороши, как о них говорят (Исп. V, 13)?
Исходная точка отношений между Августином и Амвросием была не слишком благоприятной. Августин был назначен на свою должность противником Амвросия Симмахом и возвысился из манихейской среды в Риме. У Амвросия были причины для сдержанности. Отношения между Амвросием и Моникой сначала тоже сложились не совсем удачно. Моника привезла с собой африканский обычай приносить на кладбище угощение, чтобы утешить и мертвых, и живых. Епископ усмотрел в этих угощениях продолжение языческих «паренталий» — поминальных празднеств, которые были запрещены (ср. Письма, 29,10). Кроме того, Моника, опять же по африканскому обычаю, хотела праздновать субботу. Амвросий посоветовал ей придерживаться местных обычаев. Ничего удивительного, что он обратил внимание на странную мать и ее сына (Исп. VI, 2).
Августин не нашел в Амвросии–ораторе никаких слабостей и понимал, что сам он, по сравнению с ним, всего лишь деревенский умник. Он открыл в Амвросии образ человека, который мог бы служить ему примером. Амвросий знал языческих философов так же хорошо, как Ветхий и Новый Завет. Все, к чему он прикасался, превращалось в аргументы в пользу Церковных истин. Он сделал потустороннее божественным и толковал аллегории Ветхого Завета так же, как стоики толковали Гомера. Разумеется, Амвросий не первый читал Ветхий Завет таким образом, но он был первый, кого Августин слушал с большим вниманием и у кого учился мастерству. Толкования на рассказ о сотворении мира в XIII книге «Исповеди» показывают, насколько далеко такие рассуждения могли простираться. Августин в полную силу использовал новые возможности: евреи пили воду из духовной скалы, которая сопровождала их в пустыне, и скала эта — Христос. Два сына Адама несли ответственность и перед Старым и перед Новым заветом (О пользе веры, 8) и т. д.
Амвросий научил Августина по–новому читать тексты. Отношение между буквой и духом соответствовало отношению между буквальным и аллегорическим прочтением. Не зря апостол Павел учил Церковь, что «буква убивает, а дух животворит» (2 Кор. 3, 6). Именно в аллегории проявляется духовный смысл текстов. Августин хотел проникнуть во внутренние сады текстов. Хотел научиться читать их «по духовному» — spiritualiter. Иллюзии гордости принадлежат внешнему миру, но истины смирения принадлежат миру внутреннему.
Амвросий читал про себя, беззвучно! Августин впервые столкнулся с этим на практике. Он сам, как и все известные ему люди, читал вслух, даже когда находился в одиночестве. Способ чтения Амвросия убедил Августина, что, строго говоря, звук — это лишняя материальность и что ощущаемый звук есть только инструмент духовного (Исп. V 3). По–видимому, Августин первый в западной философии развил теорию чтения, собственно того, что происходит, когда мы читаем книгу. Внутренний язык важнее внешнего. Августин понимал, что, читая про себя (in silentio), Амвросий сердцем ищет смысл текста. Чтение книг для души то же самое, что пища для тела. Бог позволяет одинокому читателю найти Себя, тогда как от восторженных масс Он скрывается. Чтение про себя пленило учителя риторики. Августину хотелось уйти от шума и пустой болтовни в свете рампы, хотелось вновь обрести себя в медитативной концентрации.
ВIV веке картинки в тексте все еще оставались подпоркой для памяти. Лишь в раннем средневековье, когда латынь стала чужим языком, иллюстрации стали обретать свой непосредственный смысл. Во времена же Августина исписанные страницы представляли собой лист, заполненный буквами без промежутков между словами. Поэтому читать их, не напрягая память, было невозможно. Тайна, открывшаяся Августину в способе чтения Амвросия, позднее была им рассмотрена в очень содержательном небольшом сочинении «Об учителе». Усвоенная Августином христианская культура чтения отодвинула в сторону все остальные формы связи с божественным: сны, предсказания звезд, оракулов, магию и риторику. Книга стала главной дверью, ведущей из внешнего мира во внутренний. Сочинения самого Августина оставались центром тяжести этой культуры чтения на протяжении более тысячи лет. В церковном искусстве он почти всегда изображается либо читающим, либо пишущим и всегда с одной или несколькими книгами в качестве атрибутов.
У манихеев Августин впервые встретился с ученой, а потом и народной версией веры этой общины. И был разочарован. В христианстве он нашел народную веру Моники и вот теперь, у Амвросия, нашел ее ученую версию. Он был изумлен. Имматериализм Амвросия был особенно важен для Августина, который раньше, у манихеев, воспринимал свет, как материю, и Бога, как нечто, обладающее плотью (Исп. IV, 16; VI, 3). Платоновско–христианский спиритуализм, с которым Августин познакомился в Милане, открыл перед ним новый мир (Исп. Ill, 7; VI, 4:0 блаж. жизни, 4) Амвросий предполагал имматериальность божественного точно так же, как неоплатоники. Моника же повторяла слова Амвросия и шаг за шагом подталкивала Августина к вере его детства (Исп. 1,11).
Августин и Амвросий одинаково восхищались Цицероном. Было бы не совсем верно сказать, что Августин слушал проповеди Амвросия только затем, чтобы насладиться его риторикой. У Амвросия он нашел ораторское искусство, в котором не было пустословий; риторика Амвросия была далека оттого, чтобы льстить власть имущим. Он открыл Августину умение соединять ораторское искусство с осмысленным содержанием, когда–то присущее Цицерону. А главное, Амвросий явил Августину мудрость, не бегущую от мира. Ибо, обладая исключительной силой убеждения, епископ Милана занимался и государственной, и Церковной политикой. Его христианство не было системой личных мнений, он говорил от лица всей Церкви как института, учрежденного Богом. Амвросий показал Августину образец равновесия между активной и созерцательной жизнью — Марта и Мария, Рахиль и Лия. Кроме того, он явил ему яркую картину авторитета Церкви.
В Тагасте, Мадавре и Карфагене и даже в Риме Августин был звездой. В Милане же он впервые ощутил себя деревенщиной, попавшей в город. Люди обращали внимание на его африканский акцент (О порядке, II, 17). Сожительница Августина оказалась первой жертвой новых социальных требований, которые стояли перед ним и его матерью. Ее без всяких церемоний отправили обратно в Африку. Но и женитьба Августина на богатой христианской девушке тоже не состоялась. Августин все еще раздумывал над тем, как ему устроить свою жизнь в качестве философа. До сих пор он довольствовался кругом людей, изучающих работы неоплатоников, читал и толковал великого Плотина (ум. в 270 г.) уже после того, как Порфирий систематизировал его учение. Августин познакомился с неоплатонизмом еще в Риме, где у неоплатоников было много приверженцев (Письма, 118). В Милане в среде неоплатоников главную роль играл известный Манлий Теодор, богатый, образованный и весьма уважаемый горожанин (О порядке, I, 11). Десять лет спустя он достиг вершины в политике и стал консулом.
Ученик Плотина Порфирий был непримиримым врагом христианства. Августин в трактате «О граде Божием» (XIX, 22–23) приводит примеры его едких выпадов против библейской религии. Возможно, в кругах неоплатоников в Милане мы встретили бы и Августина, пытавшегося в очередной раз вырваться из тисков матери. Однако вовсе не факт, что эти духовные направления и общины ощущали свою обоюдную исключительность так сильно, как мы теперь склонны думать. Люди из более низких социальных кругов посещали театры, храмы и церкви в зависимости от того, что там происходило. Большинство жило в более диффузном синкретизме, где не было никаких четких границ. Христос сказал: «Царство Мое не от мира сего» (Иоан. 18, 36). И Августин, и Амвросий понимали эти слова, как подтверждение учения об идеях Платона (Пр. акад. Ill, 17). Когда Августин, уже став епископом, оглядывается в «Исповеди» на свою жизнь, мы понимаем, что в свое время в работах неоплатоников его насторожило именно отсутствие упоминания имени Христа. Сам Плотин по отношению к христианству хранил молчание.
Августин далеко не сразу понял Платона. Платон полагал, что неизменное лучше изменяющегося и потому невидимое лучше видимого. Счастье, даруемое мудростью, означает, что человек стал на якорь где–то вне этой жизни. Августин не видел большой разницы между Платоном, Аристотелем и неоплатониками. По его мнению, все они подтверждали существование имматериального, бестелесного мира, где истины открыты мыслям, но недоступны ощущениям (Исп. VII, 20). В платонизме Августин нашел аргументы в пользу отрешения от этого мира и совет вести аскетический образ жизни, дабы найти истину, нетронутую заблуждениями чувственных впечатлений. Но он не нашел там ничего о грехе и его искуплении.
Неоплатонизм вращался вокруг высшего принципа, который был непостижим и невыразим. Это так называемое Единое–благо превосходит все типы вещей и все типы познания. Об этом Едином–благе нельзя даже сказать, что оно–то и есть потустороннее добро и зло. Но это Единое–благо в порядке нисхождения связано с Бытием–умом и Мировой душой. Бытие–ум определяет дифференциацию мысли, а Мировая душа создает жизнь и движение в природе. Эти три инстанции являются ступенью внутри одного и того же божества. Таким образом, неоплатонизм тоже имел своего рода учение о триединстве, но с четким делением по рангу между инстанциями. Человеческая душа порождена Мировой душой, которую любит в силу необходимости.
Просвещенная душа становится богоподобной, то есть бессмертной, и реализует свое родство с божеством. Просвещение возможно только через дисциплину и аскезу как тела, так и мыслей. На практике переход от манихейства к неоплатонизму был, наверное, для Августина не слишком болезненным. Но он освободился от материализма манихеев и их наивной локализации Христа в солнце и луне. К тому же Августин, сумев повернуться спиной к дуализму, удовлетворил свою потребность в единстве и собранности. Однако неоплатонизм не знал никаких личных отношений между божеством и людьми.
Друг Августина Романиан с сыном Лиценцием, по–видимому, приехал в Милан в 385 году. Августин был частным учителем Лиценция еще в Тагасте. Именно Романиан уговорил Августина, а вместе с ним Алипия, Гонората и Марциана примкнуть к манихеям и теперь хотел уговорить Августина вступить в манихейский монастырь в Риме. Но для Августина не подходила ни эта религия, ни это время. Его дальнейшая карьера зависела от будущей женитьбы и принятия крещения. Августин ко всему относился настолько серьезно, что планы крещения вытеснили планы о женитьбе. Если он станет христианином, пусть это произойдет открыто и с радикальными социальными последствиями.
Моника, со своей стороны, поддерживала мысль об обращении Августина в христианство, ибо это дало бы ему социальное преимущество при императорском дворе (Исп. VI, 13). Однако подобные планы были чужды характеру Августина. И «Гортензий» Цицерона, и манихеи воспитали в нем другой тип отношения к жизни. В то время Августин презирал «бедных женщин» (muforculae), которые не видели героизма в стремлении мужчины найти истину (Исп. VI, 14). В социальных амбициях Моники он видел тенденции, родственные сопротивлению женщин тому, чтобы их мужья создавали общества мудрости вдали от шума и суеты этого мира.
Весной 385 года Юстина, мать императора, захотела отдать одну церковь, находившуюся вне городских стен, под арианское богослужение. По–видимому, это была та церковь, которая сейчас называется церковью Святого Лаврентия. Амвросий сказал: нет. Тогда двор потребовал отдать им новую церковь—Святой Феклы, которая теперь там покоится. Конфликт зашел в тупик. Амвросия поддерживали патриотически настроенные миланцы, которые не хотели видеть в церквах города мать императора и ее готских солдат. Епископ пригрозил Юстине и всем, кто был на ее стороне, отлучением от церкви. Вместе со своими сторонниками он захватил церковь, о которой шла речь, и всю ночь верующие пели там псалмы. С большим красноречием Амвросий объявил, что готов принять мученическую смерть за своего Господа. Двору пришлось уступить.
Моника была самой преданной сторонницей епископа (Исп. IX, 7). В письме к императору Валентиниану II Амвросий объяснил принципиальность своего протеста. В делах, касающихся церкви, епископ выступает судьей императора, а не император — судьей епископа. Несмотря ни на что, император, с точки зрения Церкви, — человек несведующий. Он не рукоположен. Предоставление церкви для проповеди арианской ереси было бы оскорблением божественной сути Христа, которую они отрицают. Император принадлежит Церкви, но не стоит над нею.
Вскоре после этого Амвросий нашел мощи мучеников Протасия и Гервасия. И он сам, и его паства истолковали эту находку как благодарность Всевышнего за то, что епископ оказал сопротивление язычнице Юстине (Исп. IX, 7). Такой мощный знак заставил императрицу–мать отступить. Арианство было осуждено на церковном соборе в Константинополе еще в 381 году, так что отношение Церкви к этой ереси было определено уже давно. Чудесным образом и крайне вовремя этими мощами, доставленными на место их последнего упокоения в базилику, которая, по–видимому, находилась на месте теперешней церкви Святого Амвросия, был исцелен слепой. Августин наблюдал за происходящим со стороны и узнавал от Моники о всех последних событиях.
Весной 386 года Амвросий читал проповеди, в которых использовал некоторые мотивы из «Эннеад» Плотина. Вообще трудно точно сказать, где и как Августин познакомился с неоплатонизмом. Возможно, именно эти проповеди Амвросия объясняют возникший у Августина интерес к неоплатонизму и очень несущественные различия между неоплатонизмом и христианством в его раннем мировоззрении (Исп. IV, 4; VI, 4). Но, безусловно, у Августина были и другие источники.
Летом 386 года Августин вращался в среде неоплатоников, где он, среди прочих, встретил Манлия Теодора, которому посвятил свое сочинение «О блаженной жизни». Сочинение написано в виде письма Теодору, в котором Августин попутно воспроизводит разговоры, будто бы имевшие место в Кассициаке. Кроме того, с мыслями и сочинениями неоплатоников он познакомился при посредстве священника Симплициана, ставшего после Амвросия епископом Милана (Исп. VIII, 1 и 3–5). Особенно это касается иДей, исходивших от ритора и неоплатоника Мария Викторина, который несколько раньше официально обратился в Риме в христианство (Исп. VIII, 4). Для Августина крайне важно было то, что Викторин, как и он сам, и его друзья, был африканцем.
С Симплицианом у Августина сложились более близкие отношения, чем с Амвросием (Исп. VIII, 2). Непосредственный контакте Амвросием был весьма ограничен. Предста-’ вители римской власти не допускали нарушения социальных порядков. Августин не хотел мешать занятому епископу, и Амвросий, разумеется, даже не подозревал в Августине человека, которому предстоит затмить его в истории Церкви. Амвросий же был для Августина одновременно примером и неженатого аскета, и человека, который без особых колебаний соединял в своих проповедях мысли платонизма и христианства. По–видимому, Августину было нетрудно преодолеть восхождение и узреть истину, о которой платоники постоянно твердили в своих работах (Исп. VII, 17). Он занялся неоплатонизмом. Чтение и дискуссии подкреплялись силой опыта и размышлениями, подтверждавшими истины неоплатоников. Когда Августин пришел к христианству, все это еще было свежо в его памяти. Мистическое прозрение, выразившееся в неординарном, однако неслучайном прикосновении к исти-„ не, связано с верой в присутствие христианского Бога (Исп. VII, 16–23).
Глава 7. Расставание со скептицизмом: личность не подлежит сомнению
Весной и летом 386 года Августин был сильно увлечен платонизмом (Пр. акад. Ill, 18; О блаж. жизни,4). Мир для него стал больше. И внешний, и внутренний. Бог Плотина был активной силой, освещавшей и внешнюю природу, и внутреннюю жизнь. Космос Плотина не был дуалистическим, но рисовал картину непрерывного перехода от света к мраку. Неоплатоники, как и манихеи, проводили границу между светом и тьмой, вечным и преходящим, но они объясняли альтернативы, которые сменяли друг друга на ступенях лестницы. Неоплатонизм всегда подчеркивал постепенные переходы, связывающие конечные точки.
Платоники лучше отвечали на главный вопрос манихеев, чем сами манихеи. Темнота, зло и все преходящее суть не самостоятельные данные, а просто недостаток света, Добра и вечности. Точно также, как страх — недостаток мудрости (О блаж. жизни, 27–28), а глупость — недостаток знаний. Здесь Августин не нашел никаких частиц света. Зато он нашел трансцендентное и невыразимое божество. Кроме того, он должен был принять мир таким, какое тот есть. Учитель мудрости Плотин — это воскресший Платон, говорит Августин, но, разумеется, такое воплощение не нужно понимать буквально (Пр. акад, III, 18).
Чтение работ платоников отвратило Августина от манихейства. А также повернуло его карьеру ритора от политики к философии. Теперь Августин понимал, что чести и славы, как смысла жизни, ему мало. Раньше он читал Цицерона и стал манихеем. Теперь он читал Плотина и стал христианином. Настолько непредсказуемым был культурный ландшафт поздней античности. С сентября 386 по март 387 года Августин жил в Кассициаке недалеко от Милана и там в трактатах «Против академиков», «О блаженной жизни», «О порядке» и «Монологи» он отказался от скептицизма. Августин не стал прятаться за удобным скептицизмом, которым, безусловно, мог бы воспользоваться как спасательным кругом, если бы его стратегией было равнодушие.
Скептики видели только то, что правдоподобно, но не непреложную истину. Правдоподобность, как ее понимали в античности, была не объективным свойством того или другого явления, а тем, что было только похоже на истину, но не являлось ею. Античный скепсис далеко не то, что в наше время называют поссибилизмом (possibilism), — когда и одно, и другое может быть случайным, — полемизируя против несомненных истин. Даже незнание не может быть точным. Августин сразу увидел, что скептики отказываются употреблять даже собственное понятие истины (О блаж. жизни, 14). Само собой разумеется, что надо знать истину (veritas), чтобы иметь возможность говорить о похожем на нее — verisimile (Пр. акад. II, 7). Что бы мы сказали о человеке, который заявил, что Лиценций похож на своего отца Романиана, но тут же признался бы, что никогда не видел Романиана? Это было бы бессмысленно, так же бессмысленно, как говорить, что знаешь возможное, не зная истинного.
Цицерон в «Учении академиков», казалось бы, лишь косвенно коснулся скептицизма и его значения. Но сделал это столь основательно, что долгое время люди признавали правоту скептиков. Цицерон говорил: мы не можем определить, что является действительным, а что — нет. Поэтому лучше всего держать при себе свои окончательные суждения, оставив за собой свободу незнания. Мечты, опьянение, безумие и иллюзии показывают, насколько зыбки границы между действительным и недействительным. Ни чувства, ни разум, ни математика, ни богословие не могут дать нам окончательный или безупречный ответ на вопрос, чт<5 такое истина. Именно скептический метод позволил Августину двигаться в направлении картезианской аргументации о существовании мыслящего субъекта как единственно незыблемой основы.
Августин считал, что скептики своими философскими рассуждениями уничтожают цель, ибо, отрицая истину, они отрицают счастье (Пр. акад. I, 3). Скептики не могут сказать, как поступать правильно (III, 16). Поэтому они и не счастливые, и не мудрые (О блаж. жизни, 14). Отказавшись от возможности найти истину, они отказываются и от Бога, и от счастья. Без истины нет счастья. В исходной точке Августин согласен с Аристотелем: все люди стремятся к счастью, зная или не зная, что это такое (О блаж. жизни, 10; О нравах катол. церкви, I, 3; О граде Бож. VIII, 8; О Троице, XIII, 4). Вопрос лишь в том, что такое счастье. У Аристотеля eudaimonia означает: «счастье, когда посчастливилось». Августин считает, что такое счастье лежит за пределами досягаемости человека. Варрон написал трактат «О философии», в котором перечислил 288 понятий, объясняющих, что значит быть счастливым. Все философские школы согласны, что счастье — это цель, но не согласны в способах, какими эта цель достигается, считает Августин (О граде Бож. XVIII, 41; О своб реш. II, 9).
Чтобы быть счастливым, надо обладать тем, чего желаешь. Но этого мало. Нужно еще желать того, что правильно, что не подвержено изменениям. Бог — единственное добро такого рода. Тот, кто следует Ему, живет хорошо. Тот, кто находит Его, становится счастливым (О нравах катол. церкви, 1,6). Человек становится счастливым, только когда владеет чем–то хорошим, что вечно и неизменно (О блаж. жизни, 11). Поэтому ничто, кроме Бога, не может Сделать человека счастливым (О своб. реш. II, 9 и 13; О 83 Разл. вопр. 35,2; О граде Бож. X, 16). Но, чтобы найти Бога, человек должен покориться Его воле и жить правиль»° (О блаж. жизни, 18; Монол. 1,6).
Душа должна очиститься, дабы она могла увидеть свет Бога и удержаться в нем, когда уже увидит его. Давайте представим себе очищение как путешествие по суше или по морю к дому нашего детства. Но, перемещаясь с места на место, мы не приблизимся к Богу, который есть повсюду; это возможно, лишь когда мы будем желать добра и делать добро (О христ. учен. I, 22). Бог — это «мера» (modus), ведущая к мудрости, то есть, ко Христу, который, по словам апостола Павла, есть Божия сила и Божия премудрость (О блаж. жизни, 34; 1 Кор. 1, 24). Ибо премудрость — это множество, а в множестве есть мера. Для души нет ничего выше, чем правильная цель, и она не довольствуется малым.
Еще тогда, когда Августин был с манихеями, его занимало зло в мире. Чем оно объясняется? Почему мир не только добр? Манихеи оперировали двумя мировыми причинами, злой и доброй (О прир. блага, 43). Но платоники и христиане, будучи монистами, верили, что у мира был только один источник. Бог никогда не делал зла, писал Августин манихею Гонорату, Бог никогда не раскаивался в своих поступках. Его царство не есть часть этого мира. Он никогда никого не обманывал (О пользе веры, 36).
Именно потому, что мир есть творение Божие, он не только зло (О прир. блага, 3). Всем вещам Бог дал цель, облик и порядок. В известной степени творение испорчено непослушанием. Но если бы не было добра, мы бы даже не знали, что зло — это зло. В тварном мире нет ошибок, но в нем есть недостатки. Так и ложное мышление — это мышление, которому недостает реальности. Истина существует въяве, тогда как ложь знаменует собой отсутствие того, что должно было бы существовать.
Только платоники понимали, что Бог — это «высшее благо», summum Ьопит (О граде Бож. VIII, 10; Письма, 118, 13; О прир. блага, 1). Платон дал Августину понятие о философии, которая ищет Бога (О граде Бож. VIII, 8). «Все стремится к единству» (О порядке II, 18): omnia in unum tendunt. Так ставится проблема о возможной ответственности центральной власти за зло в мире. Существует только один порядок, один режим, но иногда может создаваться впечатление, что некоторые события направляются извне. Волей Бога (О прир. блага, 43).
Мировой порядок имел духовное свойство, и оно сверху осеняло и материальную, и нематериальную действительность. То есть, вечный порядок ослабевал по пути к материи. Поэтому вечный порядок не так ощутим в материальном, как в нематериальном. Кроме того, прекрасный порядок, чтобы быть прекрасным, должен иметь противоречия. Обезьяна тоже может быть красивой в своем роде, говорит Августин (О прир. блага, 15). Если бы все было добром в равной степени, порядка вообще не существовало бы. Для того чтобы был порядок, должны существовать различия: Поэтому для представления о прекрасном порядке необходимо то, что не является безусловно хорошим. Зло — предпосылка великолепия и созидания мира (О порядке, 1,7). Августин часто использует такой образ: вселенная, подобно песне, требует ритма и контрастов (О муз. VI, 11; Письма, 138,5). Противоречия и различия — предпосылка гармонии (О граде Бож. XI, 18).
И, наконец, существует зло как недостаток добра. Зло не имеет собственной причины, оно является именно тем, чему не хватает ясных и четких причин. Подобная слепота — недостаток способности видеть или глупость, которой недостает знаний. Желать зла — все равно, что стремиться к ничто (О своб. реш. II, 20). Ничто обязательно существует на низших степенях действительности (О своб. реш. Ill, 9). Материя — зло в том смысле, что она не имеет формы и потому «почти ничто»: prope nihil или penitus nihil (Исп. XII, 3 и 6). Будучи бесформенным, nihil не требует познания. Ибо нельзя познать то, что не существует. В той степени, в какой что–то существует, оно добро (О граде Бож. XII, 2). Все существует только потому, что существуешь Ты, говорит Августин Богу (Исп. XI, 4). Все, что создано, преходяще, потому что создано «из ничего»: exnihilo (О прир. блага, 10). Все, что происходит из ничего, может опять превратиться в ничто. Сам по себе грех — это отсутствие в воле любви к Богу (О граде Бож. XII, 7–8).
В поздних сочинениях для объяснения этого положения приводятся грехопадение и первородный грех. Гордыня, желание быть подобным Богу, становится ядром любого человеческого зла. Только после того, как Августин стал епископом, у него появилось представление о Чистилище и Аде. А в первое время после принятия крещения он вместо них говорит о Судном Дне. Но и Судный День в первую очередь — это «символ» (manifestatio) внутреннего опыта. Только в трактате «О граде Божием», книга XX, мы находим ортодоксальный, исчерпывающий и стоящий в центре рассказ о Судном Дне.
Многие замечали, что в своих ранних произведениях Августин на удивление мало говорит о Судном Дне. А то, что он говорит о суде, аде, чистилище и небесах, это то, что впоследствии вошло в церковное учение (О христ. учен. (, 38) Пытаясь разрешить большинство проблем, Августин прежде всего обращается к сотворению мира. Более 1700 раз он ссылается на историю сотворения мира, рассказанную в Книге Бытия и в Прологе Иоанна. Но на последний суд, каким его описывает Матфей в гл. 25, Августин ссылается всего около 360 раз. Кроме того, в своих сочинениях он пять раз подробно пересказывает Книгу Бытия.
В произведениях Августина эсхатологический элемент учения Церкви более приглушен и подан более академично, чем у большинства его предшественников. Он решает проблемы Церкви, которая, по замыслу, пребудет на земле еще долго. Призывает своих верующих серьезно относиться к земным узам (О христ. учен. II, 101). И постоянно предупреждает против бегства от мира, пытаясь сформулировать многосторонние задачи верующих в этом мире (О граде Бож. XV, 21). Когда военачальник Бонифаций хотел отказаться от военной жизни и стать монахом, Августин сказал, что редкий военачальник–христианин нужнее, чем еще один монах среди многих монахов! (Письма, 185).
План Творения показывает, что ничто — случайно и что объективный порядок фактически существует. Бог сотворил все по размеру, числу и весу (Премудр. 11,21; О прир. блага, 21–22). Моральный и разумный порядок, наряду с математическим порядком природы и порядком политическим, это то, что приводит нас к Богу (О порядке, I, 9). Позднее Августин позволит архитектору объяснить, как он поднимается над осязаемым и видит невидимые узоры. Если что–то приятно, значит, оно красиво с объективной точки зрения. В осязаемом человек может лишь оставить «след» (vestigia) гармонии и симметрии, видимые только душе (Об ист. рел. 32, 59).
Чувственное удовольствие возникает благодаря разумной соразмерности вещей, когда их части соответствуют друг другу (О порядке, II, 11; О колич. души, 8, 13): сопgruentia particum rationabilis. Все основные понятия Августина были использованы еще архитектором Витрувием в его труде «Об архитектуре» (Marcus Vitruvius Pollio, De archit&ctura). Красота здания зависит от того же, от чего зависит и красота мира. Бог сотворил все по размеру, числу и весу. Поэтому архитектор, который строит маленький мир, действует точно таким же образом, как и Творец большого мира. Ибо сходства и сооветствия объясняются численными соотношениями. Именно численные соотношения вызывают приятное чувство (О муз. VI, 13).
Как говорит Августин, предметы должны формироваться по внутреннему свету чисел (О своб. реш. II, 16). Ибо видимая красота определяется красотой внутренней (О 83 разл. вопр. 30). Благодаря форме предмет, состоящий из отдельных частей, обретает единство (О порядке, II, 18; Об ист. рел. 32). Всякое многообразие упраздняется в Боге, поэтому предмет становится прекрасным, когда он соотнесен с Божественным единством. Искусство ни в коем случае не подражает чувственным свойствам материальных предметов, но представляет их доступные уму формы. Этот основной мотив в разных формулировках постоянно повторяется в ранних сочинениях Августина. Убежденность в объективности красоты способствует ограничению его скептицизма. Существует порядок, который мысль способна постичь. А потому существует и истина об этом мире.
Сочинение «Против академиков» (386) было закончено осенью вместе с сочинениями «О блаженной жизни» и «О порядке». Но отход Августина от скептицизма, по–видимому, начался еще весной. В диалоге «Против академиков» выступает Лиценций, который просит Августина подвести итог теориям скептиков. Скептицизм не может удовлетворить стремление людей к счастью и блаженству, говорит Августин, связывая мудрость, истину и счастье таким образом, что они непременно соотносятся друг с другом. Нельзя получить что–то одно, не приняв при этом всего в целом. Истинно то, что исключает все сомнения, говорит он (Пр. акад. II, б).
Математика дала Августину понятие о типе знания, в котором нельзя усомниться (Пр. акад. Ill, 11). Это он почерпнул у платоников. Истины всегда необходимы и неизменны. Пример 7+6*12 отражает не только эмпирически проверяемую истину, но также необходимую и неизменную истину, которая останется таковой на века. Августин верит, что все настоящие истины должны быть такого рода. Он верит, что, кроме них, есть еще этические и религиозные истины, открыв которые человек уже не будет их отрицать, ссылка на знание истины в математике позволяет ему говорить о необходимости и вечности теологических истин. Тот, кто однажды узнал, что 7+5=12, немедленно понимает, что это — истина, и уже никогда этого не забудет (О своб. реш. II, 21).
В дальнейшем Августин много размышлял над тем, что истина не есть нечто, произведенное разумом, как полагал Декарт, но то, что стоит над разумом и судит его. Мы не требуем, чтобы 7+5 было равно 12. Мы просто утверждаем это, словно обнаружили обстоятельство, существующее независимо от нас. Ибо истина существует независимо от человеческого духа. Истина управляет духом и превосходит его. Поэтому математика может привести мысль к вечной, неизменной и необходимой сущности (Об ист. рел. 30, 56–58).
Кроме того, Августин привлекает из логики Аристотеля закон противоположности (Пр. акад. Ill, 13) и закон исключенного третьего (Пр. акад. Ill, 10), дабы подтвердить фактическое существование неизменных истин в качестве представлений, которые не подлежат сомнению. Эти представления могут быть неистинными, но, во всяком случае, истина в том, что они существуют. Августин даже считает, что сами скептики прекрасно знали все, что касается существования истины, но прикрывали своим якобы незнанием какое–то тайное учение (Пр. акад. Ill, 17; Исп. V, 10).
Сочинение, написанное против скептиков, — это отчасти разрыв со старым спутником Августина Цицероном, которого он теперь несколько пренебрежительно называет magnus opinator — «великим предполагающим». Вторая книга трактата представляет собой очерк истории скептицизма, а третья опровергает основы этого учения. Не следует забывать, что сам скептицизм фактически обещал своим приверженцам счастье через не–знание. Поэтому исходная позиция Августина не так условна, как это может показаться на первый взгляд. Ход его мысли в этом сочинении последовательно подводит к полному подчинению авторитету Церкви, которое произошло после того, как Августин вместе с Адеодатом и Алипием принял крещение от Амвросия пасхальным вечером 387 года. Да и позже в истории Церкви скептицизм часто оказывался последней остановкой на пути к преклонению колен перед авторитетом Церкви.
Изучая Плотина и его толкователей, Августин подходит к христианству. Многие платоники считали христианство вульгарным и варварским. Но Амвросий убедил Августина в том, что христианство имеет сильные стороны, которые выдерживают сравнение с мудростью платонизма. Манихейское доверие Августина к апостолу Павлу завершило дело (Исп. VII, 21). Августин уже вступил на путь возвращения к Монике и вере своего детства. Создается впечатление, будто он, сколько мог, оттягивал эту капитуляцию. Он изучил все известные мировоззрения, чтобы найти учение, которое могло бы дать то же, что давало христианство. С христианским стремлением к истине он искал ее во всех учениях, кроме христианства.
Эти поиски не дали результата еще и потому, что Августин предъявлял к господствовавшим тогда мировоззрениям требования, которые в последний момент извлекал из памяти о своем христианском воспитании. Только епископ Амвросий убедил Августина в том, что, уступив мольбам Моники, он не совершит ничего постыдного. В рассказе Августина о своей жизни образ Моники получает черты, превращающие ее в аллегорию Церкви. В ранних диалогах он называет ее просто «мать». Но никогда не упоминает ее имени. Она не только женщина из Северной Африки и его мать, она олицетворение ряда признаков, которые характерны для Церкви как матери всех верующих. Ибо Церковь тоже была «матерью матерей» (Письма, 243). Моника была для Августина тем же, чем Пенелопа для Одиссея, Венера для Энея или Беатриче для Данте. Она объединяла в себе и уверенность проводника, и трогательную заботу, и обещание спасения.
Глава 8. «Обращение» — возьми, читай!
Понтициан, крещеный африканец, навестил Августина в Милане по какому–то делу и был удивлен, застав его за чтением Посланий апостола Павла (Исп. VIII, 4). Он рассказал Августину и Алипию историю об африканском отшельнике Антонии (Исп. VIII, 6 и 12; О христ. учен. прол. 8). А также о монашеских общинах, которые стали появляться во многих местах Западной Европы. Сам Понтициан нашел книгу об отшельнике Антонии в далеком Трире в долит Мозеля. Эта книга сыграла решающую роль в выборе им жизненного пути. Антоний (251–356) тоже обратился в христианство, услыхав задевшие его слова. Понтициан говорит, что Антоний в открытые двери церкви услыхал слова: «Пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною!» (Мф. 19, 21).
В «Исповеди» мы находим ряд примеров для «подражания» — imitatb — в качестве моральной силы. Человек может действовать под влиянием неправильных примеров, а может получить помощь и от хороших образцов. Чтение как феномен рано вовлекается в теорию imitatb. Прочитанное накладывает на человека отпечаток, изменяет его.
Однако от античности нам остался только один бесспорный рассказ о человеке, который, прочитав книгу, обратился к вере, — это история о том, как Августин читал в Карфагене Цицерона и позже, в Милане, — апостола Павла. Таким образом именно его следует считать основателем оригинальной, христианской культуры чтения.
Взволнованные рассказом Понтициана об отшельнике Антонии, Августин и Алипий выходят в сад. «Так, вне себя от жгучего стыда, угрызался я во время Понтицианова рассказа. Беседа окончилась, изложена была причина, приведшая его к нам, и он ушел к себе, а я — в себя. Чего только не наговорил я себе! Какими мыслями не бичевал душу свою, чтобы она согласилась на мои попытки идти за Тобой! Она сопротивлялась, отрекалась и не извиня· ла себя» (Исп. VIII, 7). Августин нашел свой Гефсиман.
Он говорит: «Спор этот шел в сердце моем: обо мне самом и против меня самого» (Исп. VIII, 11). В таком настроении — insaniebam salubriter et moriebar vltaliter. «я безумствовал, чтобы войти в разум, и умирал, чтобы жить», — в каком Августин находился в начале августа 386 года в саду своего дома в Милане, он услыхал напевный детский голос: «Возьми, читай! Возьми, читай!». Tolle et lege! — рассказывал Августин своим друзьям–христианам. Он хотел, чтобы они пристрастились к чтению, которое могло изменить их, как он сам изменился, прочитав «Гортензия» Цицерона и, позже, Послание к Римлянам апостола Павла.
Целомудрие победило искушавших его Вздор, Сладострастие, Пустоту и Тщеславие (Исп. VIII, 11). Августин бегом вернулся к своему другу Алипию, раскрыл Священное Писание и прочитал слова, обращенные прямо к нему: «Как днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; Но облекитесь в Господа (нашего) Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти» (Рим. 13,13–14). И разом все сомнения исчезли (Исп. VIII, 12). В античности любили раскрывать книгу наугад. чтобы найти пророческие слова. Не только Библию, Для той же цели раскрывали сочинения Гомера и Вергилия. Августин предается Христу, прочитав выпавшие ему слова, и тут же то же самое происходит и с Алипием. Они бегут к Монике, — этот рассказ Августин передает в настоящем времени, — чтобы поведать ей о том, что с ними случилось, она так радуется этому обращению, что даже не сетует на то, что отныне ей придется расстаться с мечтой о внуках (Исп. VIII, 12).
Этому обращению близко по духу и решение Августина о новой жизни и отказе от брака, Странно, но в конце того лета у Августина начались боли в груди и трудности с дыханием, и он более не мог продолжать карьеру ритора (Исп. IX, 2 и 5). Поэтому той же осенью он вернулся в Кассициак и там записал свои первые мысли, связанные с обращением. Он наконец понял, что именно в христианстве нашел ту мудрость, которую искал.
Рассказ Августина о своем «обращении» в Милане оставляет без ответа много вопросов. В том числе непонятно, от чего же он отвратился и к чему обратился. Он явно пережил жизненный кризис, который заставил его отказаться от брака и карьеры (Исп. VI, 11–13; VIII, 1). Правда, изменения в его миропонимании происходили, наверное, медленнее, чем может показаться по его драматическому рассказу об обращении. Уже целый год Августин говорил о неоплатонизме и христианстве, как о совместимых величинах, и развитие его понимания христианства ни в коем случае не остановилось на «обращении» в Миланском саду.
Это обращение скорее является повторением и воспоминанием о встрече с «Гортензием» Цицерона. С той только разницей, что теперь роль пробудившего играл апостол Павел. Августин обнаружил, что Христос представляет собой ту мудрость, которую он искал в манихействе, скептицизме и неоплатонизме (Исп. VII, 21). Но принятие им христианского крещения не привело к отказу от неоплатонизма. Скорее можно сказать, что новая христианская вера Августина дает его неоплатоническим рассуждениям более определенное содержание и прибавляет им серьезности.
Осень 386 года между «обращением» в Миланском саду и принятием крещения Августин проводит в Кассициаке, и по его небольшим философским сочинениям мы впервые можем проследить работу его мысли. Кассициак стал для Августина тем же, чем Тускуланское поместье было для Цицерона. Первые диалоги Августина были написаны по примеру философских диалогов Цицерона.
Счастье, даруемое философией уже в этой жизни, понималось как предвосхищение того блаженства, которое вера могла подарить в жизни будущей. С некоторым колебанием Августин признает авторитет Церкви в вопросах веры. Но он никогда не уклонится от «авторитета Христа» — auctoritas Christi, говорит он (Пр. акад. Ill, 20).
Авторитет Церкви в понимании смысла Писания становится основой существующего философского знания. Церковь говорит то же самое, что и философские учители Августина, — это постулат — просто она говорит и многое другое. Своеобразное мышление Августина начинается тогда, когда он понимает, что вся философия уже выражена в словах Священного Писания. Именно чтение Священного Писания освободило его от авторитетов Платона и Плотина. Тем не менее, Августин долго — вплоть до трактата «Об истинной религии» (391) — видел значительное различие между авторитетом Христа и авторитетом Церкви (Об ист. рел. 6 и 8).
Проблема авторитета первый раз появляется в трактате против скептиков. Для познания необходим и разум, и авторитет. Разум самоуничтожается, если не может опереться на какой–нибудь авторитет. В этом наиболее очевидное отклонение Августина от платонизма. Он говорит, что выбрал своим авторитетом Христа, так что любовь к мудрости стала для него любовью к Христу (Пр. акад. Ill, 20). Так он связывает воедино веру и понимание.
Сам Августин считает свои мысли о главных богословских проблемах философскими изысканиями. Когда он говорит о значении авторитета, нужно помнить, что авторитет Христа как «внутреннего учителя» есть нечто совсем иное, чем авторитет Церкви. Понятие веры — это материя, с которой работает философия, но философ может и самостоятельно прийти к этому (О пользе веры, 32). Вера помогает разуму искать правильные пути и дает ответ, когда разум зашел в тупик (Исп. VI, 5). Смысл формулы, которую Ансельм Кентерберийский (1033–1109) позже использовал Для подкрепления своего августинизма: «Я верю, чтобы понять» — credo ut intelligam — означает, что вера является поводырем разума и гарантирует его успех (ср. Об учит. 32). Тем не менее человек должен понять, что он ищет, До того, как начнет верить, чтобы понять еще больше. «Понять, чтобы верить, и верить, чтобы понять!» — ergo intellege ut credas, erode ut inteSgas (Письма, 120, 1). Понимание без веры касается не содержания веры, но основ для веры вообще. Только то понимание, которое сопровождается верой, имеет отношение к содержанию веры. То, что вера опережает решающее понимание, делает это понимание зависимым от благодати.
Другими словами, Августин не знает современных противоречий между верой и разумом и их места в альтернативной картине действительности. Тот, кто не верит, никогда не обретет полного знания ни в одной науке (О своб. реш. II, 2; Об учит. 37). Ибо у веры и разума единая цель. Vents philosophus est amator Del·, «истинный философ тот, который любит Бога» (О граде Бож. VIII, 1). Для философии «любовь к мудрости» (amor sapientiae) есть не что иное, как любовь к Богу.
Позже в трактате «О пользе веры» (392) Августин будет оперировать вместо этого тремя понятиями: пониманием, верой и мнением. Первое — всегда бывает безошибочным. Второе иногда ошибается. Третье без ошибок не бывает. То, что мы понимаем, зависит от разума. То, во что мы верим, зависит от авторитета. То, что мы предполагаем, зависит от предрассудков. «Но все, кто понимают, верят. Верят также и те, кто предполагает. Но не все, кто верят, понимают, и те, кто только предполагают, не понимают вообще ничего» (О пользе веры, 25). Чуть ниже он скажет: «Здоровее поверить до того, как прибегнуть к разуму, — ибо разум не может понять сам себя — и вместе с верой подготовить почву для семян истины» (О пользе веры, 31).
Цель христианской веры, как ее понимал Августин осенью 385 года, совладала с целью его философского мышления. Христос был «Божией Премудростью» — sapientia Dei (1 Кор. 1,24). Для зрелого Августина главную роль играли «сердце», «любовь» и «воля». Однако в первых платонико–христианеких диалогах он отдавал предпочтение «духу и разуму» — mens et ratio. Поэтому на первых порах его «обращение» не привело к более низкой оценке мышления. Только в средневековье philosophia становится понятием науки о познании мира в противоположность теологии как науки о божественном. В течение всей античности — греческой, римской и христианской — философия являлась главным инструментом жизни, ищущей счастья.
В IV веке многие писатели представляли Христа и христианство как «истинную премудрость». Христос обладал всеми знаниями (О возд. и отпущ. грехов, II, 29; О борен. христ. 20, 22). Его воля неделима (Рассужд. на Еванг. от Иоан. 60,5). Христос был мудростью Соломоновой, и он был животворящим словом Божиим. Поэтому со временем Августину было крайне трудно провести разделительную линию между философией и религией. Он критикует Порфирия, который не понимает, что Христос — это «истинная премудрость» (О граде Бож. X, 28). Христос был «Словом Божиим» и »Божией премудростью» еще до того, как стал его страдающим на кресте слугой, говорит Августин.
Животворящая мысль Бога суть всех предметов. Об этом говорится уже у Филона и Оригена. Августин полагает, что идеи находятся в «премудрости» или «слове» Божием, в его sapientia или verbum, которые суть сам Христос (О блаж. жизни, 34). Для подобных рассуждений Августина, а позже и Данте, большое значение имела книга Премудрости Соломона. В Библии Иеронима книга Премудрости входила в Ветхий Завет. Однако она выпала из протестанского канона и теперь считается апокрифом.
Позже в вопросе о познаваемости Бога Августин отмечает важное различие между Отцом и Сыном. Отец непознаваем разумом, но Сына, который является истиной и премудростью Божией, разум может постичь как абсолютную истину. Сын сам сделал себя видимым, потому что он есть свет, который дает нам истинное знание (О граде Бож. XI, 2). Подтверждение тому, что Христос есть истина, премудрость и свет, Августин находит в разных местах Писания, особенно в Евангелии от Иоанна.
Сына можно сравнить с бесконечностью цифрового ряда. Он — истина, которая охватывает бесконечное множество отдельных истин. В Псалме 146, 5 говорится: «разум Его неизмерим». Бесконечность Отца, напротив, обладает качественным свойством и родственно числу «один». Он воплощает не только бесконечное множество истин, Но является и бесконечно иным. Таким образом Августин представляет сотворение мира как дело Отца и Сына. Это хорошо соотносится с его упорной работой над Прологом Иоанна.
Бог создал мир «через» своего сына, пишет он в раннем письме к Небридию (Письма, 14, 4). С этой точки зрения Пролог Иоанна является не только историей об инкарнации, но и историей о Творении. Да, у Августина картины инкарнации и Творения переплетены друг с другом. Потому что «слово» Божие, Его verbum становится плотью уже при материализации животворящей мысли Бога в начале мира. Здесь Августин приходит в противоречие с платониками. Они стыдятся признать инкарнацию Христа, говорит он (О граде Бож. X, 29). Когда Августин в Милане принял крещение, он принял и христианское учение о мудрости, которое, по его мнению, в конце концов станет полновластным, ибо его содержанием являются мысли самого Бога.
Августин часто ставит читателя в трудное положение, потому что неоднократно, начав рассуждать о чем–то в своих проповедях, письмах и трактатах, не всегда доводит до конца свои рассуждения. Ни один мыслитель не излагает свои мысли так фрагментарно, как Августин. Только читатель начинает верить, что нашел ключ к той или иной части необъятных текстов Августина, как тот на· много лет забывает эту идею, а потом она вновь возникает в его творчестве в каком–нибудь неожиданном месте, и он продолжает развивать ее дальше, но никогда эта мысль не предстает перед читателем последовательно во всей полноте.
Большая часть литературы об Августине страдает однобокостью, потому что исследователи пытаются использовать отдельные системные фрагменты в качестве ключа для понимания всего творчества Августина, хотя применимость их весьма ограничена. Делалось много попыток отыскать христианскую веру Августина уже в его ранних работах, и наоборот: дотошно искали философию юношеских диалогов в проповедях Августина–епископа. Таким образом хотели сконструировать содержание мысли этого отца Церкви, тексты которого не дают для этого прямого основания. Августин и сам понимал, что его мышление прошло через много стадий. Именно поэтому он написал такие самокритичные книги, как «Исповедь» и «Пересмотры».
Глава 9. Кассициак: философские медитации
В 386 году Августин был интеллектуалом в прямом смысле этого слова. Математика показала ему, что вечные истины достижимы, и, таким образом, числа подтвердили вечность души. Позже он подчеркнет, что души созданы из ничего и потому именно вечны в том смысле, что они являются частью божественной субстанции, как полагали некоторые платоники (Письма, 166, 3). И в толкованиях на Библию, и в юно-, шеских философских работах Августин уделяет боль-, шое внимание значению чисел. Когда, давая толкования на тот либо другой текст Библии, он доходит до числовых отношений, то часто невольно навязывает им определенный смысл.
Августин рассуждает над неделимостью числа «один» и бесконечностью числового ряда, познание которых наг водится за пределами чувственного опыта (Письма, 3,2)< Он ассоциирует неделимость числа «один» с Отцом, а бесконечный числовой ряд с бесконечной мудростью Сына. Поэтому числа в его рассуждениях о Троице играют важную роль, хотя видимая рациональность цифр не Делает эту тайну более понятной.
Августин мысленно соединяет форму и число и заявляет, что все в мире распалось бы, если бы не числа (О своб. реш. II, 15; О муз. VI, 17). Числа способствуют поэтапному и постепенному переходу от осязаемого к умопостигаемому. Числа суть сила порядка в тварном мире и его Святой Дух. Но понятие Августина о вечных истинах включает больше, нежели только поправку математических выводов. Он представляет себе, что существует особое царство нормативных понятий, которые в одно и то же время обязательны, неизменны и общеприняты.
Как мыслящие существа мы владеем частью этого царства, и поэтому все люди, в принципе, могут понять друг друга. Mundus intelligibilis — «мир идей» — черпает свою вечность и истину из того положения, что его содержание — это мысль Бога. Все видимое и ощутимое покоится на невидимых и мыслимых величинах. Но уже в ранних диалогах Августина мысли Бога предстают более непостижимыми, чем «формы» в диалогах Платона.
Августин рано приходит к мысли о необходимости собственного «просвещения» или благодати, чтобы причаститься умопостигаемых истин. «Просвещение» (Uuminatio) не дает готовых понятий или истин, но позволяет нам немедленно уразуметь, истинно или нетто или иное понятие. О контрасте между острым чутьем животных и их неспособностью мыслить он говорит, что «для них недоступен этот бестелесный свет, который известным образом озаряет наш ум, дабы мы могли правильно судить обо всех этих вещах: для нас это возможно настолько, насколько мы воспринимаем этот свет» (О граде Бож. XI, 29). Уже само правильное пользование разумом зависит от Божией благодати.
23 августа, когда в школе риторов начались каникулы, Августин вместе с несколькими друзьями уезжает из Милана (Исп. IX, 1–4). Он хочет покинуть «торг болтовней» — nundinae loquacitatis, — как он называет свое преподавание в этой школе. С ним едут мать Моника, сын Адеодат, брат Навигий, его двоюродные братья Ластидиан и Рустик, Лиценций, сын Романиана, и Тригеций, молодой африканец из Тагасты. Старые друзья Августина Алипий и Небридий участвуют в беседах через переписку. Два первых письма от Августина к Небридию, написанные той осенью, сохранились и проливают свет на все, что случилось летом.
Вилла, на которую они отправились, находилась к северу от Милана, и была своего рода монастырем, говорит исследователь Августина Питер Браун — общество составляли благочестивая старая женщина, брат Августина, два его неученых двоюродных брата, два шестнадцатилетних ученика: и все! Августин явно кокетничает, говоря об этом простом, непритязательном благочестивом обществе, чтобы подчеркнуть библейские слова, что Бог избирает в этом мире немудрых и немощных (1 Кор. 1,27) и что бесхитростные верующие получат часть знаний, недоступных ученым. В диалогах, написанных в Кассициаке, присутствующие стоят на определенных позициях и представляют определенное миропонимание, которые разделяет и сам Августин. Именно поэтому многие критики сомневались в достоверности состава этой группы. Однако это излишний скепсис: Августин в любом случае упростил бы те беседы и истолковал бы их так, чтобы смысл их стал более ясным и понятным.
Свою виллу в Кассициаке африканцам предоставил грамматик Верекунд (Исп. IX, 3). Сам Верекундтоже хотел принять христианство (Исп. VIII, 5). Но если бы он его принял, он стал бы жить в полном воздержании. Иначе он себе этого не представлял. Однако принятию столь радикального решения мешала его жена–христианка, которую он не мог оставить. Таким образом из этого ничего не получилось, и Верекунд был крещен позже, уже на смертном одре несколько лет спустя (Исп. IX, 3). Августин пишет епископу Амвросию из Кассициака и просит порекомендовать ему для чтения что–нибудь поучительное. Амвросий рекомендует ему читать пророка Исаю, но этот текст показался Августину слишком трудным и вместо него он начал читать Кьигу Псалмов (Исп. IX, 5).
Там, в Кассициаке, появились дошедшие до нас первые тексты Августина, написанные после его «обращения». Речь идет о диалогах, которые отчасти опираются на действительные беседы, имевшие там место. Иногда участники беседовали в главном доме или в банях, а иногда прямо на свежем воздухе под открытым небом (О порядке I, II. 1; Пр. акад. II, 6). И всякий раз с ними был «писец» — notarius — который стенографировал все сказанное. Было бы не похоже на Августина, если бы он позволил записать беседы, не приложив к ним руку.
В античной риторике записанные беседы никогда не соответствовали полностью тем, которые велись в действительности. Цицерон обычно долго поправлял свои речи уже после того, как они были произнесены, прежде чем разрешал, чтобы они ходили в списках. Однако некоторые записанные наблюдения Августина являются биографически подлинными, например, рассказ о зубной боли в «Монологах» (1,12). Обычная зубная боль могла быть для него поводом для размышления. И в «Монологах», и в «Исповеди» это мучение превращается в событие, значительное с богословской точки зрения (Исп. IX, 4). Постепенно Августин научится читать и свою собственную жизнь, словно это текст, имеющий, кроме буквального, еще и скрытый смысл. Некоторые сцены из его биографии получают аллегорическое звучание.
Вопрос в том, выступал ли Августин в тех диалогах в качестве платоника или в качестве христианина. Но если епископ Амвросий, говоря в своем трактате «О благе смерти» об Исааке и Иакове, не видел принципиальной разницы между их поведением, мог ли увидеть ее новообращенный Августин? Вплоть до середины последнего десятилетия IV века христианство Августина носит черты, явно позаимствованные из арсенала неоплатоников. Он был убежден, что временный мир — это лишь тень вечного порядка. А вот манихейство Августин оставил в прошлом, предъявив ему свой личный счет. Когда позже он напишет ряд полемических сочинений против манихеев, он сделает это не ради себя, а ради других.
В Кассициаке Августин и его друзья наслаждались, как могли, классическим otium liberate, то есть аристократической праздностью. Или вернее: otium phfosopharx — «покой, чтобы философствовать» (Пр акад. II, 3) становится christianae vitae otium — «покоем, чтобы жить христианской жизнью» (Переем. I, 1) или «духовными упражнениями»: excerdtatio artimi. Каждый день они понемногу читают Вергилия и беседуют на философские темы (О порядке, I, 8). Но не всё в Кассициаке соответствует аристократической праздности. Там присутствует Моника, и каждый вечер она поет псалмы Амвросия (Исп. IX, 4). Круг друзей представляет собой нечто среднее между сообществом монахов и сообществом мьюлителей–платоников. В те времена закрытые для посторонних сообщества были обычным явлением и у язычников, и у христиан, которые искали уединения, потому что нуждались в отдохновении от мира.
Из Кассициака Августин вернулся в Милан и просил Амвросия крестить на Пасху, то есть в апреле 387 года, его, Алипия и Адеодата. В ожидании крещения Алипий упражнялся в смирении и укреплял тело, ходя босиком по снегу (Исп. IX, 6)· Теперь задача Августина состояла в том, чтобы и остальные друзья последовали по его пути (ср. О пользе веры, 20) от сосредоточенности на зримом к радости незримого, от сомнения к знанию, от гибели к спасению. Собственная биография стала для Августина программой воспитания. Он рекомендует всем, кто будет читать его сочинения, придерживаться хронологического порядка, чтобы проследить в развитии все драматические линии (Переем, прол.).
Августин на удивление быстро отождествляет платонического Бога с христианским. Он еще не ощутил проблематичности контраста между богом философии и Богом Авраама, Исаака и Иакова. Скорее так: христианство выполняет то, что обещала философия (О порядке, II, 5). Бог гарантирует несчастному, многообразному и лживому миру счастье, единообразие и правду. Абстрактное понятие бога в философии является своего рода вопросом, который находит ответ в наглядных проповедях Церкви.
То же самое относится и к мыслям о душе и бессмертии. Здесь Августин также не видит никакого противоречия между мышлением философов и христианством. Подобно платоникам, он аргументирует бессмертие души, обращаясь к вечным истинам, которые души могут постичь, например, к математике. Пройдет некоторое время, прежде чем Августин сам откроет, что христианство требует от него иного определения души, нежели то, которое Дает платонизм. Ведь обращаясь к вечным и неизменяемым истинам, он не мог доказать бессмертие или единство индивидуальной души. Из истины, заключающейся в том, что 5 + 7 = 12, невозможно прийти к убеждению, что именно моя личная индивидуальность точна. Христианство же, напротив, оперировало индивидуальностью души и непреложной действительностью тела. В своих раннихм произведениях Августин воздерживался оттого, чтобы назвать тело тюрьмой души. Тело, как и душа, создано Богом. Но он все–таки часто и недвусмысленно признает, что душа — более высокая действительность, нежели тело. Однако он воздерживался и от утверждения платоников, что душа так же вечна, как Бог (О граде Бож. X, 31).
Августин считал, что душа не принимает в грешном мире такого же участия, какое в нем принимает тело. Душа стоит над телом. Поэтому телесные блага не могут быть высшими. Высшее благо должно быть благом для души (ср. О нравах катол. Церкви, 1,3). Именно душа прежде всего стремится домой к умопостигаемому миру. Мышление Августина во многих отношениях дальше от мира, чем мышление раннего Платона. В своих первых диалогах Августин не признает политической и натурфилософской перспективы Платона, у него еще не сложилось четкого понимания христианской инкарнации и воскресения плоти.
В этих диалогах Августин возводит закрытое пространство вокруг встречи души с Богом. Это единственное,1 что интересует его. Все более понятные и внешние черты христианства понимаются им как назидательные средства для нефилософских душ (О порядке, II, 9). И авторитет Церкви, и святые таинства, и вера в демонов или в чудеса имеют один смысл: включить философски не подготовленную душу в поиски conspectus Dei или visio Dei — «Лица Божия», — которое может получить полное просвещение лишь в философских размышлениях. «Ищите лица Его всегда», — говорится в Книге Псалмов (Пс. 104, 4). «Господи, Боже сил! Восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасемся!» (Пс. 79, 20; 1 Кор. 13,12). «Не скрывай от меня лица Твоего: умру я, не умру, но пусть увижу его» (Исп. I, 5).
Особенность учения Августина о встрече с Богом заключается в том, что visio Dei не отделяется от учения о том, что Бог сотворил человека «по образу Божию» (Быт. 1, 27) — что человек является imago Dei. Поэтому встреча с Богом вместе с тем есть раскрытие смысла человеческой жизни. И даже больше: учение Августина о visio Dei фактически довольно сильно отличается от платоновского проникновения в центр и основу действительности. Ибо в лице Бога человек находит образ Адама до грехопадения. Расстояние между Богом и человеком с христианской точки зрения объясняется отнюдь не расстоянием между разными уровнями действительности — божественным и человеческим.
Бог и Авраам отличаются друг от друга иначе, чем отличаются друг от друга Посейдон и Одиссей. В христианском мышлении разница и расстояние между Богом и человеком объясняется в первую очередь грехопадением. Происходящее из–за грехопадения смешение Творца и Творения, есть серьезная ошибка всей христианской теологии. Vlsio Dei, по мысли Августина — путь назад к незамутненному imago Dei. Сотворяя человека Бог видел себя в нем. И человеку должно увидеть себя в Боге, то есть в Христе, чтобы узнать, какого Адама Бог увидел на шестой день творения. Только так может быть создан новый человек (Еф. 4, 22–24).
В самых ранних, вдохновленных платонизмом, сочинениях Августина видение Бога — нечто, крайне редко случающееся в этой жизни. И все–таки это мистическое посвящение является лишь предвкушением вечного блаженства. Это и есть главный смысл случившегося в Остии с ним и Моникой незадолго до ее смерти (Исп. IX, 10). Августин и его мать воспринимают как особую милость, когда им является нечто, скрытое от большинства и невыразимое ни на одном языке. Позже в творчестве Августина конечная встреча с Богом отодвинется вдаль. Она может произойти только после смерти, как учит апостол Павел.
Августин тоже пользуется словом species, говоря о возможности увидеть Бога лицом к лицу, когда эта жизнь уже кончится (2 Кор. 5,7). Правда, он всегда верит, что мы можем насладиться предчувствием этой встречи еще будучи на земле (О сот. еванг. I, 5). Однако лик Бога видят не так, как видят другие редкие, удивительные или неожиданные предметы. Лик Бога — скорее внутреннее, чем внешнее видение. Кроме того, опыт этот больше связан с воспоминанием о том, что первоначально мы были созданы по его подобию.
«Монологи» (386) — это беседы, которые Августин ведет с собственным Разумом — Rath. Не пересказ разговоров, на самом деле имевших место в Кассициаке, но рассуждения в прямом смысле этого слова. Мысль Августина снует, как челнок в ткацком станке. Христиане не были убеждены в том, что все души равны и одинаковы. Поэтому они могли говорить сами с собой и в этой связи узнавать поразительные сведения. «Монологи» — совершенно особая литературная форма, созданная Августином. Его разговор с самим собой начинается с великолепной молитвы, ставшей прообразом молитв в «Исповеди». Литературный образец подобных многозвучных молитв, встречающихся во всех произведениях Августина — это, безусловно, Псалтирь. Молясь, Августин опирается на псалтирь Давида.
Deum et animan scire cupio — «Я желаю знать Бога и душу»» (Монол. 1,2). Noverim те, noverim Те: «Позволь мне узнать себя, позволь мне узнать Тебя» (Монол. II, 1). В «Монологах» Бог уже в высшей степени религиозная инстанция — персона, — а не только философский принцип. Приблизиться к Богу — значит жить. Удалиться от Бога — значит умереть. Того Бога, «которого никто не оставляет, кроме обманутого, которого никто не ищет, кроме вразумленного, которого никто не находит, кроме очистившегося»» (Монол. 1,1). Эта вступительная молитва задает темы возможного рассуждения и сравнима с лучшими местами «Исповеди» Особенно пленяет то, что «Монологи» записывались в процессе мышления, а не «много лет спустя. Поэтому текст и производит впечатление подлинного потока мысли по сравнению с ретроспекцией в его автобиографии.
Главная тема «Монологов»» — необходимость божественной помощи в поисках истины. В последнюю минуту Бог сам обращает людей и ведет их к истине. Уже в сочинении против скептиков Августин заявил, что философу, желающему обогатиться знаниями, необходима божественная помощь (Пр. акад. Ill, 6). Душа должна излечиваться от своих изъянов, если хочет увидеть истину. Молитвы в «Монологах» — это молитвы о силе. Впервые мы видим Августина, который раскаивается и хочет искупить свою вину. Он просит, чтобы Бог укрепил в нем веру, надежду и любовь.
Во многом он все еще остается неоплатоником, но мысль об искуплении вины чужда платонизму. Августин спрашивает себя, как он, собственно, относится к стяжательству, тщеславию и браку. Два первых порока для него уже в прошлом. С последним дело обстоит труднее. Уже само сравнение стяжательства и тщеславия с браком скрывает определенную программу. Мы видим Августина, стоящим на пороге монашеской жизни. «Монологи» — его раннее произведение, содержащее больше всего ссылок на Священное Писание. Нет сомнений, что одновременно с записью этих монологов он читает Новый Завет, главным образом, послания апостола Павла.
Поскольку собеседником Августина выступает персонифицированный Разум, ясно видно, чт<5 этот Разум может, а чего не может. На первом месте должна стоять Вера, чтобы Разум мог понять то, что его окружает. Тем не менее, вечность Разума гарантируется вечностью истины. Ведь Душа в своем начале не бессмертна, как Бог. Она становится бессмертной только после того, как будет установлена ее связь с Богом. Она не может сама по себе, без поддержки, вернуться к своему истоку. Необходима крепкая и твердая воля, а крепость и сила воли — это дар Божий. Таким образом появляется возможность объяснить зло и извращения, существующие в мире из–за слабости воли. Ни в одной из бесед, написанных в Кассациаке, уже нет и следа манмхейской мысли о том, что зло материально.
Августин издал «Монологи» в незаконченном виде вместе с набросками сочинения «О бессмертии души». Последнее было написано в Милане той весной, когда он принял крещение. В нем Августин показывает, что душа неизменна и потому бессмертна. Она, по определению, нечто живое. Ведь именно она и дает жизнь. Поэтому она не может умереть. Кроме того, она получает свою жизнь от Бога, который бессмертен. Сочинение «О бессмертии души» — это наброски к тому, что должно было стать третьей частью «Монологов», которую Августин так и не закончил. Что же касается индивидуальности души, тут царит полная неясность. Августин отходит от принятого У платоников понятия души и приближается к более индивидуальной личности христианского персонализма. И все–таки мысли Августина сильно отличаются от современного персонализма. Для Августина Бог не только «Ты»; Он есть особое внутреннее условие для того, чтобы человек мог сказать «я».
Трактат «О бессмертии души» (386) продолжает дискуссию, начатую в «Монологах». Человеческие души — носители вечных истин. Поэтому они сами должны быть вечны и бессмертны. Истины не могут погибнуть, и поэтому души тоже неистребимы. Но что происходит с душами, которые совершили ошибки? Они тоже бессмертны? Да, считает Августин. Для того чтобы совершить ошибку, нужно существовать, поэтому даже ошибочное решение не может уничтожить душу. Здесь ясно видно, что предстоящий вскоре разрыв Августина со скептицизмом связан с его учением о душе.
Августин уже близок к главному аргументу Декарта против разрушительного сомнения: «Если я ошибаюсь, значит, я существую» — si faHor, sum. В его трактатах «Монологи» (II, 1), «Об истинной религии» (39, 72–73), «О свободном решении» (II, 7) и «О граде Божием» повторяются те же аргументы: «Я не боюсь никаких возражений относительно этих истин со стороны академиков, которые могли бы сказать: »А что если ты обманываешься?» Если я обманываюсь, то уже поэтому существую. Ибо кто не существует, тот не может, конечно, и обманываться: я, следовательно, существую, если я обманываюсь» (О граде Бож. XI, 26). Душа знает, что она существует и живет, точно так же существует и живет мышление (О Троице, X, 10). Душа — это посредник между телом, которому она дает жизнь, и мыслями Бога, когда она пытается думать.
Сознание, даже если оно ошибается, во всяком случае существует. Путь к пониманию веры в Бога человек должен начать с сознания того, что личность существует. Было бы бессмысленно доказывать существование Бога, если бы человек сомневался в собственном существовании. Душа человека живет не ради самой себя. Она дает жизнь телу, но и сама получает жизнь извне. Она одушевляет тело, так как служит посредником между красотой и порядком при переходе от умопостигаемого к материальному.
Душа и тело соотносятся между собой не так, как вода с губкой, когда последняя наполняется первой, но как свет и воздух, которые, не смешиваясь, взаимопроникают друг в друга (Письма, 137,11; О Кн. Быт. VIII, 21). Душа своей зависимостью от чего–то высшего, нежели она сама, связывает тело человека с идеями и бессмертным царством истины. В человеке нет ничего выше разума. Поэтому если возникает необходимость подняться выше души, нужно выйти за пределы человека (Об ист. рел. 39).
В диалоге «О порядке» (386) главным образом говорится о зле и Провидении Божием. Есть ли в космосе какая–то форма для порядка или необходимости? В этом диалоре Августин пытается вовлечь в платоновско–христианское понимание спасения свободные искусства, которые он преподавал во время своей работы учителем в Карфагене, Риме и Милане. Он хочет показать, что «свободные искусства» — artes liberates — через «телесные вещи» (per согроralia) могут привлекать внимание «к бестелесным вещам» (ad incorporalia). Августин верит, что науки способны внести необходимый вклад в мудрость. Изучение artes должно привести к восхождению от чувств к порядку разума (О порядке, II, 5 и 16–17). Чувства собирают впечатления, но разум создает мнение. Позже — в трактате «О христианском учении» (396) — он называет artes liberates чистыми комментариями к чтению Священных текстов.
Августин полагает, что чувства исключительно пассивно принимают впечатления, но что душа собирает впечатления через чувства. В чувствах душа встречает формы вещей. Августин, например, разделяет странное античное представление о том, что способность зрения возникает с помощью лучей, посылаемых глазом. (О Кн. Быт. IV, 34; О Троице, IX, 3). Ощущения зависят не от тела, но от души, которая действует через тело. Ибо тело стоит ниже души. Поэтому оно одно не может воздействовать на душу, как бы оно этого ни хотело. (О Кн. Быт. XII, 16; О муз. VI, 4). Другое дело душа, на которую чувства воздействуют непосредственно, когда мы что–то ощущаем, потому что она присутствует во всех живых органах. С телом ничего не может случиться, чего бы не заметила душа. В этом смысле «ощущения уже есть форма мышления»: est enkn sensus et mentis (Переем. 1,1).
Таким образом Августин вносит свой вклад в обоснование моста науки в университетах средневековья (О порядке. II, 12–15; О бессмерт. души, 6). Философия покоится именно на разуме, но она не может убедить большинство. Большинство нуждается в авторитете, на который могло бы опереться. Вера покоится на доверии к авторитету (О порядке, II, 9). Сам Августин, по его словам, отдался авторитету Христа, ибо не знает ничего более высокого (Пр. акад. Ill, 20). Грехопадение побуждает верить, независимо от понимания. Потому что только смирение, доверие и любовь могут подготовить истинное знание (О нравах катол. церкви, 1,2). Вера должна давать мышлению новое направление до того, как душа будет готова принять мудрость.
Все науки должны готовить к философии, которая состоит в религиозной медитации. Позже Августин сделает упор на необходимость общих знаний для читателей Библии. Если человек хочет понять библейские образы и их аллегорический смысл, необходимо знать животных, растения, числа и историю, говорит он (О христ. учен. II, 59–61 и 105–107). Эта энциклопедическая программа встречается и во многих других местах (О порядке, II, 5,12–15; Переем. I, 6). Все языческие знания могут принести пользу, если только человек не верит, что они могут непосредственно способствовать жизненному счастью (О христ, учен. II, 133 и 139).
Трактат «О порядке» отличается уникальным для той эпохи началом: Августин встает ночью и слышит какой–то непонятный звук. Вместе с Лиценцием, которому послышался шорох мыши, и Тригецием, он обнаруживает, что упавшие листья плотно забили деревянный желобок, по которому бежала вода. Друзья· объяснили непонятный звук, когда нашли это место в целой цепи причин. Значит, звук принадлежал порядку. Но почему в мире существует столько вещей, которые не вписываются в порядок, так много злого и случайного?
В этом диалоге Августин переформулировал сократовское не–знание в христианское учение о docta ignorantia — «просвещенное незнание». Невозможно сохранять полное неведение о Боге. И все–таки люди не могут до конца постичь Его. Мы можем четко и определенно знать, что Он существует, но кто или что Он, с достоверностью не знает никто. Некоторые, правда, бывают настолько ограничены, что отрицают саму основу собственного существования (Пс. 13,1). Но таких немного.
Августин дает теологическое толкование и своему периоду скептицизма. Он продвигается от ложного знания через просвещенное незнание к мудрости. Продвигается вперед и концентрирует свое внимание на двойной основополагающей проблеме философии — о душе и о Боге (О порядке, II, 18). Все, что делает Бог, подчиняется одному порядку. Да и сам Бог тоже следует порядку, который Он сам когда–то учредил. То, что Христос стал человеком — звено этого же порядка. Уже в трактате «О порядке» мы находим хорошо разработанное учение об инкарнации (О порядке, II, 16, 27 и 29), но Августин еще ничего не знает о Христе как Спасителе. Мировой порядок — это способ Бога действовать.
Это сочинение содержит обработанные сведения о беседах, имевших место в Кассициаке. Платоновская мысль Августина заключается в том, что то, что есть, то — хорошо. Зло — это недостаток добра. Сущее связано цепью причин. «Ничто» не имеет причины, а Творец сотворил только добрые вещи. Творец не может отвечать за «ничто», которое осталось после сотворения мира, потому что оно «ничто». «Недостаток» в платоновском смысле прежде всего означает недостаток определения и разграничения. Поэтому он представляет собой вкрапление беспорядка.
Зло не может навредить человеку, пока тело человека подчиняется душе, а душа подчиняется Богу. Если следовать этому правилу, можно нейтрализовать те вкрапления бесформенности, которые остались после сотворения мира. С другой стороны, зло своим контрастом способствует гармонии всех вещей. Августин — первый монотеист в истории, который видит проблемы теодицеи во всем объеме. Если миру дано простое и всемогущее начало, не так–то легко сделать это начало свободным от ответственности за зло в мире. Политеисты имели много богов и даже весьма могущественных, которых можно было винить, если зло становилось слишком навязчивым. Христианский монотеизм обострил эту проблему, потому что в христианской религии Бог один, и Он добр и всемогущ.
У молодого Августина esse cum Deo — «жить с Богом» — цель всей мудрости. ««А мне благо приближаться к Богу* (Пс. 72, 28), ибо если не пребуду в Нем, не смогу и в себе. «Он же, пребывая в Себе, все обновляет»» (Исп. VII, 11; ср. Премудр. 7, 27).
Мы живем здесь внизу в «царстве различий»: regio dissimilitudinis (Исп. VII, 10). Deificato — «обожествление» — означает именно преодоление расстояния до Бога. Позже в XIX книге трактата «О граде Божием» Августин описывает высшее добро как возможность «быть вместе с Богом». Мудрый «видит» Бога или «прикасается» к Нему. С этой точки зрения вера, по мысли молодого Августина, является подготовкой к встрече с Богом лицом к лицу. Она—результат методичного и планомерного движения мысли. Мудрый, достигший цели, не остается неизменным и невозмутимым, как то, что он видит. Он сам делается вечным и таким образом покидает проблемы этого мира. Молодой Августин еще не считает грехопадение таким уж существенным опытом. Душа родственна Богу и приближается к Нему. Инерция тела и смятение чувств тянут ее назад. Только в юнце IV века Августин обнаруживает, что злая воля, толкающая на кражу груш, не получает, собственно, никакой радости от того, что вреди г другим ради забавы.
Тогда Августин решительно порывает со своим ранним оптимизмом в отношении души и познания. После того, как он обнаружил первородный грех, он считает, что благодатная встреча с Богом может состояться только после смерти, и переносит идеалы созерцательной жизни из посюстороннего мира в потусторонний. Встреча с Богом становится содержанием и смыслом вечного блаженства. Иными словами, активная жизнь среди людей и ради их блага приобретает более высокое значение. Если подходить к этому с мерками зрелого Августина, то его юношеские философские выступления были элитарными и эгоцентричными. Однако диалог «О блаженной жизни» состарившийся епископ все–таки признает в своих «Пересмотрах».
«О блаженной жизни» — это диалог, содержащий беседы, которые, вероятно, велись в Кассациаке в день рождения Августина 13 ноября и еще в течение двух дней, то есть всего три дня. Беседы, начатые в день рождения Августина, закончились на третий день призывом «вернуться обратно к Богу» (ad Dawn reditus). Датировка и продолжительность бесед выбраны явно из литературных соображений. Беседы должны были подготовить новое рождение на третий день. Диалог кончается признанием того, что Бог триедин и все–таки один, что заставило Монику в восторге прервать беседу и проговорить псалом Амвросия. Fove precantes, Trinitasl — «Призри, Троице, на молящихся!» (О блаж. жизни, 35).
Августин пригласил гостей к себе на день рождения, на котором угощение в первую очередь должно было дать пищу не плоти, а душе (О блаж жизни, 8). Все было не по правилам: именинник дарил подарки своим гостям, а гости обеспечивали угощение (О блаж. жизни, 36). Августин любил такие риторические парадоксы. Непременное присутствие матери и возможность возрождения дают повод для самых разных интерпретаций. Беседующие собрались в «купальне», или «банях», что ассоциируется с мореходными метафорами во вступлении и с крещением в конце. Пришло время читать сочинения Августина и как литературные произведения, ибо в них встречается много любопытных стилистических приемов интересных и тем читателям, для которых истинность содержания сомнительна.
Августин и в «Пересмотрах» не отказался принципиально от своего раннего неоплатонизма. Наверное, лучше даже сказать «платонизма», потому что во времена Августина никто не видел существенной разницы между сочинениями Платона и Плотина. Только в эпоху Ренессанса обратили внимание на многообразие платоновских традиций. Особенно помогло увидеть разницу между этими двумя учениями соперничество между сторонниками Аристотеля и сторонниками Платона. В трактате «О блаженной жизни» Августин с помощью сократовских вопросов вводит своих собеседников в платонизм и позволяет им самим открыть, что вечное предпочтительнее преходящего. Все преходящее имущество ненадежно. Ведь человек живет в страхе, что оно вот–вот исчезнет. Но Бог неизменяем и вечен. Поэтому Он может гарантировать вечное счастье.
Vita beata — счастье или блаженство — это цель человеческих устремлений. Но «Счастливая жизнь — это радость, даруемая истиной, т. е. Тобой, Господи, ибо Ты «Истина, Просвещение мое, Спасение лица моего, Бог мой». Этой счастливой жизни все хотят, этой жизни, единственно счастливой, все хотят; радости от истины все хотят. Многих знаю я, кто охотно обманывает, и никого, кто хотел бы обмануться» (Исп. X, 23). Люди не могли бы любить истину, если бы она уже не находилась в их памяти. Августин первый сделал память опорной точкой тождественности и самопознания индивидуума.
Это подчеркивается и в трактате «О блаженной жизни», и в сочинении против скептиков, относящемся к тому же периоду. Августин рано связал воедино мудрость и счастье. Но счастье — это не то же самое, что истинное познание. Счастье заключается в высшем предмете познания. Любовь помогает душе сделать решающий шаг за пределы мышления (О 83 разл. вопр. 35; О граде Бож. VIII, 8). Любить материальное и преходящее — это то же самое, что производить их. Этим человек сам осуждает себя на погибель. Но тот, кто любит вечное, делает себя вечным. Тот, кто любит Бога, становится как Бог. Такие высказывания разбросаны по всем произведениям Августина.
Для философствования существует только одна основа: стремление к счастью (О граде Бож. XIX, 1). Для Августина нет философских истин, помимо истин богословских. Ибо и богословие, и философия ищут счастья как последней цели человека. Те, кто верят, что истину познать невозможно, считают тем самым, что счастливая жизнь недостижима. Скептики уже в исходной точке отказываются от того, что должно было бы бьггь смыслом человеческой жизни! Августин решительно говорит Цицерону: Бог гарантирует, что истина существует и что человеческое счастье возможно. «И настоящая счастливая жизнь в том, чтобы радоваться Тобой, от Тебя, ради Тебя» (Исп. X, 22). Бог—это bonum beatificum: «добро, приносящее счастье».
Неоплатонические постулаты раннего учения Августина о visio Dei ясно видны в его сочинении «О количестве души», в котором он рисует картину постепенного восхождения, похожую на сцену в Остии, о которой говорится в «Исповеди» (IX, 10) и других отрывках из его ранних сочинений. Каковы функции души? — спрашивает Августин. Душа дает телу «жизнь» (animatio). Она собирает в единое целое все органы. Она управляет размножением и ростом. Она использует «чувства» (sensus), чтобы отличать полезное от вредного. Она действует, собирает и производит. Она учится языкам и многим «искусствам» (are). Она борется, чтобы показать истинное и доброе. Она желает, признает и стремится к добродетели (virtus). Она отражает смущающие нас порывы страсти и боль. Таким образом она укрепляет в добродетели самое себя. Она подготавливает, так сказать, базовый лагерь для последнего подъема на высоту, которая есть «созерцательный мир в душе» (tranquillitas). Душа «вступает» в действительно существующее (ingressio) и оставляет за собой все безумные страсти. Она сосредотачивается в «медитации» (сопtemplatio) о лучшем и больше не нуждается во внешних точках опоры, авторитетном руководстве или наглядной назидательности (О колич. души, 33, 70–76; ср. О христ. учен. II, 7, 9–11).
Ибо человек ищет Бога, дабы найти нечто более блаженное, и находит Его, дабы искать Его еще более страстно. Снова и снова разум устремляется ввысь, чтобы искать Его, которого он уже нашел (О Троице, XV, 2). Высшая деятельность души — это созерцание лица Божия и наблюдение истины. Тогда она возвращается домой и испытывает истинную радость. Цель всего этого восхождения проявляется в сумблимированном эвдемонизме: счастье увидеть лицо Бога — это то, к чему в последней инстанции всегда стремится душа. Однако позже — в «Исповеди» — Августин относит полное visio Dei в потустороннюю жизнь (ср. Письма, 147 и 148).
Сочинение «О количестве души» (387) было одним из любимых произведений Данте и, несомненно, сыграло свою роль в изображении Рая в «Божественной комедии». Августин написал свое сочинение примерно тогда, когда принял крещение. В лучших платоновских традициях он пишет в нем, что душа нематериальна потому, что она способна постичь нематериальные отношения. Он считает, что душа может подняться к «лицу Бога» — visio Dei, — преодолев ряд ступеней познания. Августин начинаете нижней из трех аристотелевых ступеней: растительной, животной и умственной жизни. Четвертая стадия находится на грани между чувственным и тем, что доступно только мысли. Эта ступень — ступень очищения, и она подготавливает завершение трех первых стадий.
Первое превращение души позволяет ей достигнуть покоя и чистоты. Потом она познает истинно существующее. И на седьмой ступени предстает перед лицом Бога. Вступивший туда создал свою душу заново и отдыхает, как Бог на седьмой день (О граде Бож. XI, 8 и 31). Тело относится к душе так же, как душа относится к Богу. Бог дает душе жизнь так же, как душа изнутри дает жизнь телу. Многое говорит о том, что, работая над этим сочинением, Августин одновременно обдумывал план своего трактата «О музыке». В этих произведениях много точек соприкосновения. В сочинении «О количестве души» Августин впервые говорит, что вечный сын Бога был рожден девственницей (О колич. Души, 76).
Мистика Августина встречается и в различных рассказах о восхождении (Исп. VII, 1), и в его теологии отрицания. Высказать положительную истину о Боге можно только через отрицание. Традиция docta ignorantia — «просвещенного незнания», — доходящая на Западе до Петрарки и Николая Кузанского, взята из собрания писем Августина (15). Когда речь идет о Боге, незнание и высшая мудрость совпадают, говорит в этом письме Августин. Этот принцип выражен им уже в диалоге «О порядке» (II, 16 и 18): Высшего Бога мы познаем лучше, ничего не зная о нем. Все науки — это только подготовка к просвещенному незнанию о Боге. Таким образом Августин уже очень рано сформулировал идею о docta ignorantia.
Душа ничего не знает о Боге, кроме того, что она ничего не знает. Прежде чем человек может узнать, что такое Бог, он должен узнать, чем Он не является (О Троице, VIII, 2; О христ. учен. 1,13–14). Августин драматизирует незнание и говорит: «Ибо если ты что–то понимаешь, то это не Бог» (Проп. 18,3). Бог, говорит Августин в различных местах, — это мера без меры, число без числа и вес без веса. Он — начало без начала. Августин воспринимает внезапное посвящение в высшее знание как мгновенное озарение (Исп. VII, 17; IX, 10). Не поняв и не постигнув Бога, к нему можно «прикоснуться» (Проп. 157; О христ. учен. I, 6; Исп. IX, 10).3 десь употреблен глагол attingere, «Ты коснулся меня» (Исп. X, 27). И тем не менее в мистических переживаниях Августина поразительно мало чувств. Он описывает скорее не чувства, а умственные переживания.
Возможно, теология отрицания — это способ восхождения к Богу, представленный как череда расставаний. Человек оставляет их за собой одно за другим так, что в конце концов он превосходит все человеческое знание. В Остии (Исп. IX, 10) Августин и Моника оставляют за собой и одно, и другое, и третье, и четвертое, пока в конце концов не остаются без страсти, без чувственных впечатлений, без рефлексий, без видений, без языка. Gradatim — «шаг за шагом» — поднимаются они из и прочь от знакомого мира вплоть до того, как на мгновение прикасаются к тому, что несет только само себя — id ipsum — к тому Богу, который утратил все видимые и понятные свойства.
Понятия о внутреннем и восходящем к свету — это метафоры, которые характерны для платоновско–христианской традиции. Но означают ли эти метафоры одно и то же для Августина и для современных мистиков? Современная тенденция психологизировать внутренние мистические переживания упускает мистику как медиативное упражнение. Августин на удивление немногословен, когда дело доходит до детального определения visio Dei. Конечной точкой восхождения мысли являются свет и тьма, просвещение и незнание. Мистик не ищет воспроиятия или «переживания». Он не стремится к экстазу, но абстрагируясь от всех помех, добивается состояния, которое одновременно является и пустотой и наполненностью.
Мистика Августина фактически родственна теологии отрицания, которая ни на минуту не забывает о том, что Бог превыше и языка, и опыта. Современная религиозная мистика, напротив, близка позитивизму и его требованию, чтобы все знания проверялись впечатлением. Вот почему она нередко излишне психологична и сентиментальна, тогда как ранняя мистика в стремлении достичь мистического просветления отвергает впечатления, чувства и мысли. Она поднимается на Синайскую гору, туда, где в облаке Моисей получил скрижали Закона. Мистика, как медиативное упражнение стирает грань между «я» и Богом, поскольку Бог есть глубинная основа «я». И тот, кто ищет суть личности, и тот, кто ищет суть Бога, подходят к границе, где язык теряет свое значение. Остается не восприятие, но диалектический итог, твердая опора для мысли, находящейся вне самой мысли.
Христианские платоники поздней античности соединяют сравнение с пещерой из диалога Платона «Государство» с рассказом о том, как Моисей взошел на гору Синай. Платон учит их, как должно освобождаться от иллюзий. Библия учит их, Кого они должны встретить. Платон дает им солнце, Библия — густое облако. Моисей вступил во мрак, где Бог, говорится в Библии (Ис. 20,21). Отцы Церкви, разделяющие учение Платона, соединяют солнце Платона и облако из Исхода и заявляют, что темнота в присутствии Бога — просвещенное незнание — объясняется ослепляющим светом. То, что у Платона было подобием пути философии к познанию, стало подобием восхождения верующих к Богу. «Человек не может увидеть Меня и остаться в живых», — говорит Яхве Моисею, и рассказ в Ветхом Завете продолжается великолепным и наивным антропоморфизмом: «И сказал Господь: вот место у Меня: стань на этой скале; Когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы, и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду. И когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет видимо.» (Ис. 33,21–23).
Когда святой Бернард в «Рае» открывает Данте небесные тайны, он показывает ему Августина, сидящего на Небесах вместе со святым Франциском и святым Бенедиктом ступенькой ниже, чем креститель Иоанн. Августин у Данте объединен не со схоластами и учеными, а с теми, кто в мистическом прозрении видел лицо Божества (Рай, 32). Последние песни Дантовой комедии великолепно иллюстрируют теологию Августина о visio Dei и imago Dei. Когда Данте приближается к центру Небес, гтоэма немеет. Никакие слова больше не могут передать то, что видит поэт. Данте пользуется этой риторикой, дабы подчеркнуть, что он приближается к неизъяснимому и конечной точке мира.
Но в 33 песне «Рая» происходит и еще кое–что: Данте напоминает своим читателям, что Бог стал человеком, то есть, что Творец через Марию сам стал Творением (ст. 5–6). Поэтому святой Бернард просит именно Марию, чтобы Данте было дано увидеть то, ради чего он прошел через три царства мертвых. Поскольку Творец приблизился к Творению через Марию, Творение может приблизиться к творцу через нее же. Мария слышит мольбу Бернарда за Данте и дает Данте силы увидеть то, чего не видели ни одни живые глаза. Открывшийся вид превосходил все возможности языка и памяти, признается поэт, который отождествляет себя со странником. Данте видит Троицу как вечный свет, который покоится в самом себе и отражает самого себя, и который, кроме того, отражает лицо самого Данте (ст. 124–132):
Конец Комедии таким образом собирает в себе большинство Августиновых мотивов, которые имеют отношение к visio Dei и к imago Dei. К тому же в 33 песне «Рая» Данте ясно показывает, что встреча с Богом не обязательно подсказана неоплатониками, но что учение об этой решающей встрече непосредственно соединяется с четкой и ясной христологией.
Тем не менее основные путевые метафоры Августина, начиная с «восхождения» — ascensus, позже сменяются «странствием пилигрима» — iter. В ранних произведениях Августина путь к Богу — это действительно восхождение по ступеням и посвящение. Будучи епископом, Августин представляет себе этот путь более историческим и коллективным, вроде пути единомышленников на Судный День через все превращения юдоли скорби. Но он так и не отказался полностью от мистических мечтаний юности. В средневековье мотив ascensus приобретает собственную историю. Он употребляется среди прочих генералом францисканского ордена Бонавентурой (1217–1274) в Itinerarium mentis in Deum — «Путеводитель души к Богу», — который был написан в Касентино на Алаверно, где на руках и ногах Франциска Ассизского появились стигматы.
Глава 10. Обратно в Рим — Остия и Африка
Лишь с началом нового семестра в конце ноября 386 года Августин решился и отказался от своего места в Милане. В прощальном письме он жалуется на затрудненное дыхание и боли в груди (О блаж. жизни, 4) Когда его собеседники по Кассициаку возвращаются к своим делам, ему остается беседовать только с самим собой. Так возникло сочинение «Монологи» — размышления, в которых Августин задает вопросы и сам же на них отвечает, с чем–то соглашается, а на что–то возражает. Он критически исследует свою совесть. Может ли он обойтись без богатства, власти и телесных наслаждений? Да, он принял решение никогда не вступать в брак. Самоиспытание в «Монологах» во многом предвосхищает более позднее самоиспытание в «Исповеди». Диалог исходит из того же близкого родства между Богом и душой: «Боже, который всегда неизменен! Позволь мне познать меня самого! Позволь мне познать Тебя!»: Deus semper idem, noverim me, noverim te (Монол. 1,7; 1,20; 1,27; II, 1; cp. 1 Kop. 13,12).
Всего через два года после того, как Августин приехал в Милан, чтобы завоевать мир и приблизиться к имперагорскому двору, он пережил «кораблекрушение» (О блаж. жизни, 4) и «обращение». На Пасху 387 года он в Милане вместе с сыном Адеодатом, которому еще не было пятнадцати лет, и другом Апипием принял святое крещение от самого епископа Амвросия, пройдя с Нового года обычный курс для «оглашенных» (competentes).
Прямо под входом в нынешний собор в Милане были раскопаны остатки церкви Святой Феклы и красивая небольшая крещальня второй половины IV века, где до сих пор сохранилась напольная мозаика. Как раз на Пасху 387 года они трое спустились босиком в этот бассейн, смыли с себя грехи и получили белые туники неофитов. Для Амвросия Августин был всего лишь одним из многих оглашенных. Он никогда не упоминал о нем в своих сочинениях. Но для Августина Амвросий был великим учителем никейской ортодоксальности (Пр. Юлиана, II, 21–22). Благодаря Амвросию Августин впервые познакомился с идеалами аскетизма, толкованием на библейские аллегории, неоплатоническим описанием главных христианских истин, по–настоящему пессимистическим взглядом на человека и соответствующей ему драматической проповедью благодати.
Осенью 387 года Августин вместе со своей старой матерью и несколькими друзьями уезжает на юг. Моника умерла в приморском портовом городе Остия перед их отплытием в Африку, и Августин весь 388 год провел в Риме. Каждый раз, приземляясь в римском аэропорту Фиумичино, я ищу их. Оттуда сверху можно увидеть Остию–Антику. Там матери и сыну было великое небесное видение, там умерла Моника, и из устья Тибра, если верить Божественной комедии Данте, их души отправились в Чистилище.
С 11 ноября 387 года по 10 марта 388 морской путь в Африку был закрыт из–за военной блокады. Военачальник Максим поднял восстание против императора и блокировал Римский порт. Небольшому обществу, направлявшемуся в Африку, пришлось ждать в Остии конца блокады. Они не были особенно огорчены, хотя события развивались не так, как им хотелось бы, Их поддерживал Амвросий и защищали богатые христианские семейства Рима. У Августина и его друзей были такие сильные связи в Милане, что им могли позавидовать многие влиятельные римляне. Поэтому мое сравнение Августина и его спутников с африканскими беженцами, сидящими в углу аэропорта Фиумичино в ожидании вида на жительство, не совсем корректно.
Так называемое видение в Остии, о котором Августин рассказывает в «Исповеди* (IX, 10), примечательно во многих отношениях. Августин и его умирающая мать–христианка переживают чисто неоплатоническое восхождение, когда в момент экстаза они вместе «прикасаются» к центру действительности и ее высшей точке. Моника вообще часто служит Августину доказательством, что существует не только философский путь проникновения в божественную мистерию. Однако здесь она способствует просвещению Августина так же, как Диотима открыла истину Сократу в диалоге Платона «Пир». В своем знаменитом рассказе Августин сводит воедино различные поля: неоплатонизм и христианство, философское знание и наивную веру непросвещенной женщины, индивидуальное посвящение и постижение истины с единоверцами.
Августин рассказывает о своих чувствах, пережитых вместе с матерью: «Когда в беседе нашей пришли мы к тому, что любое удовольствие, доставляемое телесными чувствами, осиянное любым земным светом, не достойно не только сравнения с радостями той жизни, но даже упоминания рядом с ними, то, возносясь к Нему Самому сердцем, все более разгоравшимся, мы перебрали одно за другим все создания Его и дошли до самого неба, откуда светят на землю солнце, луна и звезды. И войдя в себя, думая и говоря о творениях Твоих и удивляясь им, пришли мы к душе нашей (in mentes nostras) и вышли из нее, чтобы достичь страны неиссякаемой полноты, где Ты вечно питаешь Израиля пищей истины, где жизнь есть та Мудрость (иЫ vita sapientia), через которую возникло все, что есть, что было и что будет. Сама она не возникает, а остается такой, какова есть, какой была и какой всегда будет. Вернее: для нее нет «было» и «будет», а есть только одно «есть» (esse solum), ибо она вечна, вечность же не знает «было» и «будет». И пока мы говорили о ней и жаждали ее, мы чуть прикоснулись к ней всем трепетом нашего сердца (attigimus earn modice toto ictu cordis). И вздохнули, и оставили там «начатки духа»…» (Исп. IX, 10).
Эта история кажется слишком прекрасной, чтобы быть правдой. Но она так уместна в исповеди Августина, что выдает его горячее желание собрать противоречащие ему мнения в одну примиряющую картину. Когда вскоре после этого Моника умерла в Остии, она не только снова завоевала своего сына: «Она любила мое присутствие, как все матери, только гораздо больше, чем многие матери… в стенаниях искала она то, что в стенаниях породила» (Исп. V, 8). Это было наследством, доставшимся ей от Евы. Августин ликует про себя, оттого что Моника не будет покоиться рядом с Патрицием в Африканской земле. Они оба в конце концов одержали победу над всеми соперниками.
После девяти дней болезни Моника скончалась в возрасте пятидесяти шести лет (Исп. IX, 11). Адеодат плакал над умершей бабушкой, но Августин сумел сдержать слезы. Лишь много лет спустя он вспоминает о кончине матери в трактате «О почитании усопших к Павлину» (422). В 1945 году могильная плита Моники была обнаружена возле церкви Сан–Ауреа, там, где дорога из Остии–Антики сворачивает на Рим. Консул Аниций Басс поставил эту плиту в 410 году вскоре после падения Рима, то есть, еще при жизни Августина. Эта могильная плита была хорошо известна в средневековье среди приезжающих в город паломников, позже о ней забыли.
В начале Ренессанса останки Моники были перевезены в церковь Святого Августина в Риме, где они покоятся и поныне в ее капелле справа от главного алтаря. Незадолго до смерти Моника вместе с сыном пережила посвящение в то, что «не видел того глаз, не слышало ухо» (1 Кор. 2,9). В традиционный платоновский рассказ о восхождении Августин вставляет ряд библейских цитат и библейских аллюзий, которые христианизируют это необычное переживание. Точно так же епископ Амвросий весной 386 года в своих проповедях в Милане ссылками на Библию христианизирует и сочинения Плотина.
У Платона и Плотина нет следов современных душевных конфликтов. Из их текстов психоаналитики не вынесут для себя ровно ничего. У Августина, напротив, стремление к решающему знанию персонализировано и индивидуализировано. Готовность к бурному обращению, сопровождаемому молитвами и слезами, с самого начала находится в поле духовного напряжения. Августин современен в том смысле, что он все время окрашивает своим личным опытом изображение того, что относится к человеческой природе вообще.
Первый раз в истории мысли индивидуальность отдельно взятого человека становится неотделимой частью судьбы всех людей. Августина ни в коей мере не удовлетворило бы описание человеческой жизни, рассмотренной вне конкретных исторических условий. Его «Исповедь» нельзя непосредственно сравнивать с современными автобиографиями. Но он заложил важные предпосылки современного жанра, выявив неповторимость каждого жизненного пути. «Исповедь» — это не биографический репортаж, но литература высшего качества. Все, написанное в ней, безусловно, правда, но часто совсем в другом смысле, чем современные читатели могут себе это представить.
В Остии в своем большом доме с садом Августин и Моника беседовали на философские и богословские темы. Неожиданно они на мгновение, выйдя из своей души, услыхали голос Бога. Сады постоянно возникают в рассказах Августина в решительный момент той или иной истории. В саду потомок Адама Августин нашел путь к своему Творцу. Августин подчеркивает, что «путь к Богу — это путь назад к истоку» (О б лаж. жизни, 36), reditus ad Deum. Раз за разом он пользуется возвращением на родину или в дом детства как образом спасения (О христ. учен. 1,8–9). Однако не платоновское учение о памяти обрамляет у Августина такие рассказы, но христианская мысль о сотворении мира. Бог создал нас. Мы вышли из Его рук. Поэтому путь к Нему и есть путь к началу, к исходной точке. Человек, как блудный сын, несмотря на стыд, должен вернуться домой (Исп. 1,18; II, 10; III, 6; Лк. 15,11–12). Пастырь с радостью несет на плечах домой заблудшую овцу (Лк. 15, 5).
Душа как будто имеет в себе некую гирю, которая тянет ее назад к Богу: pondus теит, amor meus — «моя тяжесть — это любовь моя» (Исп. XIII, 9). Грех есть противоречащее природе отклонение от естественной линии, отпадение или извращение, aversio или pen/ersio. «Ты наказываешь людей за то, что они совершают по отношению к самим себе: даже греша перед Тобою, они являются святотатцами перед душой своей, портя и извращая природу свою, которую Ты создал благообразною» (Исп. Ill, 8).
Райский сад всегда присутствует как некая возможность, когда на пути Августина появляются сады. Достаточно вспомнить, что и его обращение в Милане, и небесное видение, которое открылось ему с Моникой в Остии, происходят во внутренних садах домов, где он жил. Обычай строить внутренние сады восходит к старой римской традиции, по которой каждый частный дом строился вокруг внутреннего двора, atrium. Во времена поздней античности эти внутренние дворы у наиболее зажиточных домовладельцев превратились в небольшие садики. Дома сохраняли свою духовную жизнь. Таким образом они служили символом нового, или внутреннего, человека в противоположность ветхому, или внешнему, человеку (Об ист. рел. 27, 50).
Форма жилища символизирует ту обращенность внутрь себя, какую мы наблюдаем в религии и философии поздней античности. Фасады домов, обращенные на улицу, значили гораздо меньше. Главную роль стала играть часть здания, обращенная вовнутрь — во двор, в котором был разбит цветник, росли деревья и бежала вода. Дома тоже закрывались от внешнего мира, и их неповторимость была обусловлена их внутренней жизнью. Эта планировка послужила фоном, на котором произошли два самых важных религиозных переживания Августина, и положила начало для планировки западных монастырей. Такая архитектура располагала к сосредоточению вокруг внутреннего сада. Сад, следовательно, стал образом внутреннего пространства души или, вернее: внутреннее пространство души представлялось садом во внутреннем дворике.
За год, проведенный в Риме, Августин написал первую и вторую книги трактата «О свободном решении» (387). Трэтью часть он, по–видимому, закончил уже в Гиппоне около 393 года. Две первые книги написаны в форме диалогов с другом Эводием, но большая часть третьей книги —это трактат. Августин хочет доказать существование свободы воли, отводя ей место в иерархии от материи до Бога. Разум — это самое лучшее и сильное, что есть в человеке, говорит он (II, 13). Человек грешит из–за своей воли (О прир. блага, 28). Да, грех не имеет другой причины, кроме дефекта воли. Воля — ключ к пониманию живущего в мире зла.
Зло в мире объясняется не злым богом или некоей злой субстанцией, но ошибочными решениями. Ибо воля к добру может проявляться только в том случае, если человек не привязал свою волю к земным вещам. Нужно следовать вечному закону, который презирает земные блага (О своб. реш. 1,15 и 3). Новая воля может вытеснить старую, хотя и не без борьбы (Исп. VIII, 5). Легко заставить тело повиноваться малейшим указаниям воли, диктуемым душой. Однако душе гораздо труднее повиноваться себе самой (Исп. VIII, 8; О граде Бож. XIV, 6).
Сочинение о свободной воле — это уже существенный разрыв с манихейским детерминизмом, который рассматривал злые силы в качестве самостоятельных действующих лиц (1,1–3). Когда Августин отказался от манихейского дуализма в пользу неоплатоническо–христианского монизма, в его мышлении уже не осталось места для зла как собственной субстанции или агента. Зло — это только тень и недостаток добра (Исп. VII, 11–12). Таким образом на зло можно взглянуть новыми глазами. Августину важно объяснить, почему и каким образом единственный и всемогущий Бог не ответственен за существующее в мире зло.
Учение о свободной воле полностью приписывает моральную ответственность действующему человеку и защищает Бога от всех обвинений. Ибо человеческая душа получила свою свободную волю от самого Бога. А потому душа не может считаться по–настоящему свободной, если она выбирает для себя нарушение закона Божия. Добрая воля счастливого человека использует свою свободу, чтобы почтить Творца души и Дарителя свободы. Падение Адама объясняется именно злоупотреблением свободой души. Ад ам покинул Бога, и потому Бог покинул его. Это была первая смерть души (О граде Бож. XIII, 15).
До грехопадения Адам был физически здоров, не знал ни боли, ни горя и жил в полнейшем душевном покое (О граде Бож. XIV, 10). Кроме того, его любовь до падения была «невозмутима» (imperturbatus). Душа Адама непосредственно любила тело, потому что между ними царило согласие. Поэтому воскресение плоти есть необходимое условие победы Творца над смертью. Ибо душа не будет полностью блаженна, если не будет восстановлено безоблачное райское единение души и тела.
Свободная воля — причина греха, и тем не менее в исходной точке она — добро (О своб. реш. II, 47–49; Исп. VII, 16). Сам Бог создал гармоничный мировой порядок. Таким образом, по иерархии Августина, свободная воля может помещаться между материей и Богом. Зло, говорит он снова, объясняется контрастами, которых требует гармония. В трактате «О свободном решении» присутствуют элементы христианского естественного права; в нем говорится о вечном законе, из которого все временные законы черпают свою силу и справедливость. Вечный закон неизменен и не может быть стерт из человеческого сознания, гармония в жизни отдельного человека зависит от того, насколько человек позволяет этому вечному закону управлять своей жизнью. Люди мудры лишь тогда, когда они подчиняются этому закону. Это дает им душевный покой и удовлетворенность (I, 29–31).
Однако большинство людей глупы, ибо они вместо этого позволяют управлять собой страстям и порокам. Воля делает нас рабами страстей. Таким образом, наша глупость и несвобода, в известном смысле, суть наша собственная вина. Ведь не желание счастья делает нас счастливыми, но желание правильного. Человек стремится к цели, но лишает себя тех средств, которые необходимы, чтобы достичь ее. Зло в мире объясняется именно свободой выбора между повиновением либо вечному закону, либо страстям. Большинство выбирает как раз последнее. Бог не сделал человека неспособным грешить, но дал ему способность выбирать доброе и правильное, утверждает Августин. Следовательно, свободная воля — это дар Божий (О своб. реш. II, 46–47). Только благодать дарит человеку свободу. Чем больше воля уступает благодати, тем она свободнее. Ибо истинная свобода — это служение Христу (ср. Рим. 6,20–22). Тот, кто свободен от ограничений греха, становится инструментом справедливости (Расужд. на Еванг. от Иоан. 41, 8).
В трактате «О свободном решении» заинтересованно обсуждается отношение между Провидением Божиим и человеческой свободой. Эводий не понимает, как эти Две величины могут соединиться (III, 3–5). Бог знает, что Должно случиться, говорит Августин, но то, что случается, происходит в результате человеческой свободы, а не в результате божественной необходимости. Бог знает о нашей свободе и знает, на что мы должны ее употребить. Когда дело касается других людей, мы прекрасно знаем заранее, как им следует поступить, но, тем не менее, не принуждаем их к этому. Если наше знание о чужих действиях и поступках не препятствует свободе других людей, то и знание Бога о том, что должно случиться, соотносимо со свободой людей. Провидение так же относится к будущему, как воспоминания к прошлому. Ведь не воспоминания были причиной тех или иных действий в прошлом. Поэтому и Провидение не может служить причиной будущих действий. Таков главный пункт в защите Августином' установленного Богом порядка.
В этом сочинении есть интересный отрывок о самоубийстве (III, 23), в котором Августин говорит, что самоубийство часто проистекает не из желания уничтожения, но из желания покоя. Тот, кто хочет избавиться от больших мучений и ищет спасения в смерти, желает на самом деле избавиться от своей ноши и избежать трудностей. Однако покой и смерть не одно и то же. На самом деле в покое больше жизни и больше действительности, чем в беспокойстве. Ибо покой имеет протяжение во времени и потому больше заслуживает того, чтобы называться жизнью, чем беспокойство. Тот, кто лишает себя жизни, желает именно того дополнения к жизни, которую может дать только покой.
На ранней стадии учение Августина о свободе не лишено точек соприкосновения с учением о свободе, которое позже стал проповедовать Пелагий и которое Августин тогда бурно отверг. Последняя книга трактата «О свободном решении» была, по–видимому, закончена не раньше 393 года. В 395 году Августин послал готовую книгу Павлину Ноланскому (Письма, 31). В более поздних произведениях Августин говорит о свободной воле уже более осторожно и не с таким оптимизмом, как здесь. Учение о свободной воле он признает и в «Исповеди» (VII, 3). В течение жизни Августин несколько раз перерабатывал это свое учение и снабжал его добавлениями, чтобы подчеркнуть разницу с учением Пелагия.
В 383–384 годах, собираясь в Милан, Августин жил в Риме у богатого манихея Константина. Но где Августин жил в Риме и как платил за себя в 388 году, когда уехал из Милана, нам неизвестно. После отъезда Августина в Рим Ве–рекунд, хозяин дома, в котором Августин жил в Кассициаке, принял в Милане крещение и вскоре умер. Прожив год в столице мира, Августин вернулся обратно в Тагасту. Он решил жить как servus Dei — «слуга Божий», то есть христианин со строгими идеалами совершенства, но не имевший сана священника и связанных с ним обязанностей. Такой выбор прежде всего означал отказ от карьеры, брака и семьи. Люди, желавшие принадлежать к подобному единству, организовывали сообщества и союзы, которые обменивались письмами и посещали друг друга для бесед.
Возможно, в то же время Августин начинает писать два обвинительных сочинения против манихеев, где критикует их мошенничество и двойную мораль: «О нравах католической церкви» и «О нравах манихеев». В первом сочинении он обсуждает проблему авторитета и природу счастья. Счастье заключается в обладании лучшим, которое должно быть тем, что мы не можем потерять добровольно. Душа есть высшее добро тела, а главное добро души есть нечто, что находится вне и выше ее самой. Счастлив лишь тот, кто обладает Богом. Обладать Богом —это быть внутренне просвещенным и полным Его истины и святости. Бог есть высшее добро и ничто, помимо нашей воли, не может отлучить нас от Него (Рим. 8,38–39). С этим согласны и Ветхий, и Новый Завет. И тем не менее манихеи не видят никакой связи межу этими двумя частями Священного Писания. Бог один и тот же и в Ветхом, и в Новом Завете, утверждает Августин. Представление манихеев, будто есть два разных бога — это глупость и святотатство. Здесь Августин впервые ссылается на учение апостола Павла о благодати, которая излилась в сердца наши Духом Святым (Рим. 5, 5). Это сочинение говорит о необычайно глубоком прочтении Библии, в нем Августин пытается подвести фундамент под свое мышление, ссылаясь на Писание по каждому пункту.
Августин был немало раздосадован, когда, уже отказавшись от учения манихеев, почувствовал себя обманутым ими. Он говорит, что они распространяют ложь о Библейских Писаниях, и приводит аргументы в пользу того, что Ветхий и Новый Завет должны читаться как единая весть. Он в первый раз подчеркивает значение Церкви как фундамента общественного здания и праведной жизни. Противореча учению апостола Павла, Августин все время подчеркивает, что зерно христианской жизни находится в нашей любви к Богу больше, чем в Его любви к нам. Четыре основные добродетели — умеренность, мужество, благоразумие и справедливость—могут порождаться любовью к Богу, считает он. Все социальные беды объясняются тем, что мы любим себя вместо того, чтобы любить Бога. Любовь к ближнему тоже необходимо вытекает из преданности Богу. По этому вопросу между Моисеем и Христом существовало полное согласие (Мф. 22,40).
Во втором сочинении — «О нравах манихеев» — Августин повторяет многие из своих старых возражений против манихейского дуализма. В его дальнейшем творчестве они будут повторяться еще не раз. Зло не материально и не идентично с материей. Нет ничего удивительного, что нравы и обычаи в манихейском лагере не выдерживают критики, если учение манихеев построено на таких значительных ошибках, говорит он.
В Риме Августин закончил и сочинение «О количестве души», представляющее собой диалог, написанный по тому же образцу, что маленькие диалоги, написанные в Кассициаке. Теперь собеседником Августина выступает его друг Эводий. Эводия интересует, как выглядит душа. Является ли она воздушным органом, который покидает тело в минуту смерти? Делится ли она на части? Он рассказывает, что в детстве отрывал хвосты ящерицам, и помнит, что эти хвосты шевелились, будучи отделенными от тела. Как могли хвосты шевелиться, не имея в себе души? Августин не может этого объяснить, но рассказывает нечто еще более странное. Однажды в Лигурии они с Алипием видели сороконожку, которая могла делиться на множество мелких частей, и каждая из этих частей сохраняла способность ползать. Но делать на этом основании вывод, будто душа делима, он не собирался.
Исходной точкой должна быть твердая вера в божественное происхождение души, говорит Августин. Нельзя делать выводы о человеческой душе, исходя из опытов с червем. Душа происходит от Бога и похожа на Бога. Чем она похожа на Бога, он объясняет позже в своем большом труде «О Троице». Темой же небольшого диалога «О количестве души» является величие души, которое не имеет ничего общего с пространством. Душа бесконечно велика, потому что она бестелесна и неделима. Она снабжена разумом и создана для того, чтобы управлять телом.
Августин придерживался почти абсолютного дуализма. Пока он представлял себе душу и разум столь близкими друг другу, как в этом сочинении, между душой и телом существовала только инструментальная связь. Душа использует тело и управляет его деятельностью. Тело — это инструмент души — не больше, не меньше. Однако позже понятие воли уничтожит этот строгий платонический дуализм. А пока что смерть означает лишь окончательное отделение души от тела, то есть освобождение от всех помех, мешавших увидеть истину. Приближаясь к Богу, душа должна очиститься, пройдя несколько ступеней (О колич. души, 73). Центр диалога, его высшая точка описывает переживание, похожее на то, о котором Августин рассказал в «Исповеди», то, которое он испытал в Остии во время беседы с матерыо о высших тайнах незадолго до ее смерти. Мы уже комментировали это восхождение.
В обоих случаях Августин подчеркивает, что во время этого мистического восхождения человек встречался с Богом Творцом, по сравнению с которым само Творение — ничто. Однако посреди этих платонических схем Августин четко и ясно формулирует учение об инкарнации и непорочном зачатии. К тому же в этом маленьком диалоге он по–новому говорит о Церкви и ее авторитете. Он не видит никаких трудностей в подчинении себя учению Церкви, потому что оно полностью соответствует требованиям разума. Только через церковную веру душа примиряется с собой и таким образом соединяется с Богом. То, что подобной мысли о примирении многого не достает, чтобы считаться истинно христианским учением, Августин еще н© замечает. В диалоге «О количестве души» он впервые в своем творчестве упоминает христианское учение о воскресении плоти (О колич. души, 76).
Только в 388 году Августин познакомился с христианским Римом. Он собственными глазами видел, как пал Капитолий, когда люди устремились к могилам великомучеников (О граде Бож. VIII, 27). Рим уже стал городом, куда стекались паломники со всего христианского мира. Августин изучал там монастырскую жизнь и получил подтверждение того, что слышал от Понтициана в Милане. Повсюду имелись небольшие аскетические фуппы, в которые люди объединились, дабы защититься от мира, молиться и изучать Священное Писание.
В августе 388 года, после того как император Феодосий Великий наконец разбил при Аквилее войско бунтовщика Максима, морское сообщение с Карфагеном было восстановлено. Из Остии в Карфаген отправился корабль, и Августин воспользовался случаем, чтобы посетить там старых друзей и завязать новые знакомства, в том числе с весьма влиятельным Аврелием, ставшим потом епископом Карфагена. В свое время Аврелий был первым из африканских епископов и одним из главных церковно–политических сторонников Августина.
В Тагасте, в том имении, где он вырос, Августин создал домашний монастырь для нескольких членов своей семьи, а также Алипия и Эводия. Его друг Небридий не мог жить с ними, но принимал участие в монастырских занятиях через письма, на часть которых получал ответы. Небридий задает Августину труднейшие философские вопросы, при всей своей самостоятельности он питает к нему безграничное доверие, считая его оракулом в вопросах богословия. Небридий умер в начале 391 года.
Наконец–то Августин нашел в монастырском образе жизни необходимый «мир и покой» — otium — не для образования в классическом понимании, но для упражнения мысли и духовного созревания, exerdtatioanimi. Только сосредоточившись и обострив B№tмание, можно приблизиться к Богу. «Радоваться присутствию Бога» (fruitio Dei) — это последняя ступень по пути к «обожествлению» (deificatio) (ср. О блаж. жизни, 34). Три величины, которые должны дать нам радость сами по себе и которые мы никогда не должны использовать в качестве средств, — это Отец, Сын и Дух Святой. Человек сам по себе является вещью для употребления. Только неизменное может быть целью в прямом смысле, потому что только то, что является целью само по себе, может дать вечную радость (О христ. учен. I, 10 и 40).
Постепенно и все чаще философские аргументы, понятия и метафоры в рассуждениях Августина заменяются библейскими цитатами. Евангелие от Иоанна используется им для изложения и характеристики философского счастья, которое он пытался определить еще в своих ранних работах* «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Иоан. 17, 3). Августин не подозревал, что он этой ссылкой утверждает нечто совершенно иное, чем то, что за десять лет до того выразил с помощью понятий Платона. Он лишь делает выводы, исходя из убеждения, что Христос есть «мудрость» Божия и «слово» Божие. Таким образом он, пользуясь теперь библейскими цитатами вместо аргументов, приближается, по его словам, к ядру той же самой материи.
Глава 11. Христос как «внутренний учитель»: De magistro
В Тагасте Августину пришлось объяснять старым союзникам–манихеям свое новое христианство. Он это сделал в книге «Об истинной религии», представляющей собой небольшое и точное изложение вероучения. Кроме того, это сочинение содержит наброски философии истории (27, 50), которые предвосхищают темы, глубоко разобранные потом в трактате «О граде Божием». Прожив два года в родном городе, Августин тем не менее оставался всего лишь theios апег, «святым мудрецом» того типа, какие были весьма распространены во времена поздней античности и которые избрали христианство в качестве оправдания своего затворничества от внешнего мира Августин опять собрал вокруг себя общество, подобное монастырскому. Мысль о монастыре идет от святого Антония и Египта. Впервые о монастырях Августин услыхал от своего соотечественника Понти циана незадолго до своего обращения.
В рассказе об обращении Августина в Милане несколько раз упоминаются отшельники и монастыри. Похоже, что именно история о святом Антонии подтолкнула его к принятию этого важного решения. Понти циан рассказал Августину, что по всему христианскому миру существуют братья–отшельники, удалившиеся от суеты повседневной жизни (Исп. VIII, 6). В молодости Августин был ищущей душой, и, узнав о существовании гаваней, хранящих от бурь этого мира, тоже захотел обрести такую гавань.
Шло много споров о том, кем стал Августин после «обращения» в Милане, христианином или неоплатоником. Безусловно, он был и стал и тем, и другим. Но прежде всего его «обращение» означало решение вести аскетический образ жизни, придерживаться строгого порядка дня и каждую свободную минуту использовать для занятий и размышлений. Первая остановка Августина на пути к монашеской жизни—это Кассициак. В то время он и Романиан уже целый год пытались* увлечь своими монастырскими проектами многих добрых знакомых. Но обычно жены противились тому, чтобы их мужья удалялись от мира и посвящали себя обсуждению великих вопросов (Исп. VI,14). После крещения в Милане Августин и его спутники решили вернуться в Африку через Рим, где Августин должен был жить в монастыре на Авентинском холме. Той же весной, вскоре после крещения, Августин познакомился с Эводием из Тагасты, служившим там в муниципии, тоже крещеным (Исп. IX, 8). Эводий вернулся в Африку вместе с Августином и его семьей в сентябре 388 года.
Трудно ответить на вопрос, был ли Августин мистиком. Но восхождение в бессловесные сферы явно питало его религиозную жизнь, когда он, оставляя позади все земное, предавался изумлению. Тем не менее, его мистика — это не индивидуальная форма религии — особенно если учесть, что в конце IV века он безоговорочно признает Церковь, святые таинства и единство богослужения. Однако он, по–прежнему, пользуется неоплатоническими метафорами, когда описывает присутствие Господа и радость взлета от телесного к бестелесному (Исп. VII, 17). Эти мистические °пыты носят предвосхищающий характер. Они ему необходимы как проверка перед конечным соединением у стола Господа. Эти восхождения как будто предупреждают нас о том, чт<5 должно случиться в конце времен. После видения в Остии, пережитого вместе с Моникой, они оба понимают, что снова увидятся в вечности (Исп. IX, 13).
Когда Августин вернулся в Африку, на деньги, оставшиеся ему от отца, он создал в Тагасте домашний монастырь. Там он жил с немногими близкими друзьями, проводя время в постах, молитвах и занимаясь добрыми делами. Жить по–христиански означало для него то же, что держаться от мира на расстоянии. Все свое имущество он раздал бедным. Домашний монастырь Августина в Тагасте, в котором было всего шестеро братьев, считается первым монастырем в тех краях. Августин написал для него правила и представил его как предвосхищение братства в Небесном Иерусалиме.
Монастырь Августина сильно отличался от одинокой жизни отшельников. Монастырское сообщество пыталось само себя обеспечить и сделать независимым от окружения. Это было не только место, куда они бежали от мира, но также и росток нового общества, живущего не по тем правилам, которые царили за его стенами. В течение трех лет Августин писал и изучал книги в своем монастыре. В его сочинениях того времени монастырское уединение служит символом расстояния между монастырем и тем миром, который Августин порицает и над которым печалится.
К тому времени относится его сочинение «Об истинной религии» (391). Благодетель Августина Романиан попросил сделать для него общий обзор христианского учения. Августин сам обратил Романиана в манихейство. Теперь Романиан был готов следовать за Августином дальше — в христианство. Но прежде ему хотелось подробнее узнать, о чем идет речь. Поэтому сочинение Августина было направлено против манихеев, которые для Романиана представляли собой актуальную альтернативу христианскому учению.
Именно в этом сочинении, настаивая, чтобы Романиан принял крещение, Августин написал знаменитые слова: «Не стремись к внешнему, возвратись в себя самого: истина обитает во внутреннем человеке» — Noli foras ire, in teipsum redi; in interiore homine habitat veritas (39,72). Разумеется, это не означает, что истина рождается в нас самих. Она исходит от Бога, но находится внутри нас. И все–таки этот трактат можно считать скорее признанием Августина своим учителям и сторонникам, нежели апологией христианской веры. В коротких фразах Августин суммирует важнейшие пункты своих ранних сочинений, начиная с трактата «Против академиков». Он явно хочет навести порядок в интеллектуальном багаже Романиана.
Первая часть трактата «Об истинной религии» посвящена божественному плану спасения человечества (10, 18–20). Августин использует понятие о зле как о недостатке добра, чтобы разоблачить материализованное и персонифицированное зло манихеев. Здесь, как и всегда, он защищает свободную волю и представляет наказание и грех как плод человеческих решений. Гораздо сильнее, чем его предшественники–неоплатоники, Августин подчеркивал в то время свободную волю. В его глазах ни понятие Провидения, ни учение о благодати не могут поколебать ту ответственность, которая следует из свободной воли (Об ист. рел. 14, 27).
Тут Августин вносит историческое измерение в учение Платона о восхождении, он говорит о пяти возрастных ступенях человеческой жизни и соединяет возрастные ступени с постепенным посвящением человека в знание и с некоторыми историческими рассуждениями (Об ист. рел. 26, 48–50). Вертикальный путь восхождения индивидуума к лицу истины сменяется общеисторическим, то есть горизонтальным путем пилигримов к суду и блаженству. Такая жизнь кончается смертью и встречей с Богом лицом к лицу, история тоже кончится судом и встречей с судящим Христом лицом к лицу. Изменения в мышлении Августина могут рассматриваться как поэтапное посвящение в мистерию божественного, о которой он постоянно говорил во время своего увлечения неоплатонизмом. В каждом сочинении, написанном с 386 по 390 год, философское восхождение на небо — ascensus — присутствует либо явно, либо в качестве предпосылки.
По пути к мудрости и встрече лицом к лицу с Богом индивидуум нарушает указания авторитетов и разума. Особенно во второй части трактата «Об истинной религии» ясно видно, что христианство Августина все еще не вышло за Рамки учения западных неоплатоников. Бог—это единство и истина всего сущего. Бог — это вечный закон, стоящий выше разума. Свет от Него присутствует в ограниченной степени даже в самых недостойных созданиях. (11, 21–22). Зло и добро не борются друг с другом. Свет уже пронизал тьму и присутствует повсюду, где можно различить что–то определенное (Иоан. 3, 21). Зло — это не самостоятельное действующее лицо, но человек может испортить свою жизнь, не заметив присутствия света среди теней. Это сочинение должно было убедить Романиана, крестившегося в конце 395 года.
В этом трактате христианство выступает уже не в виде огрубленного и потому общедоступного платонизма, но христианской верой, которая дает исчерпывающие ответы на важнейшие вопросы платонизма. Августин говорит, что Платон «скорее приятен для чтения, чем убедителен»: suavius ad legendum quam potentius ad persuandum (2, 2; 3, 5). Платонизм получает свое завершение в христианстве. То есть уже не христианство находится на службе у платонического «обожествления» — deificatio, — но, напротив, платонизм может вести прямо к христианскому «обожествлению» — deificatio в новом значении (10,19).
Чем ближе Августин к принятию сана священника (391) и помазанию в епископы (395), тем очевиднее становится присутствие Церкви в его сочинениях, и в его рассуждениях появляется все больше основных христианских понятий. Теперь Августин открыто говорит о чуде — он видел в Милане, как прозрел слепой человек, — о кровавой службе мучеников и об авторитете Церкви, а не только об авторитете Христа. Он говорит о Всемогущем, о Троице и благодати. Августин подчеркивает свободу человеческой воли так, как уже не будет этого делать после столкновения с пелагианами. Вместе с тем, мы находим у него несколько странное объяснение смысла смерти Христа на кресте. Телесное воскресение имело место, дабы показать, что человеческая природа не вся подлежит тлению, как и душа. Христос — яркий тому пример, однако решающих мыслей о спасении в трактате «Об истинной религии» мы еще не найдем.
Пока что обожествление остается у Августина только принципиальной и абстрактной мыслью. И, если бы мы спросили у него, что такое христианство, он бы ответил, что это нечто, весьма близкое к платонизму. Это тоже явствует из трактата «Об истинной религии». Смирение и любовь к мудрости суть не разные вещи, говорит Августин (5, 8). Однако это не означает, что они являются одним и тем же: просто у них общая цель. Ветхий и внешний человек должен переродиться и стать новым, обращенным вовнутрь и божественным (48–49), ибо тут два народа стоят друг против друга: неблагочестивые, алчущие земной власти, и новый народ, которому обещано, что он наследует Царство Божие (27, 50).
К первым дням возвращения Августина в Африку относится маленький диалог «Об учителе» (389), который, по образцу платоновского диалога «Менон», передает беседы с шестнадцатилетним Адеодатом. Августин удивляется понятливости сына, и это сочинение можно назвать рассказом об отношениях отца–учителя и сына–ученика (Исп. IX, 6). Августин хочет показать, что душа, собственно, ничего не принимает извне, но воспринимает все изнутри. Слова вообще ничего не сообщают и не передают от одного человека другому. Они только пробуждают к жизни воспоминания.
Этот диалог может также читаться и как прощание Августина со словами, которые он употреблял и которыми злоупотреблял, будучи преподавателем риторики, и как его обращение к Слову, которое было и есть мудрость Божия: «И не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник — Христос» (Мф. 23,10). В нашей общей школе на небесах у нас один общий Наставник, говорит Августин в одной проповеди (Проп. 299). Смысл этого в том, что красноречие не может ничему нас научить, если истина не просвещает душу изнутри. «Поэтому я соглашусь с тобой, что мы решительно не в состоянии что–либо выразить, если только душа наша, услышав слова, не перенесется к тому, знаками чего эти слова выступают» (Об учит. 22). Слова могут одинаково и скрывать, и обнажать мысль. Не все люди сами понимают, что они говорят. Кроме того, существуют ложь и обман (Об учит. 42). Каждый сталкивался с тем, что слова не всегда передают то, что имел в виду говорящий. Поэтому ссылка на мысли говорящего не может служить ключом к пониманию сказанного.
Телесные впечатления достаточно истинны, считает Августин. А вот фразы можно понять лишь в том случае, если человек уже знает истины, которые они пытаются выразить. Слова и фразы получают смысл только, если неловек знает их смысл заранее (Об учит. 25). Учитель может служить лишь поводом к тому, чтобы ученик сам заново открыл свои собственные вечные истины: «Обманываются же люди, называя учителями тех, кто совсем не учителя, потому что по большей части между моментом говорения и моментом познания не бывает никакого промежутка; и так как внутреннее научение является вслед же за напоминанием говорящего, то и кажется, будто учатся извне, от того, кто напомнил» (Об учит. 45).
Таким образом, познание — это не учение, но спонтанное действие души. То, что как будто пришло извне, приходит все–таки изнутри. Душа никогда не бывает открыта наружу, она открыта только вовнутрь, к Богу! Если наши мысли совпадают с мыслями других людей, это объясняется их общим потусторонним источником. В последней инстанции Христос — это Логос, Слово Божие, «истинный Учитель». Он обращается к сердцу, независимо от того, слышит ли принимающий весть или читает (Об учит. 45; Переем. 1,12). Насколько смело и свободно Августин толкует Писание, становится ясно, когда понимаешь, что многие части этого диалога являются пересказом Послания к Ефесянам, 3,16–18: «Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, Верою вселиться Христу в сердца ваши, Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, чт<5 широта и долгота, и глубина и высота…». Воистину нелегко предвидеть, что именно это место Писания могло привести Августина к такой теории познания.
Смысл учения Августина о языке в диалоге «Об учителе» состоит в том, чтобы приписать языку чисто вспомогательную функцию. «Чье же любопытство будет столь неразумно, что он пошлет своего сына в школу с той только целью, дабы тот узнал, что думает учитель? Но когда учителя при помощи слов преподали все те науки, обучение которым они приняли на себя, — науки о добродетели и мудрости, — тогда так называемые ученики отдают сами себе отчет, истинно ли то, что им сказано, созерцая внутреннюю истину сообразно со своими способностями» (Об учит. 45).
Язык состоит из знаков, которые учат нас, напоминая нам о том, что мы уже знали. Но как мы «знаем» то, о чем нам напоминает язык? Это мы можем понять только через внутреннее «просвещение» души Богом. Ибо одно дело свет, который мы видим глазами, и совсем другое — тот свет, который заставляет глаза видеть. Это собственный свет души, который исходит из того внутреннего, что стоит за «просвещением» (О Книге Быт. незаконч. 5, 24). Августин восхваляет божественное Слово с помощью произнесенных или написанных слов. Слова, не являющиеся названиями видимых вещей, имеют свои соответствия в душе человека. Невидимых вещей гораздо больше, чем видимых. Поэтому ббльшая часть предпосылок для понимания языковых высказываний находится в душе, а не во внешнем мире.
Без предварительного знания, которым обладает душа, язык был бы бессилен. В случае нужды мы можем обойтись без языка, как это делают ангелы (О граде Бож. XVI, 6). Из–за этого «просвещение» божественным словом становится еще более чудесным. Языковые высказывания также дают много поводов для божественного «просвещения» души. Но язык есть и остается чем–то внешним. Он один никогда не может способствовать постижению истины. «Просвещение» души божественным Словом есть «внутренний учитель» или «высочайший учитель»: summus magister (Об учит. 2). Хаотические звуки слышимого языка, напротив, есть следствие грехопадения. Ибо Бог говорил с Адамом, Евой и ангелами непосредственно без слышимых звуков — так Амвросий относился к написан-, ным библейским текстам. Инкарнация или материализация слова стала необходима только после грехопадения.
Августина как оратора и как писателя очень волнует язык. Он рассуждает о роли языка в познании и о знаковом характере слов также в трактатах «О диалектике» и «О христианском учении». То, что слово—знак (Об учит. 3; О диалект. I; О христ. учен. II, 1–9), многие говорили и до Августина. «Для людей слова являются важнейшим средством обозначения того, о чем они думают, если им нужно изложить это другим» (О христ учен. II, 6). Но что такое «знак»? Говоря о «знаке», Августин пользуется словом signum, но он использует также слово vestigium, которое означает знак в смысле «след». Августин первый подчеркнул, что знак всегда является знаком для определенного слушателя или читателя. Воспринимающий сам должен придать смысл знаковым отношениям. Таким образом, Августин один из первых определил треугольник, состоящий из знака, посылающего знак и принимающего его.
С помощью знака посылающий его привлекает внимание принимающего к определенной вещи. Таким образом, знак есть нечто ощутимое, отсылающее к чему–то, что не является им самим. Августин понимает произнесенное слово, как непосредственный знак, а написанные слова как знаковую систему для другой знаковой системы, а именно для произнесенных слов. Сказанное» (dictio) состоит из «видимого знака» (verbum) и «содержания его значения» (dicibile). Аргументация этой языковой теории приводится в незаконченном трактате «О диалектике», который ббльшая часть экспертов считает теперь подлинным.
Трактат «Об учителе» Августин открывает вопросом: чего мы хотим достичь нашей речью? Хочет ли говорящий напомнить себе и другим о чем–то, что они уже знают (Об учит. 1)? Таким напоминанием является молитва: это не речь, обращенная к Богу, в чем Он едва ли нуждается — ведь Он и так уже все знает, — но обращение говорящего к самому себе. Тут Августин повторяет, что «слова суть знаки» (Об учит. 3). Это отнюдь не значит, что все слова — это имя какой–то вещи. Напротив, Августин сомневается в том, что слова всегда имеют внешнее соответствие. Часто это соответствие дается знаком. Трудно ответить на вопрос, какую роль слова фактически играют в процессе обучения. Почему одинаковые высказывания не имеют одинакового значения для всех слушающих? Да потому, что смысл словам даем мы сами. Такое учение о познании мы уже встречали в трактатах «О блаженной жизни» (4, 35) и «Монологах» (1,1).
Августин находит также примеры знаков, которые относятся только к другим знакам. Некоторые знаки, напротив, обозначают сами себя, как, например, verbum, который есть слово и значит «слово». Verbum и потеп находятся в том же отношении — все verba суть nomina, и все nomine суть verba — но, тем не менее, эти обозначения имеют разный смысл, потому что характеризуют «слова», исходя из различных свойств (Об учит. 20). Августин четко различает масштаб и содержание понятия (Об учит. 18). Как правило, мы забываем сам знак и в первую очередь думаем о том, что он означает (Об учит. 24). Это часть фундамента , необходимого для того, чтобы люди могли говорить друг с другом, часть «контакта между говорящими»: regula loquendi.
Когда кто–то спрашивает: «Является ли человек человеком?», мы, не колеблясь, отвечаем: «да», потому что в первое мгновение не думаем, что спрашивающий, возможно, говорит о слове «человек», имея в виду слово, а не живое существо (Об учит. 24). Когда мы «понимаем» сказанное, мы понимаем не знак, но то, что он означает. Знак — это только напоминание. Существенная часть общения происходит на другом уровне, чем уровень знаков, говорит Августин. Тот, кто не знает заранее, что означает то или иное слово, не может только из самого слова понять, что оно означает. Слова сами не могут объяснить связи между собой и тем, что они означают. Если бы слова могли сами себя объяснять, не существовало бы такого множества языков.
Но слово может вызвать воспоминания. Если бы у нас были только слова, а не воспоминания, мы бы никогда не мотли разоблачить ложь и ошибки (Об учит. 46). Опыт или учитель–человек не могут сообщить нам ничего нового. Настоящий учитель — это истина, общая у учителя и ученика, которую они несут в своей душе. Все знания происходят от Христа, являющегося внутренним светом и внутренним учителем: «Обо всем, постижимом для нас, мы спрашиваем не у того, кто говорит, тем самым произнося звуки внешним образом, а у самой внутренне присущей нашему уму истины, побуждаемые к тому, пожалуй, словами. Тот же, у кого мы спрашиваем и кто нас учит, есть обитающий во внутреннем человеке Христос (Еф. 3, 16–17), т. е. непреложная Божья сила и вечная премудрость; хотя к ней обращается с вопросами всякая разумная душа, она открывается каждому из нас лишь настолько, насколько тот в состоянии принять, в зависимости от своей худой или доброй воли» (Об учит. 38). Августин имеет в виду слова апостола Павла: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1 Кор. 3, 16), и «Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке» (Еф. 3,16).
Языческая римская культура присутствует в диалоге Августина, когда он говорит о языке жестов в театре и пантомимах и когда обращается к латинским текстам Вергилия, Персия и Теренция. Кроме того, сами диалоги куда больше напоминают Цицерона, чем какого–либо христианского писателя. Поразительна ссылка на сотворение мира, как на пантомиму, где солнце, луна, море, земля и все живые существа представляют собой мудрость Божию в природе для нас «созерцающих» (Об учит. 32).
В Прологе Иоанна рассказ о Слове, ставшем плотью, о Творении и инкарнации становится таким образом ключом к знаковой теории Августина и его учению о познании (Исп. XI, 8). Мы не могли бы помнить, что мы что–то забыли без «внутреннего учителя», говорит Августин (О граде Бож. XI, 25). В трактате «О Троице» он также развивает теорию о том, что «внутреннее слово» (verbum interius) первично по отношению ко всем чувственным проявлениям (О Троице, XV, 11 и 15). Внутренний человек просвещается истиной, живущей в душе, которая есть Христос, то есть вечная и неизменная мудрость Божия. «И не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник — Христос» (Мф. 23,10).
Всякое познание есть узнавание заново. Слова могут рассказать нам только то, что мы уже знали раньше. Nunqmm discern: «Мы никогда ничему не учимся у других». Разумеется, это вовсе не означает, что бесполезно читать проповеди или быть учителем в школе. Это говорит лишь о том, что, когда человек учится чему–то или учит чему–то, происходит это совсем не так, как он себе это представляет. Истина существует всегда — если она вообще существует — внутри человека, а не вовне его среди знаков. Это заключение подкрепляется один раз в диалоге «Об учителе», в котором Адеодат сам обнаруживает взаимосвязь между внешним и внутренним «просвещением». Адеодат умер рано, в 391 году. После его смерти у Августина уже не осталось никаких семейных обязательств. Тем не менее он не был одинок. Он собрал вокруг себя своих единомышленников в монастыре и позже — в своей общине.
Глава 12. Плененный церковью в Гиппоне Регии
Servus Dei — «Слуга Божий» — был христианином с умозрительными жизненными идеалами, навеянными Платоном и его последователями. Следующее перевоплощение Августина состояло в том, что он поступился философской медитацией в пользу практических задач Церкви. В Тагасте он обнаружил, что Церковь нуждается в нем. «Брат сердца моего» (fater cordis mei, Исп. IX, 4), как называл Августин Алипия, — страдавший роковой страстью к цирковым забавам, то есть конским бегам, гладиаторским боям и схваткам с животами (Исп. VI, 7), и последовавший за Августином из Карфагена в Милан и обратно в Африку, — неожиданно стал епископом в Тагасте. Августин избегал городов, в которых не хватало епископов, из страха попасть в плен к тамошней общине. Поссидий рассказывает, что Августин отправился в Гиппон, чтобы посетить там одного «поверенного в делах», agens in rebus, который собирался идти в монастырь (Жизнь Августина. 3). Очень многие из императорской администрации и полицейских служб отказывались от власти и становились христианами.
Только в нашем веке на месте древнего города Гиппон Регий были произведены раскопки. Археологи подтвердили, что это был обычный римский город христианской эпохи с форумом, театрами, сетью улиц и банями, а также с храмом и епископской усадьбой. Он оказался больше и богаче, чем принято было считать. Благосостояние его обеспечивали обширные сельскохозяйственные угодья, большие леса, которые трудно представить себе на том месте, где сегодня царит пустыня, и торговля, обычная для портового города. Гиппон был один из важнейших экспортеров, снабжавших продовольствием Рим. Поэтому импе раторская администрация располагала в нем сетью учреждений и контрольных инстанций.
Там, почти против своей воли, Августин был посвящен в пресвитеры епископом Валерием Гиппонским. Валерий был стар и плохо говорил по–латыни. Пунического языка он вообще не знал, зато его знал Августин. Пунический — семитский язык, похожий на иврит. Манихеи и донатисты прекрасно чувствовали себя в Гиппоне, пока там не появился Августин. Католическая церковь не составляла им серьезной конкуренции. Положение донатистов в Гиппоне было так прочно, что их епископ Фаустин мог запретить булочникам продавать хлеб католическому меньшинству.
Став пресвитером, Августин вначале страдал. Ему было бы милее предаваться размышлениям и готовиться к совершенной жизни в своем маленьком домашнем монастыре в Тагасте. Поэтому он принял сан с тем условием, что сможет продолжать вести монастырский образ жизни. Литература об Августине спорит, принял ли он сан пресвитера при условии, что сможет организовать монастырь, или открытие монастыря было условием для получения сана. Был ли монастырь утешением за пленение Августина гиппонской общиной или он был целью его поездки в Гиппон? На этот вопрос мы уже никогда не получим ответа.
Короче говоря, Августин был пленен и, в значительной мере, вынужден принять сан. Ведь епископ Амвросий великолепно справился с такой же задачей, будучи в 374 году точно так же захвачен общиной. Сан пресвитера был совсем не тем, к чему стремился Августин, когда вернулся домой к жизни, полной молитв и ученых занятий. Должность католического епископа в Гиппоне Регии была неблагодарным занятием. В новых единоверцах Августина почти не осталось духа и святости.
Все его жизненные планы были отодвинуты в сторону. Больше всего в Августине достойно восхищения то, как он без раздумий взялся за исполнение своей новой роли. Посвящение в сан он воспринял как предопределение, идущее наперекор всему, что предпочел бы он сам. Однако он выстоял до конца. Для своей новой публики ему пришлось даже изменить язык. Он объясняет, иллюстрирует и толкует христианство простыми словами. Ни ему самому, ни его слушателям ничего бы не дало, если бы он в официальных проповедях начал говорить о метафизике зла, тайнах философии или восхождении души.
Августин с азартом вступал в споры с противником; этот прием весьма отвечал его темпераменту. Он знал, что соображает лучше своих противников и способен аргументировать свои мысли, как адвокат высшей категории. Ему нужно было мобилизовать общину. Она гордилась им, потому что он «побеждал» во всех дебатах. Для людей было не столь важно, как именно он это делал или что именно он утверждал, для них было важно чувство, что они вновь принадлежат побеждающей команде. Посещение таких дебатов стало для Августина важнейшим методом привлечения и активизации своих сторонников.
Августин обеспечил общине развлечение, похожее на посещение судебных заседаний, казней или гладиаторских боев. При этом люди неизбежно получали элементарные христианские знания. Есть основания полагать, что такое христианское обучение посредством схваток с противником было сознательной стратегией Августина. Ясно также, что эти схватки были совершенно необходимы, хотя сам Августин предпочел бы им покой и медитации. Теперь он использовал день для столкновений с религиозными соперниками, а ночи — для своих раздумий. Он сделал все, чтобы избежать aestus saeculi — «мирских волнений» (Исп. •X, 5). Но, уже окунувшись в них, он оказался мастером угадывать и использовать все возможности.
Отдельные наблюдения, почерпнуть» Августином из своего педагогического опыта, полученного в годы между вторым пребыванием в Риме (388) и службой в Гиппоне, вошли в сочинение «О музыке», законченное им в 391 ГОДУ· Оно было задумано как часть энциклопедии четырех искусств и, возможно, работа над ним началась еще в Карфагене, где Августин был учителем. Августин был склонен рассматривать все, что ему довелось пережить, как подготовку к тому, что с ним случилось после принятия крещения. Он не мог просто выбросить в корзину старые рукописи своих лекций, не истолковав их в свете истории развития своего мышления.
Новое определение четырех искусств не выглядит естественным или понятным. В трактате «О музыке» мы видим, как трудно было Августину вставлять в учебник по метрике кроткие сердечные вздохи, чтобы его специальное содержание приобрело богословскую значительность. Правда, именно здесь впервые в творчестве Августина встречается понятие грехопадения. Пусть даже оно упоминается в придаточном предложении, говорящем, что грех испортил человеческую природу и что трактат этот был вдохновлен изучением работ епископа Амвросия, которыми Августин занимался первые два года по возвращении в Тагасту. Кроме того, в Риме в 387 году Августин написал трактат «О грамматике». К тому времени, когда он в старости писал в «Пересмотрах» (426) о своих ранних работах, это сочинение было уже утрачено. Августин нигде не мог найти этого текста. За долгие годы жизнь увела его совсем в другую сторону.
Трактат «О музыке» — это учение об эстетике ритмов и числовых отношений, которое родственно его рассуждениям о числах, то есть учению о numerus, в сочинении «О Книге Бытия буквально» (подробном комментарии Августина на рассказ о сотворении мира). Отношение между музыкой как предметом чувств и как гредметом мысли стоит в центре его внимания. Однако в этой книге на удивление мало богословских рассуждений. Связь между числами, ритмами и воспоминаниями рассматривается и во многих других произведениях Августина (напр. О христ. учен. Ц, 62–64). Августин использовал материалы из этих работ и в ряде других своих сочинений, и трактат «О музыке» читался в средневековье как богословская аллегория, ибо тогда не допускали мьюли, что Августин мог написать что–то, не имеющее определенного богословского содержания.
Епископ Валерий выделил Августину необходимую землю для учреждения в Гиппоне нового «садового» монастыря. Он часто и твердо заявлял, что монашество и священство не исключают друг друга. У самого Августина было мало времени, чтобы находиться в монастыре, но ему было важно установить связь между своими юношескими амбициями и своей новой жизнью. Это крайне личное решение — монастырь — положило начало монастырскому делу в Западной церкви, и Августин был первым каноником (canonicus), то есть монахом и священником в одном лице.
Августин стал епископом Гиппона в сорок два года. Он по–прежнему твердо считал, что монастырский образ жизни важен для деятельности духовных пастырей. Поэтому он продолжал свои упражнения в смирении и после того, как стал главой местной Церкви. Итак, он учредил монастырь — это была его третья и последняя остановка на пути из Кассициака через Тагасту в Гиппон, — и этот монастырь рядом с его епископским домом стал самым значительным сообществом священников в Гиппоне. Августин призывал всех священников идти в монастыри и сам назначал епископов на большие территории, выбирая их из своего монастырского сообщества. Августин вообще не посвящал в сан священника тех, кто не имел опыта монастырской жизни. Такова была его новая концепция: не бегство от мира, но служение Церкви. С помощью монастыря в Гиппоне Августин реформировал и определил роль священника в Африканской церкви.
В монастыре Августина при епископской усадьбе подавали только вегетарианскую пищу и царил запрет на посещение женщин. Члены этого сообщества читали книги, изучали и обсуждали их. Многие гости приезжали издалека и встречались друг с другом за столом Августина. Строгое предупреждение запрещало сплетничать об отсутствующих. В 397 году умер епископ Амвросий. С этого времени только кроткий Павлин Ноланский — друг и ученик поэта Авзония — и ученый Иероним в Вифлееме остались по своему положению в Церкви равными Августину.
В Гиппоне Регии Августин обходился вегетарианской пищей, но в поездках охотно ел и мясную (О граде Бож. XXI. 4). Он с пониманием относился к тем, кто любит вино (Проп. 17, 3; 151, 4), и следил за тем, чтобы не возлагать на своих священников или верующих непосильную для них ношу. Бог не ограничил число спасенных только теми, кто выдержит до конца. Он выбирал и тех, чья жизнь не могла служить образцом нравственности, говорит Августин (О даре упор. 8, 19). Епископ знал своих слушателей, и в сердце его находилось место для обычных слабостей. Но к тем, кто крал у ближнего последнее или занимался ростовщичеством, он был безжалостен (Толков на Пс. 127, 11; Проп. 88, 25).
С апреля 391 года, после короткой передышки, которую можно назвать его Гефсиманом, Августин жил в Гиппоне. Он попросил Валерия освободить его на несколько месяцев, чтобы, перед тем как начать службу пресвитера, он смог по–новому прочитать Священное Писание. Это описано в Письме 21. Последний раз в жизни у Августина было время только для себя. Изучение Писания было для него особенно важно перед открытым разрывом с манихеями. Вообще Книгу Псалмов Августин прочитал еще в Кассициаке, но для систематического изучения Писания у него пока что не было времени. Единственная работа по толкованию писания, известная нам до той передышки, — это трактат «О Книге бытия против манихеев» (389), в котором Августин применяет к Ветхому Завету аллегорический метод, дабы убедить манихеев в том, что они неверно прочитали тексты о творении.
В это время, отвечая на вопрос своего друга юности Гонората, Августин пишет сочинение «О пользе веры» (391). Он рекомендует Гонорату принять католическую веру и пытается заронить в нем недоверие к манихеям, с которыми Гонорат был тесно связан. В типичной для него манере Августин ссылается на свое окружение и ждет, или даже требует, чтобы другие шли по его стопам (О пользе веры, 20). Это сочинение защищает ценность веры по сравнению с разумом. Ведь манихеи отрицали веру как путь к религиозному знаюно. Августин понял, что разум не всесилен, и это прямо вытекало из открытой им ущербности манихейства. Каждый раз, подчеркивая роль веры за счет роли разума, он наносит удар по своим прежним единомышленникам.
Независимо от области, в которой ищут истину, человек должен найти учителя. В духовных делах это еще важнее, чем в делах мирских, ибо на духовном пространстве истина еще более непостижима, говорит Августин. Если человек хочет понять сочинение, он обращается к знающим людям. Так насколько же необходимее найти знающего человека тому, кто хочет понять Священное Писание! Тот, кто ищет истину, должен быть особенно внимателен к самым разным толкованиям. Если какую–то религию исповедует почти все человечество, значит, с нее и надо начинать. По крайней мере, если мы ошибемся, мы ошибемся вместе со всеми, говорит Августин.
Так он защищает авторитет католической Церкви. Когда дело касается истины, большинство всегда зависимо от своего доверия меньшинству. Бог просвещает немногих, и большинство должно доверять им. Поэтому в религиозных вопросах доверие авторитетам неизбежно. Манихеи, предлагающие религию, построенную исключительно на разуме, не могут выполнить своих обещаний. Потому что даже в повседневной жизни необходимы вера и доверие. Как может быть возможна дружба, если она строится исключительно на разуме? Когда нам говорят, что эти два человека — наши родители, разве не должны мы прежде всего поверить этому? Было бы дико отказаться любить своих родителей только потому, что человек не может быть до конца уверен, что они действительно те, за кого выдают себя. Все человеческое общество погибло бы, если бы мы решили верить только тому, что можно доказать, говорит Августин.
Каким образом глупые, которых большинство, могут обнаружить немногих мудрых? Ведь глупые не узнают мудрость, даже если споткнутся об нее? Нет, утверждает Августин, только мудрые знают, что такое мудрость. Только мудрец может сам узнать мудреца. Потому Бог и учредил католическую Церковь, чтобы у людей был авторитет, к которому они могли бы обращаться. Христос — авторитет Церкви, и церковь хочет, чтобы мы считали ее высказывания истиной, даже если мы не в состоянии понять их разумом.
Для того Бог и стал человеком, чтобы материализовать свою мудрость в одном образе, который был бы способен внушить нам доверие и веру. Путь к мудрости лежит через веру. Августин никогда не воспринимал разум и веру как несоединимые величины. Вера должна вести к мудрости тех, чей разум еще не имеет знаний. Вера не является абсолютным конечным пунктом, это только подготовка к изменению наших знаний. Так Августин защищает перед Гоноратом ценность веры.
Всем своим друзьям, которые знали его еще манихеем, Августин отправил свое сочинение «О двух душах против манихеев» (392), в котором объяснил свое обращение в христианство и указал на основные ошибки в воззрениях манихеев на человека и в их понимании зла. Уже в августе 392 года Августин приглашает своих новых сторонников в бани Гиппона на официальный диспут с манихеем Фортунатом. С интеллектуальной точки зрения этот диспут едва ли был более серьезным, чем политические дебаты, которые в наши дни показывают по телевидению. Спор о двух природах человека неоднократно прерывался аплодисментами, свистом и выкриками из зала. На этот раз вокруг Августина объединились и католики, и донатисты, потому что Фортунат был серьезный конкурент и тем, и другим. С помощью своей безжалостной риторики Августин расправился с манихеем Фортунатом так, что тому пришлось с позором покинуть Гиппон.
Подобное использование богословских диспутов для развлечения масс мы знаем и в истории Восточной Церкви. В те времена поездившие по свету люди рассказывали, что не могли приобрести что–нибудь на торгах, купить хлеба или побриться без того, чтобы их не расспрашивали, как они лично понимают отношения между тремя ипостасями божества. Оскорбление религиозных противников происходило на всех уровнях и, как правило, без всякой богословской логики. Августин сам диктовал писцам оскорбительные песни о своих противниках донатистах. Любая ересь давала ему возможность по–новому показать учение Церкви. Он обрушивался на еретиков с бешенством, но в то же время и с восторгом, потому что столкновения с ними помогали ему поддерживать мораль в лагере правоверных.
Желание еретиков отделиться было лишь половиной дела. Потребность Церкви в консолидации часто была не менее важной движущей силой, стоявшей за истинными или воображаемыми попытками выйти из единства. О третьем сильном противнике Августина, не считая манихеев и донатистов, а именно, о Пелагии, можно сказать, что он был обычным проповедником, пробуждавшим умы людей и не имевшим никаких еретических амбиций. Августин сам сделал из него еретика, чтобы получить повод драматизировать то, что он понимал как истинное учение Церкви о грехе и благодати. Августин великолепно режиссировал свои официальные выступления, он ловко манипулировал вниманием слушателей, потому что профессиональное умение царить на сцене и приковывать к себе всеобщее внимание было частью его повседневной работы.
Аврелий стал епископом Карфагена в 392 году; до этого он не имел священного сана. Карьера Аврелия, а также Амвросия и Августина, говорит о том, что в епископы прежде всего выбирались люди, известные императорской администрации, и что это было не менее важно, чем благочестивый образ жизни, которого требовала Церковь. При императоре Феодосии Великом начал складываться порядок государственной церкви, к которому Августин относился весьма скептически. Когда позже в трактате «О граде Божием» он пишет о Римской империи как о чисто человеческом и земном институте, это как раз и есть критика политического государственного богословия, начавшего развиваться во времена Константина благодаря такому теоретику, как Евсевий, и продолженного уже современниками Августина Иеронимом и Орозием. Августин активно использовал императора против донатистов, но, не колеблясь, поступил бы так же, как Амвросий, когда тот пригрозил отлучением самому Феодосию за резню, учиненную им в Фессалониках.
Служебные обязанности больше не позволяли Августину заниматься теоретическими проблемами целыми днями. Он укоряет тех, кто использует дни поминовения великомучеников и поминки по покойникам для того, чтобы напиваться е стельку, обжираться, танцевать и развратничать. Так называемые трапезы любви, устраиваемые на могилах, часто свидетельствовали о крайнем распутстве и были чисто африканской особенностью. Многие, став христианами, сохранили обычаи языческих праздников, и именно дни поминовения великомучеников Церкви больше всего походили на старые праздники жертвоприношений. Теперь Августин требует, чтобы верующие «разбили идолов в своей душе» (Топ* ков. на Пс. О), 14). Остается только пожалеть интеллектуальных мистиков, которым вдруг пришлось стать полицейскими констеблями для толпы неуправляемых буянов.
В молодом Августине не было места для милосердной божественной заботы, которая могла выбрать предметом своей любви даже недостойный предмет. Бог его молодости был столь же поглощен собой и самодостаточен, как Аристотелевский неподвижный двигатель или как сам углубленный в себя философ. Ранний Августин не знал такого понятия, как любовь к ближнему, которому требовалось оказать помощь. Те, кто нуждаются в нашей любви, не смеют ее требовать. А тот, кто имеет на нее все права, а именно Бог, в ней не нуждается, говорил он.
Любовь к ближнему не была для Августина чем–то само собой разумеющимся. Это объясняется, во–первых, сознанием, что всякая любовь — это страсть. Во–вторых, христианство Августина было интеллектуалистским в том смысле, что Августина гораздо больше занимало правильное познание, чем правильное действие. В–третьих, его Бог был на удивление самодоволен и пассивен. Именно постулат о вечной неизменности Бога лишает верующего образца милосердия. Инкарнация — это одна из редких конкретных точек опоры для понимания поступков Бога.
Августин мог найти место для любви к ближнему в своей системе, только толкуя ее как форму божественной любви (О христ. учен. 1,40–42). Он никогда не понимал радикальности мотивов «агапе», то есть он не мог понять, что любовь может быть направлена на крайне недостойные предметы и все–таки оставаться любовью. Из–за этого у него возникали трудности, когда ему требовалось объяснить, почему Бог любит людей. Последнюю проблему он разрешил, толкуя любовь Бога к людям как проявление Его эгоизма. По этим двум вопросам современное протестанское христианство скорее склоняется к Павлину Ноланскому, чем к Августину. Не столько потому, что мы думаем по–другому, сколько потому, что не так просто понять мысль Августина.
Трудно понять не его формулировки, трудно эмоционально согласиться с тем, что его проповеди имеют отношение к правильно понятому христианству. В двух самых важных вопросах христианской веры Августин настолько остается в плену платоновских предпосылок, что вместо полезного ответа дает смущенные отговорки. Бог и Христос любят нас не такими, каковы мы есть, а любят нашу потенциальную доброту и совершенство. Именно поэтому они сочли, что попытка спасти человека стоит труда!
В 390–х годах Августин обнаружил, что его ранняя философия дает далеко не полное толкование сущности христианства. Только теперь он увидел разницу между требованиями христианства и платонизма. Молодой Августин не прошел пути от темного образа пещеры к дневному свету, чтобы потом опять спуститься вниз и помогать другим. Ведь именно так, в «сходстве с пещерой» (диалог «Государство») Платон связал воедино созерцательность и политическую активность. Молодой Августин был куда больше поглощен собой, чем Сократ. Он хотел подняться к свету дня, чтобы насладиться целью своих желаний. В зрелости, будучи епископом, он понимает, что христианство требует от верующего совсем иных свойств, нежели способности принимать блаженные видения. Вначале он думал, что для простых душ христианство — только образный и назидательный платонизм. И лишь став епископом, обнаружил, что христианство — это нечто совсем иное.
В молодости Августин недостаточно серьезно воспринимал слова Священного Писания потому, что уже был в доверительных отношениях с тем, что полагал зерном написанного, — ведь глубочайший смысл Писания он уже постиг из философии платонизма. Даже Амвросий стал епископом без глубокого знания христианских догм. То же произошло и с Августином. Понимание радикальных требований веры пришло вместе с чувством ответственности за своих единоверцев. Только тогда Августин обнаружил грех, благодать, милосердие и Христа как распятого и воскресшего Спасителя.
В 391 году Августин стал пресвитером в Гиппоне Регии и только тогда начал более серьезно изучать Священное Писание. В 393 году он написал свои вторые толкования на рассказ о сотворении мира — «О Книге Бытия буквально. Незаконченная книга». За четыре года до этого он уже комментировал этот текст в полемике с манихеями, стремясь сокрушить их учение о сотворении мира — «О Книгие Бытия против манихеев». В этом сочинении впервые говорится, что Бог создал мир просто потому, что хотел этого. Воля Божия не имеет причин. Кроме Его воли, нет ничего.
Августин отвечает на презрительный вопрос манихеев, которых интересовало, не сидел ли Бог в темноте, пока не создал свет, и почему он создал так много животных и насекомых, от которых людям нет никакой пользы. Августин признается, что в сотворении мира понимает далеко не все. Он тоже не понимает, почему мир получился гораздо больше, чем нужно. Ведь он больше, чем необходимо для потребностей человека. Это может означать только то, что служение людям не может быть единственной целью созданных вещей. Принимая во внимание симметрию и гармонию, мировой порядок может вместить еще многое. Августин признается, что не имеет достаточно знаний по этому вопросу.
И вот теперь наконец–то Августин читает Священное Писание, чтобы узнать что–то новое. Он пишет разъяснения на Нагорную проповедь (393–396), на Послание к Римлянам (395) и на Послание к Галатам (394). В 390 году он начинает писать свои большие «Толкования на Книгу Псалмов», которые заканчивает только в 420 году. Община требовала простых и прямых разъяснений элементарного христианства. Новая роль Августина препятствовала его аффектированному неоплатоническому бегству от мира. Сочинение «О пользе веры» (392) было написано Августином, когда он находился на распутье. В нем Августин признает, что учение Церкви и христианство людей непросвященных самодостаточны — им не требуется подготовки в виде посвящения в тайны неоплатонизма. Постепенно Августин понимает красоту нефилософской веры Моники. Кроме того, он начинает думать о Церкви, а не только о монастыре, — как о «святом сообществе».
Раньше Августин был склонен понимать Церковь как внешний инструмент в отношении к божественному опыту отдельного человека. Теперь же идея Церкви становится частью его учения о вере. Он проявляет большую сдержанность в своих аллегорических библейских толкованиях, и умопостигаемый мир поминается им все реже. В ранних сочинениях Августина история не играла никакой роли. Она представлялась ему хаосом, которому лишь присутствие умопостигаемого придавало смысл. Весь смысл скрывался в вечных предметах мысли вне пределов истории. Так он думал вначале. Но в 390 году Августин, вопреки всему, начинает искать некий умысел в смене исторических периодов.
Он начинает думать об истории как о месте божественного вмешательства. Начинает понимать то, что написано в библейских текстах, и то, что фактически случилось в ходе истории. Учится читать историю и как рассказ о руководстве Провидения, и как ряд предупреждений о том, что должно случиться. История — это не только res gesta или «то, что случилось», но и res gesture, то есть «то, что должно случиться». Христианские исторические летописи должны для верности всегда начинаться с сотворения мира, который придет к своему концу только в Судный День.
Августин переводит взгляд с нематериального на материальное и находит немало следов Бога в этом мире. Как епископ он был сразу же вовлечен в столкновения, которые нельзя было разрешить, восхваляя другую действительность. Особенно борьба с донатистами заставила Августина разработать понятие Церкви, учение о святых таинствах и учение о литургии — едва ли он обо всем этом думал до того, как борьба с конкурентами заставила его занять определенную позицию.
Он встал на защиту святой всенародной Церкви, объективной непреложности святых таинств и независимости литургии от личных заслуг служителя церкви. Августин об* наружил пользу, какую можно получить от государства, дабы наладить в Церкви дисциплину и победить еретиков. Имея за спиной администрацию императора, Августин не чуждался применения церковного наказания по отношению к непокорным. Его личная убежденность носила черты его манихейского и неоплатонического прошлого, но эти черты слились и исчезли за церковным горизонтом, ибо Августин думал уже не только за себя, но и за всю общину и за всех верующих.
После апостола Павла Августин один из первых сделал учение о Церкви главным моментом в христианской вере. Борьба с донатистами особенно подтолкнула его в этом направлении. Как и борьба с пелагианами. Ведь те и другие считали, что Церковь должна быть сообществом чистых и безгрешных верующих и что грешники должны сразу же исключаться из церковного сообщества. Тем и другим Августин противопоставил понятие Церкви, в котором подчеркивает ее объективность. Оно было нужно ради грешников, и его правила могли исполняться грешниками. Церковь — мать души и не так легко отталкивает от себя своих непослушных детей.
Церковь — это семья, это народ, собравшийся для вечной жизни. Она несет весть и дает силу для прощения и воскресения. Церковь — духовная мать. Христова невеста. Ноев ковчег (О граде Бож. XV, 26). Она — Иерусалим, Мария и Царство Божие. В мышлении зрелого Августина учение о Церкви удивительно четко обосновывает ее справедливость. Быть членом Церкви — это в высшей степени то же самое, что быть вписанным в рассказ о самой Церкви! «Тот, кто хочет иметь отцом Господа, должен иметь матерью Церковь», — сказал Киприан, и Августин много раз повторял эту формулу (Письма, 34,3; Проп. 126, 8).Пусть донатисты сколько угодно играют в церковь, говорит Августин, но спасение и Дух Святой принадлежат нам (Обращ. к прихож. в Кесарии, 6; Письма, 185,11).
Августину ясно, что на деле Церковь не всегда отвечает идеальным требованиям, какие можно предъявить к сообществу верующих. Грешники тоже принадлежат Церкви. Она — и видимый институт, который собирает вокруг себя всех крещеных, и вечное эсхатологическое сообщество, которое явится очищенным только после Суда (Проп. 223, 2; 47, 5). Пока же Церковь представляет собой «смешанное тело» (О христ. учен. Ill, 32) — corpus permixtum.
Христос сам учредил Церковь. За ее спиной стоит сила Господа и Жениха (О крещ. IV, 1). Христос учредил также и священство и отличил его от людей непросвещенных (Письма, 60,1). На апостолов и их последователей была возложена задача управлять Церковью (Рассужд. на Еванг. от Иоан. 41,10). Служба священников есть таинство, которое дает возможность для отправления службы (Проп. 137, 8), то есть для совершения жертвы. Апостол Петр и епископ Рима персонифицируют Церковь (Рассужд. на Еванг. от Иоан. 124, 5; Пр. послан, маних. 4, 5; Письма, 53,1). Поэтому свою общину в Гиппоне Августин называл «семьей Христовой» (Письма, 177).
Принуждение со стороны Церкви обрело для него новый смысл. Подводя итог, один из комментаторов говорит: Августин хотел бы избежать смертных приговоров, но не имел ничего против принудительных работ (ср. Письма, 93,185). Если Церковь преследует своих противников, она делает это из любви, утверждает Августин (Письма, 185, 11). Слова апостола Луки: «Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди придти (сотреПв intrare), чтобы наполнился дом мой» (14,23), —то место в Библии, которое можно использовать, дабы защитить принуждение со стороны Церкви. Кого найдете, заставьте их прийти на праздник! Августин часто повторяет подобные слова (Письма, 93,5; 173,120; 185,24). Первой задачей государства было уничтожить язычество и подавить еретические бунты. Больше всего нас удивляет, как быстро Августин меняет роли и само понимание себя как личности: если в Кассициаке он играл роль слабого, хрупкого человека, погруженного в рефлексию, то десять лет спустя он уже играет роль человека, известного как защитника силы и авторитета Церкви в Северной Африке.
Августина любят называть защитником христианской умеренности. Все годы, что он был епископом, он не любил принимать экстремальные решения. Он, которому не довелось в юности вести достаточно бурный образ жизни, теперь в Гиппоне Регии, будучи зрелым епископом, любит своих обычных, мелких, простодушных грешников. Теперь для других он составляет список с более мягкими требованиями, чем составлял в молодости для себя. Он проповедует христианство, которое целиком и полностью зависит от благодати, и заслуга отдельного человека мало что ему прибавляет. Сразу видно, что это совсем другая форма христианства, чем та, к которой он обратился в Милане.
Более амбициозная христианская вера продолжала жить в монастырях. Но монастырские правила Августина не носят следов агрессивной аскезы; скорее их можно назвать трезво–умеренными. Ложка епископа была единственным серебряным предметом в этом монастыре, пишет его биограф Поссидий. Но питались там хорошо, и на столе епископа всегда стояло вино. Единственное, что запрещалось строго–настрого, это плохо говорить об отсутствующих Одежда никак не оговаривалась. Монахи могли свободно совершать прогулки, но Августин рекомендовал им всегда ходить по двое. Монастырские правила читались вслух один раз в неделю.
При жизни Августина монастыри подобного типа распространились по всей Северной Африке. Многие приходили в монастыри, потому что устали от жизни, были расстроены или испытывали отвращение к внешнему миру. Но Августин всегда строго подчеркивал, что в монастырской жизни нет ничего отрицательного — ее смысл не во внешних запретах — напротив, монастырская жизнь должна быть чем–то положительным, должна давать определенный опыт. Монастырь — это место для упражнений в любви к Богу и к своему ближнему. Там, где есть любовь, нельзя совершить ошибку, а там, где любви недостает, невозможно поступать правильно, неоднократно на разные лады повторяет Августин. В конце концов человек становится похож на то, что он любит, а не на то, что он думает.
Монастырь необходим, потому что Божии заповеди не могут соблюдаться в большом обществе. В монастыре, по мнению Августина, скорее, чем в миру, можно было жить, как одно сердце и одна душа. Там можно было иметь общее имущество и разделять блага по потребностям. Коммунистический идеал «От каждого по способностям, каждому по потребностям» на самом деле является парафразой монастырских правил Августина. Он хотел обновить начальное христианство и потребовал, чтобы его священники и монахи жили по–апостольски. Однако со временем он разочаровался в святости монастыря так же, как и в благочестии своей общины.
Не все из тех, кого Августин воспитал в своем монастыре, вели себя в дальнейшем так, как ему хотелось бы. Антоний из Фусалы с детства жил в монастыре, и едва ли ему было двадцать, когда Августин поставил его епископом (415–423). В его епархию входил город Фусала, где все жители прежде были донатистами, но, имея за спиной императора, Антоний укрепил свою власть и извлек личную выгоду из официальных мероприятий против донатистов. Антоний оказался глупцом, страдающим манией величия и чуждым угрызений совести (clericus tyrannus); при нем Фусала стала настоящим разбойничьим гнездом. Это тяжело подействовало на Августина, он счел себя соучастником сомнительного успеха Антония и позаботился, чтобы сместить его (Письма, 209). Августину приходилось тратить много времени на дисциплинарные дела, подобные этому. Как епископ он был ответственен не только за общину, но и за тех более или менее удавшихся священнослужителей, которых он взрастил в своем монастыре.
Первоначальное христианство — это мировоззрение, которое стало идеалом гораздо раньше, чем воплотилось в протестантизм в начале Нового времени. Оно было идеалом уже в конце IV века, когда римский император сделал христианство своей личной и государственной религией. Для Августина, как и для многих других, успех христианства был делом долга. Он не полагался на императорскую защиту Церкви. Августин был ребенком, когда император Юлиан отпал от Церкви, и Августин понимал, что нечто подобное может повториться в любое время. Императрица–мать Юстина была арианкой и сбивала с правильного пути своего сына, императора Валентиниана И, так что епископу Амвросию пришлось серьезно вразумить их обоих.
Для Августина философия перестала быть размышлениями над космосом. Самой большой загадкой для него теперь стал человек. Начиная с Августина, христианин стал великой загадкой для самого себя (Исп. IV, 4: factus вгат ipse mihi magna quaestio). Однако это не только интеллектуальная проблема. Это проблема практическая, потому что решить ее можно, лишь принимая решения и действуя. Реализованная христианская жизнь кладет конец всем спорам. Августин был ищущей душой, именно это и сделало его основателем монастырей. Ибо в этой форме жизни он нашел наконец покой, сменивший его интеллектуальную неудовлетворенность, и силы для своей церковной и литературной деятельности.
Монастыри Августина в Северной Африке продержались недолго. Они были закрыты уже в год его смерти. И ариане–вандалы изгнали ортодоксальных священников, Через два столетия исламская экспансия стерла в Северной Африке все следы христианства. Тем не менее, воздействие Августина благодаря его сочинениям было исключительно велико. И еретики, и приверженцы Церкви находили в них поддержку для своих мыслей. Но сутью его христианства были не отвлеченные умозрения, а практика, для которой он черпал вдохновение в монашеской жизни и епископском служении.
Глава 13. Doctor gratiae: учение о благодати и свободной воле
Вскоре после возвращения в Африку Августина стали тревожить его невостребованные способности. Он постепенно понял, что Церковь нуждается в нем и что он изменял ей со своими чисто умозрительными идеалами. Члены Церкви в Гиппоне Регии пребывали в теснимом меньшинстве. Патриотически настроенные донатисты (которые, питаясь антиримскими настроениями, господствовали в городе) и манихеи способствовали расколу общины. Августин был вынужден действовать, взяв на себя ответственность. Община Гиппона видела в нем своего спасителя и вынуждала его читать проповеди. Церковь епископа Валерия сделала Августина своим пленником. Позднее Валерию пришлось прятать Августина в своей усадьбе, потому что соседние города искали его, чтобы тоже сделать своим епископом.
Борясь с донатистами, Августин сочинил оскорбитель* нью стихи (393), в которых впервые в римском стихосложении вместо количества слогов использовал чередование ударений. Это самый ранний пример из известных нам стихов такого рода, которые потом стали единовластно господствовать в средневековой христианской поэзии. Августин понимал, что не может рассчитывать на то, что его сторонники знают стихи Вергилия и Горация. Поэтому он сочинил песнь из трехсот стихотворных строк, в такт которой слушатели могли бы хлопать в ладони. Возможно, образцом ему послужили гимны и песнопения, которые епископ Амвросий использовал в Милане во время борьбы с матерью малолетнего императора, соблазненной арианами (Исп. IX, 7). Однако Августин подозрительно относился к ежедневным церковным песнопениям, не зная, считать ли их благочестием, возвышающим душу, или плотским удовольствием (Исп. X, 33).
3 декабря 393 года все африканские епископы встретились на соборе в Гиппоне Регии, и Августин объяснил им содержание христианского вероучения. Специальный монах растолковал африканским епископам credo — Символ Веры. Августин представил веру как систему высших и второстепенных постулатов. Со временем его монастырь стал семинарией, которая поставляла епископов для всей Северной Африки. Многие монахи вышли из имперской бюрократии и прошли тот же путь, что и сам Августин. Именно такие люди были важны для Церкви как организации. Августиново servi Dei — «слуги Божии» — изменило всю основу африканской Церкви. Все эти события происходили без особых контактов с епископами Рима и Милана, но при сильной поддержке епископа Карфагена.
Августиново толкование credo перед епископами на соборе в Гиппоне в 393 году было включено в трактат «О вере и символе». Валерию явно посчастливилось, когда он удержал при себе Августина и заставил его принять рукоположение. Это неожиданное посвящение и выступление Августина на соборе в Гиппоне в 393 году — хотя у него еще не было своего епископата — могут означать лишь то, что иерархия в церковных институтах еще не укрепилась. Епископы продолжали быть пастырями своих общин, и только их служба государственной религии потребовала, чтобы они начали соблюдать некоторые формальности. Однако ни церковная иерархия, ни институт папства или учение о святых таинствах не были настолько формальными, какими они стали потом. Поэтому когда в искусстве Ренессанса Августина изображают в роскошных епископских одеждах, подобных тем, какие были обычны в расцвете средневековья, с исторической точки зрения это явное заблуждение.
Церковь как институт еще не нашла своей формы, но усилия Августина и его стремление навести в ней порядок немало этому способствовали. История этой деятельности столь необъятна, что нам трудно увидеть в ней его личный вклад. Весьма парадоксально, что именно те исследователи, которые приветствуют введенные при Августине новшества, заинтересованы в том, чтобы не выделять его личного вклада, дабы структура и рутина Церкви выглядели как можно старше и почтеннее. Но, как бы то ни было, всюду, где действовал Августин, он прокладывал новые пути. А потому изучение его жизни и творчества должно быть изучением решающих факторов в истории становления Церкви. Многие несомненные истины средневековья появились впервые в виде вызванных обстоятельствами ответов именно на письменном столе Августина.
Друзья Августина по монастырю хранили во многих отношениях традиционный образ мудреца, который хотел стать богоподобным и святым: theios апег. Шаблон святого мог заимствовать некоторые черты из дохристианских образов. Победа над хаотическими желаниями плоти была образцом еще для юного Августина, когда он в Карфагене присоединился к манихеям. Но такие жизненные планы мало подходили ему. Во–первых, следовать этому образцу было трудно. Во–вторых, едва ли такая попытка стоила усилий. Позже Августин защищал свободную волю от детерминизма манихеев так убедительно, что Пелагий впоследствии воспользовался его аргументами. Однако аскетизм научил Августина, что одной доброй воли еще недостаточно.
Нам всем, не только грешникам, присущ некий таинственный изъян, заставляющий нас повторять и помнить свои слабости, считает епископ. Эта привычка ограничивает настоящую свободу воли (Исп. Ill, 7). Истина поднимает, привычка отягощает (Исп. VIII, 9). Consuetudo саrnalis — «привычка тела» — играет, по мнению Августина, ту же деструктивную роль, что «распущенность» (akrasia) у Аристотеля. В «Исповеди» Августин рассказывает, как он был вынужден постепенно расстаться с мечтой о святости и совершенстве. Он говорит о тяжести привычки и о том, как похоть укрепляется благодаря повторению (Исп. VIII, 5).
Он быстро приблизился к пониманию неизбежности греха, о которой говорил апостол Павел. В 394 году Августин в Карфагене читал лекции об апостоле Павле, и в то же время Пелагий в Риме представлял своим слушателям совсем другого Павла. Однако Августин узнал толкования Пелагия на Послание к Римлянам только в 412 году.
Говоря о жизни христианина в конце IV века, Августин прибегает к новой метафоре, он меняет ascensus на iter. Смысл и содержание жизни —уже не «восхождение», но «странствие» (О граде Бож. XIX, 26). Peregrinus — «пилигрим» Августина — ни в коем случае не должен пониматься романтически, как в фантазиях рыцарской поэзии. Августин просто не понял бы романтического толкования того, что путь или странствие могут сами по себе быть целью. Счастье не в том, чтобы чего–то желать, а в том, чтобы обладать тем, что желаешь. Августин всегда стремился приехать в определенное место и благополучно вернуться домой; сами по себе поездки он ненавидел (Письма, 124). Для него быть пилигримом прежде всего означало бьггь не дома (Толков, на Пс. 61, 6; 85,11; 137, 9; 148, 4). Истина, обретенная даже в долгой поездке, может служить утешением, но, в принципе, все исполнения и все счастье он откладывает до другой жизни.
В середине 390–х годов Августин впервые выступает со своим учением о предопределении. Оно всегда формулировалось как диалектическая истина, в которой есть место и благодати, и свободной воле. Какой смысл в том, что Провидение Божие знает будущее, если у человека нет многих возможностей? Некоторые считают, что свободная воля ограничена тем, что Бог знает, что должно случиться. Но здесь уместнее противоположное утверждение: без свободной воли человека будущее было бы уже известным и неизменным, говорит Августин.
Его учение о предопределении не изолированно. Идея предопределения — часть, аспект учения о благодати и свободной воли. Но Августин впервые дает предопределению психологическое объяснение: только стремление к приятному может руководить волей. Но мы не сами решаем, чем следует наслаждаться. Августин находит для себя усладу в Боге. И эта истина не зависит от человеческого желания. Поэтому любовь к Богу уже есть благодать, на которую никто не смеет покушаться. Стремление к совершенству должно уступить этой незаслуженной благодати. Августин понимает, что он никогда в этой жизни не будет совершенным и что не стремление к совершенству является путем к спасению. Единственное, что может сделать сам человек, это страстно желать. Desiderium sinus cordis: «Страстное желание — это гавань сердца».
В 390–е годы формируется учейие Августина о благодати. В его ранних философских раздумьях родство души с Богом делало благодать лишней. В «Монологах» человеческая душа и Бог как будто созданы друг для друга. Августин еще не обнаружил основного недостатка воли. Правда, он писал раньше о «просвещении» души мудростью Божией, как о необходимой предпосылке для истинного познания. Но только в 90–е годы IV века благодаря новому прочтению апостола Павла Августин понял радикальность христианской проповеди греха и благодати.
Трактат «О различных вопросах к Симплициану» (396) показывает, что время учения для Августина уже позади. И эта книга, и другие с de cBversis quaestionibus (о различных вопросах) в названиях были отредактированным собранием ответов, которые Августин давал на разные обращения к нему в первые годы после его возвращения в Африку. К епископу явно относились как к некоему «ящику для вопросов» и потому, что он был известен, и потому, что повидал мир. Августин издает эти ответы, чтобы избежать необходимости отвечать по нескольку раз на один и тот же вопрос.
Для нас поучительны и вопросы, и ответы, ибо они рассказывают нам о том, что занимало умы обычных членов общины в Тагасте и Гиппоне Регии в конце IV века. В первом сочинении такого рода Августин рекомендует верующим пользоваться словом caritas вместо amor, говоря о такой христианской добродетели, как «любовь», дабы избежать более мирских значений этого слова, таких как страсти и желания. Сам же он не всегда строго придерживается своих рекомендаций. Другие вопросы касаются всего, начиная от отдельных мест в библейском тексте и кончая вопросами о смысле жизни.
Стоит ли душа на собственных ногах или она з;,ьисит от поддержки тела? Может ли неразумное сущес· ьо быть счастливо? Происходит ли тело от Бога? ПочемУ Христа родила женщина? Почему вообще Богу захотелось сотворить землю? Есть ли в космосе верх и низ? Все Л и создано для того, чтобы служить людям? Как мог Христос одновременно находиться во чреве матери и на небесах? Почему Христос не пришел сразу после грехопадения Адама? Грешно ли испытывать страх? Будем ли мы после воскресения настолько прозрачны, что сможем читать мысли друг друга?
Ответы на такие вопросы требовали от прежнего высокомерного ритора терпения и начитанности. В том же сочинении Августин вкладывает в голову Бога идеалы Платона и идентифицирует «идеи» философа с животворящей мыслью Бога (О 83 разл. вопр. 46). Вообще многие из этих восьмидесяти трех вопросов вызваны трудностями библейских текстов. Не малая доля ответов разъясняет определенные места в плохих или малопонятных переводах, существовавших до того, как перевод Иеронима — Вульгата — утвердился как норма.
Августин пишет письмо Симплициану, который в свое время познакомил его с римским окружением Мария Викторина (Исп. VIII, 5), а после Амвросия стал епископом Милана. В этом длинном письме «О различных вопросах к Симплициану» Августин отрекается от своего неоплатонического прошлого. Благодать Божия спонтанна и непредсказуема. Бог сам выбирает, кого он хочет спасти, и сам верующий мало что может сделать в этом случае. В нас нет ничего богоподобного, что можно было бы развить упражнениями и образованием, говорит теперь Августин. В конце столетия Августин иллюстрирует учение о первородном грехе и незаслуженной благодати рассказами из своей жизни в «Исповеди» (ср. О даре упор. 20, 53). Здесь он тоже рисует картину детского властолюбия, жадности и зависти, дабы показать, что люди бывают алыми с самого начала. Недостойность людей и могущество Бога так далеки друг от друга, как только можно это себе представить.
В трактате «О христианском учении» (396), написанном в то же самое время, Августин по–новому определяет роль античного образования. Так называемые свободные науки полезны только тем, что могут помочь нам при чтении библейских текстов (О христ. учен. II, 45). Риторика в известной мере способна помочь проповеди христианства, но Церковь может прекрасно обойтись и без этого, считает Августин. Задачи, которые он возлагает на античное образование в этом трактате, станут основополагающими для научных институтов средневековья и структур больших христианских энциклопедий: все другие знания и все другие умения и навыки должод стоять на службе богословия.
Науки должны вести мысль от телесного к бестелесному (О муз. VI, 1; Переем. 1,11). Христианам следует брать из языческой учености то, что они могут использовать, подобно тому как израильтяне после рабства в Египте взяли с собой все, что могли унести. Для Августина не существовало пустой и высокомерной науки. Ей он предпочитал наивные вопросы, в которых обращено внимание на существенное (Исп. VII, 20; Рассужд. на Поел. Иоан. 2,13). Vana curiositas — «пустое любопытство» — (Исп. X, 35) станет впоследствии проходной темой средневековой философии. Это понятие не осуждает любознательность и науки, как это может показаться. Однако христианское мышление требует, чтобы эта любознательность имела перед собой цель.
Даже тот, кто принял крещение, почувствует ограничение своей свободы. Падение и спасение лежат вне досягаемости воли, считает Августин. Человек должен выздороветь, но он не может вылечить себя сам. В этом мире нет никакой beata vita — никакого «блаженства». Discordia — «недостаток гармонии» — между духом и телом не может быть устранен. Августин остался верен апостолу Павлу, на которого опирались манихеи. Свобода достигается только благодаря радикальной зависимости от воли Творца, говорит Августин. Некоторые избраны для спасения. Небесное решение остается неизменным, но верующий не должен отчаиваться. Чудеса случаются — это знаки и обещание спасения верующих. Они случаются постоянно как подтверждение всесилия Бога (О граде Бож. XXI, 7).
«Дай, что повелишь, и повели, что хочешь»: Da quod jubes, et jube quod vis\ (Исп. X, 29, 31, 37). Это означает, что если твои заслуги — дары Божии, Бог вознаградит тебя не за твои заслуги как таковые, но как за дары (О благод. и своб. реш. 6,15). «Чем ты владеешь, чего бы ты не получил в дар от Бога?» — повторяет Августин риторический вопрос Павла (О Духе и букве, 34, 60). Провидение, которому известно будущее, определяет его так же, как воспоминание определяет прошлое (О граде Бож. V, 9; О своб. реш. Ill, 3; Рассужд. на Еванг. от Иоан. 53,4). А потому Провидение Божие не ограничивает свободную вопю человека. Труднее объяснить, каким образом действует благодать, не отнимая у воли ее свободу. И в самом деле невозможно понять, как свобода могла удержаться после падения Адама вопреки развращенности, сопутствующей первородному греху.
Августин подчеркивает принципиальную свободу воли, в то же время перечисляя все, что воздействует на нее и ограничивает ее. Многие из более поздних читателей Августина сомневались, остается ли вообще какая–либо свобода после всего того, что с ней происходит в феноменологии Августина. Начиная с трактата «К Симплициану», учение Августина о благодати и свободе воли получает свою окончательную форму (396). Когда Августин оглядывается потом на свое творчество, у него тоже появляется чувство, что благодать взяла верх над учением о свободе воли (Переем. 1,23). Борьба с Пелагием заставила его настолько отмежеваться от оптимизма, что он вынужден был частично отказаться и от своего учения о о свободе воли. Августин говорит в одном сочинении, направленном против Пелагия: человеческая природа нуждается не в наказании, но в лечении (О прир. и Благод. 11,12). Без благодати человек будет неизлечимо больным.
Душа есть жизнь тела, тогда как Бог есть жизнь души. «Ты жизнь душ, жизнь жизни, сама себя животворящая и неизменная, жизнь души моей» (Исп. Ill, 6). Человек несет в себе образ Божий (Быт. 1,27; Исп. Ill, 7), потому что в нем тоже присутствует известная троичность. Иногда кажется, будто главную роль в этом делении на три Августин отдает последнему звену, так что оно становится итогом или суммой двух первых Платон тоже знал троичность Функций разума. Но у Августина с объектами любви соотносится не абстрактный разум, а воля.
Воля может направляться и на добро, и на зло (О своб. рбш. II, 19). Злая воля в качестве причины зла для Августина важнее недостающего знания (О граде Бож. XI, 17). Подобный реализм он почерпнул еще в девятнадцать лет, читая «Гортензия» Цицерона. Августин цитирует Цицерона: «Вот все, — не философы, впрочем, а люди, готовые поспорить, — говорят, что блаженные суть те, которые живут так, как им хочется; но это неверно, поскольку хотеть того, что неприлично, само по себе — величайшее несчастье. Не получить желаемого не столько бедственно, сколько желать получить недолжное, ибо порочность воли делает каждому более зла, нежели фортуна — добра» (О блаж. жизни, 10). Но хватит о Цицероне. Воля не может руководствоваться ничем, потому что тогда она перестанет быть свободной. Злая воля — сама себе причина. Поэтому в ходе истории с ней неизбежно должно было что–то случиться. Ведь человек был создан по образу и подобию Божию и со свободной волей. Только история о падении Адама может объяснить такой парадокс. Августиново понятие Бога берет начало скорее в воле Божией, чем в Его интеллекте. Первое откровение Бога в Ветхом Завете — это десять заповедей, которые прежде всего требуют сильного проявления воли.
Августина очень интересуют проявления воли, потому что они принадлежат внутреннему человеку. Самое глубокое проникновение в душу человека — это понимание той мистической свободы, что стоит за нашими решениями. Но хотеть — не то же самое, что мочь (Исп. VIII, 8). Это становится ясно после того, как Августин подошел к понятию первородного греха. Кроме того, воля может разделиться и в борьбе с самой собой (Исп. VIII, 5; ср. Рим. 7,15–19). Признак грешной воли Августин видит в том, что она всегда амбивалентна и раздвоена, как своего рода «болезнь» (aegritudo) души (Исп. VIII, 9). «Воля есть ничем не сдерживаемое стремление души что–то не потерять или что–то обрести» (О двух душах, 10,14).
Только в борьбе с Пелагием Августин был вынужден ограничить свою веру в свободу воли. Но к тому времени чтение апостола Павла в 390–е годы и учение о благодати уже стали существенной частью веры в свободу решения. Августин открыл также, что в душе может быть больше двух направлений воли, и все они могут быть не добрыми Даже добрые направления воли могут находиться в несогласии друг с другом (Исп. VIII, 10). Разлад в душе — это во всех случаях наказание и следствие первородного греха.
Августин не волюнтарист, как Оккам и другие мыслители позднего средневековья. У Августина доброе и разумное происходит не потому, что так хочет Бог, но Бог хочет то, что он хочет, именно потому, что это есть доброе и разумное. У Августина Бог никогда не выступает в роли некоего деспотичного властителя. Воля Божия направляется только Его любовью и мудростью. Добрая воля направляет и духовность людей (О Троице, XI, 2). Она ни в коем случав не может быть непостоянна ни у Бога, ни у людей. В отличив от Платона Августин считал, что воля и знание более самостоятельны относительно друг от друга. Августин относит мораль к направлению воли. Платон относит мораль к знанию добра. У Августина на пути добра стоит не незнание, но неправильно понятая любовь. Зло в мире объясняется не тем, что человек не получил того, чего хотел, но волей, движимой неправедными желаниями. Добро победит, только если душа откроет себе свою собственную глубину, считает Августин.
Глава 14. Покаяние в грехах и Символ Веры: Confessiones — Исповедь
Христиане с поучительной целью рассказывали друг другу, чем они отличаются от других людей, чем выделились из общей массы и оказались избранными Богом. В IV веке христианство отнюдь не было удобной религией большинства, хотя император Феодосий сделал его государственной религией еще в самом начале епископства Августина. Христиане «свидетельствовали о своей жизни» — enuntiare vitam suam. Таков был долг каждого христианина. «Исповедь» поднимает эти свидетельства перед единоверцами на высоту литературного жанра Августин начал писать свою книгу после 4 апреля 397 года, потому что в ней говорится, что епископ Амвросий уже умер. Кроме того, она опирается на учение о благодати, сформулированное в трактате «К Симплициану» (396).
«Confessiones» («Исповедь») — это рассказ о том, как новая жизнь вторглась в жизнь неправедную. Августин делится своим опытом, чтобы позволить другим принять участие в его новой жизни. До правления императора Константина главные враги христианства в лице карающей власти находились вне пределов христианской общины.
Теперь же враг переместился в каждого отдельного человека, в котором проявлялся в виде измены и злой воли. Таким образом социальные конфликты стали конфликтами психологическими. После того как внешний враг наконец сдался, ожесточилась охота на внутреннего врага. Сомнения, грехи и искушения были демонизированы. Августин не очень верил, что люди способны правильно понимать друг друга, и потому придал своей «Исповеди» форму обращения к Богу. Он — единственный, Кто может понять то, о чем говорит Августин. Кроме того, на тон «Исповеди» и на большинство ее мотивов сильное влияние оказала Книга Псалмов. Ведь Псалмы в Ветхом Завете, как правило, обращены непосредственно к Богу.
В целом эта книга не принадлежит ни к одному жанру, известному в античной литературе. У греков и римлян автобиография еще не получила законченной литературной формы. «Исповедь» — нечто совершенно особенное. Не похожа она и на более поздние автобиографии, потому что они никогда не предусматривали столь непосредственной близости между замыслом Божиим и жизненным путем отдельного человека. Будучи еще совсем молодым, Августин получил приз за драму, но эстетические проблемы он поднимал также и в трактате «О музыке», и в утраченном сочинении «О прекрасном и соответствующем» (Исп. IV, 15). Это сочинение было написано еще до того, как Августин принял учение Платона о том, что красота бестелесна (Исп. IV, 15). Однако Августин был не только теоретиком искусства. Он — настоящий художник слова. Множество вариаций стиля и тона придают его автобиографии особую жизненность. На протяжении всего нескольких абзацев тон Августина бывает и восторженным, и испуганным, и кающимся, и молящим, и саркастичным, и интимным. Как драматург и ритор, он пользуется всем спектром чувств и всеми формами стиля.
В «Исповеди» Августин рассматривает свое прошлое как подготовку к епископскому служению. Задним числом он восстанавливает смысл своей жизни и представляет себе, что этот смысл был замыслом Божиим. Его простые толкования на Плотина постепенно заменяются проповедями и толкованием на Писание перед прихожанами в Церкви. «Исповедь» — это не собрание приятных воспоминаний, это книга о грехе, гордыне и смятении; Августин углубляется в свое прошлое с целью обнаружить и показать всем свои ошибки.
Создается впечатление, что писатель занят исключительно самим собой, но его «я» — это не только индивидуум Августин. Его прегрешения говорят и о роке человека вообще. «Исповедь» — это история о сердце и его бурном море, об affectus, то есть о «воле и чувствах», которые представляются автору полем боя. Августин мастер описывать психологическую амбивалентность и раздвоенность. Слово confessio само двойственно. Оно означает и «саморазоблачение» и «покаяние в грехах» — много раз во время работы Августин думает, что взывает de profundis, как в Псалме 129 (Исп. II, 3; de quam profundo damandum sit), но одновременно это и «славословие» и «признание» Бога.
На пороге третьего тысячелетия мы откровенничаем уже по привычке. Мы «выступаем» и открыто говорим о своих муках и радостях. Психоанализ сделал признания достоянием гласности, но предпосылка для этих поверхностных, мирских привычек лежит в истории религии — в исповедях, которые являлись средством к спасению. В греческой и римской античности все публичное считалось серьезным, а частное, — соответственно, несерьезным. Но в ходе развития истории от Августина до Руссо и Фрейда многое изменилось, мы стали относится к этому по–другому. В наше время частное стало серьезным, а публичное потеряло свою серьезность.
Августин исходит из того, что человек не может ничего скрыть от Бога. Confessio—исповедь или покаяние — было священным. Античной литературе известны и другие автобиографические тексты, но ни одного «покаяния». Покаянием Августина движет не личный эксгибиционизм, как у сентиментального Руссо в XVIII веке; его покаяние имеет назидательную цель. Прежняя жизнь Августина свидетельствовала о том, что он бежал от Бога, однако в конце концов пришел к Нему.
В церковной традиции Августина называют doctor дгаtiae — «учитель благодати». В «Исповеди» он углубляется в себя и говорит не только о дурных наклонностях. Сперва он находит только грязь — предательство, смятение и хаотические страсти, но в самой глубине он в конце концов находит возможность предстать перед Богом. Cogito Декарта, тщеславное самолюбоеанив Руссо и открытие Фрейдом многогранности личности — все это паразитирует на религиозно обоснованной структуре мысли, на том понимании личности, которое дал миру Августин.
«Исповедь» — это не весь Августин. Он не только одинокий искатель. Он также и церковный лидер, и богослов, твердо стоящий на ортодоксальных позициях. Современные люди охотно читают признания, потому что надеются найти в них нечто индивидуальное и субъективное, в чем смогут узнать собственные переживания. Во многих случаях это объясняется слишком вольным прочтением. Августин — это cor inquietum — «беспокойное сердце» (Исп. I, I), но в то же время он и защитник учительского авторитета и Церкви, и своего епископского авторитета. Современные протестанты и католики часто представляют Церковь как институт, мешающий или стоящий на пути благочестия. ВIV веке Августину были неизвестны такие рассуждения. Тогда благочестие и Церковь искали друг друга.
Покаяние Августина — это не исторический отчет о том, как он жил до смерти Моники. Его смысл в том, чтобы показать, что вся жизнь Августина направлялась Провидением Божиим. Он жил руководимый Богом, не зная об этом. Бог присутствовал в его жизни еще до первых воспоминаний так же, как он будет присутствовать в ней до последней минуты существования личности. Обвиняя се· бя, Августин хочет еще больше возвысить Бога. «Покаяние в грехах» — confessio peccati — это средство для достижения цели, то есть «славословия Бога» — confessio laudis. Августин говорит, что его язык приносит его покаяние как жертву своему Создателю. Или мы славим Бога, или обвиняем самих себя, приносим свое покаяние (Исп. V, I; Проп. 67,1).
Августин снискал в жизни много похвал и восхищения. С помощью своей автобиографии он переадресовал их Богу· Конечно, лоди больше обычного проявляли интерес к его жизни — еще бы, епископ, который раньше жил во грехе, испытал куда больше, чем многие из них. Августин использует любопытство людей как приманку и уводит их от скандалов к камню преткновения, а именно к вере в то, что Бог стал человеком. Благодаря признаниям все грехи Августина превратились в такое же число доказательств его смирения. Все хорошее происходит от Провидения Божия. Все плохое Августин объясняет собственным непослушанием и упрямством. В детстве он воровал еду из домашней кладовой и жульничал в играх с другими детьми (Исп. 1,19). Знаменитый рассказ о краже груш в детстве явно повторяет рассказ о грехопадении (Исп. II, 4 и 6). Вся жизнь Августина до обращения была полна мальчишеских гроделок.
Сознание вины получило моральную ценность только с приходом христианства. До появления в эллинизме восточных влияний раскаяние и нечистая совесть ничего не значили для греков и римлян. Сознание вины косвенно говорит о расстоянии, отделяющим человека от Бога. Кроме того, раскаяние подчеркивает всезнание Бога. Ему открыто человеческое сердце. Христианская святость заключалась в том, чтобы подавить свое «я» как прибежище собственных интересов. Раскаяние и сознание вины были предпосылкой для благодати, то есть для новой жизни, которая может даваться извне. Через благодать мы создаемся заново. В первой части «Исповеди» речь идет о раскаянии и вине. В последней — о возрождении грешников через благодать.
Рассказ Августина о собственной жизни составляет содержание первых девяти книг «Исповеди». В десятой мы застаем в минуты творчества, а в одиннадцатой, двенадцатой и тринадцатой книгах Августин излагает историю о сотворении мира. Суть в том, что Бог может создать и воссоздать и самое малое, и самое большое. Вся античная философия зиждется на параллели между телом «мира» и телом человеческим. Автобиография и толкование истории о сотворении мира вполне понятны тем, кто знаком с философией античности. Автобиографическая часть книги заканчивается смертью Моники в 387 году. Их общее «восхождение» на небеса в Остии открывает перед человеком Космос. Величие Бога проявляется и в жизни Августина, и в самой широкой исторической перспективе. И в меньшем, и в большем Бог обладает силой создавать мир заново.
Жизнь Августина и то, как он ее толкует, дает материал для лежащих на поверхности психоаналитических предположений. Борьба матери и сына за исключительное внимание друг друга не раз может показаться почти патологической. Когда Августин в конце концов обращается в христианство и отказывается от своей конкубины и от брака, Моника торжествует двойную победу — и как христианка, и как женщина, победившая всех соперниц.
Однако такие психоаналитические толкования все–таки ошибочны, потому что пытаются объяснить все части конфликта. Они исходят из того, что современные категории можно непосредственно применять к духовной жизни людей поздней античности. Кроме того, они предполагают, что четкие мотивировки действующих лиц есть не что иное, как рационализация психологических ассоциаций. Однако Моника и Августин не прибегают к богословию, чтобы замести следы. Они целиком и полностью живут в плену своих мотивировок. Поэтому важно попытаться понять их собственный язык, а не постулировать эдиповы комплексы, которые сделают излишними их собственные объяснения.
Много ли правды в том, о чем пишет Августин? Все правда, и все неправда. Он использует ряд литературных моделей и сделанных задним числом выводов, чтобы выразить смысл, который невозможно подтвердить документально. Одним из образцов ему явно служит рассказ Вергилия о Дидоне и Энее. Августин неоднократно цитирует Вергилия, не всегда называя источник. Он сам — Эней, покинувший свою Африку, дабы завоевать столицу государства; однако Провидение возвращает его обратно домой. Как и поход Энея под руководством римских богов, жизнь Августина — совсем не то, что он делает, но то, что с ним случается. «Рука Твоя была в том, что меня убедили переехать в Рим» (Исп. V, 8). Задним числом Августин толкует свою жизнь, чтобы придать ей смысл, и именно тот смысл, который его жизнь получила потом. Все представлено так, будто епископская кафедра была заранее назначенной целью его жизненного путешествия.
Неисторическое или приукрашенное представление Августина о себе, которое заметно в «Исповеди», объясняется прежде всего тем, что автобиография писалась, дабы проиллюстрировать новое учение о благодати с помощью рассказа о собственной жизни. В молодости Августин не вписывал свои неприятности в схему греха и благодати. Но когда он, уже будучи епископом, оглядывается назад, чтобы истолковать свой жизненный путь, грех и благодать становятся сквозной темой его рассказа.
Налицо видимое несоответствие между юношескими сочинениями Августина и его воспоминаниями о своей юности. «Гортензий» Цицерона сделал Августина манихеем, скептицизм сделал его неоплатоником, платонизм сделал его христианином. Это объясняется тем, что граница между этими учениями была не той, какой она представляется нам сегодня. Августин говорит о платонизме, как о предвестнике или как о части христианской мудрости. И поэтому он очень положительно относится к Платону, пока говорит с позиций христианства от лица более широкого и высокого познания. Но он тут же становится саркастичным, когда платонизм начинает открыто конкурировать с христианским откровением (Об ист. рел. 3,3–5). Августин не принимает сравнения между Платоном и Христом, потому что не считает христианство одной из тех философий, которые можно сравнивать друг с другом. Для Августина христианская вера и неотделимая от нее любовь к Богу — целая и полная мудрость, которая ведет людей к благодати (О граде Бож. П, 7).
Для молодого Августина Христос был величайшим учителем мудрости — достаточно вспомнить Христа со свитком в руке на саркофагах IV века. Августин не делает различия между богословием и философией. Мышление его времени и особенно неоплатонические традиции стерли это различие. Нет ничего парадоксального или нелепого в утверждении, что Августин обратился в христианство и стал философом.
Главная тема «Исповеди» — «обращение» Августина в 386 году. Оно описано с большой литературной и психологической убедительностью. Особенно сильным и новым является представление о раздвоенности воли. Создается впечатление, что до принятия решения множество совершенно противоположных стимулов вели друг с другом войну. Но «обращение» — также и платоническое понятие. «Обращение» Сократа, который отвернулся от смутных образов пещеры, чтобы увидеть вечную сущность вещей, Платон определяет как peritrope или metatrope («поворот», «переворот»). Поэтому вопрос, к чему, собственно, «обратился» Августин, не так важен для него самого, как для его современных исследователей.
Августин отвернулся от чувственного мира и его иллюзий, он постепенно отдался во власть авторитета Церкви — это исторический факт, и это главное, а вовсе не то, на что делается упор в рассказе о его «обращении». Ни в коем случае не следует сравнивать «обращение» Августина с современными вариантами «обращений», когда к вере обращаются от неверия. Августин всегда верил в Бога. Вопрос лишь в том, какому Богу он должен был предаться и как лучше Его почитать.
«Исповедь» показывает нам беспокойство, которое заставляет сердце вернуться к своему истоку. «Видение Бога» и «лицо Бога» — visb Dei — означает и то и другое —это «вечное блаженство», или beata vita. Бог «создал нас для Себя»: fecisti nos ad Те (Исп. 1,1). Это тема XI—XIII книги. Поэтому Бог побуждает нас искать Его. Это тема ИХ книги. В «Исповеди» описана не ищущая личность. Августин не Фауст. Он скорее похож на Данте. Он уходит в себя и должен быть приведен обратно к исходной точке. Как и у Данте, движущей силой является любовь. Как огонь устремляется ввысь, а камень — в глубину, так сердце стремится к своему началу. «Бога можно любить только правильным образом, любя Его превыше всего», как сказал друг Августина Северин (Письма, 109,2; Исп. Ш, 8), или, как сказано в Писании: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею» (Мф. 22,37).
«Исповедь» Августина—важная часть описанного в ней процесса самопознания. Сама книга — это подведение итогов того самоисследования, которому себя подверг автор. Это не только воспоминания о чем–то, что когда–то случилось, это документация самого процесса воспоминаний. Лишь придав этим воспоминашям письменную форму, Августин постигает причины и следствия своих прегрешений. Благодаря своему рассказу он осознает тот факт, что Провидение направляло его поступки с самого детства.
Мы, современные картезианцы и фрейдисты, слишком Доверчиво полагаем первичной душу, которая мыслит, повествует и драматизирует свой опыт. Но что, если первичны мышление, повествование и драматизация, а личность рассказчика — есть лишь продукт мышления, повествования и драматизации? В 20–е годы XX века русский философ М. М. Бахтин пытался заменить так называемую психологию изучением смыслообразующей деятельности по продуцированию текста в самом широком смысле этого слова. Его концепция основывалась на том, что личность, или душа, есть отчасти намеренный, отчасти ненамеренный продукт повествований, представляющих собой не просто повествования субъекта, но повествования, которые творят самого субъекта как полезное и необходимое понятие. Личность — это действующее лицо, и ее существование связано с тем, что разыгрывается определенный диалог. Можно представить себе повествование, или речь, где личность, или душа, не имеют значения. Так можно представить себе и драму о Гамлете, в которой он — не самое главное.
Если рассмотреть образ Августина с этой позиции, окажется, что Бахтин отчасти прав. «Исповедь» — не есть прежде всего «повествование» Августина о событиях своей жизни. Главное тут сам Августин. Книжный Августин предстает многогранной, яркой и содержательной личностью именно благодаря тексту или повествованию, посредством которого он являет себя людям и самому себе. Он раскрывает, рисует и создает себя как «Августина», вписывая его в повествование, которое наполняет его жизни определенным смыслом. О чем бы тут ни шла речь, в центре повествования, прямо или косвенно, всегда стоит сам рассказчик. Такое ключ ко всему творчеству Августина.
С помощью рассказов о восхождении, о Творении, толкований на Писание, увещеваний, поучений, философских рассуждений Августин возводит все более и более сложные конструкции для самосознания, одновременно вводя в свое повествование таких действующих лиц как «Августин», «Бог» и «человек». Он поступает подобно легендарному китайскому живописцу, который вошел в свою картину и скрылся за холмами, им же самим и нашсанными. Достижение труда Августа в том, что незадачливая жизнь многих его читателей обрела смысл и достоинство, когда они вошли в созданную Августином картину человеческой судьбы.
Бог Августина и далек, и близок. Поэтому Он окружен парадоксами. Искать Бога — это значит искать нечто известное и неизвестное; так память может искать что–то, чего не может сразу вспомнить, но знает, что вспомнит, если напряжется. С другой стороны, если мы знаем, чего ищем, в каком смысле можно тогда сказать, что мы это ищем? Августин разрешает эти парадоксы, представляя себе постепенное постижение божественной тайны, постижение, которое расширяет и объясняет воспоминание, казавшееся на первый взгляд нечетким, но которое, однако, навсегда сохранилось в памяти.
В известном смысле, не Августин ищет Бога, а Бог сам открывает себя через Августина. Бог ищет Августина и хочет привести его к Себе. Поэтому Августин ищет Бога и хочет привести Его к себе. Бог ближе к ищущему, чем ищущий думает. Личность черпает у Бога силы, чтобы найти самое себя. Бог — это не внешний ответ на внутренний вопрос, но внутренний ответ на вопрос, который Бог сам пробудил у вопрошающего. Суть самопознания — это суть познания Бога. Написать историю личности в биографии, как это сделал Августин, — то же самое, что упражняться и готовить себя к познанию Бога.
Бог находится не вовне, ибо Бог — не материя. Бог — это дух; поэтому погруженность в себя, интроверсия и интроспекция — единственный путь к Нему. Духовное скрыто глубоко в душе человека. Все чувственные желания, напротив, отвлекают и мешают ему. Главное — связь между Богом и душой, душой и Богом. Однако Августин не забывает и о христианском долге служить, помогать и прощать.
Из «сбивающего с толку многообразия вовне» (dlstentio) необходимо найти «единство и мир внутри» (intentio). Временное требует растяжения души, чтобы она могла постичь прошлое, настоящее и будущее за один раз (Исп. XI, 26). Но когда душа раскрывается, чтобы понять временное, она тут же становится жертвой смятения, присущего временному. Этому противоположна сосредоточенность на внутренних истинах. Там, когда душа предстанет перед вечными истинами, протяжение временного в прошлое, настоящее и будущее может прекратиться.
Мистика Августина не носит личного характера. Он углубляется в себя не для того, чтобы понять свои чувства или пережить нечто, недоступное другим. Он углубляется в себя, чтобы найти истину, более общую и обычную, чем все то, что он может найти в преходящем мире. Тем не менее, Августин становится едва ли не пленником церковного единства. Он не сразу поймет, что объединение вокруг простых истин, разделяемых многими, столь же ценно, как познание универсальных истин, доступных разуму немногих. Нам представляется, что именно борьба с донатистами сделала Августина христианином в ортодоксальном смысле. Но тогда он уже много лет был священнослужителем.
Глава 15. Память — это путь к истине
Современное понимание личности опирается на явное, но тем не менее странное разграничение внешнего и внутреннего. Оно объясняется особой историей, в которой Августин играет главную роль. Принято считать, что мысли и чувства есть нечто, находящееся внутри нас, что мы обладаем способностями, которые, возможно, могут выражаться во внешнем, находящемся вне нас, мире. Мы полагаем, что в каждом человеке существуют неизвестные силы, неизведанные глубины, что мы, как нам кажется, обладаем природой, которая может проявиться с неожиданной силой.
Не все культуры или эпохи так воспринимали себя. Напротив, подобное самотолкование — особенность современного западного человека Мы убеждены, что несем в себе «личность» подобно тому, как наши тела вмещают другие осязаемые органы. Августин говорит Богу. «Я вернулся к себе самому и, руководимый Тобою, вошел в самые глубины свои: я смог это сделать, потому что «стал Ты помощником моим». Я вошел и увидел оком души моей, как ни слабо оно было, над этим самым оком души моей, над разумом моим, Свет немеркнущий» (Исп. VII, 10; IX, 4). Главная мысль Августина заключается в том, что человек не может раскрыть перед другим человеком свои самые сокровенные глубины, он может раскрыть их только перед Богом (О пользе веры, 23). Путь к самому себе ведет в себя: «Мы пребываем в пути, и путь этот проходит не через внешнее пространство, но через внутреннее, где зло совершенных нами грехов преграждает нам путь, как густой кустарник» (О христ. учен. I, 34). Таким образом граница между внешним и внутренним четко отмечена грехопадением.
В своей книге «Источники «Я». Становление современной личности» (Taylor, С. «The Sources of the Self», 1989) Чарльз Тейлор показывает, что в западном мышлении представления о правильном и неправильном способствовали развитию идеи о тождестве личности. Никто в истории не имел в виду точно того же, что имеем в виду мы, современные люди, говоря «я» и «ты». Когда древние греки говорили: «Познай самого себя!», они подразумевали нечто другое, чем мы, произнося те же слова. У Августина nosce te ipsum означает, что душа должна познать себя, дабы найти свое место — как госпожа тела и как слуга Бога (О Троице, X, 5). Представления об обращенном вовнутрь и обращенном вовне, о внутреннем и внешнем, по всей видимости, были взаимосвязаны с другими идеями и их историей — с личным и общественным, мыслью и речью, чтением и письмом.
Платон требовал, чтобы всем правил разум. Он полагал, что только тогда, когда более высокие части души управляют более низкими, человек может сдерживать себя. Разум создает порядок в смуте. В разумной душе царит порядок, потому что она победила неустойчивые страсти. Разум устанавливает в душе покой и гармонию. Там, где правит разум, у человека появляется некий центр тяжести. Его больше не шатает из стороны в сторону. Ибо желания и страсти не знают предела. Только разум в состоянии определить деятеля и ограничить его.
Таким образом, в антропологии Платона разум гарантирует цельность, покой и концентрацию вокруг некоего центра. Разум — это око, которое позволяет нам видеть вещи такими, каковы они есть, и еще: разум есть источник морального самообладания. В этой форме учение Платона о душе встречается в различных вариантах у стоиков, христиан и современных мыслителей. Но во всех этих вариантах душу населяли также и другими элементами. Особенно важной считалась воля, которой Платон несколько легкомысленно не придавал значения.
До Платона, в архаической Элладе, «душа», или psyche, была жизнью, покидавшей тело, когда оно умирало, но ни в коем случав не сущностью личности, не центром сознания. У Гомера различные свойства и стимулы придаются обычно различным частям тела или внутренним органам: сердцу, легким, желудку. Пика своей высоты герои Гомера в «Илиаде» и «Одиссее» достигают, когда на них оказывают влияние боги: вот тогда они превосходят самих себя. Внезапные порывы, вдохновенное мужество и непобедимые силы всегда объясняются таким божественным вмешательством.
Только культура полиса в классические времена локализирует в человеке моральную ответственность. Сознание становится внутренним представителем социального порядка. Античному полису тоже известны экстатические состояния, но он ценит расчет, здравый смысл и самоконтроль. В полисе душа человека подчиняется единому центру. Мысли и чувства занимают свое место в системе, на которой держится основа существующих норм. Душевная гармония и равновесие в полисе являются идеалами точно так же, как гармония и равновесие между политическими силами и интересами. У каждого человека, как и во всем обществе, разум стал органом управления и источником морали. Концентрация души вокруг разума у Платона и в полисе служит Августину предпосылкой обращения к внутреннему миру личности.
Разум у Платона призван помочь в понимании мирового порядка. Душа — малая часть большого целого, и только в свете этого большого целого душа может найти свою форму и понять свою функцию. Взгляд на мировой порядок — это взгляд на хорошее и лучшее. Лучшее является как объединяющее целое, как образ того, для чего все должно быть хорошо. Только когда душа упорядочена в целостности — и как эта целостность — она может обнаружить свою природу. Платон считал, что источник всех норм, в том числе и моральных, находится не внутри нас, а вовне. Ибо космический порядок нельзя узреть, не любя его и не желая походить на него. Привилегия философов в том, что их глаза приучены видеть объективное добро.
Следовательно, источник истины, красоты и добра Платон и его ученики полагали вне человека. Поэтому разум не был самодостаточным внутренним качеством личности. Напротив, он простирался над самим собой и своим носителем, дабы постичь принцип порядка природы. Образ пещеры в «Государстве» говорит не о человеке, нашедшем самого себя, а о человеке, который освободился от иллюзий телесного мира, дабы обратить взгляд в верном направлении на вечное и неизменное. Душа должна освободиться от своих цепей, приковывающих ее к земному, чтобы научиться видеть вещи такими, каковы они есть в действительности, должна стремиться от материального к нематериальному, от телесного к бестелесному, от изменчивого к вечному.
В ранних произведениях Августина душа тоже бестелесна и вечна. Поэтому она и не находит себя, пока не узрит то, что в мире бестелесно и вечно. Бог сам не имеет тела. Ничто в нем не может быть зримо глазами человека. Он не подвержен ни вреду, ни переменам. Он не сотворен и не из чего не составлен, говорит Августин. Поэтому он не принес и не создал никакого зла (О пользе веры, 36). Ибо между бренными и вечными вещами есть разница. Бренные вещи человек любит главным образом до того, как сможет обладать ими, ибо они теряют свою ценность по мере того, как он их получает. Ведь они не питают душу, имеющую свое истинное и настоящее прибежище в вечном. Вечное же человек, напротив, любит сильнее, когда достигнет его, чем когда оно существует только в его надеждах. Как бы высоко, стремясь к вечному, человек ни ценил его, оно становится еще более ценным, когда он достигает цели (О христ. учен. I, 27–29).
Платоновский разум был отдаленно сродни тому, что мы на современном языке зовем «разумом». Для греческого философа разум не был орудием, а питался светом извне и созерцал вечность. Платоновский разум не управлял никакими процессами, не строил домов, но раскрывал и открывал что–то, уже существующее. Учение Аристотеля о «философии» — theoria — основывалось на том же понимании души как зеркала вечного миропорядка. Theoria — не столько «наука» или «исследование» в современном смысле, сколько созерцание и размышление, то есть отражение внешнего порядка. Превосходство theoria как носительницы высшего знания, объясняется не энергией, которую она распространяет, но силой, которую она воспринимает. Платоновские и аристотелевские души не действуют на самом высоком уровне, а пребывают в покое, как и тот порядок, который они отражают.
Когда поздние христиане говорили, что «дух бодр, плоть же немощна» (Мф. 26, 41), эта антитеза часто воспринималась как платоновское противопоставление тела и души, хотя на самом деле это нечто совершенно иное. Смысл этой антитезы лежит не в противопоставлении материального и нематериального, преходящего и вечного. Для евангелистов и апостола Павла — это способность следовать воле Божией, являющейся великим порогом между «Духом» и «плотью» (1 Кор. 15, 50; Еф. 6,12). Августин заимствует у Платона ряд мотивов, но переосмысляет их, приспосабливая к христианскому учению. Идеи становятся животворящей мыслью Божией, а Бог — самим добром. Учение о душе приспосабливается к божественной персонификации конечной основы мирового порядка. Благодаря животворящей мысли Бога все сотворенные Им вещи присутствовали в Его замысле.
Kosmos — «хорошо упорядоченная природа» — возрождается на христианской почве как ordo — «порядок Творения» — в представлении о руководящей мудрости Творца. Бог становится источником истины, красоты и добра и, следовательно, началом космического, интеллектуального и социального порядка. Августин заимствует у Платона его световую метафору, но преобразует ее через форму analogia entis, то есть через гармонию между чувственным и сверхчувственным, при этом он говорит, что сеет, который мы видим — это только отблеск и эхо Божественного духовного «просвещения». Следовательно, Божественное духовное «просвещение» не следует понимать как образ видимого света; напротив, видимый свет надо понимать как отблеск Божественного духовного «просвещения» души — illuminatio. Не Бог походит на солнце, но солнце походит на Бога (О Кн. Быт. IV, 28). У Августина, как и у Платона, душа не может увидеть мировой порядок, не любя его. У обоих душа должна стремиться любить любезное и презирать презираемое. Но Августин больше, чем Платон, подчеркивает роль любви и настаивает на том, что любовь может заблудиться, если не найдет достойных предметов.
Важнейшая разница между ними заключается в том, что Августин преобразует дуализм Платона в схему, где главное — различие между «внутренним» и «внешним». Внешний человек — это тело и чувственность. Внутренний — это душа и все, что ей принадлежит. «Когда я воззову к Нему, я призову Его в самого себя. Где же есть во мне место, куда пришел бы Господь мой? Куда придет в меня Господь? Господь, Который создал небо и землю? Господи, Боже мой! ужели есть во мне нечто, что может вместить Тебя?.. Меня не было бы, Боже мой, вообще меня не было бы, если бы Ты не был во мне» (Исп. 1,2). Обращение от ухудшающегося, ущербного и изменчивого (Исп. VII,1) к вечному происходит как поворот от внешнего к внутреннему. Господи, говорит Августин, «Ты удостоил мою память Своего пребывания» (Исп. X, 25).
Централизация различных функций души происходит, по Августину, не как господство силы разума над более случайными свойствами души, но как поворот вовнутрь, к ее основе. Центр души — не разум, а таинственное место встречи между человеком и Богом, к которому его может привести память. Внутреннее становится более важным и ценным, чем внешнее, потому что именно там Августин встречает своего Создателя. «Поздно полюбил я Тебя, Красота, такая древняя и такая юная, поздно полюбил я Тебя! Вот Ты был во мне, а я был во внешнем и там искал Тебя; в этот благообразный мир, Тобой созданный, вламывался я безобразный! Со мной был Ты, с Тобой я не был» (Исп. X, 27). «След мудрости Божией», в созданном Им мире — vestigia Dei — это тот след, который все могут видеть. Но личные и интимные отношения с Богом могут быть только внутри человека.
Путь к центру души проходит через intentio, то есть «сосредоточенность и собранность» на вечных истинах. Бог перестает быть только чем–то очень далеким, каким он был в греческой космологии. Для христианского мыслителя Бог еще и «глубже глубин моих и выше вершин моих»: Interior intimo тео et superior summo meo (Исп. Ill, 6). Бог находится как внутри, так и снаружи осязаемого мира. Он находится за объектами, но также и за субъектом. Он не только предмет знания, но и Тот, Кто направляет наши вопросы. Он — свет, который видят наши глаза, но также и тот свет, который наделяет глаза способностью видеть. Это комбинация метафоры света из Евангелия от Иоанна и платоновской метафоры. «Истина обитает во внутреннем человеке» — in interiore homine habitat veritas (Об ист. рел. 39, 72).
У Платона нет понятий, выражающих индивидуальные отношения с Богом, потому что божественное для него было не личностью, а вечным порядком. У Августина, напротив, сама забота человека о своем спасении становится движущей силой в отношении с божественным, которое является личностью. Августин говорит: «Я желаю знать Бога и душу. И ничего больше? Решительно ничего» — Deum et animam scire cupio. Nihilne plus? Nihil omnino (Монол. I, 2). Даже когда Августин находит «след Бога» — vestigia Dei — вне себя, в природе или в истории, — это человек находит их для собственного употребления. У Платона философия выступает скорее как де–индивидуализированная деятельность. Философ — это тот, кто отбросил все частное и личное и кто черпает пищу исключительно в общепринятых истинах.
Философы, которые должны были править идеальным государством Платона, не имели ни личных имен, ни личной жизни. Их компетентность объяснялась именно тем, что они были способны, так сказать, поставить себя в скобки. Индивидуалист Сократ был для Платона, безусловно, и парадигмой, и мифом. Однако индивидуалистом Сократ был только в том смысле, что представлял собой исключение в моральном и политическом хаосе своего времени. Он не был индивидуумом в том смысле, что в первую очередь был занят своим спасением. Та «забота о душе», которую проповедовал Сократ и сократовская школа, была заботой об общепринятых знаниях, которые мсгли пойти на пользу античному полису и потому не выделяли индивидуума как отдельную личность.
Уже у Сократа в заботе о душе кроется призыв к саморефлексии. Но этот призыв не радикален, потому что личность не может погибнуть. Напротив, то, от чего следует отказаться, лежит в чувственных желаниях, богатстве и славе. Искушения приходят извне — так Сократ и его Друзья понимали нравственную дисциплину. Однако Августин считал, что самые страшные искушения приходят изнутри. Платон никогда не говорит «я», он говорит вообще о состоянии и потребностях души. Августин же представляет историю своей жизни как экспериментальную лабораторию. У него не только душа благодаря мысли освобождается от объятий тела, но личность раздваивается и воспринимает свое присутствие как проблематичное. Августин говорит: «… я работаю над самим собой, я стал сам для себя землей, требующей тяжкого труда и обильного пота» (Исп. X, 16). У Августина главную роль играет тождество личности, которая может погибнуть. У Платона искушения угрожают только решениям, принимаемым личностью как разумным существом.
По Августину, великая борьба происходит не между внутренним и внешним, а в самом внутреннем. Поэтому ему недостаточно рассказывать мифы о каком–нибудь мудреце вроде Сократа. Он должен написать биографию, рассказать о собственной внутренней борьбе. Августин первый в европейском мышлении открыл перед всеми это внутреннее пространство. Назвать учение Августина христианским учешем о душе, значило бы предвосхитить события. После Августина внутренний человек прочно вошел в христианское учение о душе. Но этот поворот объясняется в не меньшей степени его личными отношениями с Богом. Поэтому в истории Церкви Августин считается таким же влиятельным обновителем, как и апостол Павел.
Секуляризация подобного благочестия простирается до cogito Декарта и дальше до мира модерна и постмодерна, где она пародируется во всех попытках обрести себя. То, что путь к лучшей или более достойной жизни проходит через радикальный анализ своего жизненного пути, на первый взгляд кажется наследием Августина. Но авторы секуляризованных сочинений, обосновывая сосредоточенность на самих себе, упускают из виду некоторые важные моменты раздумий Августина о собственной личности.
Августин существенно отличается и от своих предшественников, и от большинства своих последователей. Его проблематика весьма своеобразно совпадает и с Платоном, и с Декартом. Истина находится в нас, поэтому поворот к себе означает поворот к Богу, говорит Августин.
Но этот поворот — лишь первый шаг. Истина отнюдь не соответствует внутреннему. Внутреннее — это скорее место битвы, где поиски истины могут увенчаться успехом или потерпеть неудачу. Это тайник, где спрятан образ Божий, который мы несем в себе с сотворения мира.
Представление Августина об амбивалентности истины — одно из самых проницательных открытий «Исповеди». Поиски истины не так беспроблемны, как может показаться, когда это представляется главной темой жизни Августина и сокровеннейшим желанием человека. Августин говорит, не без иронии: «Почему же «истина порождает ненависть» и почему для них стал врагом человек Твой, проповедующий истину? Они ведь любят счастливую жизнь, а она не что иное, как радость об истине? Не потому ли, что истину так любят, что любя что–то другое, люди хотят, чтобы то, что они любят, оказалось истиной? И так как они не хотят обманываться, то и не хотят, чтобы их изобличили в том, что они обманываются. Итак, они ненавидят истину из любви к тому, что почитают истиной. Они любят ее свет и ненавидят ее укоры. Не желая обмануться и желая обманывать, они любят ее, когда она показывается сама, и ненавидят, когда она показывает их самих» (Исп. X, 23). Путь к счастью, который открывает истина, может бьггь поэтому долгим и тернистым, «ибо блаженная жизнь — это радость истины»: beata quippe vita est gaudiwn de veritate.
«Доказательство Бога» no Августину — это всегда углубление в себя. Здесь вера также является исходной точкой для работы разума. Credo ut intelligent — «Я верю, чтобы понять» — в Августиновой традиции относится и к доказательствам существования Бога. Прежде всего следует отказаться от гордыни. Тогда можно будет увидеть истину Бога. Сперва идет вера. Знания разума следуют за ней. (Пр. академ. Ill, 20; Проп.118, 1). Доказательства существования Бога всегда идут от внешнего (extra nos) к внутреннему (in nobis) и от внутреннего к более высокому (super nos) (Толков, на Пс.145, 5). Августин стремится показать, что существует нечто более высокое, чем разум. Ибо разум должен руководствоваться нормами и правилами, которые он не может создать сам (Об ист. рел. 29–31). Тут видна связь между Августиновым cogito и его пониманием Бога: мыслить — это уже пользоваться чем–то, стоящим выше разума. А это доказывает, что мышление существует, и одновременно доказывает, что существует и Бог!
Мысли Августина вокруг cogito — это не часть рассуждений об общем, но чисто индивидуальный этап самопроверки. Отсюда возникает вопрос о том, что же Августин считает общим. Похоже, что для него общее больше связано с материальным, чем у Платона. Однако у Августина нигде не прослеживается мысли о том, что субъективность есть истина. Говоря об индивидуализации или интериоризации, Августин имеет в виду не это. Он также не считает, что все должны искать истину тем же способом, каким нашел ее он сам, хотя и рекомендует свои методы.
Для Платона индивидуальность почти не имела значения. Для Августина же она — и исходная, и конечная точка. В «Исповеди» рассказывается о его собственных грехах и о его спасении. Однако все люди находятся в схожих основных условиях. Индивидуальность — составная часть человеческой судьбы, считает Августин, и любой рассказ о судьбе отдельного человека, пренебрегающий индивидуальным, исказит весь процесс обращения.
Таким образом, у Августина общее не противостоит индивидуальному, как у Платона, но индивидуальное есть часть общего. Путешествие в поисках истины, которое Августин совершает по истории своей жизни, является образцом не только потому, что показывает влиявшие на него силы, но и потому, что оно в своем роде неповторимо — каждый человек должен пройти свой путь назад к общему началу. Употребляя неоднократно аргумент cogito, чтобы избежать сомнений и скепсиса, Августин имеет в виду нечто иное, нежели Декарт. Августин считает, что cogitare означает и накапливать вещи в своей памяти, и извлекать их оттуда (Исп. X, 11). Речь может идти как о мыслях, которые пришли впервые, так и о тех, которые уже приходили раньше. Мыслить — это то же самое, что наводить порядок и в ясных, и в смутных признаниях, хранимых памятью. Знание о бестелесных предметах душа (mens) может найти только в себе самой. Она знакомится с самой собой и с Богом, потому что душа тоже бестелесна (О Троице, XIV, 6).
Декарт находит, что только личность является несомненной истиной, Августин же обнаруживает важную истину о самой личности. Аргументы cogito у Августина означают: «Я не могу избежать собственных мыслей и собственной жизни». И потому: «Я не могу избежать Бога» (ср. О блаж. жизни, 7). У Августина cogito — не столько разрешение сомнения, сколько напоминание о том, где должно начинать. Аргумент cogito указывает путь, потому что обращает внимание на действительность, которая выходит за пределы «я», — указывает путь сквозь личность на другую ее сторону. Cogito Декарта выделяет мьюль как чистую и несомненную. Cogito Августина, напротив, показывает, что мысль не является и не может являться основой для самой себя.
Августин не стремится доказать, что можно получить достоверные знания о мире. Хотя он и говорит, что существует или один мир, или много миров и что, если существует много миров, их должно бьггь определенное число или бесконечно много. Но главное не в том, что он говорит о мире. Главное в том, чтб он говорит о типе достоверности, какую могут дать такие «или–или». Потому что правильной в таком случае может быть только одна возможность. Иными словами, есть нечто, что является несомненной истиной (Пр. акад. Ill, 10). Августин пользуется этими аргументами только для того, чтобы чисто формальными средствами подтвердить существование несомненной истины. Содержание же именно этой истины о внешнем мире его не интересует.
Декартовское доказательство существования Бога появляется в виде условного приложения к его cogito. А для Августина доказательство существования Бога и является самим смыслом — мы понимаем это доказательство, как разумное «просвещение» существующей веры. Ибо Бога нельзя найти во внешнем мире. Бог — это особая предпосылка для того, чтобы я мог познакомиться с собою как с личностью. Бог — это свет, заставляющий нас правильно думать и задавать правильные вопросы. Бог является как необходимое объяснение прежде всего не в познании внешнего мира. Как необходимый и неизбежный момент Он является во внутреннем опыте личности, говорит Августин.
«Душу» и тождество личности невозможно локализовать в определенных железах или органах. «Внутренний» человек—это в лучшем случае метафора, обусловленная потребностью текста в контрастах и полярностях. Если мы будем последовательно держаться концепции Бахтина, о которой мы вскользь говорили в предыдущей главе, то «душа» — это всегда нечто, находящееся вовне. Великой тайной предстают смыслообразующие правила текста, а не якобы существующие глубины «души». «Душа» преподносится посредством знаков и продуцирования текста, и вне этого процесса душевного не существует. «Душа» получает форму литературного образа, действующего лица. Труднопостижимая современная психология любит понимать душевные проявления как «выражение» чего–то «внутреннего». Может быть, продуцирование текста, позволяющее душе выразиться и «проявиться», следует понимать как сотворенный душою миф о себе.
Согласно этому выводу, истина, смысл и тождественность суть не то, что «выражается», но то, что имманентно коммуникативному диалогу. Изначальные сведения источника повествования о «душе» или личности переворачивает все с ног на голову. Декартово Cogito целиком и полностью опирается на величественное повествование Августина о Боге и человеке. Декарт полагает, что, говоря о Боге и о душе, он говорит и о вещах (res). На самом деле он овеществляет, изолирует и обрабатывает продукты величественного повествования, в чем, однако, не спешит признаться. Декарт не против и Гамлета, и Офелии, но без шекспировской трагедии.
Несколько лет назад иезуитский священник–вероотступник Джек Майлз написал книгу «Бог. Биография» (Jack Miles God. A Biography. 1955), которая привлекла к себе определенное внимание, потому что автор весьма искусно и дерзко представил Ветхий Завет как собрание повестей, где главным героем был Бог. Майлз пытался проанализировать Писание как литературный текст, оставляя за скобками внетекстовую божественную реальность. Ветхозаветный Бог был понят в первую очередь как некий литературный образ в многообразной массе текстов. В текстах идет речь не о Боге, поданном как внетекстовый предмет, но, напротив, Бог представлен многогранным, ярким и содержательным действующим лицом этого драматического повествования. Таким образом, по Майлзу, Бог Ветхого Завета не просто Тот, о Ком рассказывается в этих историях, но продукт повествования, в котором преподносились Его вероятные поступки.
В демифологизации ветхозаветного Бога Джек Майлз идет дальше, чем большинство современных читателей Декарта идут в демифологизации субъекта человеческого разума. В начале Нового времени мир, открыто говорил о «душе», или «субъекте», и не проявлял того же энтузиазма к историям о «Боге» и «душе», которые только фиксировались как данность. Майлз вряд ли понимал всю радикальность концепции Бахтина. Майлз считал, что он критикует христианские тексты или спорит с их толкованием. То есть он все еще находился в плену построений Декарта, рассматривающих душу и Бога как вещь.
Бахтина не смутило бы то, как Майлз прочитал Писание, поскольку Бахтин не видел альтернативы подобному способу прочтения. Бог Ветхого Завета и соответствующие человеческие души прежде всего суть литературные единицы, то есть производные текста. Говорить в этой связи об «иллюзиях», разумеется, не совсем точно, потому что это значило бы исходить именно из той изоляции и овеществлении Бога и души, за которые ратовал Декарт и которые Бахтин, со своей стороны, отвергал как возможность. Августин становится на Западе образцовым толкователем, и поэтому позднее многие приветствуют его метод изображения самобытной, индивидуальной душевной действительности. Он вовлекает читателей в свое повествование о душе и Боге, ибо благодаря нарисованной им драматической картине личность становится более понятной, а мир более сносным, чем в других повествованиях.
Платон говорит об anamnesis, или «памяти», как о пути к истине. Учение Августина о памяти существенно отличается от учения Платона. Августина не интересуют те знания, которые душа, возможно, имела до рождения. Его учение ближе подходит к тому, что позднее назвали «врожденными идеями», то есть к тем мыслям, которые Душа находит естественными, и к тем заключениям, которые она сразу же признает истинными. Память сортирует весь инвентарь души. Она не столько путь к чему–то назад, сколько путь вглубь к предпосылкам, из которых рождается мысль. Память — это путь от незнания к знанию о собственном устройстве души. Мысль Августина состоит в том, чтобы нести свет и «просвещение» от «внутреннего учителя», а именно, от Христа. Память учит нас сути вещей, скрывающейся за языковыми различиями (Исп. X, 20). Так, все понимают вечное блаженство, не испытав его.
Память — это не орган, который извлекает забытые идеи, это способность вернуться к началу. Творец является также и Творцом внешнего мира. Но, главное, Он—мой Творец. Поэтому Он оставил свой след и во внутреннем мире личности, и во внешнем мире. Ни внешний мир, ни личность нельзя объяснить, исходя из самого себя (Исп. X, 6). Путь в себя — это путь назад, и в то же время — путь наверх. Память ведет к истине, которая больше меня. Память находит нечто большее, чем сам космос. Входя в себя, я выхожу и поднимаюсь над самим собой. Так учит вся Августинова традиция.
Память Августина не движется победоносно в сторону «помни» по учению Пифагора, как делает раб из диалога Платона «Me нон». Цель памяти — найти путь обратно к Богу, как к конечной основе cogito. Пока Декарт доказывает существование Бога с помощью cogito в качестве отправной точки, cogito Августина объясняет сам Бог. Через мышление Бог направляет мысли человека на Себя самого. Бог мне ближе, чем я сам, говорит Августин. Он «глубже глубин моих и выше вершин моих» (Исп. Ill, 6).
По Августину, память, а не разум находится в глубине человека. Здесь генитив субъекта совпадает с генитивом объекта:«memoria Dei», «память Бога» и «память о Боге», встречаются таким образом, что Августин уже не знает, Бог ли присутствует в его памяти или он сам присутствует в памяти Бога. Самый глубокомысленный и парадок. сальный раздел в трактате «О Троице» сознательно строится на этой двусмысленности. Imago Dei — это и образ Бога, созданный Им Самим, и образ духа человеческого, созданный Богом. Ибо дух человеческий уже есть образ Триединого Бога, который дух может себе представить. Так же, как память Бога и память о Боге сливаются воедино, образ Бога и образ, созданный Богом, встречаются в точке полного «просвещения».
Дух человеческий сам есть то, что он ищет. Бог есть то, что ищет Себя через наши мысли. Августин создает учение об отношении между Богом и человеческим духом, которое по радикальности намного превосходит критику религии Людвига Фейербаха. Фейербах считал, что все разговоры о Боге — это проекции человеческого духа, Августин же считал, что все разговоры о человеке — это отражение существования Бога. Фейербах сомневался в Боге, Августин сомневался в человеке. Фейербах хотел анализировать, каким же образом мы представляем себе Бога как индивидуума. Августин подходит глубже, исследуя, как же мы представляем себе человека как индивидуума. Его скепсис куда более фундаментален.
Платон считал, что разум — это око, которое видит, если ему не мешают извне. Августин считал, что душа — это око, которое видит только тогда, когда благодать дает ему силы изнутри. Это не диалектические аргументы, а разговор души с Богом, который, по Августину, есть источник всякой мудрости. В онтологическом доказательстве существования Бога Ансельм Кентерберийский использует подлинные аргументы Августина. Понятие о совершенном может исходить только от самого совершенного, то есть само понятие о совершенном свидетельствует, что совершенное существует. В любом другом контексте, кроме учения Августина о душе, этот аргумент становится непонятным и бессмысленным.
Если Фома Аквинский доказывает существование Бога, рассматривая природу мира, то Ансельм Кентерберийский и Декарт берут за исходную посылку то, что личность воспринимает самое себя как нечто конечное и бренное. Опыт конечного и бренного предусматривает бесконечное и вечное в качестве воображаемого контраста. Только наличие совершенного может убедить меня в моем несовершенстве, говорит Декарт. В его «Размышлениях о первой философии» (Meditationes de prima philosophia. 1641) нам слышится мощный голос Августина.
Мысли Августина о памяти — memoria — как самосознании и источнике знаний — несомненно связаны с Платоном и его учением об anamnesis. Но христианин Августин не может принять утверждение Платона о предсуществовании души в качестве ключа к содержанию памяти. Тем не менее, в своих ранних работах он почти готов принять платоновское учение о душе, настолько, что потом сам поправляет себя в «Пересмотрах».
Авустин без конца задается вопросом, где он находился до своего рождения (Исп. I. 6). Он не может согласиться с образом ротационного порядка, при котором душа видит, забывает, вспоминает по мере того, где она находится в процессе реинкарнации. И все–таки он считает, что учение о памяти — самое интересное во всем платонизме. То, что у Платона объясняло, каким образом человек мог получать знание об идеях, у Августина стало учением о сознании.
Метопа поставляет материал для «мышления» (cogitatio), которое перерабатывает то, что она получает (Рассужд. на Еванг. от Иоан. 23,11). В исходной точке она охватывает и знание, полученное из понятий. Память похожа на огромные палаты с укромными закоулками и тайниками (Исп. X. 8 и 17). Там хранятся собранные и рассортированные впечатления и понятия. Там лежат и законы математики (Исп. X, 12). То же касается и счастья, и Бога: мы находим их сначала в памяти и только потом встречаемся с ними. Воспоминания можно вызывать одно за другим, и прятать их тоже одно за другим. Можно вспоминать радости и печали. И если воспоминание о счастье может приносить боль, то и воспоминание о боли может приносить радость (Исп. X. 14).
Таким образом, воспоминания — это не самое память; они обеспечивают нам доступ ко всему нашему опыту — и чувственным впечатлениям, и движениям души, и знанию. Memoria обладает протяжением, которое является предпосылкой любого понимания. Это не только пространственное, но и временное протяжение, достаточно большое, чтобы мы могли удерживать происходящее, пока оно происходит. Протяжение дает нам возможность прокручивать картины вперед и назад так, что мы можем понимать свойства и масштаб вещей. Учение Августина о памяти касается не столько прошлого, сколько настоящего. Из памяти проистекает все то, что мы знаем, но о чем не задумываемся. Память о настоящем куда более обширна и глубока, чем то, что мы помним о прошлом.
Математические законы и все понятия, не имеющие осязаемой связи с внешним миром, берутся нами из памяти. Так и Менон в одноименном диалоге Платона помнит, строго говоря, вечные истины, а не только то, что принадлежит прошлому. Память, в понимании Августина, лишь частично связана с жизнью индивидуума. Напротив, Августин пользуется памятью, чтобы объяснить, каким образом совершенно разные люди могут считать истиной одно и то же.
Бог тоже постоянно присутствует в нашей памяти, и мы просвещаемся о Нем через «внутреннего учителя». Помнить Бога — совсем не то же самое, что помнить какую–нибудь старую картину; это значит помнить что–то, что всегда «целиком присутствует во всем» (ubique totus). Бог присутствует во всех вещах, но только человек через память может присутствовать в Боге. Следует заметить: речь идет не о том, что правильное мышление рано или поздно может привести к Богу. Правильное мышление уже опирается на «просвещение» Бога и Его премудрость. Ибо Бог есть первопричина жизни души, так же как душа есть первопричина жизни тела. Поэтому дело не в том, чтобы доказать Его существование, а в том, чтобы найти Его. Ибо Он есть «Свет, освещающий сердце мое; Хлеб для уст души моей, Сила, оплодотворяющая разум мой и лоно мьюли моей» (Исп. 1,13). Вот почему память — единственный надежный способ приблизиться к Богу.
Кроме того, память наличествует сама по себе (Исп. X, 16).Она может частично охватить собственный объем и смотреть на себя извне. Как самосознание, память интуитивна и мгновенна. Она — важнейшее содержание самой себя (О Троице, X, 11). На самом деле помню я, но я помню не все. Я не полностью распоряжаюсь собой (Исп.
X, 8). Таким образом, я, думающий, и то, что я думаю, совсем не одно и то же (О Троице, X, 4). Ибо я могу помнить, что что–то забыл, и могу забыть, что я что–то помню. И все–таки, источники «всеобщего согласия» (consensus omnium) находятся в памяти. Иначе почему все люди имеют одни и те же разумные знания? (О своб. реш. N,8).
Учение о памяти пересекается и конкурирует с другой теорией Авустина, которой мы уже касались, а именно с учением о Божественном «просвещении» познания — iiiuminatio. «Ты не осветил еще мрака, в котором я пребывал» (Исп. VII, 1). В книге «Пересмотры», написанной в зрелом возрасте, Августин отказывается от memoria в пользу iiiuminatio (Переем. I, 4). Теперь он говорит, что люди едины скорее потому, что все они владеют частицей света истины, чем потому, что они когда–то знали все, но потом это забыли. «Свет очей моих, — и того нет у меня» (Пс. 37,11). «Ибо он был внутри, а я жил вовне» — intus enim erat, ego autem foris (Исп. VII, 7). Учение об illuminatb рано возникает в творчестве Августина. Первый раз о нем говорится в трактате «О блаженной жизни» (4, 35) и вскоре после того в «Монологах» (II, 20). Но только в поздних работах оно становится доминирующим и принимает на себе все больше функций памяти.
С помощью библейских цитат явно легче обосновать учение об illuminatb, чем учение о memoria. В трактате «О Троице» все эти мотивы собраны воедино: «Мы просвещаемся, когда становимся частью Слова, то есть в той жизни, которая есть свет человеческий» (IV, 2). Но это не значит, что Августин вместе с учением о памяти отодвигает в сторону и весь неоплатонизм, потому что сама идея об истинности знания, которое зависит от источника света, принадлежит Платону. Здесь толкования на Пролог Иоанна сталкиваются с философским прочтением платонизма (Исп. VII, 9; О граде Бож. X, 2). Ибо Христос, который есть «премудрость» Божия и Слово (verbum) Божье, — это свет, посланный в темноту. Чтобы подтвердить, что Слово стало плотью и обитало с нами (Иоан. 1,14), Августину приходится обращаться к сочинениям платоников.
Только свет и просвещение им делают возможным постижение вечных истин. Бог вносит свой вклад в человеческое познание, просвещая неизменяемые предметы мысли. Августин называет Бога «Отцом света мысли»: pater intelligibilis lucis и «Отцом нашего просвещения»: pater illuminationis nostrae, как это звучит во вступительной молитве к «Монологам». «Просвещение» не только усиливает человеческие способности к познанию, но показывает людям их самые ценные и необходимые объекты так же, как солнце показывает глазу все видимое (О Троице, XII, 15; Письма, 120, 2). Уже в «Монологах» Августин использует платоновскую модель подобия солнцу. Отсюда идет основная аналогия между солнцем и видимым, премудростью Божией и воображаемым. Дух называется оком души (Рассужд. на Еванг. от Иоан. 35, 3). Таким образом Бог — и соучастник нашего познания, и присутствует в нем. Возможно, незнание объясняется нашими собственными потемками (Исп. X. 5). Ибо только чистое сердце может увидеть то, что показывает свет (Монол. I, 6).
Метопа — это «желудок души» — venter animi ( Исп. X, 14). Memoria охватывает все, что содержится «внутри» — intus, а не «вовне» — foris. Августин полагает, что внутреннее лучше внешнего. Многое указывает на совпадение между cogito Декарта и различными высказываниями Августина о сомнении и самосознании. Начиная с его первых работ, в которых он выступал против скептиков (Монол. II, 1; Об ист. рел. 39,73), и до самых последних (О граде Бож.
XI, 26; О Троице, X, 10 и XV, 12) главной темой для Августина является неискоренимый и несомненный характер самосознания, Нельзя отрицать существование сознания, тем самым одновременно не подтверждая его. Никто не может сомневаться в собственном существовании. Он говорит Jam dubitatio иЫ nisi in animo est? — «Где есть сомнение, как не в душе?» (Об учит. 3). Во всем, что находится вовне, можно сомневаться, но не во внутреннем, не в самосознании. Поэтому Августин считает, что внутреннее — это условие для внешнего. Нельзя же сделать несомненное зависимым от сомнительного!
Августин далеко следует за Платоном в его учении об идеях. Вечные истины дают опыту форму и структуру. Что касается математических законов, Августин, как и Платон, считает, что они находятся в памяти изначально. Августину ясно также, что деятельность учителя может пробудить воспоминания к жизни. Августин рано начинает думать о предсуществовании души. Позднее он возложит на Творца ответственность за врожденные намерения. Августин считал идею Бога самоосвещакнцейся. Она не врождена в том смысле, что она всегда присутствует в сознании, но и в рождена — поскольку, когда человек слышит о Боге, он немедленно понимает, что это правда. Память позволяет Августину задним числом узреть Провидение и благодать Божию.
Вся «Исповедь» — это упражнение памяти. Воспоминание есть время субъекта. Бог направляет и объективный поступательный ход жизни вперед, и субъективный обратный процесс памяти. Августина очень интересует отношение между памятью и временем. Все три аспекта времени могут быть собраны в определенных действиях души: настоящее прошедшего — это память (praesens de praeteritis memoria). Настоящее настоящего — это его непосредственное созерцание (praesens de praesentibus contuitus). Настоящее будущего — это его ожидание (preasens de futuris expectatio (Исп. XI, 20). Время сродни речи. Если фразу можно рассматривать как звук, то в памяти и ожидании содержится гораздо большая смысловая информация. Время сродни речи, где будущее поглощается мгновением настоящего и копится в прошлом.
В экстатических видениях, вроде тех, о которых Августин рассказывает в VII и IX книгах «Исповеди», время может останавливаться: вечность — это неизменяемое настоящее, лишенное памяти или ожиданий. Божия вечность — это «остановившееся мгновение», не имеющее ни начала, ни конца: пипс stans (О Кн. Быт. пр. маних. 1,2; Исп. XI, 14 и 30). «И так как «лета Твои не кончатся», то годы Твои — сегодняшний день» (Исп. 1,6; Пс. 101,28). О видении в Остии он пишет: «…пришли мы к душе нашей и вышли из нее, чтобы достичь страны неиссякаемой полноты, где Ты вечно питаешь Израиля пищей истины, где жизнь есть та мудрость, через Которую возникло всё, что есть, что было и что будет. Сама она не возникает, а остается такой, какова есть, какой была и какой всегда будет. Вернее: для нее нет «была» и «будет», а только одно «есть» (sed esse solum), ибо она вечна, вечность же не знает «было» и «будет» (пат fuisse et futurum esse non est aeternum)» (Исп. IX, 10).
Память — это то, чем измеряется протяжение времени Похоже, что некоторые размышления Августина о времени объясняются желанием ответить на вопрос о том, что Бог делал в вечности и что происходило до того, как мир был сотворен. «Ты, Который живешь всегда, в Котором ничто не умирает» (Исп, I, 6; XI, 11). До и независимо от вещей не существовало и времени. Это говорил еще Аристотель (Физика, IV, 14).
Время возникло по окончании сотворения мира. Тленность отнюдь не то же самое, что зло. Преходящее — это следствие Творения, а зло — следствие греха. И платоники, и манихеи были вынуждены сопоставлять тленность со злом. Преходящее и было самим злом или, по крайней мере, корнем зла. Августин же видит самостоятельную причину в грешной воле. Зло не вечно. Зло — это нечто, что случается с добром. Ибо, чтобы существовать, все должно содержать в себе что–то доброе. Диавол у Августина не равный противник Бога, а Люцифер, бывший ангел Господень, который был низвергнут с небес из–за своей гордыни, и теперь соблазняет каждого человека идти по его стопам.
Всю «Исповедь» можно читать как попытку найти смысл и связь в своей жизни. Августин понимает все свои поступки и испытания как часть замысла Господа Бога по его спасению. Бог постоянно присутствует во всех перипетиях. В качестве постоянного соратника и противника Бог превращает личность Августина в непреходящую ценность. Поэтому, когда Августин пересказывает историю своей жизни, он раскрывает ее перед единственным «Ты», который всегда сопровождал его, а именно, перед Богом.
«Я желаю знать Бога и душу, ничего больше». Душа слишком тесна, чтобы вмещать самое себя, говорит Августин. Он стал вопросом и загадкой для самого себя. Он, как первооткрыватель, пускается в путешествие по своим внутренним просторам, которые предлагают куда более неожиданные виды и перспективы, чем могут предложить просторы внешние. Правда, душа пытается скрыться от самой себя и сомневается в собственной способности отвечать за свои силы. Но с внутренним светом в качестве проводника душа не может скрыть от себя собственное содержание.
Если можно понять что–то о самом себе, наблюдая за другими, значит можно понять что–то и о других, наблюдая за самим собой. Августин часто идет именно этим путем. Самонаблюдение показывает ему и нечто общечеловеческое. Мы знаем по себе, что значит быть справедливыми, говорит он. Августин принимает сократовское и платоновское «Познай самого себя!» и радикально приспосабливает это к христианству. Только учение о Троице дает Августину ключ к пониманию единства и многогранности личности. Личность всегда помнит, понимает и любит самое себя — точно так же, как Триединого Бога.
Главными вратами в тайну личности стала для Августина память. Память была складом со множеством помещений. Там хранились чувственные впечатления, и оттуда они возвращались обратно в сознание. Иногда приходилось извлекать их оттуда усилием воли. Иногда они появлялись оттуда непрошеными, словно во сне. Все понимание и учение было обусловлено памятью. Что–то сохранялось намеренно. Что–то — неосознанно. Но память скрывает много этажей и ступеней, так что она может размышлять о самой себе.
Августин помещает в память и самосознание. Есть нечто, чего мы не можем забыть, а именно то, что мы существуем. Воля действует заодно с памятью — это происходит и тоща, когда что–то попадает в память, и тогда, когда извлекается из нее. Но память избегает полного контроля со стороны воли. Особенность человека в том, что он может хотеть помнить. Память хранит не только внешние впечатления, но и внутренние. Она может помнить самое себя. Глазу необходимо зеркало, чтобы увидеть себя, а душа знает себя, она как будто хранит память о самой себе. Августин говорит в «Исповеди», — книга X, которая содержит его самые глубокие рассуждения о памяти, — что он помнит, как помнил случаи из своего детства!
С памятью можно познакомиться только через воспоминания. Да и само слово «память» можно понять только потому, что помнишь, что это такое и что это слово означает. Память — это главный инструмент непрерывности личности. Августин помнит, что у него уже в детстве была хорошая память. Он рассуждает и о том, когда у него впервые проявилось рефлективное самосознание. Но главное, что память дала ему язык, когда он повторял звуки, издаваемые взрослыми. Он помнит чувства, которые испытывал в детстве и которых не испытывает теперь. Как ни странно, он помнит, что что–то забыл. Августина удивляет, что в памяти можно рыться и знать, что там что–то хранится, задолго до того, как найдешь это искомое.
Глава 16. Будни епископа
Многие авторы считают, что из всей античности мы лучше всего знаем Августина. По сохранившимся документам мы можем проследить его жизнь почти день за днем — в первую очередь по «Исповеди» и большому собранию писем. Больше всего исследователей интересуют молодой Августин и его путь к обращению. Во многих изданиях его автобиографии обращение в Милане считается своеобразным happy end беспокойных исканий молодого человека.
А между тем Августин жил долго и после того, как перестал быть грешником. Само собой разумеется, что грешник куда более интересен, чем святой. Однако полный портрет писателя и епископа должен отражать и то, что с ним случилось в последние сорок лет его жизни. Благодаря странным предрассудкам обращение считается победой Августина, а вот к чему эта победа привела, уже мало кого интересует. В Дальнейшем мы будем использовать замечательный труп Ф· Ван дер Меера «Августин — духовный пастырь. Жизнь и деятельность отца Церкви» (F. van der Meer. Augustinus der Seelsorger. Leben und Wirken eines Kirchenvaters. 1951), посвященный жизни Августина как епископа.
Величие Августина в последней половине его жизни имеет совсем не те свойства, какие обычно ищут у этого бескомпромиссного и красноречивого автора. Он стал епископом в затерянном провинциальном городке и оттуда поучал всех христиан. Его время, на первый взгляд, было заполнено самыми будничными, повседневными делами. Но Августин так серьезно относился к будничному и повседневному, что придал ему новое достоинство.
Он больше не вернулся в Италию, но завоевал в Африке такой авторитет, который никто не сумел оспорить или затмить. С 391 по 430 год он жил в провинции, ставшей его истинным монастырем и пробным камнем для его смирения. Внутренний и обычный героизм церковных великомучеников он превратил в повседневную борьбу со сплетнями, ложью и соблазнами. Смирение нашло свое воплощение в Сыне Божием. Если Бог сам позволил себе родиться в яслях и умереть в муках как человек, то и у людей нет оснований напускать на себя важность или торжествовать над кем бы то ни было. Все желания славы и блаженства Августин отложил до следующей жизни.
В течение трех лет Августин был монахом в родном городе в имении, которое он унаследовал от отца. Моника и Адеодат уже умерли, так что Августин остался один и мог целиком и полностью сосредоточиться на своей новой вере. Однако в годы между обращением Августина и принятием им сана пресвитера его христианство было еще сильно окрашено неоплатонизмом. Смыслом христианской жизни он считал мистическую встречу с Богом. Это был аристократический и исключительный тип христианства. Чтобы добиться признания, требовалось много труда и целенаправленных усилий, что было доступно лишь немногим, избравшим особый образ жизни. После 391 года Августин больше воспринимал себя уже не как носителя философской «страсти» — eras, но как избранного проповедника божественного «милосердия» — agape. Он обнаружил, что Бог может избирать ничтожных и презираемых (1 Кор. 1,27), что он сам относится к их числу и что ему нечем хвалиться.
Когда община Гиппона во время воскресного богослужения буквально захватила его в плен и потребовала, чтобы он стал ее пастырем, Августин горячо воспротивился этому. Но многое свидетельствует и о том, что такое избранив было воспринято им как приговор Божий. Таким же странным образом стал в свое время епископом в Мила· не и Амвросий, и, начиная с III века, императоры–солдаты — нередко против своей воли — получали сомнительное императорское достоинство благодаря неожиданному восторгу солдат. Трудно сказать, сколько протестов стояло за этой игрой. Смысл заключался в том, чтобы подчеркнуть, что сан священников и епископов, так же как и императоров, мало зависел от выбора самого человека, но давался ему высшими силами.
Можно предположить, что слеш и протесты Августина были вполне искренними. Этот погруженный в себя индивидуалист действительно боялся стать пастырем обычной общины, которая не привыкла к мистическим объяснениям. Он оказался пленником стада баранов, не обладавших необходимым развитием и пониманием особых потребностей именно этого пастыря. В начавшемся после рукоположения процессе Августин нашел и Церковь как институт, и святое таинство как средство благодати. Августин первым применил выражение servus servorum Dei к своему епископскому служению: «Слуга слуг Божиих». Вскоре после посвящения в пресвитеры в 391 году на него стали смотреть как на будущего епископа общины. Ибо состарившийся епископ Валерий понимал, что именно Авустин является тем человеком, какой необходим Церкви.
Вообще в африканских церквах не было принято, чтобы священники читали проповеди. Читать проповеди было делом епископов. Но когда знаменитый ритор стал священником, его сразу же допустили до кафедры проповедника. Это заставило Августина вчитаться в Священное Писание. Он и раньше хорошо знал отдельные книги Писания, такие, например, как письма апостола Павла, Псалтирь и Бытие. Но только теперь, благодаря обязанности читать проповеди, он принял Писание как незыблемый авторитет и источник истины. Только оказавшись в этом положении, Августин обнаружил, что все книги Писания несут людям одну и ту же весть и что эти книги обоюдно освещают смысл и истину друг друга.
Толкования Августина на Нагорную Проповедь и на рассказ о сотворении мира до сих пор показывают, чтб он сам считал своей главной задачей. Когда африканские епископы встретились в Гиппоне в октябре 393 года, молодому пресвитеру была доверена честь изложить собравшимся Символ Веры. Через год он, вопреки всем правилам, стал соепископом Валерия. После смерти старого епископа в 396 году Августин в сорок два года стал епископом Гиппонским. Обязанности перед общиной поглотили его целиком и полностью. И когда со временем они стали его единственным интересом, произошло его последнее, настоящее и самое значительное «обращение».
Город, в котором Августин был епископом, назывался Гиппон Царский — Hippo Regius, — потому что нумидийские цари предпочитали править оттуда. Теперь от старого города почти ничего не осталось, и у нас нет даже хороших описаний города, сделанных в античности. Вскоре после смерти Августина во время нападения вандалов, а потом и мусульман, город был стерт с лица земли. Археологи обнаружили остатки храма, который был посвящен первомученику святому Стефану и построен во времена Августина. Вообще, надо полагать, что Гиппон, как и все римские провинциальные города такой величины, имел бани, театр и, возможно, стадион. Там, безусловно, был дом для собраний донатистов, крещальня и епископская усадьба. Но все это выглядело весьма скромно.
Едва ли тот храм был больше норвежской приходской церкви. Скамеек в нем не было, во время богослужений люди стояли, мужчины и женщины отдельно. У епископа не было особой кафедры, он обращался к пастве, сидя на возвышении в апсиде. Церковь и ее служители представляли римскую цивилизацию в регионе, где существовали колоссальные различия между немногочисленными богатыми римскими землевладельцами и многочисленными рабами и наемными работниками. Тем не менее, по сравнению с тем, как жили за его пределами, этот провинциальный город был настоящим культурным центром. А вот в сельской местности верующим часто приходилось довольствоваться священниками, которые не умели ни читать, ни писать.
Со временем в городах стали преобладать христиане, тогда как религия в сельских районах представляла собой беспорядочное смешение берберских, пунических, римских и христианских элементов. К тому же через приморские города из восточной части Средиземноморья туда приходили новью религии и ереси. Египет находился совсем рядом.
Из Карфагена в многочисленные города и городки, лежавшие по берегам Средиземного моря, ежедневно прибывали корабли. Христиане рано разработали систему социальной помощи, которая привела к тому, что бедные и необеспеченные люди устремлялись в города, имевшие епископов, ибо знали, что там они не умрут с голоду.
В Африке аристократические семьи не оказывали сопротивления христианству, как это было в Риме, где самые древние и состоятельные роды связывали свои привилегии с дохристианским культом. Однако в провинции старая римская религия постепенно уходила из жизни. При императорах Феодосии и Гонории ббльшая часть старых культовых храмов была закрыта навсегда. С 399 года в языческих храмах Карфагена больше не отправляли культов. Язычество запретили официально, ссылаясь на императорские законы и указы. Храмы закрылись. Статуи старых богов были разбиты или сожжены.
На улицах нередко возникали столкновения между теми, кто приветствовал эти новшества, и теми, кто им сопротивлялся. Группы христиан–отщеленцев часто принимали сторону язычников, выступавших против нетерпимости государственной религии к другим религиям. Но католики и донатисты не брезговали остатками закрытых храмов, когда строили свои молельные дома. Вообще боролись не столько со старой государственной религией, сколько с развивающейся индустрией развлечений — «Шествие праздников Диавола» {ротра diaboll), выражение, взятое из сочинения Тертуллиана о зрелищах — De spectaculis, — которая начала развиваться во времена императоров. Апологеты христианства редко выступали против Юпитера, Геры, Марса и Аполлона. Но все негодовали против кровожадной страсти масс к «хлебу и зрелищам» (Исп. VI, 8; О граде Бож. I, 32). Августин называл молодого Алипия типичной жертвой соблазнов, какими являются развлечения.
Конские бега, театральные представления, кулачные бои и поединки с хищниками оказались более интеоесными и неискоренимыми. Судя по тому, как Августин описывает свою жизнь, искушения и соблазны были связаны не с притягальной силой старых богов, а с традицией «хлеба и зрелищ», которая, по мнению христиан, была совершенно неприемлема. Сопротивление, которое следовало побороть, заключалось не в преданности римским или олимпийским богам, а в пристрастии к «представлениям» (spectacula), в течение многих веков служивших полем и поводом для выражения лояльности к старым богам.
Вполне возможно, что связь между старыми богами и индустрией развлечений, на которую указывали апологеты христианства, начиная от Тертуллиана и кончая Августином, была очевидна только им. Юпитер, Гера, Марс и Аполлон никогда не связывали своих верующих столь личными отношениями, как религии спасения, пришедшие с востока во времена императоров. Поэтому многие христиане не видели ничего предосудительного в том, что делили свое время между амфитеатром и церковью. Гнев богословов был направлен в основном против неустойчивых верующих.
В IV веке произошло массовое обращение в христианство, потому что принадлежность к религии императорской семьи стала сулить ощутимые выгоды. В неглубоко верующих христианских семьях по–прежнему продолжало жить язычество. Поэтому Августину было одинаково важно и научить христиан той форме жизни, какой требовала эта вера, и обратить язычников в христианство. Очень многие язычники приняли тогда христианство. В поздне–римской империи осталось мало язычников, а оставшиеся в конце века не смели даже рта раскрыть (О согл. еванг. 1,21; 1,10). Августин пишет: «Редкий человек говорит в сердце своем, что Бога не существует», — rarum hominum genus est qui dicant in corde suo: non est Deus (Толков. на Пс. 52, 2).
В мире Августина не могло реально существовать ни атеизма, ни нигилизма. Подобные миропонимания были настолько маргинальны, что их рассматривали как своего рода умственное помешательство. Легко забывается, что в период поздней античности христианство и язычество не расходились во взглядах на божественный характер действительности, и обе стороны были согласны стам, что человеческая жизнь имеет объективное значение. А вот по вопросу, сколько существует богов, один или много, и какое именно значение имеет человеческая жизнь, эти группы имели каждая свое мнение. Однако вера в то, что между землей и небом существует больше того, что могут обнаружить человеческие чувства, в основном была присуща и тем, и другим.
Религиозная проблема заключалась не в том, верить в Бога или не верить, а в том, каким образом выразить знания о сверхземных силах и каким образом представить себе их проявление. В том числе: как Бог или боги дают знать о себе? Какими возможностями располагает человек, который хочет заручиться покровительством богов или привлечь Провидение на свою сторону в жизненной борьбе? И наконец, каким образом можно спасти частицу своей личности для вечности, когда смерть и тлен потребуют своего?
Все эти вопросы лежали в основе философии и религии во времена поздней античности. Ни одна из них не представляла собой науку, ограниченную определенными сферами жизни. Только от социальных различий и личных склонностей зависело, предпочтет человек философские или религиозные шаблоны, чтобы погасить тревогу, вызванную этими вопросами. В работе Августина поражает то, что в первой части своего трактата «О граде Божием» он, среди прочего, сортирует всевозможные мировоззрения, существующие на рынке поздней античности, и измеряет их масштабом христианской веры. Он не отклоняет беспричинно ни одну религию, но отводит им место в пирамиде, вершину которой занимает христианство, а одной ступенью ниже под ним стоит платонизм.
Стоики и скептики тоже понимали немало, но, тем не менее, ошибались в существенном. Даже манихеи были не только лжецами и обманщиками. Короче, церковное требование универсальности и церковное требование исключительности, по Августину, не носят ни оборонительного, ни наступательного характера. Августин пытается включить в свою картину мира менее выраженные и дифференцированные понимания действительности, как это Делал апостол Павел в ареопаге. Он говорит не столько об агрессивной истине откровения с императорской монополией во главе, сколько о пирамиде, на вершину которой он сам поднимался всю жизнь и где он не был намерен обсуждать существующие порядки.
Августин — не только справедливый поборник новой и несравненной истины, каким был Тертуллиан. Его «обращение», независимо от того, когда оно случилось и в чем заключалось, — это новое обретение своей детской веры. Он вспоминает истину, которая всегда присутствовала в смирении его матери и которую он покинул, чтобы потом вернуться домой, подобно блудному сыну. В этом смысле книги «Исповедь» и «О граде Божием» посвящены одной теме: в обоих случаях речь идет о движении к всеобъемлющему порядку истины, при котором все мысли и опыт получают смысл, как придорожные станции или ступеньки лестницы. Обращение в течение жизненного пути и Судный День в истории позволят целой и полной истине явить себя (О граде Бож. XX). Но на пути к цели все стадии и ступени этого процесса имеют свои функции.
Особенно важными епископу представлялись те дела, в которых христиане выступали против христиан (1 Кор. 6, 4–6). Обычно это были не уголовные дела, а тяжбы, требующие возмещения ущерба, когда нужно было найти приемлемое решение. Но и в уголовных делах, в которых были замешаны христиане, епископ часто оказывал давление на императорских чиновников. Цель вмешательств Августина всегда заключалась в том, чтобы помочь слабейшим. Состоятельные люди могли нанять адвоката, тогда как поддержка епископа была бесплатной правовой помощью.
Одно дело украсть по нужде, и совсем другое — присвоить себе чужую собственность, если у тебя уже есть все необходимое, говорит Августин (Толков на Пс. 72,12). Эти судебные дела давали Августину прекрасную возможность увидеть тенденции распада, царившие в римском обществе. Когда речь шла о защите справедливости в классовом обществе, Августин не питал никаких иллюзий. Там, где социальный разрыв между противными сторонами был достаточно велик, бессильно было даже «покровительство епископа» (tuitb episcopalis).
В Африке, где жил Августин, работорговля была обычным явлением. Сам он считал рабство злом, но неизбежным следствием первородного греха. Тем не менее, он был противником того, чтобы в рабство обращали свободных людей (Письма, 24). Часто родители сами продавали своих детей в рабство на определенный срок. Бывало также, что «работорговцы» (mangones) из Анатолии совершали набег на побережье, убивали мужчин, а женщин и детей забирали в плен (Письма, 10). Если речь шла только о язычниках, епископ в это не вмешивался. Но, если так поступали с христианами, он протестовал. Мир перевернулся с ног на голову. Теперь нападают варвары и забирают в рабство римских граждан, сетовал он (Письма, 10).
Августин был против применения пыток при судопроизводстве, потому что таким образом к признанию можно было вынудить невиновных. Столь же скептически относился он и к смертной казни (Проп. 302): во–первых, она была необратимым наказанием, и, во–вторых, виновный лишался возможности раскаяться в содеянном (Проп. 13). Виновный должен понести наказание за свое преступление, но человека следует спасти, говорил Августин. Следовательно, он отделял преступника, который как преступник должен понести наказание, от преступника, который как человек имел право на заботу и прощение.
В 413 году Августин вблизи видел смертную казнь. Марцеллин, которому он посвятил три первые книги трактата «О граде Божием» и который в качестве посланца императора был посредником между Августином и донатистами, был заподозрен в сговоре с бунтовщиком Гераклианом и казнен в Карфагене вместе со своим братом. Многое говорит о том, что Марцеллина перед императорской администрацией оговорили донатисты в отместку за то, что он в 411 году отклонил их требования о легитимности. Августин так горячо защищал Марцеллина, что ему пришлось опасаться за собственную жизнь.
Однако его заступничество не помогло. В целом ряде проповедей он обращался к императору с аргументами, опиравшимися на естественное право человека, прося сохранить Марцеллину жизнь. Чужак, противник, враг общества, несмотря ни на что прежде всего — человек, говорит Августин. Каждый приходится другому ближним. Августин поехал в Карфаген и 13 сентября 413 года посетил в тюрьме Марцеллина и его брата. На другой день они оба были казнены без каких–либо дополнительных предупреждений. А ведь в своем сочинении «О порядке» Августин оправдывал профессию палача как часть государственного порядка (II, 4).
Вера в демонов у Августина так же явственна, как и у апостола Павла. Отчасти эта вера объяснялась тем, что добрые ангелы должны были иметь противников, чтобы богословская метафизика не утратила равновесия. Демоны бессильны, и мы должны освободиться от их зла (О граде Бож. VIII, 17–19). И тем не менее они могут «нанести ущерб тысячью способов» — mille nocendi artes. Цитата взята из Вергилия (О граде Бож. II, 10; ср. Энеида, VII, 337). Августин пересказывает учение Апулея о демонах (О граде Бож. VIII, 16; IX, 3 и 8) и делает к нему дополнения (Письма, 9,3; О граде Бож. XVIII, 18). У Апулея боги живут на небесах, демоны — в водухе, а люди — на земле. Демоны вечны, они являются посредниками между богами и людьми. У платоников демоны отнюдь не всегда были злыми.
Но Авустин отстраняется от платоников и решительно заявляет, что демоны злы (О граде Бож. IX, 1–2). Демоны могут служить причиной возникновения войн, и они же вдохновляют театральные представления! (О граде Бож. II, 25). Они кружат вокруг луны и ждут Судного Дня. В 406 году Августин пишет небольшой труд на эту тему, читать который весьма интересно: «О прорицании демонов». Конечно, демонология неоплатоников в какой–то мере повлияла на Августина. Демоны — это падшие ангелы, которые невидимо витают в воздушном пространстве и подстрекают к непослушанию и подлостям. Но Августин называет местожительством демонов и ад в центре земли (О граде Бож. XI, 33).
Альтернативу демонам могли составить языческие боги, которые теперь остались без дела и не могли придумать ничего другого, кроме, буквально говоря, дьявольских проделок. Их фальшь была разоблачена. Они не могут помочь нам, когда дело касается бренных вещей, и уж они–то никак не могут приобщить нас к вечной жизни, говорит Августин (О граде Бож. VI, 12). В 95 псалме говорится, что все языческие боги — daemones. В своей книге о прорицательских способностях демонов Августин говорит, что демоны—обманщики и фокусники, которые удивляют публику своей способностью пройти через стену и войти в материальные тела. «Фальшь» в данном случае означает не то, что они ненастоящие, а то, что на них нельзя полагаться.
Таким образом Августин ни минуты не сомневается в существовании или коварстве демонов, но заявляет, что они злы и жаждут одного — навредить людям. Они рас» пространяют болезни, внушают злые помыслы и порочные желания. Они господствуют на земле и имеют силу в воздушном пространстве над землей. Единственный способ победить их — это привлечь на свою сторону более могучие силы с более высоких небес. Самое лучшее не обращать на них внимания и предоставить их самим себе. Главное, нельзя страшивать у демонов совета или полагаться на их слова. Святые таинства могут прогнать демонов и удерживать их на расстоянии. И апостол Павел, и Августин, и Лютер говорили о разрушительной силе демонов с реалистической достоверностью, и на них часто ссылались при изгнании злых духов. И если христианская паства до сих пор признает вместе с верой «очищение от демонов», это тень древней демонологии.
Даже став епископом, Августин не отказался от философии. Но он научился смотреть со стороны на все, что приобрел. Он больше не мог рассматривать философию и христианство как одно и то же. Древние философы не знали о смерти Спасителя на кресте или о его воскресении из мертвых. Они признавали мудрость Бога, но не инкарнацию мудрости в истории. (Пр. академ. Ill, 19; О порядке, II, 5). Августин никогда не забывал, что именно платоники освободили его от манихейского материализма. Желание участвовать в мыслях Бога и представление о Боге как вечно неизменном не оставляет Августина до самой смерти (Исп. VI, 5; Рассужд. на Еванг. от Иоан. II, 4; О граде Бож. VIII, 8–9).
Определение платониками зла как «умаление добра», или отсутствие блага (privatio boni) остается для Августина темой, которой он был верен всю жизнь (Исп. Ill, 7). Несколько позже в трактате «О граде Божием» он уже яснее видит то, что связывает, нежели то, что отличает, платоновского «Тимея» от библейского рассказа о сотворении мира. Платоническим является и его твердое убеждение в том, что чувства обманчивы и что только мышление может привести к познанию — правда, с помощью божественного «просвещения» (iiiuminatio).
Fine живя в Карфагене, Августин записывал свои мысли: «Я не знал, что ее (душу. —Л. Г.) надо просветить другим светом, чтобы приобщить к истине, потому что в ней самой нет истины. Ибо Ты возжигаешь светильник мой, Господи; Бог мой, просвещает тьму мою»» (Исп. IV, 15; Пс. 17, 29). Именно через душу — или вернее через «дух» (animus, mens или spiritus) — человек создан «по образу Божию». Человек — это душа, которая пользуется телом как инструментом (О граде Бож. XI, 2). Все эти мотивы Платона в конце века выдержали в сознании Августина проверку учением ап. Павла. Но важнее всего, наверное, то, что вера по–прежнему представлялась Августину средством к познанию, чем–то, что может быть использовано для получения знания, инструментом на пути к встрече с Богом, а не как цель сама по себе.
Непредвзятый разум с его идеалами ответственной свободы, достоинства, самопознания и соучастия — вот аспекты современного изучения личности. Все это требует способности к рефлексии — личность делает предметом своих размышлений самое себя. Современная личность формируется и живет в постоянном самоотражении. Существует явная этимологическая связь между «рефлексией» как действием мьюли и «отражением». И все–таки появление способности к рефлексии — это лишь часть истории о современной личности. На пути к нашему времени возникает много других метафор и мотивов. Ценность личности и истина утрачивают связь с преображением в героя или чудесным восхождением к сферам одиночества.
Повседневная жизнь с ее рутиной производства и воспроизводства, характерная для моделей мышления античности и средневековья, едва ли могла считаться полноценной человеческой жизнью. Рабы и животные влачили жалкое существование. И вдруг оказалось, что обычная человеческая жизнь — нечто большее, нежели только необходимые производство и воспроизводство. Хорошая, правильная жизнь, жизнь, служившая образцом, стала для повседневности своего рода трамплином, исходной точкой, чтобы человек мог считаться человеком в полном смысле слова. Те, кто делал лишь то, что требовалось для биологического воспроизводства, вообще не заслуживали права называться людьми. Для большинства писателей и античности, и средневековья смысл человеческой жизни состоял в том, чтобы переступить порог повседневности. В этом вопросе зрелый Августин представляет собой странное исключение.
При Аристотеле в классические времена греческого полиса «теоретическая жизнь» — bios theoretikos — и «жизнь в политической деятельности» — bios poiitikos — была конечным смыслом обычных задач. Платону, жившему на поколение раньше, человеческая жизнь и полис представлялись бессмысленным хаосом, если не были обеспечены философской справедливостью, которую гарантировали знающие и хранящие ее надзиратели. Позже, для стоиков и неоплатоников, смысл человеческой жизни заключался в том, чтобы удерживать на расстоянии плотские потребности и страсти. Борьба души со страстями и потребностями плоти содержит именно отказ от повседневной жизни из–за ее недостаточности.
Смысл жизни был в том, чтобы подавлять и контролировать плотские желания. Это требование имело откровенно социальное значение, заключавшееся в том, что большинство людей не являлись людьми в полном смысле слова. Человек становился тем, чем ему позволяли стать собственные усилия и решение поставленных перед собой задач. Лишь тот, кто методично боролся с насущными потребностями, мог служить образцом. Борьба души с телом была идеологией борьбы меньшинства с большинством, а также «мужской» идеологией, считавшей неполноценной женскую жизнь. Ибо женщины, беспрерывно рожая детей, были пленницами воспроизводства так же, как рабы были пленниками производства.
Очевидно, что смысл жизни был далек от формы жизни, какую вели женщины или рабы. Философам, аскетам, монахам, монахиням, воинам и повелителям доставалась частица славы, которая была бы для них недосягаемой, если бы они предпочли жить обычной жизнью. Иерархическому обществу соответствовала иерархическая модель жизни, пирамидальный характер которой давал избранным формам жизни ощутимые преимущества перед обычными, то есть распространенными формами. Норма реализовывалась лишь в исключительных случаях.
Самая великая революция XVI века состояла в том, что достойной жизнью была объявлена жизнь обычных людей. Работа и брак, производство и воспроизводство вдруг ста· ли считаться этически полноценной деятельностью. Этот поворот произошел в городской культуре начала Нового времени, ценившей полезное и конкретное, и был сцементирован богословием реформаторов, говоривших о труде и семейной жизни, как о «призвании». С начала XVI века монах, рыцарь и далекие от мира еретики в глазах большинства превратились в шутовские фигуры.
«Дон Кихот» Сервантеса (1605), эта пародия на рыцарский роман, — пример юмора, появившегося вследствие сглаживания иерархии, имевшей своей моделью пирамиду. Люди, явно стремившиеся возвыситься над обычным, подвергались презрению. Другой пример—критика Фрэнсисом Бэконом (1561–1626) науки, не приносящей пользы, и теории, далекой от жизни. Научные знания должны способствовать тому, чтобы изменить будни людей, требует Бэкон. Нападки реформаторов на бесплодную монастырскую жизнь — вот третья точка разрыва с идеалами героической жизни.
Но, как говорит Ортега–и–Гасет в «Восстании масс» («La rebelidn de las masas», 1930), — «общество аристократично, хотим мы того или нет». Общество может установить новые нормы настоящей аристократичности, но не может существовать без иерархии ценностей, независимо от того, какими бы странными и нелепыми они ни были. Когда мы теперь слышим, что аристократия исчезает, мы непременно должны спросить: откуда она снова вынырнет? Куда делись те идеалы героической жизни, которые исчезли с началом Нового времени?
В начале Нового времени класс ремесленников присвоил себе ббльшую часть чести, которую старые господствующие классы фадиционно считали своей. История была переписана заново, изобретательность и трудолюбие стали главными добродетелями. Уже Фрэнсис Бэкон говорит, что развитие науки и техники в меньшей степени зависит от теоретиков, чем от практиков. Новыми аристократами стали теперь те, кто мог усовершенствовать повседневную жизнь.
Самоуверенные горожане XVI века потешались над гордостью монахов, рыцарей и схоластов — их собственная гордость требовала иного. Главное было в том, что внешние условия и обстоятельства жизни перестали играть решающую роль. Новые ценности, рекламируемые городской культурой и реформацией, стали доступны всем. Это означало естественную демократизацию жизненных идеалов. Но одновременно это означало, что требования совершенства стали носить более личный и индивидуальный характер. После того, как повседневная жизнь стала считаться достойной, все зависело уже от того, как человек жил. Ремесло, торговля и личное благочестие стали носителями новых представлений о совершенстве. Оказалось, что смысл жизни возможно реализовать в обычном производстве и воспроизводстве; все зависело от способа, каким это достигалось.
Реформаторы отказались от посредствующего звена в отношении с Богом и поставили требование послушания, общего для всех, непосредственно перед человеком. Обычные христиане уже не могли ссылаться на церковные таинства, святых или обитателей монастырей и держаться на безопасном расстоянии от требований Бога, которые в первую очередь касались избранных и отмеченных. Нет, по христианской идее реформаторов, все становились избранными и отмеченными, некого было винить и не за кого было прятаться. Человек не имел права на ошибку. Благодать была непосредственным даром Божиим каждому человеку. В протестантском смирении верующий находится в неприятной близости к своему Творцу. Верующему нечем хвалиться, не на что ссылаться, он должен принимать веру — не только благодать — как незаслуженный дар.
Прежде Бога связывали с литургией и ее таинствами, с определенным местом, временем и событиями, понятными людям. Теперь же все это, вплоть до почитания мощей и паломничества к святым местам, было отодвинуто в сторону. Теперь человек перед Богом был одинок и беззащитен. При этом обычной жизни уже не было никакой альтернативы. Бог непосредственно вмешивался в дела людей, где бы они ни находились.
Религиозное иерархическое мышление отошло на второй план, и важнее всего стала преданность каждого верующего. Она означала близость к обществу святых, а не участие в общих церковных таинствах. Сила преданности стала пропуском в новую религиозную иерархию. Там, где сохранились «внешние» символы, они обрели свой смысл от «внутреннего» присоединения. Церковь перестала быть вместительным пассажирским кораблем, плывущим в Иерусалим; после реформации уже каждый человек греб изо всех сил в своем челне.
Все то, что раньше разделяло мирскую и сакральную сферы, попадало под подозрение. Бог присутствовал повсюду до того, как он окончательно не скрылся из виду. В выборе между различными христианскими формами жизни монастырской жизни предпочли семейную. «Призвание» в католическом смысле означало призвание к пасторскому служению или к монашескому постригу. Для реформаторов оно стало означать призвание делать все как можно лучше там, где человек оказался. Все призвания равноценны, говорил Мартин Лютер (1483–1546). Важно не то, что человек делает, а то, как он это делает. Хуже всего праздность, то есть, если человек не делает вообще ничего полезного. Дисциплинированный труд — это труд во славу Божию. Даже брак может служить во славу Бога.
Августин один из немногих, если не единственный мыслитель античности, который предвосхитил современное понимание повседневной жизни. Именно Моника показала ему, что и повседневная жизнь может быть достаточно героической. До того как Августин стал епископом, он благодаря манихейству и неоплатонизму попал в ту героическую ловушку, где обычный смысл человеческой жизни состоял в преодолении жизненных потребностей. Переход к делам епископским стал для него чем–то большим, нежели упражнением в личном смирении. Он обнаружил и выразил почти по–современному, что драматическая борьба в повседневной жизни и героизм обыденности более чем достаточны, чтобы жизнь человека обрела смысл и истину. Он дал форму, голос и лицо христианству простых людей, которое уже миновало свою героическую стадию и пыталось найти свое место в повседневной жизни. Благодаря проповедям и сохранившимся письмам мы можем проследить день за днем последнее великое превращение Августина. Штурмующий небеса нашел свое место и свой долг в бесконечном решении патетических будничных проблем неимущих мелких грешников.
Глава 17. Тело, пол и половая жизнь
Многое можно сказать и многое ужа было сказано о презрении Августина к плоти и о его враждебном отношении к половой жизни. Но ни одно из этих понятий полностью не объясняет его отношения к плоти и полу. Когда Карл Микаэль Белльман писал стихи о вине и женщинах, он воспевал связанные с ними слезы. Но мы бы плохо характеризовали Белльмана, назвав его пьяницей и женоненавистником. Просто, столкнувшись с этим, Белльман нашел свою погибель, увидел свои слабости и недостаток способности разумно и по собственному желанию контролировать свою жизнь. Я всегда вспоминаю Августина, когда слушаю Белльмана, и Белльмана, когда читаю Августина. Ибо те особые пороки, которые и веселили, и мучили их, представляют собой еще более тяжкое бремя — а именно унижение, связанное с тем, что ты оказался существом мимолетным, которое не в состоянии собственными силами исполнить свое предназначение.
Поскольку Августин — один из крупнейших представителей платонической традиции в христианском мышлении, много внимания уделялось его пониманию тела и души, половой жизни и брака. Многие обвиняли платоновский дуализм в несправедливом отношении к телу и его потребностям, что красной нитью проходит через основные моменты истории западного мышления. Стандартным трудом об этой стороне мышления отцов Церкви является книга Питера Брауна «Тело и общество. Мужчины, женщины и половое воздержание в раннем христианстве» (Brown, P. The Body and Society. Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity, 1988).
Августин был платоником хотя бы в том смысле, что его «обращение» в Милане означало для него отказ от искушений этого мира, то есть от стремления к славе, власти, богатству и знаменитости плюс от брака и половой жизни. Только отказавшись от благ этого мира, он освобождался для служения Богу. Августин и его друзья, собравшиеся вокруг него после его возвращения в Северную Африку, называли себя «слугами Божиими», что говорило об их желании владеть собственностью сообща и вести целомудренный образ жизни.
Отношение Августина к браку отчасти определяется тем, что для него самого и его семьи на первом месте стояли общественные амбиции. В Римской империи браки заключались, главным образом, между своими по классу, то есть между лицами, равными по социальному положению. Мужчина, имевший тщеславное желание подняться по социальной лестнице, обычно вступал в брак поздно. Сперва он должен был узнать, насколько брак улучшит его социальное положение. Молодому человеку ни к чему было связывать себя с дочерью соседа, если в будущем ему могла подвернуться возможность заключить брак более выгодный с социальной точки зрения. Моника боялась, что какая–нибудь простая женщина окажется колодками на ногах Августина (Исп. II, 3).
Поэтому представляется естественным, что Августин не женился, но взял себе конкубину, когда ему было восемнадцать лет. Уже через год у них родился сын Адеодат. Августин и мать Адеодата прожили вместе тринадцать лет, пока не случилось как раз то, что предвидела его семья: он получил возможность увенчать академический успех выгодной женитьбой. За всем этим стояла его мать. Но тут произошло нечто, чего никто из них не мог предвидеть, а именно отказ Августина от всех социальных амбиций как следствие «обращения». Представление о браке, которое Августин разделял со своим временем, относил женщину в ту же группу, что славу, тщеславие, власть и богатство.
Чисто сексуальная сторона дела была сильно приглушена, потому что половая жизнь и брак имели в то время между собой меньше общего, чем это представляется в наше время. Само собой разумеется, что целомудренный образ жизни означал отказ от чувственных наслаждений, но, главным образом, это было признанием того, что человек поставил себя вне социальной жизненной борьбы. Ибо во времена Августина половой жизни не придавалось такого значения, как теперь. Конкубинат не осуждался Церковью, если мужчина хорошо обращался с женщиной. Похоже, что и для Августина дружба с единомышленниками–мужчинами была очень важна для его духовного благоденствия и представлялась более серьезным делом, чем сексуальное партнерство с женщиной.
Бурная половая жизнь стала для Августина проблемой еще в его отношениях с манихеями, у которых он, начиная с 373 года, был в Карфагене учеником. Если бы он примкнул к внутреннему кругу секты, это потребовало бы от него полового воздержания. Манихеи считали зачатие детей злой службой силам тьмы. Один из их приемов, которыми они пользовались, чтобы привязать к себе сторонников, состоял в том, чтобы, доведя кандидата до неврастении, парализовать его половые способности. Каждый раз, когда кандидатов мучили искушения, им напоминали о запрете. Манихеи в принципе отказывались и от брака, и от конкубината.
Многие исследователи Августина считают, что он так никогда и не освободился от усвоенной у манихеев враждебности к противоположному полу. Однако нет оснований отдавать предпочтение манихеям. У неоплатоников и в христианской традиции тоже содержались четкие рекомендации целомудренной жизни: «Хорошо человеку не касаться женщины» (1 Кор. 7, 1); «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу; А женатый заботится о мирском, как угодить жене» (1 Кор. 7,32–33). Повернуться спиной к чувственному миру означало в первую очередь отказаться от брака и половой жизни. Манихеи истязали себя и ограничениями в еде. Жизнь тела была частью превосходства враждебной материи. Поэтому человек должен был подавлять ее всеми возможными способами.
Неоплатоники, кроме того, пользовались незавуалированными сексуальными метафорами, говоря о своих метафизических экстазах. Августин тоже ждал Божиих «объятий» — amptexus (Исп. II, 2). Смысл таких метафор был не только в том, чтобы описать неизвестное с помощью хорошо знакомого, но и в том, чтобы объявить бесплотные экстазы более чем полноценной заменой земному вожделению: «…не члены, приятные земным объятиям, — не это люблю я, любя Бога моего. И однако я люблю некий свет и некий голос, некий аромат и некую пищу и некие объятия — когда люблю Бога моего; это свет, голос, аромат, пища, объятия внутреннего моего человека — amplexus interioris hominis mei» (Исп. X, 6).
Эти метафизические объятия и соития постепенно внушили Августину отвращение к физическим радостям. Отношение между чувственным и сверхчувствежым стало восприниматься как вопрос о верности. Он понимает, что нельзя предаваться чувственному, будучи верным сверхчувственному. Нельзя постичь сверхчувственное, не повернувшись спиной к чувственному. Последствием «обращения» Августина в Милане стал выбор дружбы с единомышленниками–мужчинами, а не сожительство с женщиной или брак.
Почти до начала V века христианство Августина было отмечено тем, что аскетические беседы с единомышленниками были для него единственно возможной формой жизни. Однако епископские обязанности сблизили его с жизнью простых людей, и он постепенно осознал, что должен пересмотреть свое понимание христианства, иначе он придет к разделению верующих на первый и второй сорт так же, как манихеи делили свою паству на многих «сторонников» и немногих «избранных». Каким образом следует соединять аскетизм с уважением к обычным грешникам?
Став епископом, Августин отказался от самых крайних проявлений аскетизма. В Африке действовали другие правила и господствовали иные побуждения, нежели в Италии. В Риме и Милане Августин познакомился со снобистским аскетизмом высших слоев общества, который иногда вдруг поражал некоторых богатых наследников и благородных дам подобно своего рода летней простуде. Африканская действительность была совсем не такая. Недостаток священников привел к тому, что перестали строго следить за тем, женат ли священник или имеет сожительницу. Августину очень не нравилось высокомерие, с которым целомудренные люди относились к обычным верующим. Когда целомудрие стало модой высшего класса, все великомученицы задним числом были объявлены девственницами, дабы мысль об их браке не испортила впечатления от их святости!
Если Августин как новообращенный в первую очередь жаждал чистоты для себя и своих друзей (ср. Исп. VIII, 6), епископ в нем мыслил более широко. Молодой Августин колебался и молил Бога: «Сделай меня чистым и воздержанным, но еще не сейчас!» — sed noli modo. Мысль о Церкви как о сообществе, состоящем из более или менее искренне верующих, спасла Августина от элитарного аскетизма, который привел Амвросия, Иеронима и Пелагия к высокомерию, граничащему с презрением к людям. Августин постепенно обнаружил, что такой банальный общественный институт, как брак, способен обеспечить мир и порядок в общественной жизни.
Многие отцы Церкви считали, что половая распущенность — это следствие грехопадения Адама и Евы. По–видимому, первые люди пребывали в состоянии, лишенном плотских желаний. Смерть появилась в мире только после грехопадения. Таким образом и размножение стало необходимым только после грехопадения. Такое понимание освобождает человека, созданного по образу Божию, от сексуальных потребностей и делает половую жизнь признаком того, что в мир пришел грех. А жизнь отшельников и аскетов становится подобием высшей формы человеческой жизни, какая была до грехопадения. Так считали и переводчик Библии Иероним, и Григорий Нисский.
Однако зрелый Августин считал Адама и Еву людьми, обладавшими телом, и потому их сексуальные потребности были вполне похожи на наши (О граде Бож. XIV, 22–23). Бог дал им половое влечение, дабы укрепить Дружбу между ними. Адам и Ева, по плану Божию, должны были положить начало размножению человеческого рода. Кроме того, Августин считал, что Бог определил, чтобы Адам правил Евой и детьми. Таким образом, не только половое влечение получало райские примеры, но и патриархальная семья, какой Августин знал ее по своему времени и опыту.
В толковании Августина не аскеты объявлялись святыми в рассказе о рае, но обычный брак и обычная семья. Епископ отвернулся от преувеличений, которые допускал в молодости, и презрительно отозвался о том, как Иероним относился к браку и к девству. Еще до грехопадения Бог сказал Адаму и Еве: «Плодитесь и размножайтесь!» (Быт. 1,28). Однако Августин не мог представить себе, что смыслом брака может быть сексуальное наслаждение. Он всегда горячо поддерживал общие и добровольные решения супругов относительно воздержания в половой жизни. «Брак Ты допустил, но посоветовал состояние лучшее», — говорит Августин Богу (Исп. X, 30). Смыслом брака была дружба, а целью половой жизни — размножение.
Половые отношения были подчинены дружбе и представлены как предпосылка для размножения. Но сами по себе они не могут быть добром, радостью или целью. Защита обычного брака не предусматривала принципиального отказа от идеала девства. Августин пытался найти в Церкви место и для того, и для другого. В трактатах «О супружеском благе» (401), «О святом девстве» (402) и «О благе вдовства» (414) Августин излагает свои мысли о месте брака и девства в Церкви. Новым у Августина было не презрение к плоти, но нечто совершенно противоположное: картина дружбы между мужчиной и женщиной как воспоминание гармоничной жизни Адама и Евы до грехопадения и как предвосхищение всеобъемлющей гармонии в Небесном Иерусалиме.
Между тем половая жизнь — не только одна из составляющих основ общества. Она способна вызывать конфликты, которых можно избежать, если жить в дружбе без интимных отношений. Ибо не половая жизнь, а дружба связывают вместе мужчину и женщину. Дружба — это цель, половые отношения — средство. Тем не менее, Августин не смешивает грехопадение с половыми отношениями (Письма, 166,9). Грехопадение способствовало извращению человеческой воли и не имело ничего общего с половыми извращениями. Следствием грехопадения было ограничение способности к дружбе и жизни в сообществе. Оно не объясняется слишком большими требованиями со стороны Бога. Не было ничего проще, как не есть в раю того злосчастного плода. Но люди предпочли неповиновение. Свободная воля была предпосылкой, а гордость — причиной катастрофы (О граде Бож. XIV, 13). Этот первый грех стал первым грехом человека, и. из–за него изменилась сама природа человеческого вида (Пр. втор. отв. Юл. IV, 104).
Таким образом, жизнь в сообществе была не результатом грехопадения, но становилась проблематичной и уязвимой из–за того, что воля к добру была извращена непослушанием. Лишь когда тело становится смертным, оно превращается во врага. Ибо душа желает общности с телом, которой мешает смерть. Поэтому Августин не приветствует разлуки тела с душой, приходящей со смертью, как это делал Сократ. Напротив, райская и таинственная тоска души жаждет воскресения плоти, потому что тело и душа принадлежат друг другу!
Многие из критических замечаний Августина о половой жизни объясняются силой обычаев. Августин всегда помнит о силе обычаев как одной из форм проявления греха (Исп. Ill, 7): людей возмущают обычаи, которых они не знают, но они подчиняются тем, к которым привыкли. Сила обычаев ограничивает свободу воли и привязывает наши желания к привычкам, от которых очень трудно освободиться. Особенно это касается половой жизни. Тут Августин говорит, исходя из собственного богатого и горького опыта. Отослав прочь мать Адеодата, он до женитьбы был вынужден взять себе новую сожительницу. Так он обнаружил принудительный характер своей привычки. Сексуальный опыт способствовал открытию: личность может в одно и то же время испытывать противоположные желания.
Для Августина борьба с самим собой была подтверждением рассказа о грехопадении. До грехопадения у Адама и Евы не было разногласий между душой и телом, желанием и волей. Высокомерие, неповиновение, гордость и стыд начинают новую историю. Так возникают противоположные побуждения воли. Конфликты воли занимают Центральное место в познании Августином самого себя. Он относит противоречия своей личности к грехопадению и потере райского состояния. Мария единственная со времен грехопадения испытала, что тело и душа, воля и желание нашли друг друга в нерасторжимой гармонии. Ее покорность Господу была так же безусловна, как покорность Адама и Евы в раю.
Нет никаких признаков, указывающих на то, что Мария испытывала противоречия, подобные тем, какие стали главной темой в жизни Августина. Для него половая жизнь — это тревожный признак, ибо она противоречит сознательной воле. Половая жизнь похожа на смерть тем, что может идти наперекор воле и сметать на своем пути все планы и намерения. Его конкретно интересует независимость половых органов от воли. Их неуправляемость напоминает о неконтролируемых ударах сердца. Точно так же родственны между собой половая жизнь и смерть. Первая представляет собой начало жизни, другая — ее конец. Неуправляемость их обеих — это напоминание о первом неповиновении в раю.
Учение Августина о браке и девстве обрело столь долгую жизнь потому, что отвечало интересам Церкви, утверждавшей ценность целибата и воздержания одновременно с восхвалением брака, который она объявляла нерасторжимым святым таинством. Такой идеологический парадокс мог сформулировать лишь очень опытный ритор, а Августин в этом вопросе достиг совершенства. В этом виде его формулировка учения Церкви дошла до наших дней. Высказывания Августина использовались осуждавшими применение противозачаточных средств, аборты, неверность и разводы. Но его учение не было юридическим компромиссом. В своей исторической ситуации Августин столкнулся с вызовом с двух сторон — со стороны манихеев и со стороны пелагиан — и их крайне противоположные исходные позиции помогли ему сохранить равновесие.
Августин заботился о том, чтобы одинаково отстраниться от обеих групшфовок Манихеи считали размножение пагубным, а плоть — злом Многие христиане тоже не отставали от них в аскетическом самоистязании и презрении К телу. Но мысль о добром Творце и об инкарнации не позволяла им вести планомерную войну против тела и его функций, как это делали гностики. У манихеев вести целомудренную жизнь должна была верхушка общины, посвященные, а рядовые приверженцы Мани практиковали применение противозачаточных средств, дабы не привязывать к материи больше душ, чем это было строго необходимо.
Именно им Августин возражал в старости, говоря, что смысл половой жизни не только в дружбе, но и в продолжении рода. Таким образом все варианты соития, которые исключали возможность произвести на свет потомство, объявлялись противоестественными. В книге «О супружеском благе» (401) Августин говорит о браке как о священном институте и потому считает развод возможным только в исключительных случаях. Главный смысл брака не в половой жизни, а в дружбе. Иосиф и Мария, по мнению Августина, были супругами, хотя и не имели половых отношений.
В полемике с манихеями Августин выступает защитником свободной воли. В борьбе с пелагианами он, однако, защищает «первородный грех» и детерминистские силы (выражение peccatum originale используется уже в трактатах «Об истинной религии» (15,29) и «О свободном решении (ill, 19). Вожделение и эротика служили примером того, что не все подчиняется свободной воле. Так в мышлении Августина тесно связываются между собой половые отношения и первородный грех. Борясь против манихеев, Августин формулирует почти пелагианскую точку зрения. А выступая против пелагиан, он пользуется такими формулировками, которые дают повод обвинить его в том, что он все еще остается манихеем.
Пелагиане предъявляли верующим самые строгие требования, ибо считали, что человеческая жизнь управляется свободными решениями. А потому не существует границ для степени совершенства, какую можно требовать или ждать от человека. Августин, со своей стороны, считал, что после грехопадения человек частично утратил свободу воли и что весь род человеческий унаследовал от Адама и Евы это ограничение. То есть, что весь род человеческий был осужден из–за неповиновения его прародителей. Это осуждение проявляется и в смертности человека, и в его не поддающейся контролю половой жизни.
Августин пытается разграничить манихейское требование девства, основанное на убеждении, что плоть — это зло, и их неприязнь к Творцу материального мира от собственного почитания девства, в основе которого лежала любовь к Богу и которое к тому же зависело от благодати Божией. В 380–х годах Иероним склонил некоторых римских аристократок к целибату. Но как быть с обычными верукхцими, он не знал. Он исходил из безусловного отказа от брака, что явствует из его сочинения «Против Иовиниана» (Adversus Jovinianum).
Монах Иовиниан отказался от аскетизма, девства и постов. Единственное средство спасения он видел в крещении, которое должно было уравнять всех — женатых и холостых, обжор и постящихся. Против Иовиниана Иероним сформулировал отвечающие моде тирады о девстве таким образом, что они более или менее совпали с презрением манихеев к плоти и размножению. Августин ничего не имел против девственниц, но ему удается защищать девство, не нападая при этом на брак. Апостол Павел поступал точно так же. Характерно, что Августин излагает свое учение в двух трактатах, написанных почти одновременно — в одном он защищает брак, в другом — девство. Это равновесие было необходимо, потому что он опасался такого же раскола христианской общины, какой вызвала в общине манихеев, в частности, их сексуальная практика.
Создается впечатление, будто Августин считал, что первородный грех перешел на весь род человеческий через греховное вожделение при соитии и что таким образом он рассматривал саму по себе половую жизнь как источник заразы. Первородный грех понимался им как инфекция, которая осуждала потомство на смерть. Вот до грехопадения половая жизнь была безгрешна и управлялась волей. Августин считал, что у Адама и Евы воля и вожделение находились в полной гармонии.
Поэтому актуальная гибельность половой жизни — это особый случай обычной испорченности, явившейся следствием неповиновения. Манихеи не могли даже представить себе безгрешную половую жизнь. А вот Августин мог. Грехопадение навсегда изменило человеческую природу. Неподдающееся контролю вожделение, импотенция и стыд показывают, что половая жизнь была вовлечена в грехопадение. Поэтому обязательный аскетизм не может быть решением проблемы. Девство в любом случае было бы благодатным даром, а не поводом для гордости.
У Юлиана Экланского (380–454) Августин нашел те же самые аргументы, которые раньше Иероним нашел у Иовиниана. Юлиан обвинил Августина в манихействе. Если понимать Августина буквально, брак нужно считать сомнительным институтом, а продолжение рода — злом, говорит он. Неужели Августин считает, что Бог ошибся, сотворив два пола? Неужели Августин считает, что родители убивают своих детей, зачиная их в вожделении? В своей книге «О браке и вожделении» (420) Августин отвечает ему, что благодать Божия распространяется на всех, кто заражен первородным грехом. Христианская вера не может физически передаваться следующему поколению, им в наследство досталась павшая природа человека. Августин обрушивает на Юлиана свои риторические тирады о безграничной милости Божией так, что последующие нападки со стороны Юлиана должны были восприниматься как его сомнение в достижимости Божией благодати. Риторское искусство позволило Августину выиграть эту дуэль с Юлианом.
Итак, Августин вырвался из тисков с помощью простого адвокатского приема, но ведь он сам загнал себя в угол, из которого не было другого выхода. Именно в таких ситуациях он показывал себя непревзойденным мастером, умевшим возлагать на противную сторону обязанность представлять доказательства или отвечать темными подозрениями. Результат подобных размышлений редко бывал однозначным. Также и по этой причине высказывания Августина были подходящим инструментом для дальнейшей церковной традиции: их всегда можно было истолковать иначе. Августин должен был непротиворечиво соединить доброту Творца с фактической развращенностью Творения, священную легальность брака с высшей ценностью девства, греховность полового вожделения с естественной необходимостью продолжения рода. Интересы Церкви были столь многочисленны и сложны, что только очень опытный ритор мог не заплутать в этом лабиринте.
Глава 18. Читатель Библии
Как проповедовал Августин? До нас дошло 396 проповедей, записанных с его слов, так что понять его метод может каждый. Три последние книги «Исповеди», в которых Августин аллегорически объясняет первые стихи Книги Бытия, показывают, как он толковал Священное Писание. Библия сменила ссылки язычников на стихи Гомера и Вергилия. Августин во многом секуляризует картину мира и общества в период поздней античности. Он рассматривает Римскую империю как чисто человеческий институт, как дело рук человека, не обладающее вечными санкциями. Кроме того, он удаляет все следы язычества из повседневной жизни.
Как уже говорилось выше, Августин не знал греческого. Со временем он написал книги, заменившие сочинения греческих богословов. Таким образом, незнание греческого оказалось важным для богословской самостоятельности латинской Церкви. Между 395 и 410 годом Августин написал тридцать три книги, множество длинных писем и заново сформулировал для своих латинских сторонников и читателей все аспекты христианской веры.
В трактате «О христианском учении» Августин Дает ясное представление о теории проповеди. Первые три книги этого трактата он, вероятнее всего, написал в самом конце столетия (397), тогда как четвертая книга, которая в основном состоит из примеров с комментариями, написана, очевидно, в то же время, что и «Пересмотры» (426). Это сочинение содержит библейскую герменевтику и учение о церковной риторике. Четвертую книгу часто издавали и переводили отдельно от трех первых. Что означают правила традиционной риторики для толкования Библии и изложения христианских истин? Августин неоднократно предупреждал, что нельзя придавать форме первостепенную ценность. Стиль важен. Но он всегда должен быть подчинен определенному содержанию. Мудрость и красноречие нуждаются друг в друге. Особое красноречие Библии превосходит все и по форме, и благодаря ее необыкновенному содержанию. Особое восхищение у Августина вызывал апостол Павел, но он также отдавал должное красноречию Амвросия и Киприана.
Ритор Августин понимал, какое значение при отправлении церковной службы имело его собственное образование и педагогическая практика. Формулируя правила христианской риторики, он опирался на Цицерона, того самого Цицерона, которого обожал в молодости как учителя мудрости и отверг потом, когда порвал со скептицизмом. В трактате «О христианском учении» он старается не упоминать Цицерона по имени, но ссылается на него, как на «учителя римского ораторского искусства» и «красноречивого человека» (IV, 74 и 96). Августин прекрасно понимает, что проповедник является одновременно и оратором, и адвокатом. Как бы ни ново было содержание, приемы остаются старыми. Нужно овладеть настроением и умом паствы, ее чувствами и мыслями; точно так же присутствующих в зале суда людей подготавливают должным образом, прежде чем познакомить их с событиями, которые можно истолковать по–разному.
С 426 года сочинение «О христианском учении» служит образцовым учебником христианской риторики. В нем Августин заново формулирует и приноравливает к церков ной традиции все, чем владеет сам. Превосходная книга Эйвинда Андерсена об ораторском искусстве — «В саду Риторики» (Oyvind Andersen. I retorikkens hage. Осло, 1995) является важным введением к сочинениям и Августина, и Цицерона. Церковь дала античному ораторскому искусству жизнь после смерти. Красноречие должно поучать, доставлять удовольствие и убеждать. Это было запрограммировано в нем всегда. Особенно важны убеждения, которые могут совершенно изменить умонастроение слушателей.
Поучение дарит нам истину, удовольствие дарит красоту, но лишь сила убеждения способна обратить душу. В античной школе стихи Гомера и Вергилия изучались в том числе и в качестве пособия по риторике. Одновременно изучались речи и приемы ораторов в эпосе, ибо там можно было найти образцы убеждения, подходящие для любого случая. У христиан похожую функцию в качестве учебного текста по риторике выполняла Библия. Священное Писание установило новые эстетические и риторические нормы. Библия стала пробным камнем, на котором учились правильно читать и толковать тексты. Но в то же время она служила образцом того, как придавать своеобразие христианской риторике и христианским темам.
В трактате «О христианском учении» Августин в полной мере излагает свои толкования, то есть свои правила для чтения Библии. Он пишет: «Тот, кто утверждает, будто понимает Священное Писание или его отдельные части, но при этом это понимание не удваивает его любви к Господу и к ближнему, ничего в нем не понял» (О христ учен. 1,35). Сочинение Августина учит правильно понимать Библию, учит по ступеням восходить к знанию, что сродни мистическому посвящению. Тот, кто хочет понять, должен очищаться, поднимаясь со ступени на ступень, чтобы стать достойным постичь смысл Писания. Богобоязненность, мягкость, знания, любовь к вечным вещам, милосердие, очищение духовного зрения и очищение сердечного зрения будут вести читающего к более глубокому пониманию святого текста. Так человек поднимается к последней мудрости, которую представляет собой последняя, седьмая ступень, где благочестивый читатель сможет возрадоваться в мире и покое. Ибо богобоязненность —· начало мудрости (О христ. учен. II, 23). Совершенно очевидно, что труд человека, читающего Библию и стремящегося понять ее, — это в то же время работа над своей личностью и ее поэтапное перерождение.
К тому же времени, что и первые три книги трактата «О христианском учении», относится и книга «Об обучении оглашенных» (около 400 г.). В этом сочинении Августин собрал свои советы, как следует давать оглашенным первые религиозные знания. В истории Церкви это самый старый учебник для наставников оглашенных, дошедший до нашего времени. Какую стратегию следует избирать при встрече с людьми, которые стремятся пополнить свои знания о христианстве? Станет ли оглашенный истинным христианином? Цель такого обучения — пробудить любовь к Богу. Прежде всего надо объяснить оглашенному, как горячо Бог любит мир. Страх не должен быть движущей силой при обращении в христианство. Любовь к Богу все время должна быть сильнее страха перед погибелью.
Оглашенный должен удерживаться от греха, дабы не разгневать Того, Кого он любит. Он должен научиться любви к ближнему и познакомиться с аргументами, которые от него потребуют окружающие, узнав, что он обратился в христианство. Много веков это небольшое сочинение было руководством для новообращенных и введением их в христианское учение. В нем Августин впервые использовал выражение о «двух градах» (duae crvitates), которые противостоят друг другу (19, 31 и 21, 37). Вообще мысль о том, что в течение всей истории после изгнания из рая спасшиеся и погибшие противостоят друг другу, была высказана им за десять лет до того в сочинении «Об истинной религии» (27,50).
В трактате «О христианском учении» Августин продолжает дискуссию о знаках, начатую в трудах «О диалектике» и «Об учителе». В них он говорит об условном элементе в употреблении языка, но не делает явных номиналистских выводов для своего учения о познании. Различные знаковые системы объясняются различными договоренностями, пишет он (О христ. учен. II, 25), тогда как библейское откровение строится на праязыке, исчезнувшем в результате Вавилонского столпотворения. Испорченность всех языков после Вавилона упоминается во многих работах Августина (напр. Толков, на Пс. 54,11; 95,15; О христ. Учен. Ill, 36).
Дар говорить на других языках, полученный апостолами в Пятидесятницу, был ответом на Вавилонское смешение языков. В знак примирения апостолы получили на Пятидесятницу способность общаться с людьми, говорящими на разных языках. Это чудо свидетельствовало, что Вавилонское смешение языков не должно было помешать распространению Евангелия. Праязык не был условным, он называл вещи своими именами. Однако теперь праязык утрачен, а фактический вспомогательный характер существующих языков, которые ничего не могут сообщить нам и только напоминают о некоем внутреннем знании, объясняется грехопадением.
Поскольку праязык исчез, чтение Библии сильно затруднено, а текст туманен и неоднозначен. Только Церковь может освободить нас от плена и лишения слов (т. е. Вавилона) и вернуть к той колыбели, где обретаются Слово и истина (т. е. в Иерусалим). И в космологии, и в учении о святых таинствах Августин часто использует эту теорию знаков. Мир полон «следов», оставленных его Творцом и Богом (Исп. X, 6), а святые таинства — это видимые и осязаемые слова, которые ведут нас к внутренней и вечной истине (Рассужд. на еванг. от Иоан. 80,3).
В трактате «О христианском учении» Августин развивает понятия «пользоваться» и «наслаждаться», uti и frui (I, 4 и I, 22; Исп. VII, 18), которые, в определенном смысле, соответствуют разнице между полезными поступками и нравственно добрыми поступками (О 83 разл. вопр. 30). Полезные относятся к средствам, нравственно добрые — к области намерений. Эта пара понятий встречается у Цицерона, но первая пара — uti и frui — повторяющаяся тема и лейтмотив у Августина (О граде Бож. XIX, 3). Все безнравственное объясняется тем, что человек «наслаждается» тем, чем следует только «пользоваться», и «пользуется» тем, чем, собственно, должен «наслаждаться» (О христ. учен. I, 3). Другими словами, он путает цель и средства. На самом деле единственной целью является только Бог. Означает ли это, что всем остальным следует лишь пользоваться? Приводит ли мысль о различии между uti и frui к инструментализации отношений к ближнему? Ибо, если Бог — единственное, чем пользоваться нельзя, то, очевидно, ближним пользоваться можно (О Троице, VIII, 8)? Любовью к Богу Августин отвлекает внимание и от заботы о себе, и от любви к ближнему (О нравах катол. церкви, I, 26; О Троице, XIV, 14). Правда, он спасает любовь к ближнему, толкуя ее как часть любви к Богу.
Различие между uti и frui Августин присовокупляет к различию между Творцом и Творением. Творение — это всегда только средства, которыми надлежит пользоваться. Творец — единственная цель, которой можно наслаждаться. Наслаждаться — это значит любить что–то ради него самого. Тот, кто ошибся в выборе цели и средств, рискует отдать свою любовь ошибочным предметам. Слова Августина о совершенном и всепоглощающем «наслаждении Богом» {perfruitio Dei) звучат непривычно для современного уха. Но он хочет сказать, что есть многое другое и менее ценное, что можно любить до самозабвения и что люди фактически делают центром своего мира. Это относится, например, к чести, власти, прекрасному телу. Никто лучше Августина не знает, что искушение честью имеет в виду честь, которая относится только к Создателю.
Единственное, что столь же плохо, как самозабенно «наслаждаться» Творением, это «пользоваться» Творцом. Бог не позволяет, чтобы мы пользовались им для своих целей. Он, по определению, не инструмент, а нечто совершенно иное. Однако Августин боится не за Бога, не за то, что люди станут Его использовать, а за нас самих, ибо тогда окажется, что мы не понимаем, кто такой Бог. Августин как будто полагает, что существует некая закономерность, которая означает, что неправедное использование приводит к неправедному наслаждению, а неправедное наслаждение — к неправедному использованию.
По цитатам, которые Августин приводит из Священного Писания, можно реконструировать две трети Библии. Некоторые места он цитирует до тысячи раз. Особенно это относится к Прологу Иоанна, первой главе Бытия и восемнадцатой главе Послания к Римлянам. Другие стихи цитируются по нескольку сотен раз — это Отче Наш, суд над народами в Евангелии от Матфея, гл. 25, о блаженстве, Первое Послание к Коринфянам гл. 15 и о воскресении, Послание к Филиппийцам гл. 2. 6–8 об инкарнации и Псалом 21: «Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня?»
Часто повторяются отдельные цитаты из Послания к Римлянам — 7. 22–25; 5. 5; 5.12 и 8. 23–25. Августин вряд ли считал Библию единой книгой. Для него Библия была собранием сочинений, о которых он всегда говорил во множественном числе — scripturae — «сочинения».
Он проделал огромную работу, защищая Библию от нападок манихеев, заявлявших, что Ветхий Завет разоблачает зло Творца и что Новый Завет полон фальшивых дополнений. В послании к Гонорату — «О пользе веры» — Августин гневается на неправильное и непоследовательное толкование Библии манихеями и защищает аллегорическое толкование на Писание (О пользе веры, 5), которому он сам научился у Амвросия. Бог сделал Библию трудной для понимания именно для того, чтобы победить гордость читающих, говорит Августин (О христ. учен. II, 6; Исп. Ill, 5). Давид придумал свои псалмы так, чтобы они получили мистический смысл (О граде Бож. XVII, 14).
Самые научные комментарии к Библии из всех написанных Августином — это его труд «О Книге Бытия буквально» (401–415), в котором рассматриваются три первых главы Библии. В этой работе Августин, помимо прочего, развивает философскую теорию о rationes seminales (О 83 разл. вопр. 46,2; Об ист. рея. 42,79), «животворящей мысли», осуществленной Господом не сразу, но заложенной в Творение в виды силы, которая позднее может быть реализована на что–то определенное. Такие семена мысли созданы невидимыми как чистая возможность и могут стать причиной чего–то, что обнаружится значительно позже (О Кн. Быт. VII, 6). Это означает, что природа постепенно реализуется через историю и что Творение не закончится, пока не закончится история. Августин сам ассоциирует чистую возможность животворящей мысли с некими числовыми сроками (О Кн. Быт. V, 7).
Бог создал все из ничего, но не все возникло сразу в своем окончательном виде. И ремесленник, и крестьянин тоже могут создавать нечто, лепя материю снаружи. Но они не создают вещи изнутри, как это сделал Бог (1 Кор. 3.7). Действительно, «Он создал все одновременно» (creavit omnia simul), но, кроме того, Бог наполнил созданный им мир тем, что должно появиться в природе позже (О Кн. Быт. II, 15; IV, 33). Ибо животворящая мысль Бога о природе касается и пространственных или естественных предметов, и временных или исторических событий. Через те числа, что Бог заложил в свое Творение, все формы со временем развивают возможности, которые были заложены в них во время Творения (О Кн. Быт. IX, 15).
Ход истории не случаен. Все, что происходит, на самом деле направляется Провидением Божиим. История — это непрерывное творение, которое раскрывается во времени, тогда как первое создание природы, неба и земли, дня и ночи, животных и растений разворачивается в пространстве. Иными словами, Августин представляет и природу, и историю как процессы, однако утверждает, что все, возникающее вновь, и то, что возникнет впоследствии, создано Богом. Ремесленник дает своим творениям внешнюю форму, Бог же дает созданным им вещам форму внутреннюю (О граде Бож. XII, 26). Поэтому Он творит, даже если Он невидим.
Души — это та часть Творения, которые управляют деятельностью живых существ. Творение — не только собрание предметов и существ, но также их деятельность и поведение во времени. Поэтому сотворение мира продолжается все время, пока в Творении происходят изменения! В поздние времена многие пытались найти в Августиновом учении о развитии некие черты, родственные учению о развитии современной биологии. Однако Августин имел в виду не развитие видов. Он только стремился понять сотворение мира во времени и в пространстве.
Бог создал мир по «мере, счету и весу», как в «пространственном смысле» (numerispatiales), так и «по оси времени» (numeri temporates). «Поднимите глаза ваши на высоту небес, и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их счетом?» ( Ис. 40, 26). «Ты все расположил мерою, числом и весом»: Omnia in mensura, et numero et pondere disposuisti (Премудр. 11,21). С этой точки зрения трактат «О граде Божием» тоже является учением о сотворении мира, учением о том, по каким законам вещи развиваются во времени.
По сути дела, сочинение «О Книге Бьггия буквально» (401–415) является чуть ли не первым богословским исследованием отношений между естественными науками и религией. В течение последнего десятилетия IV века в толкованиях на Ветхий и Новый Завет у Августина ветречается все меньше аллегорий. Он явно испытал облегчение, открыв метод толкований, который позволял соединить христианство с его мышлением переходного периода. Но по мере того как долг, заставлявший Августина полемизировать с манихеями и неоплатониками, отходил на задний план, Августин начинает все больше интересоваться истинным смыслом Священного Писания.
Он никогда не забывает, что Писание содержит «скрытый смысл» (sacramenta), который особенно привязан к именам и числам. Он всегда толкует Писание через призму учения Церкви. Без Церкви и ее задач в качестве исходной точки вообще невозможно найти какую–либо связь и единство между отдельными частями и рассказами Писания. Любое чтение, которое укрепляет веру, надежду и любовь, Августин считает правильным.
Он одним из первых стал придерживаться действующего канона библейских текстов, утвержденного папой Дамасом на церковном соборе в Риме в 374 году, так называемого «геласийского» канона. Августин — библеист в том смысле, что верит, что все книги Библии вдохновенны и непогрешимы. Однако, когда он доходит до толкований, он чувствует себя достаточно свободно, судя по современным меркам. Легко говорить вдохновенные слова, если сам решаешь, о чем на самом деле говорится в Библии! Представление Августина о вдохновенных словах почти не ограничивает его свободы как толкователя.
Дух Божий вещает устами пророков и направляет перо апостолов, заявляет Августин. В известном смысле Послания апостолов написаны самим Иисусом Христом. И потому Библия непогрешима. Если в ней и встречается что–то неправильное, то виноваты в том либо переписчики, либо толкователи. Августин считал даже, что в греческом переводе Библии, Septuaginta, вдохновенным является каждое слово (О христ. учен. II, 15; IV, 7; Письма, 28, 2; Толков, на Пс. 87,10). Он безоговорочно верил в легенду о семидесяти переводчиках, которые, не зная работ друг друга, написали одинаковые тексты. Святой Дух сам пожелал, чтобы между греческим и древнееврейским текстом были имеющиеся в них разночтения, утверждал Августин. «De consensu Evangelistarum» («О согласии евангелистов», 400) показывает, что ег® «взгляд на написанное» был несколько ограниченным.
Надо отметить, что Августин никогда не считал латинский текст Библии вдохновленным свыше, а потому использовал разные латинские переводы Библии в зависимости от того, что он хотел показать. Таким образом он избегал практических последствий своей веры во вдохновенное слово. Что Вульгата — латинский перевод Библии, сделанный блаженным Иеронимом, —будет когда–нибудь рассматриваться как слова самого Писания, лежало за пределами исторического горизонта Августина. Для него текст Иеронима был всего лишь одним из многих переводов Библии на «родной язык». Тем не менее, начиная, примерно, с 400 года, Августин использует Вульгату (О граде Бож. XVIII, 43). До того он пользовался так называемой Италой — латинским переводом Библии, который был известен Киприану и в глазах Августина имел то преимущество, что появился в Африке.
Надо помнить, что во времена Августина латынь еще не стала языком только монахов и ученых–церковников. Это был живой язык, которым широко пользовались во всех социальных сферах и областях жизни, в текстах любого типа. Лишь много позже латынь стала основным языком Церкви. Статус Вульгаты в качестве священного текста определен тем, что латынь как живой язык изменилась или пропала вообще. Поэтому, и прежде всего у христиан средневековья, перевод Иеронима стал пользоваться авторитетом, сделавшим его неприкосновенным для любой критики.
Августин даже заявлял, что библейский текст может иметь много буквальных смыслов. Справедлив каждый богоугодный и правдивый смысл, какой может бьггь вычитан из текста, говорил он, ибо Дух Святой должен был предусмотреть его, даже если писатель не думал, что он будет обнаружен читателем. Свобода, которой Августин пользовался как толкователь, была опасна. И особенно Для него самого. Ибо не было такой трудности, которая заставила бы его умолкнуть. Если взглянуть, например, на то, что он оказался способным извлечь из псалмов в «Толкованиях на Псалмы», становится ясно, что в риторике он был настоящим фокусником, который мог выразить все, что хотел, если только это зависело от его способности манипулировать языком и аргументами. Он никогда не терялся перед словом. И если он порой говорит, что растерян и не может найти подходящего выражения, это, как правило, говорится только ради эффекта, ради красного словца.
Дело не в том, что Августин хочет запутать читателя и увести с верного пути с помощью своего серебряного голоса и золотого пера. Он не стремится никого обмануть. Но случается, что он обманывает самого себя. Ему часто удается найти остроумный ответ на трудный вопрос до того, как он успеет подумать. Именно потому, что ему всегда удается справиться с трудностями, он не видит разницы между выходом из трудного положения и действительным решением проблемы. И часто становится жертвой собственной находчивости в том смысле, что стирает грань между философией и риторикой, богословием и красноречием.
Августин сам не очень понимает, когда он выступает как Сократ, а когда — как Горгий. Поэтому легче восхищаться его находчивостью, чем полагаться на истинность его высказываний. Особенно это касается его полемических сочинений, в которых он безжалостно и эффектно использует слабости своих противников, однако не всегда бывает столь же последователен, когда нужно подчеркнуть и ясно выразить собственную позицию. В некоторых случаях он жертвует связностью текста ради сиюминутного выгрыша. Тем самым Августин больше, чем следует, уязвим и подвержен влиянию различных ситуаций. Поэтому не только мышление Августина имеет для истории важное значение, но и его противники, навязавшие ему решения, последствия которых сказались в далеком будущем.
Глава 19. Разрыв с донатистами
В 395 году Августин стал викарием епископа, а в 396 — епископом Гиппонским. Незадолго до 400 года он закончил «Исповедь». Как во всех городах Римской империи, в Гиппоне были театры, бани и храмы. В пределах городских стен находились также оливковые рощи и виноградники. Гиппон был портовый город, через него осуществлялась торговля с Востоком. По всему побережью раскинулись большие поместья римлян — latifunda, — в которых наемные работники под присмотром управляющих занимались сельскохозяйственными работами на благо своих хозяев, живших зачастую в Риме. Дикие кабаны и львы, населявшие заросли вокруг Гиппона и Карфагена, были предметом охоты римской знати.
Гиппон Регий стал христианским католическим городом в то время, когда Августин был там епископом. Августину Удалось изгнать из города или подавить африканских сепаратистов и патриотов, которые называли себя «донатистами». Будучи епископом, Августин выступал в качестве судьи и посредника, разбирая конфликты внутри своей группы, а также конфликты с другими группами. Теоретические рассуждения Августина часто носят черты посредничества, изучения противоположных точек зрения и поисков компромисса. Его понятие о католичестве не столько связано с каким–нибудь определенным авторитетом, сколько с общепринятыми понятиями. Как епископ он мыслит скорее по–аристотелевски, чем по–платоновски в том смысле, что всегда пытается найти и сформулировать consensus omnium — «то, к чему в принципе могут присоединиться все». Философы могут быть несогласны друг с другом, но Священные Тексты во всем совпадают, с торжеством заявляет Августин, словно это является весомым доказательством истины (О граде Бож. XVIII, 41).
В ограничении канона, то есть в выборе Священных Текстов, также действует единство, которое для Августина является доказательством истины (О христ. учен. II, 24). На деле католическая вера только укрепляется через еретиков (О граде Бож. VIII, 51), ибо борьба с ними явственно показывает, вокруг чего должны объединяться христиане. Богословие Тертуллиана и Августина берет свою форму из юриспруденции как науки. Они выступают как адвокаты, ищут формулировки, которые могут объединить противодействующие стороны, и строят свои аргументы так, чтобы слушателям было легко следить за ходом их мысли. Богословие высокой схоластики XIII века тоже носит юридический характер, когда речь идет о ее целеустремленности и выборе доходчивых, убедительных аргументов.
С 393 года Августин начинает борьбу против донатистов. В те годы католики в Гиппоне Регии были в меньшинстве. В Нумидии вообще донатисты были доминирующей группировкой. Большинство католических священнослужителей терпимо относились к патриотам, которые придерживались взглядов донатистов, но только не Августин. Несколько лет он потратил на то, чтобы привлечь на свою сторону других епископов Северной Африки и получить поддержку Рима. В пропаганде Августин использовал все средства. Он сочинял псалмы, и музыку, и слова, а его помощники активно поддерживали его дело в кругах, близких к императору.
Донатисты проиграли войну с католиками. Все секты этого типа заранее были обречены на раскол. Католики прощали их и принимали к себе, поскольку никогда не претендовали на то, что они представляют чистую и безгрешную церковь. Но среди них находилась группа фанатиков, с которыми донатисты соперничали и конфликтовали. «Кто самый чистый, самый благочестивый и более других достоин благоволения Божия?» — вот, безусловно, роковой социальный вопрос, сеющий подозрения и клевету. Как среди донатистов, так и между ними и католиками зачастую происходили жестокие столкновения. И у тех, и у других были экстремистские группировки.
В 398 году католики наконец одержали победу. Император Гонорий подавил местного вождя Гильдона, бунт которого против римлян можно связать с донатистами. Оптат, священнослужитель и донатист, был другом Гильдона. Католики воспользовались сложившимся положением, чтобы еще раз надавить на императора и склонить его на свою сторону. Августин использовал ситуацию больше, чем следовало. Те же методы применялись по отношению к языческим храмам: служителей храмов связали с бунтом против императорской власти. Император Гонорий был благочестивый католик, и потому каждое нападение на католиков могло толковаться как нападение лично на императора. Религия, которую исповедовал император, была не только его личным делом. В IV веке без военной и правовой власти императора не могло существовать никакого сообщества, никакой единой Церкви. В течение первых ста лет после принятия Константином христианства было особенно трудно удерживать Церковь от раскола.
Многое свидетельствует о том, что религиозный сепаратизм в Северной Африке имел также социальную и политическую подоплеку. Донатисты объединялись вокруг африканской традиции, идущей от Тертуллиана и Киприана, которую они толковали в своих целях. Тем не менее, следует воздерживаться, давая донатистам слишком категорические определения. Ведь мы знаем их церковь прежде всего по красноречивым выступлениям против них и их веры. Главным критиком донатистов был Августин. В течение своей долгой истории донатисты менялись, и во времена Августина они объясняли свой сепаратизм иначе, чем раньше.
Донатисты были перекрещенцами, они развили ригористский культ чистоты. Священнослужители должны быть чисты, и община сама, насколько это возможно, должна изгонять из своих рядов паршивых овец. Нечистота, главным образом, происходит от стремления к компромиссу с властями и греховным миром. По мифологии донатистов, только они сами являются правоверными христианами. После Константина Великого они боролись уже не только с центральной властью, но и с католиками. При императоре Юлиане Отступнике донатисты встали на его сторону, потому что он выступил против христиан. Им импонировало, что Юлиан хотел покончить с христианством и покровительствовал всем оппозиционным ему движениям. Однако с более поздними императорами донатисты уже не могли найти общий язык.
Оптат Милевский, выступавший против донатистов сразу после смерти Юлиана, был первым христианским писателем, призвавшим к военному походу против донатистов; многие его характеристики и аргументы были позднее использованы Августином. У донатистов Северной Африки имелись боевые соединения, которые вели постоянную партизанскую войну против Церкви и ее собственности. Так называемые циркумцеллионы — странствующие фанатики — вели патриотическую борьбу против римских правителей, и донатисты использовали их в своей борьбе против друзей императора христиан–католиков.
Таким образом, католические епископы имели основания считать всех донатистов врагами императора. Циркумцеллионы, возможно, и не были так уж тесно связаны с донатистами, но Оптат и Августин не делали различия между бандитами и религиозными конкурентами, дабы упростить борьбу с донатистами и заручиться поддержкой римской администрации. Донатисты сами способствовали своему поражению, разбившись на группы, которые не на жизнь, а на смерть конкурировали друг с другом, считая только себя чистыми истинными христианами.
Донатисты верили, что действие благодати зависит от святости служителей церкви. Августин же, напротив, подчеркивал независимый характер благодати. Свою общину донатисты называли избранной горсткой спасенных. Августин, напротив, считал, что Церковь должна охватывать как тех, кто избран для спасения, так и тех, кто идет навстречу гибели. Католики не предъявляли возвышенных требований о чистоте. Они предоставляли Богу самому совершить последний суд над каждой человеческой жизнью. Нет сомнения, что полемика Августина с донатистами наложила отпечаток и на его понимание благодати, и на его понимание Церкви. Таким образом, донатисты косвенно содействовали формированию христианской ортодоксии.
Августин не считал преследования со стороны государства обязательным признаком истинной Церкви. Но, уступая властям, донатисты чувствовали, что свернули с пути истинного. При императоре Феодосии они были поставлены перед выбором: воссоединиться с Церковью или подвергаться постоянным преследованиям. Их и заманивали, и запугивали. Сочинения и политические инициативы Августина привели к тому, что донатисты должны были либо согласиться с тем, что они будут уничтожены, либо пойти на компромисс с императорской государственной религией.
Требование императора Феодосия, чтобы донатисты подчинились государственной религии, оживило их старью предания о столкновениях с Римской империей при Диоклетиане сто лет назад. Донатисты предпочли выступить против римской власти, они поджигали католические церкви и убивали епископов. Начиная с 404 года эти два лагеря вели открытую войну друг с другом. Но за спиной Августина и католиков стоял император. А потому конец донатистов был предрешен. Император Гонорий конфисковал церкви и всю собственность донатистов и передал их католикам.
После этого к донатистам относились уже как к обычным еретикам. Сочинения Августина должны были показать справедливость преследования конкурентов. Эта борьба продолжалась до 411 года, когда Гонорий созвал в Карфагене собор, на котором Марцеллин — тот, кому Августин посвятил свой трактат «О граде Божием», — должен был выступить в качестве судьи и положить конец этой длительной борьбе, решив, наконец, на чьей стороне правда. Марцеллин недвусмысленно поддержал Августина и объявил донатистов раскольниками. Донатисты потеряли и свою собственность, и право на собрания. Книги их сожгли, дома сровняли с землей, а им самим вырвали языки и выкололи глаза. В конце концов донатисты против своей воли вернулись в pax cathoiica — «католический мир».
Если донатистские священники, вернувшиеся в лоно католической церкви, не были среди тех, кто в первых рядах боролся против религии императора, они, как правило, сохраняли свои посты. Августин предупреждал против применения насилия и отмежевывался от таких мер по установлению законности, в результате которых могли появиться новые великомученики. Он всегда проявлял мягкость по отношению к тем, кто выражал желание вернуться в лоно Церкви. После того, как борьба учений закончилась в его пользу, он считал разрыв с донатистами внутренним дисциплинарным делом Церкви.
В противоположность Оптату, Августин всегда был против того, чтобы еретикам выносились смертные приговоры. Он ясно высказывался против применения винтов, раскаленного железа и щипцов, однако одобрял наказание плетьми (Письма, 133). Евангельское сотреИе intrare — «убеди придти, чтобы наполнился дом мой» (Лк. 14,23) оправдывает положительное отношение Августина к некоторому насилию со стороны Церкви. Выражение Roma locuta, causa finita — «Рим высказался, дело закончено» — обретает у Августина тот смысл, что авторитет Церкви непоколебим (Проп. 131, 10). Выражение Salus extra ecdesiam non est «нет спасения вне Церкви» сопровождало африканскую церковь со времен сочинения Киприана «О крещении» (IV, 17).
После разгрома, учиненного Августином, донатисты продолжали существовать в виде разрозненных тайных общин. Окончательно их следы исчезли только в VII веке, после захвата мусульманами всей Северной Африки. В 391 году, когда Августин получил сан пресвитера в Гиппоне, большинство жителей города были донатистами. Августин не отличался особой терпимостью или либеральностью. Он использовал императорское стремление к укреплению власти и контроля в своих целях. Между тем именно африканская церковь, а не император, выступила инициатором созыва в Карфагене двух соборов для примирения с донатистами в 401 и 403 году. Правда, результатов они не дали. В 405 году донатисты были объявлены «еретиками». После этого они оказались бесправны, потеряли свою собственность и право на собрания. Законодательство, однако, касалось не совести и убеждений, а лишь внешних условий для отправления культа. Клеймо еретиков, наложенное на донатистов, Августин счел поддержкой, оказанной католикам Провидением.
Борьба с донатистами была отчасти борьбой за метафоры. Донатисты называли Церковь «Запертым садом, заключенным колодезем, запечатанным источником» (Песнь Песней, 4,12). Они сравнивали Церковь с Ноевым ковчегом, построенным, чтобы пережить потоп (1 Пет. 3, 20–21). При этом они постоянно подчеркивали противоречие между чистым и нечистым, истинным и неистинным, верностью и предательством. В борьбе с донатистами Августину приходилось соблюдать осторожность, чтобы случайно не проявить неуважения к Священному Писанию или к Киприану, который был главным героем у всех африканских христиан. Он мог только показывать, что донатисты ошибочно толкуют и Священное Писание, и Киприана. Сам он крайне редко позволял себе критиковать стиль Киприана (О христ. учен. IV, 14). Киприан вообще был для африканских христиан столь же непререкаемым авторитетом, как Сципион Африканский для политиков поздней республики.
Таинство мученичества занимало центральное место в донатистской конструкции чистой церкви. Как Христова невеста, Церковь должна хранить чистоту и непорочность до Судного Дня, то есть до конца свадьбы. Это была одна из главных метафор донатистов. Все земные институты, включая видимую церковь, — это вспомогательные леса, которыми пользуются архитекторы, говорит Августин (Проп. 362). Он решительно не согласен с тем, что существующая община должна считаться Христовой невестой. Когда дом наконец построен — в Судный День, — леса должны быть убраны. В миропонимании Августина Церковь является также эсхатологической величиной. Однако он не смешивает церковную организацию с обществом святых. Божии человеки должны подчиняться миру, в котором они находятся по пути к вечному покою (Об обуч. оглаш., 21,37). Но никто не знает времени последнего гонения (О граде Бож. XVIII, 53) и никто не знает, кто попадет внутрь, а кто останется снаружи.
Когда Апарих, король вестготов, с 408 по 410 год опустошал Италию, император не мог контролировать Африку. В это время донатисты вылезли из своих щелей, и Августин остался с ними один на один без политической поддержки. Самые непримиримые донатисты пытались, по–видимому, совершить на него нападение из–за угла. В 408–410 годах законы императора против еретиков не действовали. Но в конце 410 года император созвал обе группы на общую «епископскую встречу», соllаtio, чтобы решить, какая из них представляет католическую церковь.
Римский чиновник Марцеллин, известный нам по вступлению к трактату «О граде Божием», должен был после собора доложить его результат императору Гонорию. Епископы из обоих лагерей изложили свои аргументы, Марцеллин был судьей, представлявшим императора. 18 мая 411 года в Карфагене собралось 286 католических и 279 донатистских епископов. Сохранился полый отчет о трех встречах, состоявшихся 1,3 и 8 июня. Марцеллин пригласил по семь представителей с каждой стороны. Но за своей семеркой донатисты стояли на своем, как Христос стоял на своем перед Пилатом.
Августин выступил только на третьей встрече, он повел себя с донатистами как ловкий адвокат. На другой день, 9 июня, Марцеллин принял решение. Донатисты проиграли. Суд императора Константина решил дело в пользу епископа Цецилиана. Донатисты были загнаны в подполье и начали распространять фантастические легенды, будто бы Симона Кирского заставили нести крест Иисуса Христа. Так они хотели заручиться поддержкой более древнего авторитета, чем сам Киприан.
Это поражение в суде привело к эпидемии самоубийств среди донатистов. Августин тоже был к ним безжалостен. В 420 году донатистский священник Гауденций хотел сжечь себя в церкви вместе со своей паствой. Августин сказал: Пусть сжигают себя, в адском пламени все равно будет гореть много донатистов. После 412 года наступил хаос. Военачальник Гераклиан поднял восстание. В 413 году Марцеллин был казнен. Августин жаловался, что Церковь не может защитить даже своих сторонников. Он начал сомневаться в пользе покровительства, которого ждал от союза между императором и Церковью.
После того, как донатистов разгромили и вынудили уйти в подполье, Августин сам стал склоняться к донатизму. Он был полемистом того типа, который держится своих убеждений, пока должен убеждать других, — говорит про него Питер Браун в своей ранней работе о жизни отцов Церкви, «Августин Гиппонский. Биография» (Brown, Р. Augustine of Hippo. A Biography. 1967). Августин считал, что учение об избранном меньшинстве не противоречит универсальным и общепринятым церковным понятиям.
Христианские церкви не могли никого спасти, но они могли обеспечить государство честными и преданными гражданами. Мы, на земле, должны своими силами улучшать наши временные условия. Августин чувствовал разочарование и усталость, он состарился. После казни Марцеллина в 413 году ему хотелось одного — жить среди своих книг и писать. Однако вскоре он был вовлечен в последний большой конфликт внутри Западной Церкви: в борьбу с Пелагием, и на это ушли его последние силы.
Борьба с донатистами была, однако, самой важной контроверзой. В Гиппоне существовали и другие религиозные сообщества, которыми Августин как епископ должен был заниматься. Он был великолепно подготовлен к борьбе с манихеями, ведь после девяти лет ученичества он хорошо знал все их традиции (О пользе веры, 2). В начале девяностых годов IV века Августин вел споры с манихеем Фортунатом Гиппонским, а в 404 году после публичной дисскуссии, длившейся два дня, склонил к истинной вере Электа Феликса. Феликс был побежден и обратился в христианство. Он принадлежал к внутреннему кругу манихеев.
В Гиппоне существовали и весьма курьезные секты, например, авелиты, которые отказались от размножения, но с помощью усыновления поддерживали число своей общины, или секта монтанистов, которые считали своим предшественником Тертуллиана. В то время ходило много апокрифов, которые, по–видимому, исправляли, дополняли или углубляли Священное Писание. Августин неутомимо выступал с предупреждениями против ереси и напоминаниями об истинной вере. Он порвал также, но не столь шумно, с присциллианами, астрологами и маркионитами.
Когда читаешь о жизни Церкви в IV веке в знаменитом сочинении Эдуарда Гиббона (Edward Gibbon) «История Упадка и крушения Римской империи» («The Decline and Fall of the Roman Empire», 1776—1788), создается впечатление, что во времена раннего христианства было столько же сект, сколько регионов и общественных классов. Это дало Гиббону, при несомненной ценности содержания его книги, повод для иронии. Правда заключается в том, что и император, и епископы были сильно обеспокоены тем, чтобы не дать своей пастве разбрестись в стороны. Спасти единство Церкви, не прибегая к насильственным мерам, было нереально. Расколы позволяют увидеть, как благодаря христианскому учению в широких кругах разжигались всевозможные богословские фантазии.
Если в нашем современном секуляризованном мире нет больше «еретиков» и если мы крайне неохотно помещаем в субботних номерах газет интервью с теми, кто хотел бы ими считаться, это объясняется не тем, что поучительное единство Церкви неоспоримо, а тем, что догмы Церкви больше не вдохновляют метафизическое воображение людей. Борьба Августина за истинное учение — это не столько защита утвердившегося учения, сколько творческое нарушение границы в тех пунктах, где учение Церкви было нечетким или еще не устоявшимся.
Можно, конечно, назвать Микеланджело скучным архитектором, потому что его карнизы или оконные проемы имеют явное сходство с историческими канонами XIX века. Но Микеланджело сделал это первым. Очень интересно проследить за тем, как он искал свои решения, хотя сами по себе его решения вскоре стали «колониальным товаром». То же и с Августином. В известном смысле он говорит только то, что «всегда» говорила Церковь. Но нельзя забывать, что означает это «всегда»: после того как Августин сформулировал эти догмы, прошло много столетий.
Христианский епископ действительно преследовал своих же христиан, имея за спиной поддержку императора. Прошло много лет с тех пор, как христиане сплоченно противостояли преследованиям императора. И тем не менее, Августину пришлось позже принять донатистов в члены своей общины. Августин защищает discipline, «внешнее принуждение», наравне с eruditio и admomtio, то есть «обучением» и «предупреждением». Он снова подтверждает мистичность представления о невидимой церкви. Чудо Троицы было использовано им в качестве образа предопределения верующих. Определенное насилие по отношению к отступлениям от учения было необходимо. Моника закрыла перед Августином двери родительского дома, когда он стал манихеем.
Августин был готов использовать тот же прием поучительного насилия по отношению ко всем еретикам.
Борьба древних христиан против внешних врагов в известной степени превратилась в борьбу с врагом внутренним. Первые схватки между благочестивыми христианами и дикими хищниками, которые прежде происходили в Колизее, не оставляли равнодушными ни благочестивых, ни дикарей. «Где же Он? Где вкушают истину? Он в самой глубине сердца, только сердце отошло от Него. Вернитесь, отступники, к сердцу и прильните к Тому, Кто создал вас» (Исп. IV, 12). Августин создает образ внутреннего Христа, который спит в лодке, но который может пробудиться, когда шторм наберет силу. В произведениях зрелого Августина историческое богословие сочетается с мистицизмом. Однако его учение почти не доходит до его неученых слушателей.
Верующие приходили к нему со своими уже устоявшимися представлениями и понимали его проповеди, исходя из этих представлений. Тело и душа, жизнь земная и жизнь будущая создавали образы драматических коллизий в мире стихий и демонов. Прежде чем обратиться в христианство римляне должны были преодолеть культ семьи. Они должны были понять, что не могут делать все, что им заблагорассудится, отправляя культ дома. Августин был удручен состоянием своей паствы. И тем не ме-? нее паства была populus Dei — народом нового Израиля. Нельзя ждать от христиан больше благочестия, чем от евреев, вздыхал Августин. Он прилагал усилия, чтобы его напоминания и предупреждения стали частью повседневной жизни общины. Будучи епископом, он во время богослужения сидел в полукруглой апсиде со Священным Писанием в руках, а его паства стояла. Он давал ей хлеб насущный в духовном смысле. Он сумел сделать интересными истории, рассказанные в Священном Писании. Он явил поразительную способность к обновлению, читая свои проповеди на протяжении тридцати девяти лет.
Глава 20. Вавилон и Иерусалим De civitate Dei
Став епископом, Августин не отказался от аскетического образа жизни. Но стремление к совершенству свелось лишь к небольшой части христианской жизни. Он был слишком занят ежедневными делами Церкви, чтобы поддерживать желание жить вне или над грязными заботами запятнанного мира и повседневной жизни. Так как никто не мог знать, кому Господь предопределил спасение, епископ был в ответе за всех. Христиане были римскими гражданами, но некоторые из них в то же время были и гражданами Небесного Иерусалима. Небесное гражданство не было обусловлено или ограничено временем, оно было полным и вечным. И покоилось на общей любви к одному и тому же добру, а именно к Богу.
И, тем не менее, самые беспокойные из христиан выступали против безумств этого мира, они разбивали изображения языческих богов и закрывали старые храмы. Древние боги были покровителями римских городов. Теперь эти города в глазах язычников остались беззащитными, потому что христиане удалили защитное присутствие божественных сил. Теперь лояльность относилась к царству, которое было не от мира сего. Принадлежность к родному городу традиционно была сильнее любви к родителям. Христиане использовали и дали новое толкование лояльности по отношению к родному городу. Любовь к отечеству и патриотические чувства к месту рождения были переведены на борьбу за Небесный Иерусалим.
В августе 410 года король готов Аларих за три дня разграбил Рим. Аларих не был чужеземным варваром. Он был христианин и большую часть своей жизни прожил в пределах Римской империи. Захват Италии позволил ему осуществлять давление на римские власти. После этой катастрофы Северную Африку наводнили беженцы. Рим перестал быть политическим и военным центром, однако для тех, кто век за веком получали оттуда вести, он был символом цивилизации. К тому же для христиан Рим был местом апостольских могил.
Ответственность за трехдневное разграбление, насилие и казни лежала на Апарихе. Базилики Святого Петра и Святого Павла уцелели, и Аларих признал право на убежище для тех, кто в них скрылся (О града Бож. 1,1). Римский мир распался, писал Августин (Письма, 60,16). Где искать спасения, если Рим погибнет? — жаловался он (Письма, 123, 16). Многие христиане понимали известное выражение Вергилия о Римской империи — «царство без конца» — imper'tum sine fine — как предсказание окончательной и постоянной победы Церкви. Августин думал иначе. Все политические институты прекратили свое существование, говорит он, но Царство Божие не имеет конца (Проп. 81,9; 105, 7–8). Мир попал в гнет для оливок, в котором кожура и косточки отделяются от ценного масла, говорит Августин об испытаниях своего времени (Проп. 81,7).
Тогда, на грани столетий, вопрос о праве на убежище в церкви имел большое значение. В 399 году, когда Августин был в Карфагене, там было принято решение послать обращение к императору Гонорию, чтобы просить его гарантировать законом право на убежище в церквах, потому что христианские императоры постоянно закрывали языческие храмы — последний раз это сделал Феодосий в 392 году, — хотя одна из самых важных функций этих храмов заключалась именно в том, чтобы предоставлять преследуемым надежное укрытие. Христиане, конечно, были заинтересованы в помощи самым слабым не меньше, чем римская религия.
Кроме того, гарантированное императором право на убежище подчеркивало наступление новых времен, ибо внимание с языческих храмов переключалось на церкви. У Августина были неплохие шансы на победу, потому что император Гонорий в 399 году сделал старого знакомого Августина по Милану, Манлия Теодора, консулом Западной империи. Теодор был одним из тех, с кем Августин в Милане обсуждал платонизм и кому посвятил маленький диалог «О блаженной жизни» в 386 году. Со временем право на убежище в христианских церквах было закреплено законом, и Августин гордился тем, что оно действовало даже во время разграбления Рима Аларихом.
В Риме борьба против языческих богов длилась дольше всего. Храм Юпитера и статуя Юпитера на Капитолии имели скорее патриотическое, чем религиозное значание. Христианский миф о Риме должен был вытеснить языческие мифы до того, как город Ромула и Рема начнет восприниматься как город Петра и Павла, до того, как ягненок сменит орла и волчицу, кровь великомучеников смоет кровь солдат и до того, как Ватиканский холм засияет так же ярко, как Капитолийский.
Поэтому после разграбления города в 410 году христиане были напуганы не меньше, чем римляне, хранящие верность языческим традициям. Они доверяли символическому могуществу Рима, как и римляне, которые придерживались дохристианских традиций. Рим стал кульминационным пунктом всего развития культуры. Разграбление подтвердило, что все земные сообщества преходящи. Тщета и бренность этого мира коснулись основных политических символов. В своем большом сочинении Августин не отступил в безмолвном смущении, он толковал эти события исходя из того, что все, чему человек доверял, не может больше считаться незыблемым.
Во время этого кризиса власти, поддавшись панике, распространили эдикт о терпимости к донатистам, чтобы помешать сепаратистски настроенным группам взять дело в свои руки, как это сделали готы–ариане. Кризис императорского авторитета стал кризисом авторитета католических епископов. Император находился в Равенне, во время наступления готов он скрывался там в болотах. Речь идет о бесталанном Гонории, сыне Феодосия Великого. Во время осады Рим больше полагался на языческих богов, чем на Христа, говорил Августин. Но Христос — единственный возможный посредник между Богом и людьми. Никакие демоны не в состоянии выполнить эту работу (О граде Бож. IX, 15–18). Поэтому римляне получили то, что заслужили. В Африке, напротив, царил мир — христианское очищение дало свои результаты.
Для Августина внешний враг был символом врага внутреннего, которого следовало победить. У него нет даже намека на пацифизм или мало–мальскую терпимость. Августин желал сильного государства, но государства, которое защитит христианское население. В той трудной ситуации он должен был не только объяснять и толковать, он должен был также придать некий смысл жестоким событиям. Почему они оказались возможны? Христиане, которые молились единому и всемогущему Богу, заслуживали объяснений. После падения Рима бессмысленность истории стала частным случаем проблемы зла в мире Господнем, в истории, которой, несмотря ни на что, управляет Провидение Божие.
Августин никогда не думал, что могущество Рима будет сломлено до Судного Дня. После своего падения в 410 году Рим был наказан, но не уничтожен. Его разграбление было лишь эпизодом в строительстве Небесного Иерусалима, считал он. Сочинение Павла Орозия о христианском смысле истории тесно связано с первой частью лекций и речей Августина о граде Божием. Орозий закончил свое сочинение Historiarum adversus paganos («История против язычников») в 417 году. Мир стареет — вот мысль, проходящая через все сочинение. Роскошные римские здания ветшают или стоят пустые. Силы этого мира ослабили хватку и стали задыхаться. Они кашляют, дрожат и стенают. Схему толкования истории с точки зрения возраста человеческой жизни Орозий позаимствовал у Августина. История — это организм, который ступень за ступенью проходит все стадии человеческой жизни: infantia (возраст младенца), pueritia (детство), adulescentia (школьный возраст), juventus (юность), gravitas (зрелый возраст) и senectus (старческий возраст) (Об ист. рел. 26,48; О 83 разл вопр 58,2). Теперь у Римской империи не осталось надежды, потому что ее естественные силы иссякли.
Главный труд Августина «О граде Божием» (413–426) должен был показать, что вся история Рима представляет собой ряд неудач. Государство никогда не опиралось на справедливость, как того требовал от государства Цицерон в книге «О государстве», но упадок начался еще с тех времен, когда Ромул убил брата. Отсюда от возникновения Римской империи к Каину в Ветхом Завете идет прямая линия. Нечто, относящееся к Вавилону, управляет Иерусалимом и наоборот, говорит Августин (Толков, на Пс. 61, 8), но в принципе Рим — это продолжение Вавилона и должен был понести наказание. Он называет Рим Вавилоном Запада (О граде. Бож. XVIII, 22), а также использует сравнение Вавилона и Карфагена (Исп. II, 3) для характеристики безбожного соседнего города Мадавры.
Братоубийство в Первой книге Библии — Каин и Авель, — безусловно, ассоциируется у нас с основанием Рима, когда Ромул убивает Рема. В обоих случаях убийца становится основателем государства. Так думает Августин (О граде Бож. XV, 5). В этом мире на власти изначально лежит вина. Он хочет показать, что христианство не было причиной падения Римской империи и что величие Римской империи не было делом рук языческих богов. Государство стало великим благодаря своим достоинствам и погибло в результате собственных пороков. Первые книги трактата «О граде Божием» — это собрание полемических статей, направленных фотив иного, нехристианского миропонимания. В двенадцати последних книгах речь идет о возникновении града Божия и о его актуальном присутствии. Ангелы и те, кто избран быть спасенными, являют собой невидимый град Божий от потопа и до Судного Дня.
Августин чувствовал возраст, его одолевала усталость. Старый мир исчез и найти его можно было лишь в изучении истории. Приблизительно в то же время (точные годы неизвестны) Макробий написал свои «Сатурналии». Макробий демонстрирует кроткое уважение антиквара к «почтенному возрасту» — vetustas. Его «Сатурналии» — это вымышленная застольная беседа на грамматические, философские и литературно–исторические темы, приуроченная к празднику в честь Сатурна. До нашего времени дошло только семь книг, но они много рассказывают об антикварном возрождении древних римских обычаев во время борьбы за алтарь богини Виктории в здании Сената (384).
Макробий хочет закрепить традицию, времена которой уже миновали. Вергилий преподносится теперь как религиозный оракул. Ведь римляне были благочестивы на свой особый лад. Их строптивость не была агрессивна, хотя политически они, конечно, были агрессивны. Политеисты вообще более спокойно относятся к истине, чем монотеисты, берущие на себя задачу интерпретировать мысли и планы единого и всемогущего Бога.
Среди беженцев из Рима после 410 года был некто Волузиан, благородный римлянин тридцати лет. Женщины в его семье были христианками. Такие люди, как Волузиан, считали учение о христианской инкарнации вульгарной глупостью. В знаменитом письме Августин пытается объяснить ему христологию Церкви (Письма, 137). Волузиан был представителем образованного, литературного и философского неопаганизма. Переписка Иеронима с римскими аристократками тоже показывает, что в верхних социальных и политических слоях язычество было еще очень прочным.
Августин сам в свое время получил поддержку от префекта Рима Симмаха. Поэтому он знал, как мыслят образованные римляне. После падения Рима Августин решил изменить отношение высшего класса к христианству. Ученая и культурная жизнь во многом все еще оставались языческими. Понимая необходимость вторжения в эту область, Августин начал писать свой знаменитый трактат «О граде Божием», толкующий события 410 года. Епископ должен был защитить свой авторитет, потому что новые люди и выходящие из ряда вон события бросали вызов монополии Церкви на толкование многих вопросов.
Трактат «О граде Божием» многое сообщает о литературной культуре поздней античности. Настоящий писатель Должен был быть ученым, ему приходилось пользоваться всем набором литературных авторитетов. Августин умел показать свои знания, и упоминание известных имен было для него частью рекламы. Он отказался от Utterata vetustas — «старых текстов» — и не искал прибежища в былом величии, что служило ностальгической исходной точкой для читателей. Он не допустил язычников к их далекому римскому прошлому и не пощадил даже таких национальных знаменитостей, как Вергилий и Варрон. Варрон, правда, считал, что следует почитать одного бога, но ведь он ничего не знал о едином истинном Боге, говорит Августин (О граде Бож. IV, 31). «Их» Вергилий — так называет Августин национального римского поэта. «Наше» Писание — так он называет Библию.
Вергилий проходит через весь трактат «О граде Божием» как главный представитель римской культуры. Дантов Вергилий — это именно тот Вергилий, который для Августина служит источником идеологии и истории Римской империи. Августин воспринимает Вергилия, жившего за четыреста лет до него, как живого современника. Вергилий стоял в одном ряду с другими римскими писателями. Он был Поэт, и этим все сказано. «Энеида» не считалась вымыслом или развлекательным чтением наравне с другими произведениями того времени; она была авторитетным изложением истории Рима, предопределенным свыше превращением его в мировую империю. И главное, Вергилий был пророком (vates), которому было открыто будущее.
Славу пророка у христиан Вергилию снискала его четвертая эклога — небольшое стихотворение о ребенке, с рождением которого начнется новая эпоха. Благодаря этой эклоге поэт сохранил свой авторитет у христианских читателей и в других областях. Сивиллы — языческие предсказательницы — говорили через «поэта» — так, например, считал Лактанций, писавший во времена Константина (Божественные установления, I, 5, 11). Позже многие христианские писатели использовали аллегорические толкования Вергилия, что обеспечило ему статус пророка и партнера Церкви. Августину тоже не чужда была мысль о том, что Вергилий мог писать по божественному вдохновению (Письма, 137, 3; 285, 5).
«Действительно ли Мария, беременная Христом, носила его десять месяцев?» — спрашивает Волузиан Августина в одном письме. Он понял четвертую эклогу Вергилия как пророчество о Христе, а в ней говорится, что ребенок находился во чреве матери десять месяцев. Августин успокаивает его своим ответом (Письма, 135, 2). Августин и другие авторы могли использовать детали четвертой эклоги как откровения истины, которые непосредственно не соответствуют Библии. Уже император Константин в одной из своих речей подтвердил пророческий статус Вергилия, но этот новообращенный император добавил, что только библейским пророкам была открыта вся истина.
Начиная с ранних работ (О порядке, II, 14) и кончая сочинениями, написанными после возвращения в Африку (О христ. учен. Ill, 7–8), Августин все более холодно относится к языческим поэтам. Постепенно он перестает пользоваться цитатами из Вергилия для доказательства истины. Последний раз он к ним прибегает в письме епископу Нектарию (Письма, 91,1) в 408 году. Августину становится все яснее, что находки поэта могут увести в неверном направлении (Переем. I, 3). Он выставляет муз за дверь и сожалеет, что в своих ранних диалогах ссылался на Вергилия (Переем. Прол. 3).
В «Исповеди» он так же последовательно уничижительно говорит о творчестве, художественной лжи и вымысле, как это делал Платон (Исп. 1,13 и 17; О граде Бож. II, 14). Главное в том, что литература часто говорит неправду, сочиняя и героев, и события (Монол. II, 10). Вергилий был «торговец словами», который льстил своим заказчикам точно так же, как это делал в молодости он сам, говорит теперь Августин. О Вергилии и его Юпитере зрелый Августин скажет так: «Бог был обманом, а сам поэт — лжецом!» (Проп. 105,7). Актеры в театре злоупотребляют нашей способностью сострадать ближним. Вместо того, чтобы тратить сострадание на вымышленных личностей, мы должны больше сочувствовать живым людям. Он обвинял манихеев в том, что они больше сочувствовали винным ягодам, чем людям (Исп. 111,10).
Августин разрывает со своим прошлым и ранними произведениями. Платонизм крепко держит его. Получая образование, он научился и привык обращаться к exempla — смоделированным «образцам». В римских семьях обычно эту роль исполняли предки и национальные герои. В Церкви это были святые. Понятие civitas terrena — «град земной» — означало, что слово «земной» получило новое значение. Земное у Августина — это временное, подверженное тлену и одновременно то, что повернуто спиной к Богу.
Существующие города ничуть не лучше cMtas terrene, точно так же, как существующая церковь не так однородна, как град Божий — dvitas Dei.
Августин прощает язычникам идеализацию древнего Рима — ведь у них не было другого города, который они могли бы славить. Историк Саллюстий ошибался по незнанию. Августин секуляризирует римскую историю, чтобы получить возможность объявить сакральной историю Церкви. Римская империя — дело рук человеческих. Ее рост объяснялся только жаждой тщеславия и власти. Августин обрушивается на римскую легитимизацию мировой империи с таким же сарказмом, как свободные мыслители обрушатся на Церковь в XIX веке. Однако римлянам были свойственны некоторые важные моральные качества, признается он. (Письма, 138, 3). Поэтому Бог и разрешил им создать великое государство.
Их достоинства объяснялись неимоверным честолюбием. Все было подчиненно чести. Политический авторитет был необходим, чтобы все не распалось. Простые римляне не могли существовать без руководства, их следовало держать в узде. Им угрожали демоны, которые «юти сбить их с пути праведного. Без руководства римляне рисковали оказаться жертвами заговора падших ангелов. Бездомные демоны кружат в воздухе под луной в ожидании Судного Дня. Они могут устраиваить восстания, насылать чуму или сбивать с толку отдельных людей. Авторитеты должны одерживать смущающих людей демонов. Политический авторитет правильными мерами может до известной степени нейтрализовать хаос, которым они угрожают. Распад Римской империи Августин объяснял тем, что государству не хватило высшего контроля и авторитета. Честолюбие должно теперь обратиться к граду Божию, говорит он. Там христиане смогут снискать себе честь.
Трактат «О граде Божием» — это не просто книга о падении Рима. Он представляет собой окончательный разрыв с язычеством. Августин ратует за другое мышление, другой град, другую доблесть и другой мир, нежели те, которые проповедовала старая римская идеология. Он говорит о Царстве Божием: «Его царь — истина, его закон — любовь и его существование — вечно» (О граде Бож. V, 19). Земным градом можно пользоваться (uti), а небесным градом — наслаждаться (frui).
После разорения Рима христиане тоже были неуверены в своем будущем. Августин показал им, где их дом, и объяснил, на что они должны полагаться. Он называл своих единомышленников «народом», а именно, гражданами нового Иерусалима. Они был собственным, избранным народом Бога, чье настоящее место было в Небесном Граде. После падения Адама человечество всегда было разделено на два града, соответственно, разделялась и его лояльность (Об ист. реп. 27, 50). Одна часть служила Богу и послушным ему ангелам. Другая — взбунтовавшимся падшим ангелам, Диаволу и демонам.
Только в Судный День эти два града окончательно отделятся друг от друга (О граде Бож. XX). «Вавилон» займет место ошуюю от Господа, «Иерусалим» — одесную. Евреи предпочли Вавилон, но жаждут вернуться в Иерусалим. Так же обстояло дело и с христианской паствой Августина. Она жила в пленении у этого мира, но верила в свое освобождение и возвращение домой. «Вавилон» означал смятение, смуту (О граде Бож. XVI, 4–5). «Иерусалим» — прибежище, в котором все верующие соберутся в вечном сообществе вокруг жилища Бога.
Августин так же часто использовал Псалтирь, как и Новый Завет. Апокалиптические угрозы Нового Завета меньше подходили для его паствы, чем тоска по дому, выраженная в словах псалмов. Град Божий старше древнего Рима, говорил Августин. Возрастное и социальное соперничество было типично для римлян. История подавала свои знаки. Августин только потому был уверен в существование великана Каина, что в то время в Утике был найден большой моржовый клык. Однако больше, чем порядок природы, Августина интересовал порядок истории. История — это всеобъемлющий процесс, в котором все до малейших деталей управляется Провидением.
Бог направляет все события по Своему Провидению. Он юворит нам и словами, и действиями. Однако подобно римским риторам, Бог часто пользуется иносказаниями, метафорами и аллегориями. Нужно особое умение, чтобы толковать Его слова. Судьбы наций и городов подобны словам в речи Бога. Христос был чистым словом Божиим, которое осветило все другие величины в истории и позволило прочитать их.
В трактате «О граде Божием» показано, что христианство — единственная естественная и истинная религия для всего человечества. Мировая история представляется единым целым, если понимать ее как пророческую и как рассказ о планах Творца. У первого историка Церкви Евсевия Августин заимствует ряд параллелей между Римом, Элладой и историей еврейского народа: Эней приехал в Италию в то время, когда судьею там был Лабдон (О граде Бож. XVIII, 19); основание Рима совпадает по времени с царствованием в Иудее Езекии (О граде Бож. XVIII, 22); семь мудрецов Эллады жили в то же время, что и Ромул, и тогда же иудейский народ был отведен в плен Вавилонский (О граде Бож. XVIII, 25).
Еще в трактате «О Книге Бытия против манихеев» Августин разработал схему, по которой шесть мировых эпох должны были соответствовать шести дням творения. К тому же то и другое соответствуют человеческой жизни. Теперь мы живем в шестом дне, в старости истории. Здесь может родиться новый человек так же, как Адам, который родился в шестой день. Потом наступит седьмой день, «когда Господь почил от всех дел Своих» (requies Dei) и когда мы будем почивать в Бозе. «Кто даст мне отдохнуть в Тебе?» — вопрошает Августин (Исп. I, 5).
Стиль этого первого толкования на Книгу Бытия поразительно отличается от диалогов, написанных Августином в молодости, потому что здесь он впервые позволил словам Библии управлять своими мыслями. Для иллюстрации отдельных моментов своих философских взглядов он использует не только Писание, но позволяет Библейским рассказам определять сам ход повествования. Это не означает, что все его выводы следует принимать безоговорочно, но его текст ясно показывает смену авторитетов. Философские рефлексии подчинены теперь авторитету Писания и приспособлены к ходу повествования.
Противоречия между Каином и Авелем универсальны, утверждает Августин в трактате «О граде Божием». Дети града человеческого и дети града Божия становятся двумя народами с той минуты, когда Каин убивает Авеля (О граде Бож. XV, 1–2.). Это два народа с двумя градами и двумя царями: Диаволом и Христом (Толков, на Пс. 61, 6). Римские приверженцы Августина были знакомы с братоубийством по истории о Ромуле и Реме (О граде Бож III, 6; XV, 5). Рассказ о Моисее в тростнике тоже не поразил новизной римских читателей. Они уже знали похожую историю о сыновьях Марса и Реи Сильвии. Схожесть' мифологических и легендарных мотивов рано способствовала попытке Августина свести рассказы из различных источников в общую историю.
Самое страстное и глубокое желание людей — это мир, который может быть и временным, и вечным (О граде Бож. XIX, 12). Только христиане могли написать историю мира, потому что понимали случившееся в свете универсальной истины и руководства. Там, где все божества местные и их деятельность ограничена определенным пространством, нельзя найти божественный умысел. Только Творец мира, который управляет событиями во всех уголках света, дает почву для рассказа об истории всего мира. Христианский рассказ — это не история отдельных славных героев и событий. Она не сосредоточена только на местном и национальном прошлом. История Августина — это регистрация vestigia Dei — «следов мудрости Божией» — в жизни всех государств.
И избранный народ Израиля, и раскиданные по всему миру приверженцы Церкви могли символизировать Небесный Иерусалим. Участь человека на земле — peregrinatio, «жизнь странника» (Исп. X, 4). Peregrinus (странник) означает «чужой, находящийся в пути». Peregrinus всегда тоскует по дому (О христ. учен. 1,34). Трактат «О граде Божием», говорит Питер Браун, — это книга о том, как одновременно и быть, и не–быть в этом мире.
Мир, положенный в гнет для оливок, — метафора Августина, означающая политический кризис Римской империи. Человечество нуждалось в подобном испытании. Августин показал, что христиане были частью и должны были воспринимать себя частью обрушившейся беды. Однако гнет для оливок — инструмент не уничтожения, но облагораживания. Старый человек отвергается для того, чтобы появился новый. Оливки давят, чтобы потекло свежее и чистое масло. «Плоть» давят и выбрасывают, но масло — это «Дух». Августин толкует события 410 года так же, как пророки толковали испытания Израиля. Римская империя была только saeculum — «этим миром». Поэтому не следует считать, будто что–то угрожает вечности.
Трактат «О граде Божием», без сомнения, одна из важнейших книг в истории европейской культуры. Она жила, и ее читали более тысячелетия как изложение христианского представления о мире. Кому принадлежит Августин, античности или средневековью? Большинство понимает, что трудно точно определить порог, где кончается средневековье и начинается Ренессанс. Так же трудно определить и порог между античностью и средневековьем. Решить этот вопрос можно только прагматически, но такие дискуссии сами по себе полезны и поучительны.
В сочинениях Августина протестанты узнавали и апостола Павла, и Лютера, католики в трактате о граде Божием находили представления средневековья об императоре и папе. Можно процитировать целый ряд догматических и церковных историков, одни из которых относят Августина к средневековью, тогда как другие отодвигают его назад, в античность, в зависимости оттого, что они хотят доказать. Нужно попытаться понять, что Августин думал, не подчиняя его понятиям какого–либо периода. Особенно недопустимо считать, будто Августин предвосхищает какую–либо культурную ситуацию, о которой он не мог знать. В сочинениях Августина нужно научиться четко различать намерения и влияния, ситуацию и историческое следствие, понимать, что было началом, а что — концом.
Вот одно из лежащих на поверхности напоминаний: трактат «О граде Божием» написан в определенной исторической ситуации и исходя из этой ситуации. Чтобы понять его, нужно понять цель, которую Августин преследовал этой книгой. Ведь он был духовным пастырем и епископом и хотел, чтобы у его паствы был наготове ответ, если она вдруг окажется во враждебном окружении, хотел заставить замолчать противников христианства. Он цитирует многих языческих писателей, чтобы показать, как они противоречат сами себе, а также их глупость и пороки.
Этот трактат — собрание полезных аргументов. Одно только его название вызвало множество толкований. В нем прежде всего говорится о политической теории и о Церкви. Civitas Dei — мистическое понятие, оно означает примерно то же, что мы назвали бы «христианством» или «истиной христианства». Конечная цель не политическая, но мистическая — вид Бога и радость от Его близости. Там Августин обретает высшую благодать.
У трактата есть общий план. Но план этот пестрит множеством отступлений. Целый ряд убедительных примеров и ссылок носят такой характер, что они вряд ли нашли бы место в современных исторических представлениях. Аргументация и материал являются в равной мере как философскими, богословскими, психологическими, так и историческими. Этьен Жильсон (Etienne Gilson) подчеркивет ценность работы Августина как исторического произведения, цитируя Фюстеля де Куланжа (Fustel de Coulanges): «История изучает не только материальные факты и институты. Настоящий объект ее изучения — человеческая душа. Изучение истории должно иметь целью выяснить, во что эта душа верила, о чем думала и что чувствовала на разных стадиях жизни человечества». Августин — историк, программа которого отвечает именно этому типу.
В Риме родовые боги соединились с городскими, и Рим стал образцом для всего государства Римская империя взяла свое начало от Рима и управлялась тоже оттуда. Империя не была единой ни этнически, ни географически и первоначально охватывала те земли и те народы, над которыми город Рим мог господствовать в любое время. Рим был не обычным городом, он был столицей мира. Государство больше зависело от этого города, чем более поздние государства зависели от своих столиц.
Государство было Римом, а Рим был Капитолием — местом пребывания богов, главным образом Юпитера. Поэтому разграбление Рима Аларихом изменило всю картину мира. Язычники винили в этом христиан и говорили, что христиане отвлекали внимание римлян от гражданского Долга и что судьба Рима была связана с богами Капитолия. Боги, которых христиане предали и покинули, отомстили за себя Римской империи.
Собственно, боги были преданы не народом, а императором. Волузиан и Марцеллин призывали Августина объяснить им, каким образом религия, учившая «Не отвечай несправедливостью на несправедливость» и *<Подставь Другую щеку!» могла служить фундаментом сильной Римской империи. Как можно было основать государство с помощью подобной пацифистской болтовни? Неужели правда, что христианские добродетели неизбежно тянули за собой гибель империи?
Никоим образом, говорит Августин: когда изучаешь историю, видишь, какие несчастья обрушивались на римлян, когда они поклонялись языческим богам задолго до того, как их вытеснило христианство (О граде Бож. II, 3; III, 31). Во–первых, многие язычники говорили то же самое, что христиане, и, во–вторых, христианские добродетели спасли государство, так как моральная испорченность язычников фактически ослабила его (О граде Бож. I, 33). Лучшие из христиан были лучшими гражданами, говорит Августин.
Умеренность, сила, чистота, дружба, справедливость и согласие ценились и старыми римлянами, и новыми христианами. Отказ Рима от чистых гражданских добродетелей показывает, что христианские добродетели, в конечном счете, имели более высокую цель. Мирские добродетели могут помочь достичь временной цели, но христианские добродетели приведут к цели вечной. То есть эти два вида добродетелей ведут к достижению разных результатов. Христианские дбродетели — это добродетели, не связанные с временным обществом.
Августин находит падению Рима место в мировой истории. Но не в той мировой истории, которую писали римские историки. Это полный драматизма христианский рассказ о плане Бога–Творца по спасению людей. Единство рассказа держится не на центральном положении Рима, а на универсальном плане Бога–Творца. По Августину, смысл мировой истории в том, чтобы подготовить почву для общества святых. Задача добродетели не в защите города Рима, а в улучшении Небесного Иерусалима. Весь мир создан только для этой цели.
Понятие Августина об обществе святых потенциально включает в себя весь род человеческий, всю историю. Не падение Трои дало начало Божию граду, но бунт Люцифера, сделавший необходимым восполнить число ангелов. Все, что случается и существует, может быть объяснено намерением Бога заполнить Небесный Иерусалим спасенными. Мировая история, по Августину, — это «история этого мира» (saeculum), но она также зависит и от «плана мирового порядка» (ordo temporum, О граде Бож. IV, 33).
Вслед за Платоном и Цицероном Августин употребляет слово «справедливость» для обозначения того, что делает общество настоящим обществом. Справедливость — это предпосылка гармонии в обществе. Harmonia (мир и терпимость) предусматривает «единодушие» — concordia — когда все сердца бьются в унисон. Рим пал уже давно, утверждает Августин. Рим перестал существовать как общество, когда исчезла справедливость. Он находит, или полагает, что нашел, у Цицерона подтверждение этому положению. Строго говоря, Римская империя никогда не представляла собой общества, потому что там никогда не было истинной справедливости. Если понимать Августина буквально, это должно означать, что есть только одно настоящее общество, а именно, град Божий. Потому что только там справедливость будет реализована полностью.
За шестьсот пятьдесят лет до Августина Аристотель собрал сто пятьдесят восемь конституций стран Средиземноморья, чтобы выбрать лучшую конституцию и лучшее государственное устройство. Но Августин думал только о двух — граде Божием и граде земном. Все люди через Адама состоят в родстве друг с другом. Это означает, что социальное единство зависит от способности людей искупить грех Адама. Как Церковь является телом Христовым, так Адам является телом человечества. Все люди — братья и сестры. Это родство — и метафора, и мистический факт. В Христе воссоздаются семейные узы. В обряде причастия хлеб преломляется на много частей, прежде чем он соединится в едином теле, и вино из одного сосуда пьют много ртов, прежде чем оно станет кровью Христовой в теле общины.
Раздвоенность воли Адама персонифицирована в следующем поколении; Каин и Авель были братьями, но ими Управляли разные воли и разная любовь. Достаточно узнать, что народ любит, чтобы понять, что это за народ, говорит Августин (О граде Бож. XIX, 24). Поведение людей является образцом двух типов общества, которое останется смешанным до Судного дня (Об обуч. оглаш. 31). Авель любил добро, Каин — зло. Авель не построил града, но воспринимал эту жизнь как странствие пилигрима. Нельзя быть привязанным к земле слишком тесными узами (О граде Бож. XV, 1).
Берущие пример с Каина или Авеля строят соответственно град земной и град Божий. Есть временный град и есть вечный. Августин ссылается на псалом 84, 7; град Божий — civitas Dei — понимается как «народ Твой» — plebs Тua. Люди неблагочестивые и люди, живущие в Боге, — два разных народа (Об ист. рел. 50). Любовь к миру и любовь к Господу создает два принципиально разных общества (О граде Бож. XIV, 28). Одно отдает себя в руки Господа. Другое бунтует против Его воли. Одно—мирное, другое — воинственное. Одно существует ради ближнего. Другое алчет собственной выгоды.
До того, как эта двойственность стала заметна среди людей, она уже была очевидна среди ангелов. Падение Люцифера предсказало и грехопадение, И Потоп, и убийство Каином брата. Общество Люцифера и общество Бога универсальны. Они существуют бок о бок, и до Судного Дня невозможно понять, какому из этих двух порядков принадлежит кто–то или что–то. Одно их название — города или грады — уже говорит об их мистическом содержании. Августин пользуется также и символами: «Иерусалим» — это город мира, а «Вавилон» — город столпотворения, хаоса. Учение о двух градах, о двух видах любви, о «Иерусалиме» и «Вавилоне», Авеле и Каине четко сформулировано и в «Толковании на Псалмы», написанном в то же время (Толков, на Пс. 64,2; О Кн. Быт. XI, 15).
По Августину, людям предначертано быть жителями одного из этих градов. Бог уже определил, сколько людей присоединится к сонму святых (Письма, 186, 25). Другой альтернативы благодати и погибели не существует. Либо человек признает Бога своим царем, либо он повинуется Диаволу. Последнее сообщество людей, строго говоря, не общество, а, скорее, пародия на него. Только град Божий заслуживает того, чтобы называться обществом в полном смысле этого слова (О граде Бож. XIX, 23).
Civitas Dei — это Царство благодати Божией и Книга Откровения Небесного Иерусалима. Civitas terrena — сумма тех, кто живет «по плоти». Это царство насилия, хаоса и злобы. Но оба «града» — это мистические величины. Оба града восходят к тем событиям на Небесах, которые произошли еще до Сотворения мира, а именно, к намерению Господа в отношении людей и падению Люцифера. Это деление на две части — главный структурный принцип для всего необъятного материала, представленного Августином.
Первые пять книг трактата «О граде Божием» направлены против римских патриотов, обвиняющих христианство в гибели империи. Следующие пять книг направлены против языческих философов и их учения о демонах. Эти десять книг защищают монотеизм против политеизма и веры в демонов. Главный изъян политеизма, его ошибка в том, что он путает Творение с Творцом (О граде Бож. VII, 30). В последних двенадцати книгах Августин излагает христианскую догматику и философию истории в более позитивном ключе.
Этот громадный трактат трудно читать из–за несдержанных выпадов и искусственных демагогических аргументов. Ради пользы дела Августин, не колеблясь, бросает перец в глаза язычникам. Мы понимаем, что горячность епископа отражает температуру перебранки между приверженцами старой и новой веры в его время. В последних четырех книгах рассказывается о различных исторических периодах, о Судном Дне и Тысячелетнем царстве. Августин пытается внушить своим единоверцам доверие к будущему и напугать врагов историческим богословием, которое кончается судом над всем миром. Только здесь он отказывается от мистического спиритуализма, чтобы подчеркнуть физическую действительность и страданий, и благодати.
Глава 21. Политический мыслитель?
Трактат «О граде Божием» возымел сильное действие и фактически заставил умолкнуть противников Церкви. После указа Феодосия Великого, признающего христианство государственной религией, они не могли открыто отвечать Августину. Тогда преследуемые христиане сами стали бы преследователями, имея за спиной весь имперский аппарат. У язычников же не было единого представления о мире или какого–либо последовательного представления о природе и истории, которое могло бы конкурировать с представлением отцов Церкви. И все–таки Августин не знал ничего о том, что мы называем «падением Римской империи», хотя он и видел, что Римская империя сильно ослаблена политически. Он не представлял себе до конца, чтобы варвары действительно могли смести с лица земли империю или чтобы власть имперской администрации внезапно кончилась.
Критика Августина направлена против культуры, которая еще во многом оставалась языческой. Только в 392 году, когда прошло уже пять лет после того, как Августин принял крещение, христианство стало обязательной государственной религией. В Карфагене языческие храмы окончательно были закрыты только в 399 году. Августин был епископом новой религии. Он опасался, что другие императоры, после Феодосия, повернут развитие вспять и введут старые культовые обычаи. В первую очередь он боялся, что императоры не проявят к истинному учению той же заботы, какую проявлял Феодосий. Августин подозревал, что христиане опять могут подвергнуться гонениям. В трактате «О граде Божием» он приводит аргументы, которые могли бы помешать такому развитию событий. Эта книга — один из последних апологетических трактатов античности. Потом уже власть Церкви окрепла, и все другие альтернативы были отвергнуты.
При Августине еще не было централизованной, иерархической Церкви, которая могла мечтать о мировом господстве. Не было широко распространившейся и укоренившейся христианской культуры, которая поддерживалась бы монастырями и священством. При нем государство и Церковь еще не сотрудничали друг с другом, распространяя в мире христианство. Церковь еще не стала институтом спасения. У нее еще не было настоящего учения о служении и о святых таинствах, сделавших священство неизбежным. При Августине Церковь усиливала и поддерживала истину, которую проповедывала, но сама еще не стала значительной частью этой истины.
Клерикализм и учение о святых таинствах лежат за пределами горизонта Августина. Он не знает папства, не знает единой церковной администрации, церковного права или учения о формальной, догматической непогрешимости. Все это начнет угадываться лишь в конце VI века при папе Григории Великом. Церковь Августина остается духовной церковью, она не ставит своей целью конкурировать с римской администрацией или правовым устройством, но радуется той поддержке, которую может получить от власти.
Учение Августина о благодати в трактате «О граде Божием» еще носит следы учения Платона о «просвещении» души. Познание Бога — это мистическое illuminatio, откровение Бога в истории, повторенное в душе отдельного человека. У Августина еще нет конфликта между церковным и мистическим. Ему не нужно пытаться навести мосты между этими двумя понятиями. Ибо Церковь — это прежде всего инструмент познания истины. Мистика Августина не бунтует против института Церкви.
Августин не знает также и «христианской» империи, которую мы узнали со времен Карла Великого. Император для Августина — это христианская душа в языческом теле. Даже эдикт Феодосия о христианстве как государственной религии не мог сделать Римскую империю христианской. Христианское государство как богоугодный порядок еще не известны при Августине. Христианской культуры еще не существовало. Античное общество с его древними прочными традициями еще не утратило силы. Для Августина Римская империя, независимо от личной веры и доброй воли императора, является saeculum: «этим миром».
Идеал, наиболее близкий точке зрения Августина на общество, — это монастырь, который может предвосхитить общество святых и временно заменить христианское общество на Небесах. Число избранных мало, и они получат свои венцы лишь после конца «этого мира». Монастырь предвосхищает общество через познание Бога и «просвещение». Религиозность Августина возникла до раздела между западным, юридически–практическим, и восточным, мистико–умозрительным христианством.
Такие понятия, как «мир», «справедливость», «тираническое высокомерие» — paxjustitia, superbia — станут основными понятиями политического мышления средневековья. Заслуга Августина состоит в том, что он развил христианскую философию истории, исходя из конкретного опыта его собственного поколения. Тот же подход лежал и в основе его «Исповеди» — не абстрактные рассуждения, но метафизика, исходной точкой которой являлся личный опыт. Августин не призывал к дуалистической борьбе между двумя богами или силами света и тьмы. Есть только один Бог, но Он дает своим ангелам и людям полную свободу, то есть свободу падения.
Люцифер извратил «любовь к Богу» (amor Dei) до «себялюбия» (amor sui) и заменил «справедливость» (justitia) «гордыней» (superbia). Гордость — начало всех грехов. Зависть, непослушание и лживость — это все порождение гордости. Два града на земле — отражение двух группировок на небе. Падение Люцифера соответствует суду над непослушными. Диавол завидовал безгрешным людям, живущим в раю, тогда как сам он был низвергнут с небес.
Потому он соблазнил Адама и Еву и заставил их согрешить (О граде Бож. ХI\/, 28; О Кн. Быт. XI, 15).
Любви к Богу противостоит любовь к себе. Эти две формы любви помогают определить противоречия между градом Божиим и градом земным. Тот, кто поворачивается к Богу спиной, обнимает самого себя, и только тот, кто поворачивается спиной к себе, может обнять Бога (Исп. VII, 18). Себялюбие фальшиво, потому что содержит отрицание нас самих и как созданий творения, и как существ временных. Оба свойства подчеркивают, что мы должны искать доброе и прекрасное вне нас.
Себялюбие высокомерно в том смысле, что оно симулирует самодостаточность. Жить, исходя из себя, жить по плоти уже по своей сути означает фальшивую любовь. Amorsui, или «себялюбие», наслаждается тем, чем следует пользоваться, и пользуется тем, чем следует наслаждаться. Оно показывает, что человек любит мир и временное вместо того, чтобы любить Бога и вечное. Только Бог может и должен любить Самого Себя, ведь Ему не надо искать чего–то хорошего и лучшего.
Все грехи неотделимы друг от друга; поэтому все постыдное возможно для того, кто открыл свое сердце искусителю. В полемических сочинениях средневековья политические обвинения часто бывают надуманными. Зато предпринимается все возможное, чтобы показать связь своего противника с Люцифером. Зло не имеет градаций. Человек принадлежит либо Богу, либо Диаволу. Протянувший Диаволу мизинец уже оказался в компании с Каином. Civitas diaboti — «град Диавола» — появился на земле вместе с Каином. Потому что Каин следовал людским заповедям и жил по законам плоти. Авель же, напротив, жил в согласии с заповедями Бога и духа (О граде Бож. XV, 1). Странствующий пастырь Авель был господином над животными. Живущий на одном месте земледелец Каин был господином над людьми.
Иисус — это новый Адам. Он заложил основы Церкви, которая представляет собой избранников Божиих, возвращающихся к своим истокам и изначальному послушанию. Августин не знал о «градах» в современном значении, он говорит о единстве или «царстве» в библейском смысле, ибо то, что мы мистическим образом называем двумя градами, есть два сообщества людей, говорит он. Без сомнения, это учение оказывает влияние на Августино во понятие церкви. Иерусалим — это центр града Божия и образ мира. Вавилон — центр града Диаволова и образ анархии и хаоса. Но град Божий не есть некий институт, в который можно войти. Это цель земного странствия пилигрима. Объединение избранных с другими избранными совершится только в конце истории. Объединение произойдет только у цели.
Августин не всегда одинаково корректно пользуется понятиями. На политическом фронте Эрнст Бернхайм (Ernst Bernheim) навел в этом, так сказать, полезный порядок. В дальнейшем мы будем использовать его книгу «Die Zeitanschauungen. Die Augustinischen Ideen, Antichrist und Friedensfurst, Regnum und Sacerdotium», Tubingen. 1918». Civitas terrena — «земной град» — означает либо сообщество злых людей и падших ангелов, либо всех людей, находящихся внизу, — в противоположность армии спасенных, либо только нечестивых, тоже находящихся внизу. Соответственно, civitas coelestis — «небесный город», или civitas Dei — «град Божий» — означает либо общность между Богом и блаженными в потустороннем мире, либо тень этой общности на земле, либо только благочестивых людей здесь внизу. Существующая Церковь — это «смешанное сообщество», corpus permixtum. Оба града на деле переплетены друг с другом и разъединятся только в Судный День (О граде Бож. I, 35). До пришествия в мир Христа патриархи, пророки, некоторые цари, Платон и сивиллы принадлежали к кругу избранных. Платон и сивиллы очищаются в настоящее время в первом круге ада и, возможно, спасутся в Судный День.
Внешняя приверженность Церкви никого спасти не может. Многие связаны с Церковью святым таинством, но все–таки не получат доли в «вечном наследии святых»: in aeterna sorts sanctorum (О граде Бож. I, 35). Все зависит от благодати и внутреннего человека, или настроя души. Совершенная добродетель — это идеал. Благочестивые добродетели здесь на земле — это только подготовка. Пороки нечестивых на земле служат для устрашения. Но все, и положительное, и отрицательное, ведет только в одном направлении. Пороки нечестивых суть отсутствие истинных добродетелей, и их мир — не настоящий мир. Потому что зло — не самостоятельная сипа, а только недостаток добра, изъян, так же, как темнота — это недостаток света.
Все добродетели и грехи объясняются, соответственно, преданностью Богу или преданностью Диаволу. Грех и добродетель захватывают человека целиком. Потому что добродетели — это не самостоятельные и различные свойства, каковыми они были при политеизме. Грехи и добродетели имеют свои разные источники. Тот, кто, поддавшись искушению, согрешил хотя бы один раз, отпадает от доверительных отношений с Богом. Пока верующий не пройдет через раскаяние, искупление и обращение, он верит во что угодно. Таким образом язычник, еретик и неверный одинаково безнравственны, считает Августин. В монотеизме нет места терпимости к безнравственности. В политеизме, напротив, конкурируют множество божественных желаний и стимулов. А потому всегда можно найти решение, одобряющее присоединение к тому или другому божеству.
Жестокость борьбы Карла Великого или Григория VII за интересы христианства объясняется тем, что они считали своих противников, собственно, не людьми, а демонами. Христианство не имеет понятия «нейтральный человек», который не принадлежит ни Богу, ни Диаволу. Человек, который не принадлежит Богу, принадлежит Диаволу и на деле одержим демонами. В средневековом христианстве понятие «человек» еще ничего не говорило о его достоинстве, достоинство определялось только через связь человека с Богом. Борьба с язычниками, еретиками и отпавшими от веры — это борьба не против людей, а против самого Диавола. Однако у Августина имеется намек на естественно–правовое мышление, он видит разницу между «человеком», который спасается, и «преступником», который понесет наказание.
Гордости сопутствуют разлад и беспокойство, тогда как любовь к Богу дарит покой и мир. Гордость порождает алчность и сребролюбие, которые не позволяют человеку делиться с другими или владеть чем–либо сообща. Поэтому сребролюбие — «корень всех зол»: radix omnium mahrum (1 Тим. 6,10), а гордость — «начало всех грехов»: initium peccati (О 83 разл. вопр. 33). По Августину «мир» (рах) — это состояние, когда все покоряются воле Божией.
«Мир» — понятие, которое превосходит представления о мирном сообществе или об исполненной мира душе. В последней инстанции речь идет о полном восстановлении благодатного порядка. Поэтому «мир», в понимании Августина, охватывает не только людей, но всю органическую и неорганическую природу.
В этом смысле мир есть «высшее добро»: finis bononm. Цель всех форм единства — это мир в вечной жизни или вечная жизнь в мире (О граде Бож. XIX). У Аристотеля «счастье в блаженстве» было первой целью: eudaimonia. У Августина это «благодать» в восстановлений мирового порядка: beata vita. Beatitudo, или «благодать», может исходить только от Бога. В этом вопросе платоники и христиане высказывались одинаково (О граде Бож. X, 1). Поэтому «состояние мира всех вещей» — pax omnium rerum — Августин называет также и «порядком покоя» — tranquillitas ordinis.
Тема книги XIX «О граде Божием» — «вечный мир». Ведь все Творение начинается с состояния мира, и все живущее желает вернуться к нему. Война возможна только на короткое время. Существует мир без войны, но нет войны без какого–либо мира (О граде Бож. XIX, 13). Желание сообщества и единства — это желание мира. Мир, продиктованный жаждой власти, не так ценен, как тот, который основан на любви к Богу. Никто не ищет мира ради войны, но все воюют ради мира, говорит Августин (О граде Бож. XIX, 13). Даже безбожные люди желают мира на земле. Однако такой мир все–таки «порок»: vitium.
Благочестивые люди могут пользоваться этим миром, пока он позволяет им легче достичь своей мирной цели. Земной мир нечестивых нужно нарушать только в том случае, если его нельзя использовать, чтобы содействовать благочестивым в достижении цели небесного мира. Поэтому есть «справедливая война»: beUum Justum. Война может быть средством для достижения мира, считает Августин. Справедливая она или нет, зависит от того, к какому миру она стремится и какой мир делает возможным. Благочестивые ведут свою войну ради небесного мира или чтобы достичь земного мира, который будет содействовать достижению конечной цели. Мир Августина (рах готапа), который подготовил угодный Богу человеческий порядок, является примером земного мира, содействующего миру небесному.
Августин дает особое имя земному миру, который содействует небесному: paxustorum или pax justa — «мир справедливых» или «справедливый мир». Подобный мир не дает благодати, но служит утешением в юдоли скорби. Так Августин связывает вместе рах и justitia — «мир» и «справедливость». Мистическое учение Августина о двух градах становится таким образом примером для всего средневекового учения о войне, мире и обществе. Великие фрески Амброджо Лоренцетти в ратуше Сиены (1330–е годы), изображающие добродетели и пороки политиков, а также хорошее и дурное управление городом, задуманы в соответствии с принципами Августина.
Не только мир, но и справедливость имеет много уровней. Первый — это Бог, который и есть «сама справедливость». У Бога господствует совершенная справедливость. Потом следует «истинная справедливость» — justitia vera — которая господствует в граде Божием среди верующих на земле. Эта справедливость отнюдь не означает Цицероново suum cufque — «каждому свое». Нельзя назвать справедливостью то, что подрывает господство Бога. Нет, справедливость — это не что иное, как послушание людей Богу. Справедливость в земном смысле — это вообще не справедливость. Добродетели язычников на самом деле порочны, и их мир вообще не мир. Сообщество, которое не служит Богу, вообще не сообщество. Однако справедливость среди неверующих имеет относительное значение. Ведь это лишь тень тени. Град не обязательно работа Диавола. Он может быть и средством Провидения Божия.
Таким образом, ни «мир», ни «справедливость» не являются для Августина чисто мирскими или политическими понятиями. Говоря о «мире» и «справедливости», он исходит из богословских предпосылок, которые в римской риторической традиции не означали вообще ничего, хотя риторы и пользовались ими.
Только в конце средневековья и начале Нового времени У Марсилия Падуанского (1270–1342), Оккама (1300–1349) и Макиавелли (1469–1527) завершается секуляризация политики. Августин же проводит и секуляризацию римской «Мир» — понятие, которое превосходит представления о мирном сообществе или об исполненной мира душе. В последней инстанции речь идет о полном восстановлении благодатного порядка. Поэтому «мир», в понимании Августина, охватывает не только людей, но всю органическую и неорганическую природу.
В этом смысле мир есть «высшее добро»: finis bonorum. Цель всех форм единства — это мир в вечной жизни или вечная жизнь в мире (О граде Бож. XIX). У Аристотеля «счастье в блаженстве» было первой целью: eudaimonia. У Августина это «благодать» в восстановлении мирового порядка: beata vita. Beatitudo, или «благодать», может исходить только от Бога. В этом вопросе платоники и христиане высказывались одинаково (О граде Бож. X, 1). Поэтому «состояние мира всех вещей» — pax omnium rerum — Августин называет также и «порядком покоя» — tranquillitas ordinis.
Тема книги XIX «О граде Божием» — «вечный мир». Ведь все Творение начинается с состояния мира, и все живущее желает вернуться к нему. Война возможна только на короткое время. Существует мир без войны, но нет войны без какого–либо мира (О граде Бож. XIX, 13). Желание сообщества и единства — это желание мира. Мир, продиктованный жаждой власти, не так ценен, как тот, который основан на любви к Богу. Никто не ищет мира ради войны, но все воюют ради мира, говорит Августин (О граде Бож. XIX, 13). Даже безбожные люди желают мира на земле. Однако такой мир все–таки «порок»: vitium.
Благочестивые люди могут пользоваться этим миром, пока он позволяет им легче достичь своей мирной цели. Земной мир нечестивых нужно нарушать только в том случае, если его нельзя использовать, чтобы содействовать благочестивым в достижении цели небесного мира. Поэтому есть «справедливая война»: belium justum. Война может быть средством для достижения мира, считает Августин. Справедливая она или нет, зависит от того, к какому миру она стремится и какой мир делает возможным. Благочестивые ведут свою войну ради небесного мира или чтобы достичь земного мира, который будет содействовать достижению конечной цели. Мир Августина (рах romara), который подготовил угодный Богу человеческий порядок, является примером земного мира, содействующего миру небесному.
Августин дает особое имя земному миру, который содействует небесному: pax justorum или pax justa — «мир справедливых» или «справедливый мир». Подобный мир не дает благодати, но служит утешением в юдоли скорби. Так Августин связывает вместе рах и justitia — «мир» и «справедливость». Мистическое учение Августина о двух градах становится таким образом примером для всего средневекового учения о войне, мире и обществе. Великие фрески Амброджо Лоренцетти в ратуше Сиены (1330–е годы), изображающие добродетели и пороки политиков, а также хорошее и дурное управление городом, задуманы в соответствии с принципами Августина.
Не только мир, но и справедливость имеет много уровней. Первый — это Бог, который и есть «сама справедливость». У Бога господствует совершенная справедливость. Потом следует «истинная справедливость» — justitia vera — которая господствует в граде Божием среди верующих на земле. Эта справедливость отнюдь не означает Цицероново suum cuique — «каждому свое». Нельзя назвать справедливостью то, что подрывает господство Бога. Нет, справедливость — это не что иное, как послушание людей Богу. Справедливость в земном смысле — это вообще не справедливость. Добродетели язычников на самом деле порочны, и их мир вообще не мир. Сообщество, которое не служит Богу, вообще не сообщество. Однако справедливость среди неверующих имеет относительное значение. Ведь это лишь тень тени. Град не обязательно работа Диавола. Он может быть и средством Провидения Божия.
Таким образом, ни «мир», ни «справедливость» не являются для Августина чисто мирскими или политическими понятиями. Говоря о «мире» и «справедливости», он исходит из богословских предпосылок, которые в римской риторической традиции не означали вообще ничего, хотя риторы и пользовались ими.
Только в конце средневековья и начале Нового времени У Марсилия Падуанского (1270–1342), Оккама (1300–1349) и Макиавелли (1469–1527) завершается секуляризация политики. Августин же проводит и секуляризацию римской государственной идеологии, и десекуляризацию фундаментальных политических понятий, то есть то, что раньше было только земным, понимается в небесном освещении. «Мир» и «справедливость» становятся аспектами отношения к Богу и общества, и граждан. Послушание и смирение становятся предпосылками мира и справедливости, тогда как непослушание и высокомерие создают войны и несправедливость. В средневековье рах и justitia стали фундаментальными понятиями христианского политического мышления. Мир и справедливость — это любовь к Богу, милосердие и смирение в рамках сообщества.
Вообще, имеются разные виды послушания. Первый — это послушание блаженных на небесах, где всем правит воля Божия. Второй — послушание благочестивых на земле, оно не может быть совершенным. Третий — послушание нечестивых, которое направлено не на Бога, а на людей. Грады нечестивых в известной степени тоже покоятся на послушании. Благочестивые должны содействовать и этой форме послушания. Августин ссылается на Послание к Римлянам (13,1). «Всякая душа да будет покорна высшим властям!» Эта последняя форма послушания ограничивается безбожными и нечестивыми действиями. Это уже: «должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян. 5, 29).
Августин различает также три формы господства. Dominatb — господство Бога в потусторонней жизни над святыми, живущими в совершенном царстве. Здесь все свободны. Но они и не желают иной свободы, кроме свободы повиновения Господу. Для небесного царства вообще характерно свободное повиновение. Грехопадение, которое привело к тому, что все земные царства строятся скорее на принуждении, чем на служении, не коснулось блаженных. Грехопадение — это наказание за то, что все грады строятся на принуждении (О граде Бож. XIX, 14). Град земной держится на общности интересов (О граде Бож. XIX, 24). На общности интересов держится и разбойничья шайка (О граде Бож. IV, 4). Августин рассказывает историю о пиратах, которые в небольших масштабах творят на море то же самое, что завоеватель мира Александр творил на земле в больших масштабах. Раньше, охваченны в политическим скепсисом, эту историю рассказывали И Цицерон, и Карнеад.
Regnum — царство благочестивых на земле, тех, кто постоянно проявляет любовь и смирение. В лучшем случае земное царство руководствуется теми же принципами, какими «хороший отец руководит своей семьей»: veins paterfamilias.
Imperium — это господство нечестивых, которое не строится на послушании и подчинении руководству Бога. Ими руководит Сатана до тех пор, пока это допускает Бог. Благочестивыми правит представитель Бога, нечестивыми — представитель Диавола. В основе любого правления нечестивых лежит superbia, или «гордость». В таких правлениях мы можем обнаружить libido dom'mandi — «властолюбие», когда оно работает на себя. Libido gloriandi — «честолюбие» — тоже признак тех земных сообществ, которые не подчиняются руководству Бога. Нечестивые алчут чести среди людей вместо того, чтобы добиваться ее в глазах Бега. У нечестивых внешний мир всегда достигается с помощью войны и строится на насилии. Ромул и Рем — это пример архетипической вражды, в которой властолюбие и честолюбие сказали последнее слово.
Tyrannus — греческое слово, которое Августин употребляет для обозначения нечестивого правителя. Он — тень Диавола, и ему присущи все пороки. Но, признается Августин, Бог наделял властью и таких правителей, как Нерон! Однако надо сдерживать себя и свою плоть, а не своих подчиненных. У благочестивых людей властолюбие превращается в этическое требование самоконтроля. В противоположность tyrannus Августин рисует образ imperator felix и rex justus — «император, приносящий счастье» и «справедливый царь».
Представление средневековья о христианском императоре и его идеологической легитимности в основе своей восходит к Августину, который рисует образ христианского властителя, наделенного чертами и Константина, и Феодосия (О граде Бож. V, 25–26). Добрый и мудрый властитель пытается следовать вечному закону (Об ист. рел. 35, 58). Христианский император стал фактом задолго до того, как было сформулировано богословское обоснование.
Императоры от Константина до Феодосия были, за малым исключением, правоверными христианами. Но раньше не существовало богословского учения о христианском правителе. Христианский император правит богобоязненно и избегает суетной чести, говорит Августин.
В пятой книге трактата «О граде Божием» он предъявляет ряд требований к христианским императорам. Таким же образом он соединяет понятия о мире и справедливости. Подобно отцу семейства, христианский император руководствуется не только своим желанием власти. Он дает советы и являет заботу о благе своих подданных. Нарисованный Августином образ христианского правителя оказал позднее влияние на образ епископа, идеологию и вообще на представление об обязанностях христианской власти.
Историю Августина можно назвать историей понятий. К сожалению, еще не составлен словарь языка Августина, который по своим качествам мог бы сравниться с большими словарями языка Фомы. Августин способствовал созданию гибкой латыни для церковных целей. Он сделал для христианства то же, что Цицерон сделал для греческой философии, — изложив ее утонченную сложность на удобной в употреблении латыни. В средневековье Григорий Великий был, безусловно, более читаемым писателем, чем Августин, но своим языком и главными богословскими мотивами Григорий обязан Августину. Особенно это касается комментариев Григория к Книге Иова, или Moralia, и так называемых «Диалогов».
Политическое богословие Августина обязано Григорию Великому так же, как философия истории обязана Орозию. Трудно решить, откуда взяты все цитаты и заимствования в этих сочинениях, потому что у Григория все состоит из цитат и заимствований. Как же можно в таком случае утверждать, что мотивы позаимствованы у Августина? Можно ответить, приведя современную параллель: многие ли из тех, кто используют мысли Дарвина, читали его сочинения? Теперь считается, что Августин играл такую же значительную роль в средневековом мышлении, как Дарвин в воззрении на природу во второй половине XIX века. Августиновы идеи свободно витали в воздухе, и люди не всегда знали, откуда они их почерпнули.
Книга Августина о граде Божием, разумеется, не является философией истории в ее современном понимании.
Скорее, это попытка показать, как история отклонилась от божественного замысла, который Августин, по его мнению, хорошо знал. Ведь христиане живут не в вечном космосе, как себе это представляли древние греки. Христиане живут в истории, которая приближается к своему концу, и Творение, грехопадение, инкарнация, погибель и Судный День означают важнейшие вехи на этом пути. Вклад Римской империи в замысел Бога — это отдельная проблема. Августиново царство мира, обращение Константина и падение Рима в 410 году, что означали эти знаки по крупному счету?
Когда придет конец Света? Августин понимает смысл существования истории, но в ней самой смысла не видит. Напротив, она показывает, что движется к собственной гибели. Только в день Страшного Суда всем станет ясна правда о намерении Бога. Без этой последней точки история была бы просто хаосом. Ибо мировая истина кроется не в исторических событиях. Великие битвы происходят в душе человека и вне временных рамок. Жизнь града вращается вокруг жизни тела. Поэтому политическая история касается только поверхности событий. Политика не достигает души.
В одной проповеди 393 года Августин первый раз излагает теорию об эпохах мировой истории (Проп. 259). Мы находимся в последней из шести исторических эпох. После нас наступит Тысячелетнее царство со счастливым миром и терпимостью. Потом наступит вечный мир, который будет подобен райской жизни до грехопадения. В трактете «О граде Божием» Августин развивает теорию о семи эпохах. Первая эпоха охватывает время от. Адама до Ноя. Вторая — от Ноя до Авраама. Третья—от Авраама до царя Давида. Четвертая — от царя Давида до Вавилона. Пятая — от Вавилона до рождения Христа. Шестая — от рождения Христа до конца света. В седьмой день Бог и правоверные отдыхают (О граде Бож. XVI, 24 и XXII, 30). Что же касается Тысячелетнего царства, Августин колеблется, считать ли его самостоятельной эпохой или соединить с шестой.
Августин очень интересовался историческими сочинениями, но себя историком не считал. Он знает, что прошлое дано нам в опосредованной форме — в виде документов и монументов — и что следует отличать факты от вымысла. Но сам он историю не реконструирует. Он находит высшую точку зрения и поднимается над временным, где поколения рождаются и умирают в движении, которое не будет бесконечным. В Творении течение времени образуется через изменения (О граде Бож. XII, 15). Время Творца в вечности — это чистое протяжение, не имеющее никаких изменений.
Свет вечности, падающий на историю, дает ей единство и связь: «Наше благо всегда у Тебя, и, отвращаясь от него, мы развращаемся. Припадем к Тебе, Господи, да не упадем: у Тебя во всей целости благо наше — Ты сам: мы не боимся, что нам некуда вернуться, потому что мы рухнули вниз: в отсутствие наше не рухнул дом наш, вечность Твоя» (Исп. IV, 16). Saeculum, или «этот мир», — тотальность мира во времени и пространстве — все то, что должно быть, пока стоит мир. Но ни дня больше.
В отношениях, где аргументация имеет платонические черты, Августин налагает вечность и преходящность друг на друга как действительности первого и второго порядка. Но он отказывается от неоплатонизма, когда начинает говорить об инкарнации. Его понимание Творения тоже не укладывается в платоническую схему. Смысл христианства в том, что вечность представляется божественной силой и лицом, которое активно вмешивается в ход времени, возникшего с сотворением мира.
Христиане видят более динамичные отношения между вечностью и бренностью, чем видели греческие философы. Само понятие истории изменяет содержание внутри христианских рамок. Августин повторяет чаще, чем нам кажется: «Мир сотворен вместе со временем» (О граде Бож. XI, 6 и Исп. XI, 15). Это означает, что Бог в отношении времени имел тот же замысел, что и в отношении Творения. Во всем присутствуют намерение и цель, которых не знали греческие философы.
Планам Бога и в отношении жизни отдельного человека, и в отношении истории мешает «сила обычаев» (Исп. 1,16; III, 7). Августин часто пользуется словом «обычай» — consuetudo — как синонимом зла или греха. Mos maiorum — «обычаи предков» служили мерилом в дохристианской римской религии. Обычай охватывает поверья, предрассудки, пустые обряды и дурные привычки. Августин всегда борется с силой обычаев. Тут он непримирим и выступает не типично для Рима.
Пользуясь образами двух градов, Августин конструирует две формы континуума—добрую и злую. Обе стремятся к одной и той же справедливости. Но критика этих двух традиций сильно отличается друг от друга. Насколько тесно они переплелись друг с другом, показывает третья линия, которая служит Августину точкой опоры в его анализе и толкованиях в трактате «О граде Божием». Град Божий — не политический континуум. Вопреки имперскому христианству, Августин никогда не идентифицирует христианскую империю с группой избранных. После того, как Израиль повернулся к Богу спиной и Иерусалим был разрушен, политика и богословие навсегда перестали быть тождественными величинами. В лучшем случае политика была инструментом, которым мог пользоваться Бог. Смысл выражения, что Израиль был рассеян среди других народов, Августин толкует как аллегорию и пользуется им как аллегорией, которая означает, что Царство Божие имеет повсюду своих невидимых представителей.
Темные стороны истории тоже имеют континуум. Рим стал новым Вавил оном. Связь со старыми римскими добродетелями была нарушена. Христианство не могло просто так присоединиться к Катону и Сципиону. «Когда справедливость исчезает, чем становится царство, как не шайкой разбойников?» — вопрошает Августин. Боги не сохранили Рим, но Рим сохранил своих богов. Власть всегда исходит от Бога и находится под его Провидением. Август, Нерон, Константин и Юлиан были императорами, потому что этого хотел Бог. Бог помог также и Римской империи объять в конце концов «весь мир» и дал ей единый язык. Рах rоmапа — «римский мир», был лучшим из всех миров, какие можно было получить в условиях бренности и греха.
Потом в мир пришел Христос. И все движение по кругу прервалось (О граде Бож. XII, 12–13). История продемонстрировала нечто радикально новое. В историю вторглось то, что не было историей. Мир не закрылся, а открылся со всех сторон и стал прозрачным благодаря присутствию вечности во внутренней жизни людей. Христос мог умереть только один раз (О граде Бож. XII, 14). Богословие, как считал Августин, не привязано к вечному повторению одного и того же, как думали Аристотель и греческие мыс· лители. Разрыв инкарнации с движением по кругу означает косвенный отказ от учения о странствиях души, которого придерживались платоники. Благая весть, что история больше не повторится, внушает радость.
Августин более сдержанно, чем Евсевий или Орозий, апеллирует к обращению императора Константина. Он не верит безоговорочно в некое христианское царство. Он рад, что есть христианские императоры и что они поддерживают Церковь, но он не поддается искушению поощрять государственное богословие. Государство как таковое никогда не может быть христианским. Государственная администрация привязана к преходящему и сиюминутному.
Во время переходного периода Августин действительно пытается увязать исторические эпохи с неоплатоническим восхождением к Богу, но он быстро отказывается от таких искусственных аналогий. Прибегая к метафоре, можно сказать, что Римская империя обратилась в христианскую веру, ибо Феодосий твердо решил уничтожить языческий культ. Бог явно использует Римскую империю в качестве оружия и против евреев, которые отказались от Христа, и против язычников, которые не хотели оставлять свои храмы. Закрытие языческих храмов во времена Августина — это только продолжение разрушения Иерусалимского храма императором Титом в 70 году.
После падения Рима было важно перестать отождествлять государство с христианством. Церковь должна была и хотела жить дальше, независимо от того, что случилось с политической администрацией. Трактат «О граде Божием» приспособлен к новой ситуации, возникшей, когда римское государство показало себя более слабым игроком, чем предполагали Иероним и Орозий. Размышления о государстве и Церкви были подняты на такой уровень, на котором конкретные величины стали всего лишь проявлениями незримых сил и группировок.
Трактат «О граде Божием» превращает нечеткое соотношение сил между разными институтами в метафизическую борьбу между двумя невидимыми группами граждан, различие между которыми определяется направлением воли граждан. Еще более непонятным это различие становится, когда критерий принадлежности выводится из учения о предопределении. Принадлежащие «граду Божию» избраны для спасения. (О граде Бож. XII, 23). Принадлежащие же «граду земному» никогда не спасутся от погибели. Кто на какой стороне находится и сколько их, не знает никто, кроме Бога. Только в день Страшного Суда все узнают ответ. Бог мог бы спасти всех, но он этого не хочет (О прир. и Благ 7,8). Почему Он не хочет спасти всех? Это Его дело, говорит Августин.
Современный смысл слова «город» не совпадает со значением слова civitas. Поэтому рассказ о двух «городах» легко может запутать читателя. Civitas означает и гражданское единство, и культовое единство. Значение этого слова скорее ближе к тому, что мы называем «сообществом», чем к тому, что мы называем «городом». Civitas Dei — это «сообщество святых» и как метафизическая, и как эсхатологическая величина (О граде Бож. XVII; XX, 9). Civitas terrena — «земной город» — это общество тех, кто почитает фальшивых богов, и в данном случае Августин имеет в виду не только языческих богов, но также власть и славу.
Выражением Civitas Dei обозначается истинная церковь, даже если она невидима. Истинная церковь принадлежит тем, кто действительно живет по слову Божию и под Его благодатью. Смысл истории — спасти сонм избранных от гибели. Разумеется, эти два града приобрели многие черты и Римской империи, и Церкви. Это нужно было для того, чтобы получить возможность критиковать действующие и конкретные институты за их слабости. Civitas terrena — это предупреждение всем политикам, наделенным властью. Civitas Dei — это недостижимый идеал для Церкви. Политическая администрация, которая никак не содействует Церкви, становится не только civitas terrena, но и civitas diaboli — «диавольским градом».
Политические институты должны, по мере возможности, поддерживать совершенную справедливость, близкую к справедливости града Божия. В перспективе вечности град земной не имеет собственной задачи, каковая есть у града Божия. Поэтому град Божий содействует задачам и Римской империи, и Церкви. Каин убил Авеля, а Ромул убил Рема. Таким образом, история земных градов начинается с греха «властолюбия» — libido dominandi. Именно первородный грех лежит в основе градов и делает необходимыми их меры принуждения. Поэтому в них нет истины. Истину эти существующие грады должны искать в ином месте, так же как грешники должны искать истину вне себя.
Позже политическое мышление Августина распространялось с помощью, в том числе, Псевдо–Киприановского сочинения De duodedm abusivis saeculi — одного из самых читаемых политических сочинений средневековья. Трактат «О граде Божием» был любимой книгой Карла Великого. Первый христианский император, бывший не только rex Francorum («королем франков»), но и imperator Romanus («римским императором»), превратил каролингский ренессанс в ренессанс Августина. Идеал «справедливого короля» соответствует идеалу властителя в «Королевском зерцале» древней Скандинавии.
Глава 22. Разрыв с Пелагием и Юлианом
После падения Рима в 410 году в Северную Африку хлынул поток состоятельных беженцев. Среди них был и Пелагий, о котором нам мало что известно; возможно, что в Рим он приехал из Англии в 388 году, как раз в то время, когда в Риме жил Августин. Пелагий остался в Риме. В своем знаменитом и восторженном сочинении об апостоле Павле он толковал его послания и учил, что человек может, а потому и должен, быть совершенным. Бог требует безоговорочного послушания и не проявляет терпения по отношению к грешникам. Человек создан для святой жизни, говорил он. Пелагий и слышать не хотел о первородном грехе. Августин хвалил Пелагия как писателя. Он обладает и «красноречием» (facundia), и «достаточной резкостью» (acrimonia), признается Августин в одном письме (Письма, 188,3).
Разногласия с Пелагием начались на дебатах еще до захвата Рима Аларихом в 410 году, но Августин не имел возможности принимать в них участия. Пелагий прожил в Северной Африке целый год, но с Августином они так и не встретились. После этого Пелагий уехал в Иерусалим. Однако его ученики остались, и среди них был известный Целестий, не признававший крещения детей, потому что не разделял учения о первородном грехе. По совету Августина Целеетия судили как еретика. Но Целестий был лишь членом целого движения. Небольшие группы аскетов–пелагиан были разбросаны повсюду.
Сочинение «О деяниях Пелагия» (417) показывает, как долго и основательно Августин изучал феномен Пелагия. Борьба с его ересью началась еще в 411 году. Полемические выступления Августина дошли до нас в немногочисленных источниках, посвященных пелагианскому учению. Пелагий не демонизировал природу, как это делали манихеи, он учил, что она не представляет собой опасности. Августин ищет золотую середину между Пелагием и манихеями. Он развивает свое учение о первородном грехе и о предопределении, дабы остановить Пелагия, который заявлял, что все люди рождаются безгрешными и вообще могут не грешить. Бог дал человеку естественную склонность к добру и сделал его способным вести совершенную жизнь, говорил Пелагий. Христос вовсе не спас людей. В этом не было необходимости; но Он показал им пример, как можно достичь совершенства. Воля свободна, только если она исполняет закон, и Пелагий считал, что воля способна осуществить эту свободу, опираясь на свои естественные силы. Августин, напротив, сомневался в способности человека своими силами выполнить требования закона.
Пелагий требовал безоговорочной чистоты, что, безусловно, являлось реакцией на отнюдь не ревностное соблюдение христианских обрядов, которое в то время было характерно для населения Рима. Признание Бога, вера в Него, любовь, страх и служение Ему составляли строгую логику, не позволявшую человеку останавливаться на полпути, так считали самые ревностные. Реформатор Пелагий хотел подбодрить слабые и вялые души. Все должны следовать единому образцу. Все должны жить, как монахи. Он хотел сохранить, или, вернее, возродить напряженные отношения между христианским меньшинством и его неверующим окружением.
Во многом учение Пелагия было похоже на ересь донатистов, и Августин ответил на это похожими аргументами. Но если донатисты были патриотически настроенными североафриканцами, пелагиане являлись представителями высшего класса римского общества с его духовными амбициями. Многие из них порвали с миром и по требованию Пелагия раздали свои состояния. Их главным героем был ветхозаветный Иовгероическая, религиозная личность, которая научилась страдать и терпеть.
Все зависит от свободного решения человека. Поэтому все грехи одинаково презренны перед Богом, говорили пелагиане. Августин защищал крещение детей и моральную терпимость по отношению к низшим слоям христиан. В его времена крещение детей еще не вошло в постоянную практику. Вера в магическую силу крещения привела к тому, что люди предпочитали отодвигать его подальше. Им было спокойнее уйти из этой жизни заново очищенными. Многие, как император Константин или отец Августина Патриций, принимали крещение уже перед самой смертью. Таким образом, человек получал возможность безгрешным перейти в другую жизнь. Августин говорил о христианах как о «детях Божиих», чтобы подчеркнуть зависимость и беспомощность человека. Пелагий же говорил о христианах как о «сыновьях Божиих», чтобы подчеркнуть долг подражания Христу, возлагаемый на совершеннолетних верующих.
Оглядываясь на свою жизнь и творчество, Августин отчетливо видел собственные ошибки и недостатки. Он говорил о собственном «развитии», чтобы примириться со своей жизнью в целом. Но в вопросах веры он никогда не сомневался. Он сделал выговор самому Иерониму за то, что тот счел будто каждый новорожденный получает совершенно новую душу. Епископ Рима Зосима тоже не избежал упреков Августина, когда в свое время допустил ошибку в борьбе с Пелагием. Новорожденный не получает индивидуальной, созданной заново души, отнюдь нет, говорит Августин. Ведь дети причастны к греху Адама. Следовательно, их души никак не могут быть созданными заново. Учение о благодати Божией, которую Августин проповедовал по–новому, было в первую очередь направлено против Пелагия.
Оптимист Пелагий был представителем свободной воли. Августин, напротив, был прежде всего проповедником благодати (Переем. II, 1). Однако Пелагий все–таки не был еретиком в обычном понимании. Он, к примеру, не расходился с Августином во взглядах на Троицу. Но богословскую метафизику он толковал в гуманистическом смысле, ученик Августина Павел Орозий отправился в Иерусалим, чтобы осудить Пелагия как еретика, но Пелагий выиграл борьбу с Орозием и Иеронимом. Тогда в дело был втянут епископ Рима, и Августин повернул все таким образом, что постепенно получил поддержку и от него, и от императора. Главный постулат Августина в процессе, осудившем Пелагия как еретика, состоял в том, что никто не может жить без греха.
Пелагий считал, что Адам родился смертным и умер бы независимо от того, согрешил он или нет. Его грех ни для кого не имел последствий, креме него самого. Дети рождаются в таком же состоянии, в каком Адам и Ева были до грехопадения. Адам и Ева не больше способствовали смертности человеческого рода, чем Христос благодаря своему воскресению способствовал его бессмертию, говорил Пелагий. Воскресение Христа имеет последствия только для тех, кто верит. Никто ведь не станет утверждать, что Адам и Ева обладали большей властью разрушать, чем Христос исцелять? — риторически спрашивал Пелагий. Против этого Августин мог возразить: если Адам не развратил нас, то и Христа нельзя считать нашим спасителем.
Пелагий считал, что умерший некрещеный ребенок получает вечную жизнь, хотя и на задворках великого праздника свидания в Небесном Иерусалиме. Человек может следовать заповедям и жить не греша. Это было возможно и до прихода Христа в мир. Пелагий верил, что морально безупречная жизнь вполне возможна. Августин возражал ему, цитируя реалистические строки Послания к Римлянам: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?» (Поел, к Римл. VII, 19–24; Исп. VII, 21).
Пелагий хотел освободить христианство от метафизики. Он не признавал никаких сверхъестественных сил. Христос вел примерный образ жизни. Вот главное. Он не признавал также никаких ограничений для свободы человека (О деян. Пелаг. 18, 42; Письма, 186, 9). Позже Юлиан Экланекий скажет, что свобода воли делает нас независимыми от Бога (Пр. втор. отв. Юл–V, 41). Подобное понимание свободы воли сделало Бога безучастным зрителем того, что происходит на земле. Поэтому Августин резко выступил против обоих и заклеймил их как еретиков.
Но главное: представление пелагиан о свободе человека вело прямиком к тому, что к человеческим поступкам предъявлялись безграничные моральные требования. Если возможно жить без греха, нет никаких причин не жить так. Каждый, кто мог бы поступить лучше, чем он поступил, отправляется прямиком в ад. Таким образом, каждый грех превращался в смертный грех. Безграничная свобода вела к абсурдным обязательствам для всех последователей Пелагия. Августин, напротив, говорил: никто не живет без греха. Все нуждаются в благодати. Без благодати свобода не имеет никакой ценности. Бог — источник всего доброго именно через благодать так же, как он источник всего истинного через свое «просвещение» разума — iiiuminatio. Сами по себе мы знаем только обман и грех, говорил Августин.
Самыми значительными дебатами в жизни Августина можно считать дебаты, связанные с его долгой борьбой с Юлианом Экланским, который был епископом недалеко от Рима, где до него был епископом его отец. Юлиан был блестяще образованный человек, способный богослов, знающий и Вергилия, и Цицерона. Его отец Меморий дружил с Августином, и так как отец хотел обеспечить своего юного, рвущегося к знаниям сына развивающим ум чтением, он попросил Августина прислать ему экземпляр своего сочинения «О музыке». Августин уже давно покончил с тем этапом своей жизни и творчества и в письме предостерег Мемория от изучения «свободных искусств» — аrtes liberaies (Письма, 101; Исп. IV, 1 и 6).
Предупреждение оказалось не лишним: Юлиан вырос в крайне неприятного спорщика. Прямая и косвенная борьба с Юлианом омрачила последние годы жизни Августина. Юлиан прекрасно знал, что его великий герой Пелагий был низвергнут во тьму личными стараниями Августина. Для пелагиан, как таковых, не было пути назад к Церкви, однако Юлиан все–таки, как мог, омрачал жизнь старому епископу. Он использовал свои связи в обществе, чтобы опорочить Августина в высших христианских кругах Рима, где явно угадывалось желание снова дать ход делу Пелагия.
Папа Иннокентий назначил Юлиана епископом за год до своей смерти, в 416 году. Иннокентий был одним из первых, кто систематически подчеркивал особое достоинство епископа Рима. Папа Зосима, преемник Иннокентия, реабилитировал Пелагия, чтобы немного успокоитьцарившие в Риме настроения. Однако римские сторонники Пелагия сочли эту реабилитацию победой и сигналом к новому раунду борьбы. Увидев, что император, церковный собор в Карфагене и даже сам папа реабилитировали Пелагия после того, как он был осужден в 418 году тремя разными постановлениями, Юлиан повел борьбу с врагами Пелагия не на жизнь, а на смерть. На стороне Пелагия выступили свыше двадцати итальянских епископов. Они отказались подчиниться «циркуляру» (tractoria) римского епископа.
Борьба Юлиана за Пелагия была борьбой с учением Августина о первородном грехе. Юлиан обвинил Августина в том, что тот оклеветал институт брака и — на манихейский лад — представил его инструментом Диавола (О браке и вожд. 1,1). Августин все еще остается защитником манихейства, без конца повторял он. Очки в этой полемике дала Юлиану и «Исповедь», позволившая ему более чем прозрачно намекать на алкоголизм Моники, из–за чего, мол, у Августина в детстве было сотрясение мозга (Пр. втор. отв. Юл. 1,68; Исп. IX, 8). Ну, а то, что Августин «туп, как ступка» (Пр. втор. отв. Юл. 11,117 и 159) и «лжив, как все африканцы», позволило Юлиану сравнить Августина с Ганнибалом (Пр. втор. отв. Юл. Ill, 78). Все это живописно рисует накал страстей при обмене мнениями.
Юлиан был снобом, и в высших кругах Рима у него было много сторонников. Оговаривая Августина, он, между прочим, подчеркивал свое социальное презрение к африканцам. Августин серьезно отнесся к этим нападкам и ответил на них, написав в защиту брака, который он якобы демонизировал, сочинение «О браке и вожделении».
Однако Юлиан недооценил прочность положения Августина в Церкви и среди императорских чиновников. Валерий, епископ Равенны, принявший жалобу Юлиана на Августина, был одним из многочисленных корреспондентов Августина и по вопросам богословия, и по вопросам африканской церковной политики. Через него Августин узнал о многочисленных и горячих нападках на себя. Юлиану и его сторонникам пригрозили отлучением и судом. Но в этом время умер папа Зосима, а Бонифаций стал папой только в 419 году. Таким образом Юлиан получил время на перегруппировку сил и подкрепил устные нападки четырьмя книгами «Ad Turbantium»(«КТурбантию»). Августин, со своей стороны, был вынужден переработать свое сочинение «О браке и вожделении», чтобы ответить на новью обвинения. Тем временем Юлиан потерял должность, и его пелагианские извращения были снова осуждены, теперь уже папой Целестием.
Пелагианство Юлиана было оптимистично не только по своей природе, но и потому, что Юлиан, как и его учитель, отрицал метафизическое содержание в основополагающих понятиях богословия и пришел к своего рода философскому натурализму. Страсть человека не более греховна, чем страсть животного! — заявлял он. Боль, испытываемая женщиной при рождении ребенка, объясняется природой, а не первородным грехом. То, что Адам и Ева согрешили, плохо для них самих, но не имеет последствий для нас. Смерть Евы, как и смерть Адама, никак не связаны с грехом, просто так распорядилась природа (Пр. втор, отв. Юл. VI, 26; V, 52). Вожделение и страсть были в раю еще до того, как в мире появился грех.
Следовательно, по Юлиану, нет нужды ни в крещении детей, ни в том, чтобы искать для некрещеных детей особое место в географии царства мертвых. Грех — это не что иное, как злая воля, которая, в принципе, способна отвернуться от предмета своей страсти (Пр. втор. отв. Юл. Ill, 138; II, 17). Ко всему прочему, Юлиан заявлял, что каждая человеческая душа создана Богом и потому каждый новый человек в мире изначально причастен к чистоте рая (Пр. втор. отв. Юл. 1,24–25; 1,6 и 66). Своими слезами маленькие дети подтверждают, что они родились на несчастья, говорил Августин (Пр. втор. отв. Юл. II, 116). Но Юлиан утверждал, что влияние Адама на последующие поколения заключалось только в его плохом примере, тогда как Христос влиял на людей своим хорошим примером (Пр. втор. отв. Юл. II, 47).
Юлиан называл приверженцев Августина «деревенщиной» (rurales), «подонками» (vufgus), «любителями зрелищ» (theatrales), а самого Августина — «покровителем ослов» {patronus asinorum). Юлиан черпал свои знания якобы из философских сочинений и считал, что являет собой уровень образования, о каком ни Августин, ни его провинциальная группировка не могли и мечтать.
Для Августина Юлиан стал средоточием всего, что портило ему жизнь. Юлианово высокомерие, дерзость и ложный оптимизм претили старому епископу. К этому надо добавить и презрение Юлиана к верующим простолюдинам, тем самым, которых Августин утешал и наставлял столько лет, сколько был епископом. Больше всего Августина, наверное, пугало то, что этот дерзкий молодой человек во многом напоминал ему его самого в ранней молодости. Разрыв с Юлианом заставил Августина занять позиции, близкие к манихейству. Впервые в своей жизни он оказался перед агрессивным противником, не менее ученым, чем он сам, и владеющим теми же риторическими приемами.
Августину были не чужды издевка, ирония и аргументы ad hommem. Но он привык сам определять стелем» накала страстей и количество выпадов. И Иероним, и Августин были темпераментными полемистами. Они, не стесняясь, употребляли по адресу своих противников любые бранные слова, какие считали нужными. Оба не останавливались перед грубостью и оскорблением противника, что поражает современных читателей в сочинениях этих святых людей.
Однако в борьбе с Юлианом Августин встретил, так сказать, полемиста–самоубийцу, который прибегал к самым крайним возможностям и который с самого начала отбросил всякую сдержанность. Потому Августин в этой полемике и производит впечатление усталого и ожесточившегося человека. Он говорит как епископ, который хочет навести порядок среди своей паствы, но быстро обнаруживает, что не встречает того же желания к примирению у противоположной стороны. Юлиан стремился к одному: он хотел увидеть, как Августин будет страдать и умрет, наказанный за то, что он сделал с Пелагием. Юлиан пережил Августина, но радости это ему не принесло.
Августин не мог понять, что кто–то может сомневаться в реальности первородного греха. Всю жизнь он сталкивался со злой волей и себялюбием людей. Его понятие христианства было связано с образом греха как болезни, излечит ь которую может только вера в спасение. В «Исповеди» нет более прозрачных метафор, чем те, которые говорят о Христе как о враче, о грехе как о болезни, и о спасении как о выздоровлении (Исп. II, 7; V, 10; IX, 8 и др.). «Ты врач, я больной» (Исп. X, 28). Ошибка юлианского гуманизма состояла в том, что Юлиан не знал, как большинство людей стремится найти смысл в своем жалком и нищем существовании. Юлиан знал только модное духовное направление верхушки римского общества и говорил исключительно от своего имени. Августин же солидаризировался с самыми несчастными и таким образом вернулся в ту среду, из которой вышел, — правда, в неуязвимой роли епископа.
Глава 23. О Троице: Дух, созданный по образу Божию
В 1465 году художник Беноццо Гоццопи изобразил на хорах храма Сан–Агостино в Сан–Джиминьяно эпизод из детства Августина. Легенда гласит, что однажды маленький Августин ложкой выкопал на берегу яму, которая заполнилась водой. На вопрос, что он там делал, мальчик ответил, что легче перечерпать ложкой всю воду из океана в эту яму, чем постичь тайну Троицы. В этой связи снова всплывает старый мотив о «неведении ученых мужей» — docta ignorantia (Письма, 197,5; Рассужд. на Еванг. от Иоан. 13,5).
Если ты что–то понимаешь, то это еще не Бог, говорит Августин (Проп. 117, 5). Этот мотив означает нечто большее. Идея в том, что чем больше человек учится, тем меньше он понимает. С этой точки зрения ученых следует считать несведущими, а несведущих — учеными. Docta ignorantia как идея уже мелькала в ранних диалогах Августина (О порядке, И, 16). Молчание важнее всего, что человек может сказать. Кто поймет всемогущую Троицу? (Исп. XIII, 11). Бог есть не что иное, как само бытие. Он Сам есть Свой объем и содержание. Он есть единство во всем, что Он охватывает (О Троице, V, 2). Его действительность превосходит все, что способен постичь человеческий разум.
До сих пор и в Церкви, и вне ее находились значительные арианские группировки. Арианская ересь была осуждена в Никее (325), но готы в императорской армии и римская администрация оставались арианами; даже в самой императорской семье были верующие, желавшие, чтобы арианским богослужениям была предоставлена свобода. Последняя большая битва, которую епископ Амвросий вел в Милане, объяснялась именно арианскими симпатиями Юстины, матери императора. Были случаи, когда Августин в публичных дискуссиях объединялся с арианами. Но его самое значительное выступление против некоторых современных ересей — сочинение «О Троице» (De Trinitate) (400–416) — должно было раз и навсегда сформулировать истинное учение. Это сочинение особенно важно и как разрыв с арианством, и как разрыв с Пелагием и Юлианом; оно показывает, как Августин опасался последствия их учения.
Всю деятельность Августина можно назвать «католической» в том смысле, что он прежде всего пекся о единстве Церкви, пресекал любые попытки выхода из нее, призывал заблудших обратно и защищал здравый разум тогда, когда трудно было соблюсти равновесие. А потому в трактате «О Троице» много странных парадоксов. Августин пускается в самые немыслимые рассуждения, чтобы сформулировать что–то, с чем все могли бы согласиться и что соответствовало бы ранним решениям соборов. На посторонний взгляд, это сочинение содержит самые запутанные рассуждения. Но с точки зрения истории догм, оно точно определяет границу между различными ересями и тем, что по традиции принято считать истинной верой.
В известном смысле трактат «О Троице» — это разрыв сразу со всеми многочисленными сектами и религиозными альтернативами, которые Августин в других своих сочинениях осуждал каждую по отдельности. Так же, как император Август после гражданских войн хотел установить рах готапа — «мир римлян» — в поздней республике, Августин после столетия религиозных распрей хотел учредить и защитить pax catholics — «католический мир». Августин ненавидел фанатизм любого свойства и боролся, защищая пространство, к которому могло бы принадлежать большинство, даже если бы внутри его не всегда и не во всем царило согласие. Все, считающие Бога своим Отцом, могут считать Церковь своей Матерью, говорит Августин. Вне церкви непокорные члены общины могут быть такими, как им хочется, но только в Церкви они могут обрести вечное спасение.
Августин пользуется словами Писания о триедином Боге и соотносит их с формулировками церковных соборов. Он бьется, чтобы разъяснить парадоксы в почти непостижимом учении о Троице. Но главное в его фундаментальном труде — это раздумья в книгах с 8 по 15. Августин повсюду находит следы троичности и, особенно, в человеческом мышлении. «Дух» (mens) — это часть тройного единства вместе с «сознанием» (notitla) и «любовью» (amor). Но сам дух тоже делится на три части: он сам, его любовь к себе и его самосознание. То же можно сказать и о любви. В ней три части — это любящий, предмет любви и самое любовь (О Троице, VIII, 10).
Августин переносит это на все мышление, оно опирается на трехчленные блоки, которые частично перекрывают друг друга, частично проникают друг в друга. То же касается и трех ипостасей Божества. Это не тройня, но единое метафизическое тело. Так же и «память» (memoria), «разум» (htelligentia) и «воля» (voluntas) являются взаимосвязанными аспектами человеческого мышления (О Троице, X, 3; 10). Простой вывод Августина: Дух создан по образу Божию. Он — knago Dei. Поэтому трактат «О Троице» можно читать как исчерпывающую богословскую интерпретацию бытия и динамического единства человеческого духа. Гегелевская «Феноменология духа» (1807) — не больше, чем современный парафраз великого умозрительного труда Августина.
Трактат «О Троице» — самое сложное умозрительное сочинение Августина. Ни одно другое сочинение не занимало так долго его внимания. В нем Августин конкретизирует положение о том, что человек «создан по образу Божию» (Бьгг. 1,27). Обычно Троицу считают темой чисто богословской. Поэтому, как правило, предпочитают не замечать присущие тексту философскую силу и глубину мысли. Между тем, самый объемный труд Августина о Боге является в то же время и его самым глубоким исследованием человеческого духа. Различив между богословием и философией, которое нам так хотелось бы увидеть, во времена Августина было неизвестно. И это мешало нам считать трактат «О Троице» главным трудом в философии Запада «Феноменология духа» Гегеля во многом обязана труду Августина, и уже одно это должно было обеспечить последнему видное место в философско–исторических исследованиях.
Излагая традиционные мотивы христианского учения, Августин конкретизирует и христианизирует рассуждения неоплатоников о троичности. Но иногда он поступает иначе. Размышляя о Троице, Августин возвращается к своему старому убеждению о родстве человеческого духа с Богом, человеческой мудрости с премудростью Божией. После труда Августина память, разум и воля заняли центральное и сопоставимое место в христианском мышлении (ср. Исп. X, 8–9).
В IV веке учение о Троице стало, так сказать, мерилом церковной ортодоксии. Ряд еретических выступлений придали иное значение одной из частей учения о Триединстве, отличавшееся оттого, которое было положено церковными соборами и синодами. Одни понимали Бога как несоставное единство. Другие придавали Божественным ипостасям такую самостоятельность, что это стало угрозой монотеизму. Третьи возвышали одну из ипостасей за счет двух других. Найти устойчивое равновесие было трудно и, вследствие этого, трудно было достичь необходимого согласия.
Все упиралось в желание повторить известные формулы. Ведь никто, собственно, не понимал учения о Троице, одобренного Никейским собором в 325, ни до, ни после Августина. Он тоже пользуется этой формулой, но пытается проникнуть в «тайну». Толкованию догмы триединства уже давно требовалась философская поддержка. В том числе, дабы придать смысл утверждению, что Бог одновременно может быть и в одной, и в трех ипостасях (ср. Исп. IV, 16,), пользовались учением Аристотеля о категориях, подавая его в парадоксальном виде. Августин берет на себя эту задачу и прилагает много усилий, чтобы понять, был ли человек создан по образу Божию еще до того, как Бог вдунул в него душу (Быт. 2, 7).
Августин не только определяет свою позицию по отношению к античным философским школам, но считает себя обязанным собрать все неясные библейские цитаты о трех ипостасях в одно насыщенное учение о Боге и, следовательно, о человеческом духе. Для того чтобы защитить дву–единство, то есть, Христа как истинного Бога и истинного человека, он прибегает к тем же аргументам, какими пользуется, защищая три–единство: Отца, Сына и Святого Духа как единого Бога. Отчасти он использует риторические приемы, отчасти — философские тонкости, и разница между ними далеко не всегда очевидна.
Или любое различие между Отцом, Сыном и Святым Духом должно быть стерто, или они становятся такими разными, что у нас опять являются три Божества. Найти точку равновесия удается не всегда. Если верить Аристотелю, одна субстанция не может содержать в себе несколько субстанций. Ибо субстанция — это нечто единое и неделимое. И тем не менее, в Никее говорили о трех ипостасях «одной и той же субстанции» — consubstantiales. То есть Сын и Святой Дух были не «сотворены», но «рождены» Отцом.
Августин хотел заново определить отношения между ипостасями Божества, прибегая к новым метафорам для обозначения человеческого духа. Память, разум и воля — различные и в то же время вытекающие одна из другой стороны человеческого духа. Ни одна из этих сторон не существует без участия двух других. Память, разум и волю невозможно описать ни как одну, ни как три субстанции. Так, пытаясь освободиться от гнета аристотелевского учения о категориях, Августин отворачивается от мира природы и вещей и концентрирует свое внимание на внутреннем представлении человека о Боге (ср. О граде Бож. XI, 10). Через аналогию с человеческим духом он хочет заново осветить сущность Бога.
Однако деление человеческого духа на три части есть нечто большее, чем просто метафора. Использование метафоры объясняется тем, что человеческий дух фактически есть imago Dei, что он создан «по образу Бога». Августин пытается понять божественную тайну, исходя из богоподобия человека. Самая характерная черта человеческого духа — это его отношение к самому себе. Следовательно, рефлексивное самосознание может быть образом отношения Бога к Самому Себе и Своим ипостасям. Он есть и «образ», и «след» — imago Trinitatis (IX, 12) и vestigium Trinitatis (XI, 1). Человеческий дух создан по образу Бога не только как три–единство, он постоянно соотносится с самим собой так же, как соотносятся друг с другом ипостаси Бога.
Человек может помнить, что он что–то забыл, может знать, что он чего–то не знает, и может хотеть чего–то, чего он не знает. То есть, скрытое или потенциальное всезнание лежит в основе самосознания человека в виде памяти, сознания и воли. Как и самосознание, «дух» — animus или mens — есть нечто большее, чем просто часть «жизненной души» человека — anima. Но Августин не последовательно пользуется этими понятиями в своем творчестве. В добавление к уже названным понятиям появляются такие слова, как spiritus, ratio, inteliectus и intelligentia, представляющие мыслительную жизнь человека необозримой и изменчивой (О Троице, IX, 6; XIV, 15; XV, 12).
Августин пользуется понятиями, различиями и значениями, когда и как ему нужно. Он — не Фома Аквинский, которого почти невозможно и не нужно толковать, потому что все, сказанное им, просто и понятно. У Фомы едва ли найдутся какие–либо туманности или двусмысленности. Его мысли как бы обнимают вечный порядок неизменных понятий. Августин же, напротив, все время мысленно решает свои задачи, и то, что он говорит, нередко становится бессмысленным или сомнительным, если бывает вырвано из определенного контекста.
Дух, по Августину, есть нечто, в чем мы принимаем участие, он больше того, что мы имеем и контролируем (О Троице, XII, 1–2). Человек обладает духом совсем не так, как он обладает, к примеру, руками. Дух — это сам внутренний человек. Он — неделимое целое. Он может только помнить, мыслить и любить. Он не связан временной последовательностью, потому что он всегда в одно и то же время помнит, мыслит и желает. Таким образом, всеохватывающий характер духа является дальним эхом вневременной вечности Бога. Ибо память, разум и воля соответствуют прошлому, настоящему и будущему. Поэтому дух со своими тремя всеохватывающими функциями не привязан к мгновению и времени так, как тело и его душа (anima).
Дух соотносится с самим собой так же, как любящий, предмет любви и любовь. Искусная риторика громоздит тройственность на тройственность. Одни из них совпадают друг с другом. Другие им противоречат. А третьи образуют сосуд в сосуде. Этот мнимый беспорядок имеет определенный смысл. Он заключается в том, что тройственность присутствует повсюду и что все три звена в таких рядах переплетаются друг с другом и обусловливают друг друга.
Так трудно ли понять Троицу? Нет, ведь нам известно много таких рядов, где звенья обусловливают друг друга и все–таки переплетены друг с другом. Если божественное триединство не может быть проиллюстрировано аналогиями во внешнем мире, где действуют категории Аристотеля, оно легко иллюстрируется аналогиями из внутреннего мира духа. На витиеватые рассуждения Августина можно возразить, что Троицу было бы легче понять, если бы она постоянно не являла себя. Августин не может окончательно решить, ищет ли он хорошие метафоры или реальные совпадения между трехчленными рядами духа и Богом.
Похоже, что самый объемный сосуд — это mens, notitia и amor, то есть «дух», «сознание» и «любовь». Здесь дух сам выступает в качестве звена в одном из рядов, ведь смысл в том, чтобы обосновать богоподобие духа через его внутреннюю тройственность. Теперь можно сказать, что самосознание и любовь — это тоже части жизни духа. Но тогда именно этот ряд не становится рядом сопоставимых, доступных величин, таких как память, разум и воля. Этот пример показывает, что в данном случае Августин выступает не только как богослов и философ, но и как ритор, который громоздит эффекты на эффекты, не совсем понимая, что его примеры означают.
Учение Августина о Троице имеет мало общего с тем, что мы, современные люди, называем «психологией». Потому что та «душа», которую наносят на карту психологи, в принципе принадлежит отдельному индивиду. Она индивидуально ограничена историей его жизни. То, о чем пишет Августин, является, напротив Phaenomenologie des Geistes, феноменологией духа, с явным богословским подтекстом. Он хотел показать, как человеческое самосознание и божественная тайна могут взаимно просвещать друг друга. Он описывает не anima, жизненную душу тела, a animus или mens — «разум» или «дух», которые находятся над душой так же высоко, как высоко душа находится над телом. По схеме Августина внутреннее, безусловно, и есть самое бессмертное. Благодаря этому бессмертию внутренний человек принимает участие в жизни, которую он отражает, а именно в Триединстве.
Для Августина учение о Триединстве важно потому, что оно ставит преграду опустошениям, наносимым первородным грехом. Образ Бога в человеке после непослушания Адама стерт еще не совсем. Может быть, узнать сразу этот образ и трудно, но приложенные усилия непременно увенчаются успехом. Трактат «О Троице» — светлая книга, потому что она внушает уверенность, что порвана еще не вся связь с триединым Богом. Мы можем помнить, что что–то забыли, мы можем знать, что чего–то не знаем, мы можем желать чего–то нам неизвестного — и можем познать то расстояние, которое возникло после грехопадения. Косвенно тройственность духа является ключом к связи Бога и человека до грехопадения.
В той степени, в какой знание истинно и полно, оно участвует в собственном знании Бога как память, разум и воля. Грехопадение затронуло и дух, но не уничтожило его полностью. Троица обусловлена сущностной связью между тремя субстанциями, которые образуют единое целое. Жертву на кресте и искупление тоже следует понимать как часть внутренних отношений Троицы — наравне с сотворением мира и вочеловечением. Всю историю спасения можно читать как беседу между тремя ипостасями Божества.
Утверждение Августина, что единый Бог в последней инстанции никогда ни с кем не со–действует, кроме Самого Себя, грозит сделать людей пассивными зрителями в божественном театре. Мы, люди, не знаем совершенных и чистых связей, поэтому категория связи случайна среди земных существ. Однако через образ действия духа можно догадаться, что значит, когда три разные вещи на деле являются одной — «простая сложность или сложная простота» — simplex multiplicitas vel multiplex sknplicitas. На небесах категория связи — такое же существенное свойство, каким оно было и в раю. Августин верит, что Аристотелев акцент на природе вещей как единственной реальности есть следствие уничтожения всех связей, нарушенных грехопадением.
Он также верит, что не может быть никакого личного опыта в отрыве от мысли о Боге. Размышляя о небесном, Августин далек не только от Бога, он далек и от самого себя. Как все представления о временном предполагают основополагающую идею о вечности, так и каждое представление о личности предполагает основополагающую идею о Боге, считает Августин. В своих рассуждениях он хочет только выявить, то есть сформулировать, предпосылки, которые, по его мнению, с ним должны разделить все мыслящие люди.
Атеизм для Августина — не умственная альтернатива, но необдуманность, возникающая, когда мысль не считается с собственными предпосылками. Дух как imago Dei — это не тень и не подобие Бога, но участник жизни изображенного. Imago — «образ» — не номиналистическое понятие, но реальное соучастие, то есть соучастие в изображаемом, как хлеб и вино могут быть образами тела и крови Христовой, чтобы таким образом передать нам силу изображаемого.
Для понимания всего древнего мышления важно уяснить, что Августин не знает присущего современному номинализму четкого разделения между словом и вещью, между образом и тем, чт<5 этот образ собой представляет. Когда Августин говорит о человеческом духе как об «образе Бога», он думает о человеческом духе как об иконе, которая представляет и делает присутствующим все, что на ней изображено. Образ участвует в жизни изображенного, обеспечивая его присутствие. Представление о том, что язык до вавилонского смешения фактически нарекал вещи их единственным правильным именем, сохраняется в реализме, который воспринимает слова как образы. Слово может быть единственно правильным именем вещи, также и образ может быть формой проявления того, что он представляет, или воротами в то, что этот образ изображает. В этом смысле учение Августина о Троице — важный манифест христианского гуманизма. Человеческий дух принимает участие в жизни самого Бога через свою тройственность и свою саморефлексию.
Глава 24. Страсть и милосердие: Caritas
К последнему периоду жизни Августина относится небольшое сочинение «Энхиридион к Лаврентию», известное также под названием «О вере, надежде и любви», написанное после 420 года. Это совсем небольшая книга, в ней дается сжатое изложение веры. Августин начинает с того, что вспоминает Символ Веры, Отче наш и христианские добродетели: веру, надежду и любовь. Именно они лежат в основе Символа Веры и главной молитвы. Он характеризует добродетели, показывая их во взаимоотношении друг с другом. Смысл в том, чтобы показать, что ни вера, ни надежда, ни любовь в христианском понимании не могут встречаться изолированно от двух других добродетелей. Любовь — самая всеобъемлющая из всех и в бблыией степени полагается на благодать как на дар Святого Духа. В широко известной книге — «Эрос и Агапе. Христианское представление о любви во все времена» (Nygren A. «Eros och Agape. Den kristna kSrlekstanken genom tiderna» (1930–1936) — шведский теолог Андерс Нюгрен пишет, что понятие любви у греков и первых христиан тождественно понятию любви Августина. Из «стремления» философов к совершенному (eros) и евангельского «милосердия» к достойным сочувствия (адаре) — возникает caritas, которая включает и то, и другое и, тем не менее, является чем–то совершенно новым. Caritas — это любовь, которая любит то, что достойно любви. Главным образом, это слово обозначает любовь к людям, а не любовь к вещам. Потому что людей любят ради их самих, вещи же потому, что они могут быть полезны для чего–то другого. Кроме того, caritas это любовь, которая не может оставаться бездеятельной. Она должна находиться в действии (Толков, на Пс. 13, 6). Слово caritas употребляется, когда говорится и о любви Бога к людям, и о любви души к Богу. Христианское представление Августина о любви сохранится навсегда.
Даже в самых ранних неоплатонических рассуждениях Августин уделяет внимание любви как движущей силе философии. Он говорит: «Кто узнал Истину, узнал и этот Свет, а кто узнал Его, узнал вечность. Любовь знает Его» (Исп. VII, 10). Когда он уже в 390–е годы серьезно знакомится с христианством, он опять прежде всего обращает внимание на любовь. У Августина всегда в центре всего стоит любовь к Богу.
Разумеется, он признает также и благодатное милосердие Божие к людям. Но Христос пришел в мир, чтобы научить нас любить Бога. Учение Августина о благодати и «просвещении» — illuminatio, которые могут снизойти на ищущую душу, сохраняет и удерживает мотивы адаре. «Любить и знать Его составляет блаженную жизнь, о которой все кричат, что ищут ее» (Об учит. 14). Однако вне учения о познании eros и его направления переживут обращение Августина от неоплатонизма к христианству. Любовь к ближнему Августин понимает лишь как косвенную и опосредованную любовь к Богу.
Благодаря своей многогранности любовь хорошая исходная точка и для философа, и для богослова. Еще в диалоге Платона «Пир» показана неразрывная связь между всеми формами eros, начиная от самой грубой эротики до самых тонких рассуждений о вечном. Однако Августин делит любовь на два вида. Так, любовь к Богу является источником всяческого добра, а плотская страсть — корень всяческого зла. В Ветхом Завете Бог требует любви через закон. В Новом Завете Он являет Свою любовь, принеся в жертву Своего Сына. Таким образом, любовь становится главной связующей темой всего Писания, как его понимает Августин.
Вера и надежда — это орудия любви. Все строится на любви, словно она шест, на котором держится тяжелая парусина палатки. Августин не порывает с неоплатонизмом, даже став христианином. Мысли Платона и Плотина он вплетает в свое понимание христианства. В известной степени он стирает грани между платоновским учением о бессмертии и христианской верой в воскресение, понимая последнюю как конкретизацию и углубление первой. Так Августин обращает свой платонизм в христианство.
Исторические последствия этого обращения были огромны. Большинство христианских мыслителей будет потом рассматривать Платона как предтечу христианских истин. Общее посвящение в христианскую божественную тайну, которой Моника и Августин приобщились в Остии, по своей структуре не слишком отличается от речей Диотимы в Платоновском «Пире». И там, и тут души выходят из мира, покидая плотское и чувственное, и, ступенька за ступенькой, поднимаются домой в вечность.
Милосердная любовь Бога проявляется прежде всего в учении Августина о предопределении и благодати. Люди — недостойные предметы Божией благодати. Мы любим Бога, когда нам чего–нибудь не достает. Бог любит нас, потому что Его затопляет благожелательность. Водная метафора — «затопляющая» благожелательность — почерпнута из образов неоплатоников. И для христиан, и для платоников Бог — это «источник жизни» — fons vitae. (Исп. Ill, 8). Ибо и неоплатонизму не чуждо такое понятие, как «изобилие» Божие. Самое чудесное в милосердии Божием заключается в том, что оно не является частью предсказуемого устройства мировой жизни. Оно не часть постоянного товарообмена, как старая религия культов,, но нечто, происходящее спонтанно, неожиданно и в высшей степени добровольно со стороны Бога. Инкарнация — самый яркий пример Божией любви, проявившейся спонтанно, дабы спасти людей.
Августин один из первых отвел Марии главную роль в событии инкарнации (О Троице, III, 5; О Кн. Быт. незаконч. I. 4; Проп. 186,1). Иисус и Мария станут парой, приносящей спасению чистую прибыль, так же как Адам и Ева были парой, которая принесла погибельное несчастье. В обоих случаях Диавол должен был быть побежден представителями обоих попов (О борен. христ. 22, 24). Одна пара с этим не справилась, вторая — справилась общими силами. Августин часто возвращается к Марии, между прочим, еще и потому, что она дает ему повод сформулировать замечательный парадокс: «Она была девственницей, когда забеременела; она была девственницей, когда родила: она — вечная девственница» (Проп. 186,1).
Августин любит прибегать к контрастам, которые он всегда поворачивает по–своему. «Сюда спустилась сама Жизнь наша и унесла смерть нашу и поразила ее избытком жизни своей» (Исп. IV, 12). «Как сладостно стало мне вдруг лишиться сладостных пустяков: раньше я боялся уступить их, теперь радовался отпустить» (Исп. IX, 1). Ни манихейство, ни скептицизм или неоплатонизм не давали повода для риторических выступлений такого типа, к каким Августин всегда прибегает в толковании парадоксов христианской веры.
Учение Августина о предопределен ии как будто совпадает с его неоплатоническим понятием Бога. Бог неизменен. Ведь Он принадлежит не времени, а вечности; поэтому Он не может иеменить Свое решете или принимать непосредственное участие в людских делах. В трудах Августина неизменность Бога представляет собой угрозу Его характеру как личности. Ведь именно личность реагирует и влияет на ход событий. Но Бог Августина никогда не меняет характера в безначальной и бесконечной истории вечности. Тех, кого Бог выбрал для спасения, Он выбрал из вечности.
Проблема не в том, почему Бог выбрал одного и не выбрал другого, а втом, почему некоторые из призванных Богом не откликнулись на Его призыв, говорит Августин. В его мыслях божественное избрание не означает ограничения свободы человека. Во всех своих трудах он четко и настойчиво подчеркивает свободу человека и, тем самым, его основополагающую моральную ответственность за свои поступки и за свою жизнь. Однако у зрелого Августина блаженство лежит уже за пределами наших действий. Наша конечная судьба зависит только от решения Бога.
В сочинениях молодого Августина Бог тоже неизменен. Но там человек может достичь блаженства с помощью философских упражнений. Новое в миропонимании Августина–епископа заключается в том, что только Богу он позволяет судить усилия каждого человека. Епископ не может никому позволить вторгаться на Небеса. Такие намерения продиктованы гордыней, говорит он теперь. Бог требует от нас не «гордости» (superbia), а «смирения» (humilitas). Любовь к Богу больше не является элитарным преимуществом, которым можно пользоваться; она — дар, милость, которыми оделяет Сам Бог. Свободой, в глубоком смысле этого слова, обладает только тот, кто открыт благодати и повинуется Божиим заповедям. Человек должен покориться Богу, в противном случае он попадает во власть Диавола. Епископу чужда выжидательная нейтральность. Он не рассчитывает на разум или дух, которые могут сами найти дорогу, чтобы предстать перед лицом Бога.
Тот же круг мыслей мы находим и в учении о первородном грехе. Человек не имеет ни двигателя, ни преимуществ в борьбе за блаженство. Напротив, многие начинают со значительным минусом; Адам и Ева были изгнаны из рая за непослушание. Таким образом все люди виноваты изначально. Грех Адама и Евы передается по наследству из поколения в поколение. Предопределение Божие не распространяется на этих осужденных. Им остается только благодарить самих себя и своих прародителей. Предопределение распространяется только на тех, кто избран для спасения. Бог выбрал некоторых из осужденных на погибель. Кого и сколько, не знает никто.
До Августина в традиции христианского учения не существовало никакого разработанного учения о первородном грехе, если не считать слов апостола Павла в Послании к Римлянам, гл. 5 и 8. Раньше отцы Церкви представляли себе грехопадение как ограничение свободы человека поступать гравильно, а не как главный и всеобъемлющий дефект. Большинство полагало, что новорожденные младенцы безгрешны. Но в учении Августина о первородном грехе все люди являются совиновниками непослушания Адама. «Никто ведь не чист от греха перед Тобой, даже младенец, жизни которого на земле один день» (Исп. 1,7). Мы пожинаем последствия падения Адама. Все люди лично причастны к его непослушанию. Ибо Бог создал только одну душу, которая через размножение распространи· лась на весь род, говорит Августин в трактате «О свободном решении» (395).
В мире среди людей столько страданий, что никто не может быть невинным. От фактических страданий детей Августин переходит к их метафизической вине. Моральный мировой порядок не допустил бы страдания безвинных. Поэтому дети тоже живут в режиме первородного греха. Человеческая природа повреждена и обречена. Благодаря своему учению о первородном грехе Августин отчасти избегает проблемы теодицеи, то есть вопроса о том, почему в мире столько зла. За все в ответе непослушание Адама. Таким образом Бог освобождается от возможных обвинений.
В связи с разрывом с Пелагием весь комплекс идей снова оживает и формулируется заново. Однако мысли о тяжелых условиях, в которых находится свобода, пришли к Августину еще в 391 году, когда он обнаружил пагубную силу привычки. Особенно в рассуждениях о половой жизни consuetudo, то есть «привычка», играет главную роль как противница свободы. Но ни учение о благодати, ни учение о первородном грехе не могут поколебать веру Августина в принципиальную свободу выбора человека.
Для понимания Августином божественного милосердия характерна аgаре — ибо она объясняет, каким образом eros добивается своей цели. Бог должен Сам пойти нам навстречу, потому что собственными силами мы не одолеем восхождения к Его лицу. Eros, который попытается достичить этого без поддержки, станет жертвой гордыни. Ибо eros недостаточен. Необходима рука помощи, именно это Бог и предложил, послав нам Своего Сына.
Инкарнация — знак смирения Божия. Она показывает, что Бог любит нас (Об обуч. оглаш. 4, 7–8). Гордость самодостаточна. Только смирение открываться для чего–то другого, как должно открываться тому, кто хочет увидеть на мгновение лицо Бога. Своим появлением в образе человека и смертью на кресте Бог подал нам весть, что смирение есть путь. В письме Волузиану (Письма, 137) Августин со всех сторон рассматривает инкарнацию. Тот, кто берет за пример Христа, преодолеет свою естественную гордость.
Всякая любовь вожделеет. Любовь — это «своего рода усилие», motus quidam (О 83 разл. вопр. 35, 1). Главное, на какой предмет оно направлено. Изречение «Люби и делай, что хочешь!» — Dilige, et quod vis fac (Рассужд. на Поел. Иоан. 7, 8) может быть неправильно истолковано. Смысл же его в том, что все должно делаться из любви к Богу — молчать, говорить, порицать и прощать. Все, имеющее свои корни в любви, хорошо, говорит Августин в десяти проповедях о любви, которые комментируют Первое Послание Иоанна — In epistulam Johannis ad Parthos (407). Плотское вожделение тоже алчет блаженства. Вопрос лишь в том, где это блаженство фактически можно обрести. Ведь все жаждут счастья: убийцы, воры, распутники и лжецы. Главная мысль Августина: большинство ищет не там, где нужно. Именно потому, что все жаждут счастья, нет никого, кто не любил бы того или другого (Проп. 96,1).
Благая воля — это добрая любовь, а воля превратная — это любовь дурная (О граде Бож. XIV, 7). У добрых людей добрые страсти, у плохих — плохие (О граде Бож. XIV, 8–9). Все страсти, добродетели и пороки имеют свое начало в разных формах любви. Августин согласен с платониками, что любовь как страсть — самое элементарное из всех жизненных проявлений. Но причину страсти он толкует несколько иначе, чем ее толковали Платон и Плотин.
Всякое Творение является проявлением или доказательством мысли и воли Творца. Всякое Творение получает свою жизнь от чего–то другого, нежели то, к чему оно стремится вернуться. Бог — единственный источник Своей собственной жизни. Поэтому у Него нет ни в чем недостатка и, следовательно, Он ничего не вожделеет. Но всякое Творение живет вне своего блага. Поэтому ему суждено вожделеть, то есть, любить то, чего, по его представлению, ему недостает. Философский eros — горд, ибо создает видимость, что может достичь своего блага собственными силами. Но вожделение объясняется отсутствием того или другого. Это отсутствие определяет способность вожделения находить то, что ему нужно. Человек несчастен не только потому, что ему не хватает счастья, а потому, что ему недостает способности самому найти свое счастье.
Различие между Творцом и Творением соответствует различию между вечным и преходящим. Земная жизнь имеет протяжение в прошлом, настоящем и будущем. Бог, напротив, живет в вечном настоящем (nunс stans). Августин берет на себя труд объяснить время как иллюзию, и преходящую жизнь, как теневое существование. Прошлого уже не существует. Настоящее — это точка без протяжения, которая исчезает в бездне. Будущего еще не существует. Воистину все преходяще! Неудивительно, что Творение, живущее во времени, жаждет истины и действительности как неопровержимого проявления своей жизни.
Истина и действительность существуют только в вечности, Преходящее всегда отказывает нам в предмете нашего вожделения. Мгновение, а таким образом и вечность, недоступны. В преходящем мгновении — это только мимолетная точка: praesens autem nullum habet spatium (Исп. XI, 15), «длительности в нем нет». Tempora numquam stantes (Исп. XI, 11): «время, никогда не останавливающееся», — это медиум нашей жизни здесь на земле. Поэтому мы всегда обречены искать счастье вне нас самих. Все то же самое относится и к вожделению, направленному на другие существа или бренные предметы. Плотское вожделение всегда обманет нас в том, чего мы жаждем найти. Только любовь, направленная на Творца и Его вечность, никогда не обманет.
В этой перспективе находится место и злу. Ведь Бог сотворил все из ничего. Он извлек вещи и живые существа из темноты и пустоты. В той степени, в какой Творение обращено к своим истокам и к центру, оно добро. В той же степени, в какой Творение отвращено от своих истоков и центра, оно — зло. Добро лежит в возвращении в руки Творца. Зло возвращается в темноту и в пустое ничто. В таком понимании зло — «это недостаток добра» (privatio boni), — а именно, — возвращение в то ничто, из которого Творец извлек Творение.
Тот, кто любит Бога, становится богоподобным. Тот, кто направляет свою любовь в другую сторону, становится ничем. Тот, кто направляет любовь на что–то иное, кроме Творца, становится жертвой роковой ошибки. Ибо он ищет добра и счастья, истины и действительности там, где их нет. Андерс Нюгрен говорит, что христианская заповедь любви в миропонимании Августина толкуется как окончательный ответ на вопрос античных философов о высшем добре. Греческий эвдемонизм находит свое место в понимании Августином христианской действительности. Однако, следует добавить, что христианское понятие beatitudo — «блаженство» — совсем не то, что греческое понятие eudaimonia — «счастье в удаче».
Несмотря на свои рассуждения о Троице, Августин часто выступает как платоник, мыслящий дуалистическими категорями: caritas или cupiditas, соответственно: спасение или погибель, град Божий или град земной, смирение или гордость, вечное или преходящее, покой или тревога, неизменное или изменяющееся. Августин часто накладывает эти две категории друг на друга и использует одно, чтобы истолковать другое. Пара понятий Ш и uti, или «наслаждаться» и «пользоваться», являются именно такими двумя категориями. Мы должны научиться наслаждаться тем, чем следует наслаждаться, и пользоваться тем, чем следует пользоваться, говорит он. Зло объясняется плохим использованием того, что создано хорошим (О прир. Блага, 36).
Наслаждаться Богом — это радость, которой нельзя пользоваться (О нравах катол. Церкви, 1,3). Frui означает направлять свою волю на предмет любви. Такой предмет сам по себе является целью. Uti означает использование чего–то в качестве рычага по отношению к чему–то другому. Такой предмет — только средство. В конце концов, наслаждаться следует только Богом, а все другое — это средство, чтобы радоваться, что пребываешь с Богом. Однако на практике можно использовать все для наслаждения тем, что находится на ступень ближе к Богу. В относительной перспективе можно использовать тело, но душа должна наслаждаться высшим. Однако в отношении к Богу душа тоже только инструмент. Человек должен любить тело ради души и душу — ради Бога.
Тем не менее, нельзя наслаждаться миром, не используя Бога. «Упорядоченная любовь» (dilectio ord'mata)—это то, что подчиняется распределению по чинам между Творцом и Творением (О христ. учен. 1,27). Добродетель состоит не в чем ином, как в поддержании порядка в любви (О граде Бож. XV, 22). Упорядоченная любовь не любит того, чего любить не следует, но любит то, что любить следует, или любит сильно то, что следует любить сильно, или не любит две вещи одинаково, если одну из них следует любить больше, а другую меньше, или не любит одну из них меньше, а другую больше, когда их следует любить одинаково. Ни одного грешника не следует любить или не любить за грехи, но всех людей надо любить именно за то, что они люди, и любят их ради Бога. Только Бога должно любить ради Него Самого. Все должны любить Бога больше, нежели самих себя, и всех людей должно любить одинаково сильно (О христ. учен. I, 59–61).
«Хаотическая любовь» (dilectto inordinate) нарушает порядок по рангу между Творцом и Творением (О христ. учен. I, 59). Нет ничего плохого в любви к вещам или людям в мире. Плохо, когда их любят любовью, которой они не заслуживают. Все относительно доброе заслуживает любви, но оно заслуживает относительной любви, которая зависит от величины добра.
Сиюминутную любовь нельзя назвать ни счастливой, ни блаженной. В современном мире счастье часто связывают с движением или действием. Получается, что одинаково важно искать и познавать, спрашивать и получать ответ, жаждать и соединяться. Августин думает иначе. Вера, надежда и страстная любовь — это средства для окончательного соединения с предметом любви. Человек становится счастливым не от страстного желания, а от того, чем он обладает. Любовь, страстно жаждущая, ниже любви обладающей. Тут между нами и Августином лежит романтизм, и, безусловно, из–за этого нам трудно говорить о «наслаждении» Богом.
Собственно романтическая любовь — это боль и безумства, через которые человек должен пройти до соединения. Августин не романтик в своем понимании любви к Богу. Он говорит, что надо увидеть Бога и насладиться Богом так, чтобы страсть, наконец, могла утихнуть. Только тогда мы сможем оставить за собой страсть. Только в союзе высший смысл любви. По пути к этому познанию Бога растет от ступени к ступени и любовь к Нему. В конце пути, когда страсть уже утихает, познание и любовь становятся полными.
Пелагий отвергал учение Августина о первородном грехе. Он полагал, что неоднократные прощения Бога поддерживают свободную волю. Пелагий считал грех отдельным греховным поступком, определенным отклонением. Августин, напротив, считал, что грех — это направление воли, извращенное присутствием в природе человека некоей постоянной примеси, а вовсе не тем, что возникает всякий раз, когда человек «грешит». Пелагий видел грех в использовании свободной воли, Августин же находил его уже в том, чем и как ограничивается свобода воли. Соответственно, благодать по Августину — не столько череда прощений, сколько постоянное предложение поддержки и воле, и познанию.
То, что Пелагий придавал такое значение свободной воле и свободе воли, Августин объяснял высокомерием философов — высокомерием тех, кто хочет своими силами обрести Бога. Божия благодать прощает не только поступки человека, но и преображает его сердце так, что оно находит свое первоначальное тяготение к Творцу. Ибо когда хватка первородного греха слабеет, любовь к Господу становится в сердце «силой тяготения» (pondus).
Если Творение испытывает страсть, это случается потому, что страсть оказалась рядом, а Творец — далеко. Приняв человеческий образ и пойдя в мир, Бог вступил в борьбу со всеми близкими искушениями. Он перестал быть далеким и воспользовался Христом, чтобы привлечь нас к Себе. Он перекинул мост от далекого к близкому, став человеком, как мы, но все–таки оставшись Сыном Божиим. Это показывает, что Бог дал нам Свою благодать, опередив наши грехи. Но ни первородный грех, ни благодать не снимают с человека ответственности, налагаемой на него свободой воли. Так в связи с первородным грехом и благодатью Августин утверждает, что все решает любовь к Богу, как бы ее ни смущал грех и как бы ни помогала благодать.
Объяснение любви к ближнему, какое дает Августин, выглядит искусственным. Только тот, кто любит Бога, любит себя по–настоящему. Только тот, кто любит себя по–настоящему, может любить ближнего. Таким образом, любовь к ближнему зависит от любви к Богу. Если ты любишь в Боге человека, то скорее ты любишь Бога, чем этого человека, говорит он (О христ. учен. I, 26–29). Кроме того, любовь к ближнему может быть ступенью на лестнице любви к Богу. Любить ближнего — это значит стремиться отдать ему частицу обретенного тобой обожествленного блага. Ибо в природе блага заложено то, что оно принадлежит всем людям. Бог любит нас, чтобы использовать нас, и мы любим ближнего, чтобы использовать его. Что касается ближнего, мы должны любить его тело ради души и его душу ради Бога.
Ни любовь Божия к людям, ни наша любовь к ближнему сами по себе не являются целью. Когда мы получаем, наконец, предмет своих желаний, это только встреча индивидуума с Богом лицом к лицу (facie ad fadem). Андерс Нюгрен прав, говоря, что у этой задачи вряд ли есть ответ. Привязанность к платоническому учению об эросе и — в не меньшей степени — к философскому образу Бога как нерушимой самодостаточности, доставляет Августину богословские трудности, решить которые невозможно. Но, как ни странно, эта двусмысленность способствовала его позднейшей популярности.
У Августина удивительно много личин, все они разные и зависят от того, кто на него ссылается. Это было бы невозможно, если бы богословская система Августина была более убедительна именно как система. Последующие толкователи выхватывали некий набор мотивов, с помощью которых и реконструировали мировоззрение Августина. Каждый находит что–то, чем он может воспользоваться. И Лютер, и Эразм — оба взывают к Августину, разойдясь друг с другом по вопросу свободной воли.
Глава 25. Отголоски и отзвуки
Августин по разным причинам критически относился к своим сочинениям. Он написал так много, что к концу жизни уже сам забыл все доказательства и аргументы, которыми пользовался в своих трудах. К тому же он понял, как легко проповедовать ошибочные учения и как трудно найти непосредственное учение Церкви. В «Пересмотрах» (427) Августин оглядывается на свою жизнь и свое творчество. Его пугают предупреждения Писания, что на Судном Дне ему предстоит ответить за каждое свое праздное слово (Мф. 12,36). Августин хочет очистить свои тексты от мусора, чтобы его формулировки, вызванные определенными обстоятельствами, никого не сбили с толку. Он собирался пересмотреть все свое творчество, но успел прокомментировать только собрание проповедей и писем.
В «Пересмотрах» упоминается 94 сочинения из 232 книг. До нас дошло, примерно, 390 проповедей, в зависимости от того, как считать. Кроме того — 249 несомненно подлинных писем. Некоторые из них были обнаружены только в XIX веке. Можно допустить, что будут найдены и еще какие–нибудь рукописи. Многие из писем Августина — это целые трактаты, в «Пересмотрах» о них и гоеорится, как о трактатах. У скорописцев всегда было много работы (Письма, 139, 3). Scribere — «писать» — на практике означало для Августина то же самое, что диктовать «профессиональному писцу» — notarius.
«Пересмотры» дают бесценный материал для определения хронологии и подлинности работ Августина. В средние века христиане были весьма ловкими фальсификаторами. Часто только атрибутация рукописей могла решить, считать ли истинным их содержание. Если кто–то хотел защитить сомнительное высказывание, не было лучшего способа, чем вложить его в уста бесспорного авторитета. Уже в IV веке Августин знал об этой опасности, обусловленной конфессиональными противоречиями. Поэтому он оставил будущему ключ, позволявший определять ошибки или фальсификации, подписанные его именем.
В «Пересмотрах» он признает своими 94 сочинения в 232 книгах и приводит их первые строки. Он разъясняет непонятные места и исправляет высказывания, которые в конце жизни счел ошибочными. Его изложение практично и конкретно. Он просит своих читателей вычеркнуть ошибки и исправить неточности. «Пересмотры» — это уникальный документ. Так же, как «Монологи» и «Исповедь», «Пересмотры» — единственное сочинение в своем жанре во всей античности. Чтобы найти нечто подобное в современной литературе, приходится обращаться к Серену Кьеркегору «Взгляды на мою литературную деятельность» (Synspunktet for min Forfatter–Virksomhet, 1851) и Фридриху Ницше «Ессе homo» (1908).
В последние годы жизни положение Августина в Церкви было настолько прочным, что император Валентиниан III послал за ним и попросил его возглавить вселенский собор в Эфесе, который был намечен на 431 год. Но к тому времени, когда посланец императора прибыл в Гиппон Регий, Августин уже скончался.
Сам Августин просил похоронить его в церкви Святого Стефана, где покоились останки некоторых первых христианских мучеников. Мощи святого Стефана привез в Гиппон из Иерусалима Павел Орозий. Их нашли в Иерусалиме в 415 году, когда Орозий привозил Иерониму письмо от Августина с просьбой возглавить борьбу с Пелагием.
Путешествия Августина продолжались и после его смерти. Когда вандалы захватили Северную Африку, Фульгенций и еще несколько африканских епископов вывезли останки Августина в церковь Святого Сатурнина в Кальяри на Сардинии. Позже, в 723 году, король лангобардов Лиутпранд выкупил мощи Августина у мусульман Сардинии и перевез их в Павию в церковь Святого Петра—Сан–Пье–тро–ин–Чьель–д’оро, где покоится также прах Боэция. До сих пор там можно видеть роскошное надгробие, Area di S. Agostino, поставленное в 1362 году.
К монашескому уставу Августина вернулись только во втором тысячелетии, что отчасти было смыслом реформаторского движения. Августинский орден хотел связать службу священников с общей монастырской собственностью и идеалом апостольского образа жизни. С середины XIII века появились отшельники–августинцы. Они были представителями того же сентиментального и мистического понимания христианства, какое мы находим у основателей орденов Франциска Ассизского и Доминика.
Самым известным из всех отшельников–августинцев остается Мартин Лютер. Для его учения монастыри и монашеская жизнь тоже имели большое значение. Протестантизм родился в монашеской келье, поэтому Сёрен Кьеркегор и требует от обуржуазившегося христианства своего времени возврата в ту монашескую келью, из которой вышел Мартин Лютер. А это и была келья Августина. Лютер много позаимствовал у отца ордена для своего учения о благодати, а в борьбе Лютера с другим монахом–августинцем, Эразмом Роттердамским, слышатся отголоски борьбы Августина с Пелагием.
Лютер признает Августина гпавным учителем Церкви послеапостольских времен, и он один из немногих, на кого, пусть и редко, но ссылается Лютер. Августин всегда был с Лютером, и в его монастырской жизни, и в его реформаторской проповеди безграничной и незаслуженной благодати. Комментарии Лютера к Псалмам и к Посланию к Римлянам многим обязаны толкованиям Августина на те же тексты.
Но, может быть, для Жана Кальвина (1509–1564) Августин значил еще больше, чем для Лютера. Когда противники Реформации горячо обвиняли реформаторов в модернизации Церкви или даже просто в отходе от старых традиций, и Лютер, и Кальвин отвечали им, ссылаясь на своих предшественников в истории Церкви. Оба пользовались Августином как гарантом того, что протест реформаторов основан на самой церковной традиции. Кальвин считал, что необходимо выпустить манифест реформаторов, состоящий исключительно из цитат, взятых из произведений Августина. Он не всегда был согласен с Августином как с читателем и толкователем Библии, но в систематическом богословии Августину, по мнению Кальвина, не было равных.
Такая высокая оценка объясняется историей жизни самого Кальвина: главные реформаторские мысли проснулись в нем после знакомства с трактатом «О Духе и букве к Марцелпину» — одной из первых небольших работ Августина, направленных против Пелагия (412). В XV веке это сочинение было очень популярно среди тех, кто принадлежал к «новому смирению» — devotio modema. Оно вышло в Кёльне отдельной книгой в 1470 году. Мартин Лютер прокомментировал и издал его в 1518 году. Незадолго до своей смерти Лютер заявил, что чтение этого произведения помогло ему в понимании оправдания веры. Нигде в других сочинениях Августин не писал так убедительно об учении апостола Павла о благодати.
Кальвин был серьезный гуманист–неостоик, повернувшийся к христианству после опыта обращения, который оказался решающим для его богословских позиций. Догмы церковных институтов и традиций значили для него гораздо меньше, чем истина, полученная благодаря личному опыту. Поэтому Реформация придает большое значение индивидуальным чертам в религиозном опыте Августина и пренебрегает его римским уважением к Церкви как организации и институту.
Для Кальвина Августин был человеком, открывшим ему глаза на реформаторские задачи. Ни одного писателя он не цитирует в своих произведениях столько, сколько Августина. Не удивительно, что больше всего Кальвина интересовали сочинения Августина, направленные против Пелагия. Ведь в молодости его гуманизм явно носил черты пелагианства, черты, похожие на те, которые характерны для христианства Эразма Роттердамского. В начале XVI века Эразм даже издал отредактированное им собрание сочинений Августина. В творчестве Августина он ценил совсем не те произведения, что произвели столь сильное впечатление на Лютера и Кальвина. Поэтому нарисованный им образ Августина так сильно отличается от образа Августина, нарисованного реформаторами.
Выступления Августина против Пелагия подтвердили Кальвину правильность его выбора: что касается его личного развития, он на верном пути. Небольшой труд Августина «Об упреке и Благодати» (426) и резкое письмо «О различных вопросах к Симплициану» часто упоминаются у Кальвина, однако философские диалоги Августина Кальвина совершенно не интересовали. «Монологи» особенно часто издавались в XV веке; это произведение очень нравилось Эразму, но не нравилось Кальвину. Реформатор придавал большее значение манихейским, а не неоплатоническим мотивам в мышлении Августина. Кальвин без оговорок принял учение Августина о предопределении, но не понял последствий его учения о первородном грехе, говорившего, что новорожденный, но некрещеный ребенок должен опасаться погибели. Возражая Августину, Кальвин критикует его взгляды, но из уважения к нему не называет его имени.
Августин в высшей степени экуменическая личность. Его одинаково высоко почитают и протестанты, и католики. И потому обе стороны пытаются его монополизировать. Естественно и понятно, что католические и лютеранские богословы расходились друг с другом в вопросе о том, что у Августина и Лютера было общего. Особенно бурно они спорили о том, как эти два богослова понимали свободу и благодать.
В известном смысле Августин и Лютер, конечно, несравнимы, потому что писали на расстоянии более тысячи лет друг от друга, а следовательно, в разных ситуациях церковной политики и культурной жизни. И тем не менее оба внесли свой вклад в формулировку главных богословских принципов, стоящих выше исторических перемен. Самая очевидная разница между Августином и Лютером заключается в том, что Августин был экуменический политик, для которого главным всегда оставалось единство Церкви, тогда как Лютер послужил причиной именно большого и серьезного раскола Церкви. Однако, естественно считать, что Лютер, который сперва был монахом–августинцем и хорошо знал все сочинения Августина, усвоил основные истины основателя ордена. Думая о возвращении к старому христианству, Лютер не в последнюю очередь имел в виду Августинову версию веры. Лютер использовал Августина так, словно тот был частью реформаторского движения.
Лютер считал Августина величайшим богословом послеапостольских времен и неоднократно цитировал его. Особенно его «Толкования на Псалмы» и небольшое сочинение «О Духе и букве к Марцеллину» от 412 года, которое содержит все возражения Августина против Пелагия и его гуманизма. Те же аргументы Лютер использовал и в своей борьбе с Эразмом Роттердамским. Лютер и Августин, оба отрицали самоубийство и подчеркивали значение слова для святых таинств. Отказываясь от светской Римской империи, Августин сравнивает Рим с Вавилоном, а Лютер, подхватив это сравнение из трактата «О граде Божием», использует его против Римской Церкви. Странная демонология Лютера тоже во многом взята из пространных историко–философских сочинений Августина. Сам Лютер говорил, что нашел почву для своего реформаторского мышления — о вере, о благодати и отдельно о Писании, — читая апостола Павла, и что позднее он был поражен, обнаружив тот же принцип в сочинении Августина «О Духе и букве к Марцеллину».
Основополагающим вопросом для них обоих был вопрос, лишает ли благодать человека свободы выбора или поддерживает ее. Существовали христианские антропологии, которые признавали либо свободу, либо благодать. Пелагий придавал свободе такое значение, что уже едва ли нуждался в благодати. Мартин Лютер придавал такое значение благодати, что уже ничего не оставалось для того, что можно было бы назвать ответственностью свободы. Августин пытался найти золотую середину. Это было трудно, потому что споры с манихеями подталкивали его к свободе, тогда как споры с пелагианами толкали его к благодати.
Лютер представлял себя истинным наследником Августина, но поскольку он не видел необходимости в свободе человека, то, фактически, придерживался другого взгляда на человека. Лютер не раз говорил: «Августин целиком и полностью на моей стороне» — Totus meus est Augustinusl Но именно понятие свободы отличает их друг от друга. Августин пишет книгу, которая называется «О свободном решении». Лютер пишет книгу, которую он называет «О рабстве воли». Эти названия в сжатой форме передают смысл сочинений. Там, где Лютер видит только «рабство» воли, Августин видит волю свободной, при условии, что ее поддерживает благодать.
Августин никогда не позволяет себе соблазниться утверждениями пелагиан и считать благодатью самое свободу человека. Свобода в христианском понимании никогда не совпадает с абстрактной свободой выбора, но есть прежде всего свобода от зла. Сила свободы зависит оттого, как далеко зашло это освобождение. Свобода Адама заключалась в том, что он — пока она длилась — не грешил. Libertas — «свобода» — означает то же самое, что Ц «способность не грешить»: potestas non peccandi. Такова предпосылка Августина. Говоря о свободной воле, он имеет в виду не волю, которая может делать все, что ей хочется, но волю, которая способна освободиться от принуждения и тюрьмы зла. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Иоан. 8,36). Полная и настоящая свобода есть только в вечном спасении.
Главное Августин видит в том, что благодать укрепляет свободу. Он одинаково не признает ни точки зрения, говорящей, что благодать отстраняет свободу, ни точки зрения, говорящей, что вера отстраняет Закон. Только с помощью благодати свобода способна выполнить заповеди Закона. Даже Провидение не может аннулировать свободной воли человека. В V книге трактата «О граде Божием» Августин защищает и Провидение, и свободную волю. Богу известно будущее, но это не означает, что у человека нет выбора или что все предопределено заранее. Лютер использует идею о том, что Богу известно будущее, в качестве аргумента против свободной воли. И опять Августин находит золотую середину, которая не исключает ни того, ни другого.
Даже в борьбе с пелагианами Августин защищает и свободу, и благодать. Он пользуется мотивом любви, чтобы разгадать тайну, каким образом свобода человека и вмешательство Бога содействуют достижению общей цели. Благодать помогает и поддерживает. Она не снимает с человека ответственности. Тот, кто нуждается в помощи, должен и сам прилагать усилия, говорит Августин (Письма, 157,2). Бог нам не поможет, если мы сами будем бездействовать. Он не будет сотрудничать с нами, если мы сами ничего не делаем.
Августин связывает вопрос о свободе и благодати с тем, что Христос является и Спасителем, и Судьей. «Если благодати нет, как бы Он мог спасти мир? Если нет свободной воли, как бы Он мог тогда судить мир?» (Письма, 114, 2). Если Лютер видит только Спасителя и благодать, Августин никогда не забывает и о Судье, который учитывает ответственность за свободу у тех, кого он будет судить. Лютер отказывает в свободной воле и людям, и ангелам. И, кроме того, в возможной свободе человека видит протест и помеху для руки Провидения.
Августин самостоятельно развил понятие о первородном грехе, Лютер же переработал этот мотив до неузнаваемости. В человеке не остается ничего, что может обратить его к добру, только ко злу, говорит он. Августин явно думает иначе. Он унаследовал от платонизма более положительный и оптимистичный взгляд на человека, не отказавшись при этом от реализма учения о первородном грехе. Решительная разница между этими двумя мыслителями заключается в том, что Лютер не хотел и не мог стремиться к равновесию, и еще в том, что он оставляет без внимания некоторые парадоксы этой загадочной веры. Августин же, напротив, — великий мастер находить равновесие, так же как и мастер использовать одновременно несколько возможностей.
Мало того, похоже, что Августин сознательно занимает позицию, с которой поразительным образом может защищать очевидные контрадикции. Более слабый богослов удовлетворился бы сглаживанием углов и поиском компромиссов. Но Августин хочет показать все, на что он способен. Тщеславие ритора — весьма ощутимая движущая сила, заставляющая его находить головокружительные формулировки. В результате он не только спасает, но выявляет и подчеркивает многие противоречия в учении о вере. Его безграничное восхищение апостолом Павлом объясняется не только способностью апостола сформулировать то, что он хочет сказать, но и его способностью использовать противоположности, контрасты и парадоксы. В Августиновой версии христианского вероучения свобода и благодать, свобода и Провидение, свобода и спасение открыто выступают во всем своем противоречивом великолепии.
Глава 26. Церковь Святого Петра — Сан–Пьетро–ин–Чьель–Д’оро
В главном зале Пинакотеки Амвросия в Милане можно увидеть большой алтарный образ, который был написан художником Возрождения Бергогоне для церкви Сан–Пьетро–ин–Чьель–д’оро (1480–1485) в Павии, романской церкви, освященной в 1132 году и сохранившейся до наших дней. Теперь там на месте этого алтарного образа стоит знаменитая Area di S. Agostino. Сей величественный мраморный монумент, что высится на алтарном подиуме, был первоначально построен для сакристия, где он простоял два века, обнесенный искусной чугунной решеткой. Потом эти куски мрамора долго странствовали, пока церковь не действовала.
Земные останки Августина тоже были забыты на много лет; их нашли заново строительные рабочие в ящике возле алтаря в крипте в 1695 году. Подлинность останков была подтверждена в 1728 году папой Бенедиктом XIII, который таким образом поставил точку в долгих и жарких спорах. В конце XVIII века в Павию пришли сначала французы, а потом австрийцы. Они разместили в церкви и в монастыре солдат и лошадей. Здание разрушилось, и останки перенесли в собор. В 1884 году церковь Святого Петра начали восстанавливать, и в 1900 году мощи возвратились на свое место. Надгробие было собрано и возвращено туда, где оно стояло и где стоит и поныне, отреставрированное в 1902 году.
Августин не единственный выдающийся писатель, который там покоится. Саркофаг философа Боэция, как уже говорилось, тоже стоит в крипте церкви Святого Петра. Внутреннее помещение церкви производит впечатление массивного и давящего, потому что из красивого тенистого парка внутрь церкви приходится спускаться по широкой лестнице. Данте видел могилы Августина и Боэция в «Чельдоро» и упоминает о них в «Раю» (X, 120–128). Вообще–то Данте называет Боэция, но, что характерно для Данте, он связывает с этим местом Августина, когда, может быть не совсем мотивированно, упоминает его имя несколькими стихами раньше.
Боэций, который тоже покоится в церкви Святого Петра, не чужд влияния Августина, и имя его в истории философии почитается не меньше, чем имя отца Церкви. Он жил примерно на сто лет позже Августина, на пороге средневековья. Римляне редко были оригинальными философами. Цицерон и Сенека упаковали древнюю греческую философию в тексты, которые, по их мнению, должны были понравиться их соотечественникам, Марк Аврелий и Плотин писали в Риме по–гречески. Единственными оригинальными римскими мыслителями были как раз Августин и Боэций. Но и в их сочинениях на заднем плане всегда присутствуют Платон и Аристотель. Оригинальность Августина и Боэция заключалась в толковании христианского вероучения и в провозглашении позднеантичной духовности.
Боэций занимал высокий пост на службе у остготского короля Теодориха (он же Дидрих Бернский из средневекового романа), который правил Италией из Равенны, Вероны и Павии в начале VI века. Теодорих был арианин, как и большинство окружавших его людей. В первые годы он был мягким и либеральным правителем. Вырос он при императорском дворе в Константинополе как приемный сын императора.
Теодорих казнил Боэция в результате ряда придворных интриг, оставшихся для историков неясными. Из–за этого образ готского короля был потом демонизирован. Боэций написал книгу об утешении, которое дарит человеку философия, и все образованные люди зачитывались ею вплоть до XVIII века. «Утешение философией» (De consolatione philosophise), было столь значительным сочинением, что в XIV веке Чосер перевел его на английский. Данте же называет Боэция мучеником и святым.
Но был он святым для философии или для Церкви? Мученичество Боэция тоже всегда вызывало вопросы, потому что в «Утешении философией» — его философском завещании — не содержится ни одной прямой библейской цитаты и не упоминается имени Христа. Вместе с тем, Боэцию приписывали несколько небольших богословских трактатов, и это дало повод полагать, что «Утешение философией» тоже написано не им или что в тюрьме перед смертью Боэций отказался от христианства в пользу философии. Однако многое указывает на то, что эта книга принадлежит именно перу Боэция и что он мыслил философски, не прибегая к авторитету откровения. Важно понять, каким образом в нем могли уживаться эти интересы. То, что нам представляется разладом в мышлении того времени, тогда могло восприниматься иначе.
Теодорих лишил жизни не только Боэция. Старый король был разочарован, подозрителен и при малейшей провинности прибегал к смертной казни. Особенно он следил за своим ближайшим окружением. Язычников и людей, выдававших государственные тайны, немедленно сжигали или отрубали им головы. Нам неизвестно, какие обвинения были предъявлены Боэцию, но ясно одно: чтобы лишиться жизни, многого не требовалось, тем более, если человек принадлежал к узкому кругу королевских советников. Теодорих не видел разницы между людьми. Даже принадлежность к влиятельному и благородному римскому роду не могла спасти Боэция.
Боэций родился примерно в 480 году в семье, которая принадлежала к римской аристократии еще со времен республики. Его полное имя — Аниций Манлий Северин Боэций. Первый сенатор, принявший христианство, был из Анициев. Все три родовые имени Боэция говорят о его благородном сенаторском происхождении. Приемный отец Боэция, ставший его тестем, был потомком Симмаха, префекта Рима, который в свое время обеспечил Августину место ритора в императорском окружении в Милане. Симмах не был христианином, но принадлежал к манихеям и не раз сталкивался с епископом Амвросием. Однако и род Симмаха принял христианство в начале V века. Боэций был ортодоксальный католик, тогда как его король исповедовал арианство. Обстоятельства, связанные с этим противоречием, могли иметь решающее значение для гибели Боэция.
Боэций был очень музыкален. Он писал философские стихи и вставлял их в тексты своих размышлений. Этот смешанный жанр в течение всего средневековья многим служил образцом для подражания. «Новая жизнь» Данте (ок.1295) — поздний пример подражания Боэцию в перебивке стихами прозаического текста. «Утешение» включает тридцать девять стихотворений. Боэций пробует себя во всех стихотворных размерах и жанрах.
«Монологи» Августина представляли собой беседу между писателем и его Разумом. «Утешение философией» — это разговор между Боэцием и персонифицированной Философией. Поскольку христианству было известно раздвоение души, этот воображаемый диалог мог происходить в рефлексирующем человеке. Диалоги же Платона и Цицерона могли происходить только между людьми, потому что никто из них не знал драматического раздвоения личности. Но такие христианские мыслители, как Августин и Боэций, понимали, что душа может одновременно вмещать несколько противоположных импульсов и желаний. И потому подобный диалог мог иметь место в душе человека. Отношение между прозой и стихами в «Утешении философией» тоже является частью этого диалога. Таким образом, мыслитель ведет диалог с философской и литературной традицией. Но он беседует также с самим собой и своими переменчивыми настроениями.
Боэций, несомненно, был выдающийся, образованный человек. Он сконструировал новый тип водяных часов. Считался музыкальным экспертом при дворе франкского короля, был также советником по финансам и у Теодориха, и в других местах. С тех пор, как Теодорих в 504 году захватил Рим, и до своей смерти в 524 году Боэций был одним из самых приближенных советников короля. Особый интерес жизни Боэция придает высота его падения. В 522 году два его сына стали консулами. Примерно в то же время сам Боэций стал magister officiorum, что, выражаясь современным языком, можно перевести как премьер–министр при монархе–самодержце.
Но уже в 524 году его арестовали за государственную измену и заточили в Кальвенцано к северу от Павии, где он писал «Утешение философией» и ждал казни. Мудрец, ждущий казни, в западной традиции архетипическая ситуация. То же можно сказать и о Сократе в тюрьме, и о Христе в Гефсиманском саду. И об апостолах Петре и Павле в Мамертинской тюрьме, и об Оскаре Уайльде в Редингской тюрьме. Между прочим, Кальвенцано находится всего в нескольких километрах от места, где родился художник Караваджо, другой знаменитый узник.
Боэций прекрасно знал греческий и хотел перевести на латынь всего Платона и Аристотеля. Он хотел показать, что, по существу, между ними нет разногласий. Кроме того, у него, по–видимому, были намерения написать сочинение о всех семи свободных искусствах. Как и Августин, — у которого тоже были такие намерения, — он успел написать только о музыке. Но в подготовительной работе об арифметике, геометрии, астрономии, диалектике и логике он пошел значительно дальше Августина. Довольно часто влиятельные, обладающие властью люди становились историками и писателями–философами, когда достигали преклонного возраста или насильственно отстранялись от политики. Силы Августина были подорваны его епископскими обязанностями. Однако Боэция казнили, когда он был еще в силе. Его сочинение «Музыка» служило в Оксфорде учебником по теории музыки до самой Французской революции.
В качестве переводчика он создал новый язык. Его переводы буквально соответствовали переводимому тексту. Поэтому ему пришлось сконструировать целый ряд новых технических терминов. Схоластическая латынь обязана Боэцию некрасивым, но точным переводом «Органона» Аристотеля.
В своем трактате «О Триединстве» Боэций откровенно говорит, что всего лишь идет по стопам Августина. А вот чтобы углубить и более точно выразить христианское учение, Боэций прибегает к учению Аристотеля о категориях. И в этом отношении он предвосхищает схоластов. Он схоласт прежде всего потому, что свою главную задачу видел в примирении веры и науки.
Цицерон в диалоге «Республика» в одной из бесед разговаривает с персонифицированным Отечеством — Pair/a. Лукреций в своей великой поэме разговаривает с мировой системой — Nat ига. Симмах в речи против удаления из сената алтаря богини Победы (384) разговаривает с персонифицированным городом Римом. Августин разговаривает с собственным Ratio. Боэций разговаривал с благородной дамой Philosophia. Он жалуется, что у него в тюрьме нет библиотеки. Это делает текст и ссылки к нему особенно поучительными. Что из этого Боэций вычитал, а что принадлежало ему? Что сохранилось в его памяти? Э. К. Рэнд пишет о Боэции в книге «Основоположники средневековья» (Е. К. Rand. Founders of Middle Ages, 1928): «Исследователь и мыслитель обретает некую святость, если, потеряв свою великолепную библиотеку, сумел столько всего сохранить в памяти и унести с собой, чтобы потом воспользоваться этим в своей темнице».
Считается, что останки Августина в эту церковь в Павии поместил король лангобардов Лиутпранд, правивший с 712 по 744 год. Прах Августина до сих пор покоится в простом серебряном гробу еще времен Лиутпранда, но, кроме того, в 1833 году в этот гроб была помещена безвкусная хрустальная рака. В награду за то, что он выкупил мощи Августина, Лиутпранд пожелал быть похороненным поблизости от них, и это было исполнено. При жизни Августин никак не был связан с Павией и потому не мог выдержать конкуренцию с Сан–Сиро, считавшимся покровителем города. Теперь на могиле короля стоит камень с высеченной на нем двадцатистрочной эпитафией, написанной по–латыни.
Арка Августина — это великолепный готический памятник работы Джованни ди Бонуччо из Пизы (1362). Множество мелких фигур на памятнике рассказывают о жизни блаженного Августина и об истории Церкви. Джованни ди Бонуччо был учеником великого скульптора Джованни Пизанского, известного, в том числе, кафедрой в соборе Пизы (1302–1310). Посреди капеллы Портинари в Сан–Эсторжо в Милане стоит надгробие Петру Мученику (1339), сделанное тем же Бонуччо, который, по–видимому, был автором и памятника над земными останками Августина в церкви Святого Петра.
Надгробие Августина сделано из лунезийского мрамора и весит не меньше тридцати тонн. Размеры монумента определялись тем, что блаженный Августин должен был быть погребен в этой сравнительно небольшой церкви в полный рост и в полном епископском облачении. В длину надгробие имеет три метра, в высоту — почти четыре и в ширину более полутора метров. Композиция насчитывает пятьдесят барельефов и девяносто пять больших и маленьких скульптур. У всех фигур металлические глаза, придающие им живость.
Датировка надгробия неточна. На боковой стороне монумента указан 1362 год, однако никто не знает точно, что именно означает эта дата. Расходы на работу значатся в счетах 1350 года. Чугунная ограда вокруг надгробия была поставлена в 1383 году. Возможно, большие суммы, указанные в счетах на строительство надгробия блаженного Августина в 1392 году, были последними. Во всяком случае, нам известно, что в 1406 году в сакристии уже стояло готовое надгробие вместе с оградой. Возведение этого надгробия совпадает по времени со строительством двух других крупных зданий в Павии, а именно Дворца Висконти (1360) и Certosa di Pavia (1396).
Композиция надгробия состоит из трех ярусов плюс венец из десяти треугольных барельефов, разделенных восемью фигурами. Своей формой треугольные барельефы, безусловно, должны напоминать о главном богословском труде Августина — «О Троице». Они обрамлены тройными готическими лилиями. Содержание барельефов рассказывает о событиях из жизни Августина и чудесах, совершенных им после смерти.
На первом ярусе, лицом к зрителю, стоят попарно шесть апостолов — Петр и Иоанн, Иаков и Андрей, Фома и Варфоломей, — окруженные четырьмя аллегорическими женскими фигурами: Верой, Надеждой, Любовью и Смирением. Справа на торце стоят еще три апостола — Марк, Павел и Лука — под надзором Добросердечия и Покоя. На задней стороне такая же композиция, что и на передней. Там изображены Филипп и Матфей, второй Иаков и Симон, Фаддей и Матфий между Разумом, Справедливостью, Воздержанием и Смелостью. На левом торце по краям стоят Целомудрие и Послушание, а между ними святой Стефан, Павел Фивейский (Отшельник) и святой Лоренцо. Мелкие фигуры можно идентифицировать благодаря их постоянным атрибутам, текстам, которые написаны на их свитках, а также по именам, которые позже — вероятно в связи с реконструкцией памятника в 1902 году — были выбиты на цоколе.
На втором ярусе лежит Августин в полном епископском облачении и читает Библию на собственной могиле. Шестеро служителей в облачении диаконов держат ковер, на котором он покоится. У его изголовия стоят Иероним в кардинальской митре и епископ Амвросий. В ногах стоят преемник епископа Амвросия епископ Симплициан и Григорий Великий с характерным голубем, сообщающим истину ему на ухо. Второй ярус представляет собой открытый храм с восемью четырехугольными колоннами, каждая из них украшена тремя крупными и одной более мелкой фигурой, на этих колоннах над блаженным епископом, как купол, высится третий ярус.
Мраморный потолок над вторым ярусом, который могли видеть только лежащий под ним Августин и самые дерзкие туристы, интересующиеся искусством и посещавшие церковь до того, как электроника стала выполнять охранные функции, украшен барельефами главных ангелов и святых, а также множеством херувимов, серафимов и Христом, восседающим на Небесах с поднятой правой рукой и книгой в левой. Жажда Августина по неизменному visio Dei наконец–то исполнилась… но в камне. Странно видеть над головой Августина Магдалину вместе с Петром и архангелом Гавриилом. Менее странно видеть над его ногами Павла, Иоанна и Михаила.
На третьем ярусе на девяти барельефах изображены сцены из жизни Августина. Многие из них на свой лад противостоят единству времени и пространства. В одной раме одна и та же личность изображается в различные времена и в различных местах. Кроме того, монумент украшают три барельефа спереди, три — сзади, два — на правом торце и один — на левом. Считая с левого переднего изображения направо, мы видим:
— Августин и Алипий слушают епископа Амвросия в Милане; нимб Августина еще немного неровный, тогда как нимб Амвросия круглый и имеет твердые очертания.
— Понтифик рассказывает Августину об Антонии, и ангел слетает с небес на землю в сад и говорит: «Возьми, читай!»; Августин углублен в чтение слов апостола Павла.
— Епископ Амвросий в Милане крестит Августина, Адеодата и Алипия; Августин надевает монашескую рясу, на заднем плане его сопровождает Моника.
— Останки Августина провозят в городские ворота Павии и вносят в церковь Святого Петра; в этом принимает участие король Лиутпранд с короной на голове.
— Посланники вместе с королем Лиутпрандом отправляются в Сардинию и на лодке привозят оттуда останки Августина; Сардиния лежит наверху справа, а на переднем плане мы видим посланников, возвращающихся до· мой с бесценным грузом.
— Похороны Моники в Остии, ее вносят в церковь Сан. Ауреа. Средневековью известна эпитафия на ее могиле.
— Августин объясняет своим спутникам устав монашеского ордена, устав лежит у него на коленях; он сидит наверху лестницы, и его нимб уходит за рамку изображения.
— Августин прогоняет Фортуната и крестит новообращенных манихеев; Фортунат, плача, выходит из городских ворот Гиппона.
— Августин дает уроки риторики в Карфагене и Риме; для наглядности на городской стене изображен герб Рима с буквами S. P. Q. R. Нимб по–прежнему украшен цветами.
Завершают композицию десять треугольных барельефов, изображающих сцены жизни и чудес Августина. Узнать блаженного епископа нетрудно, потому что его обычно изображают немного выше всех остальных. Треугольные барельефы, так называемые пирамиды, посвященные разным сюжетам, следуют в том же порядке слева направо:
— Скончавшийся Августин освобождает из тюрьмы узника; снимает с его рук кандалы и выводит из зарешеченной башни.
— Августин дает измученному жаждой узнику напиться речной воды; на руках у узника кандалы, у Августина в руке книга.
— Августин изгоняет из одержимого злого духа; диавол вылетает изо рта одержимого.
— Августин возле Павии является разбитым параличом паломникам; он в епископском облачении с нимбом и книгой.
— Исцеленные пилигримы выбегают из церкви Святого Петра. Церковь очень красива и узнаваема.
— Отповедь неизвестному еретику с птичьими ногами — Пелагий (?).
— Отповедь другому неизвестному еретику с птичьими ногами — Донату (?).
— Августин на смертном одре в Гиппоне.
— Умерший Августин исцеляет священника. Собаки символизируют верность священника.
— Священник исцеляется и идет служить мессу по Августину в день поминовения святого. Лев загораживает вход в церковь, чтобы показать, что Августин воскрес для другой жизни.
Аллегорические фигуры между треугольниками, очевидно, представляют собой ангелов, находящихся на разных ступенях ангельской иерархии — во всяком случае, это обычно объясняется так: ангел–хранитель с невинным младенцем на руках, архангел, держащий по городу в каждой руке; ангел добродетели, который открыл книгу и показывает на что–то важное, ангел силы, который держит на цепи дракона, ангел власти со скипетром и яблоком, херувим, благословляющий правой рукой, архангел Рафаил, который помог маленькому Товию в путешествии, и ангел престола, держащий овальную раму, в которой виден всемогущий Христос. Серафимов здесь нет, зато они порхают под сводом над лицом блаженного епископа.
Современному человеку, читающему Августина, особенно трудно понять его убежденность во всесилии и постоянности вечности. Вечность — это не декорация, дополняющая историю, не просвет потустороннего мира, но нечто более истинное, чем все видимое и осязаемое. Град Божий и Небесный Иерусалим — это не метафоры, символы или спекулятивные образы. Августин скорее верит, что тенями являются град земной и земное общество. Что мир — это метафора небесного, а не наоборот. Внутреннее — более истинно, более реально, чем внешнее, небесное — более истинно, чем земное. Вечность — это глубинное содержание времени и поэтому всегда существует для тех, кто в состоянии обратить взгляд к внутреннему.
Теперь уже мало кто думает так же, как Августин. Если в наши дни за религией и признается некая истинность, то, как правило, она заключена в символах, метафорах или умозрительных образах, которые проливают свет на судьбу человека. Светский мир воспринимает религию примерно так же, как искусство или художественную литературу. Современные люди считают, что Бог — это духовный факт, идея, ступень в нашей памяти, — и не могут понять Августина, когда он говорит противоположное: мы существуем потому, что занимаем место в мыслях Бога, что Он поддерживает нашу жизнь потому, что мы — ступень в Его памяти. Светский мир перевернул с ног на голову мьюль Августина об отношении между метафорой и реальностью. Для нас видимое и осязаемое более реально, а вечность — нечто, что редко является нам как далекое и неясное благоухание.
Не столь важно определить, что является метафорой, а что — действительностью, как сохранить глубокое уважение перед многообразием и сложностью человеческой жизни, о которых первым написал Августин. Антигуманизм в наши дни проистекает не от верующих, подобных Августину, но от тупых популяризаторов, от недалеких журналистов и слепых технократов, от фанатиков и террористов, от ученых, которые не видят ничего дальше своих пробирок, от всех тех, кто хочет манипулировать родственными видами, словно они неживые предметы. Антигуманизм проистекает от тех, кто хочет низвести людей до средства, хочет погрузить их в товарные вагоны и сжечь на алтаре абстрактной правды. Гуманизм Августина, напротив, сохраняет образ каждого индивидуума как нечто превосходное и неумаляемое именно потому, что Августин понимает происходящее в свете своего беспокойного сердца.
Приложение. Иаков из Варацце. Выдержки из книги «Золотая легенда» (Legenda Aurea)
Для Средневековья Августин был все равно что липкая бумага для мух, к которой прилипали всевозможные легенды. Предлагаемый отрывок взят из сочинения Иакова из Варацце «Золотая легенда» (-1265), которое содержит пространный рассказ о жизни Августина. Этот отрывок поучителен, ибо показывает, как понимали Августина в тех кругах, которые не читали его богословских сочинений и не вели о них споров, а питались лишь слухами о его учености и святости. Не сорок тысяч написанных им страниц в первую очередь определяют популярный в средневековье образ Августина, а именно возникновение легенд и преданий, похожих на те, которые Иаков собрал в своей содержательной и полезной «Золотой легенде».
…Позже, когда варвары захватили Северную Африку и осквернили святые места, верующие перевезли останки блаженного Августина на Сардинию. Больше чем через двести восемьдесят лет после его смерти, в году 718, Лиутпранд, благочестивый король лангобардов, узнал, что остров Сардиния захвачен сарацинами. Тогда он отправил туда важных послов, чтобы они перевезли останки святого учителя в Павию. Послы за большие деньги выкупили останки и привезли их в Геную. Благочестивый король сильно обрадовался, отправился навстречу и с большими почестями принял святые останки. Однако утром, когда останки собрались везти дальше, оказалось, что их невозможно сдвинуть с места. И так продолжалось до тех пор, пока король не дал обет построить на том месте церковь в память блаженного Августина, если ему будет позволено везти останки дальше. Как только король дал этот обет, люди без усилий смогли поднять гроб. Король сдержал слово и построил на том месте церковь.
Такое же чудо произошло на другой день в Касселе, селении в епископстве Тердоне. Там тоже была построена церковь в память блаженного Августина. И служители той церкви получили от короля в вечное пользование все селение с его окрестностями. Когда король увидел, что блаженный хочет, чтобы в каждом месте, где они останавливались на ночлег, строилась церковь в его память, он испугался, что останки выберут для своей могилы не то место, которое наметил он. Поэтому он сразу же пообещал построить по церкви в каждом месте, где они будут останавливаться на ночлег. Так останки с великими почестями довезли до самой Павии и, как подобает, похоронили в церкви Святого Петра, которую стали называть «Под золотым небом».
Один мельник, который оказывал блаженному Августину особые почести, долго маялся ногами — недуг этот называется phlegma falsum — и попросил святого о помощи, блаженный Августин явился ему во сне, ударил его рукой по ногам и исцелил их. Мельник проснулся совершенно здоровым и от всего сердца поблагодарил Бога и блаженного Августина.
Один мальчик страдал от камня в почке, и по совету лекаря камень следовало вырезать. Но мать мальчика боялась, что сын умрет от такой операции, и стала горячо молить блаженного Августина помочь ее сыну. Как только она закончила молитву, мальчик помочился, камень вышел, и больной исцелился.
В монастыре, который называется Элемозина, вечером в день блаженного Августина один монах повредился в уме. Тогда он увидел на небе светящееся облако и на нем блаженного Августина в епископском плаще. Глаза Августина, как два солнечных луча, осветили всю церковь, и вокруг распространилось удивительное благоухание.
Как–то раз святой Бернард заснул во время утренней мессы, когда священник говорил о трактате Августина. Во сне он увидел удивительно красивого юношу, изо рта которого в церковь тек водяной поток. Он не сомневался, что это был Августин, который своим источником мудрости заполнил всю церковь.
Один человек так любил Августина, что дал много денег монаху, охранявшему его останки, за то, чтобы тот отдал ему палец святого. Монах взял деньги, отрезал палец у другого покойника, завернул его в ткань и отдал, сказав, что это палец блаженного Августина. Человек с большим почтением отнесся к этой реликвии, боготворил ее, брал в рот, прикладывал часто к глазам и к груди. Увидев, насколько крепка его вера, Бог сжалился над ним и дал ему настоящий палец блаженного, а первый исчез. Человек вернулся домой, и там палец начал творить такие чудеса, что слухи о них дошли до Павии. Тогда монах признался перед братией, что это палец другого покойника. Монахи открыли могилу и обнаружили, что у святого не хватает одного пальца. Узнав об этом, аббат освободил монаха от его обязанностей и строго наказал его.
В Бургундии в монастыре, который назывался Фонтанет, жил монах по имени Хьюго, который очень любил Августина. Он со страстью читал его сочинения и молил Бога только о том, чтобы тот позволил ему умереть в день поминовения блаженного Августина. За пятнадцать дней до этого дня у монаха сделалась такая лихорадка, что накануне праздника во время всенощной его положили на землю, словно он уже умер. И тут в монастырскую церковь вошло много красивых людей со светлыми лицами и в белых одеждах, это было настоящее шествие. Позади всех шел почтенный человек в епископском облачении. Монах, находившийся в церкви, очень удивился и спросил, кто они. Один из пришедших ответил: «Это блаженный Августин со своими священниками пришел к умирающему, который любил его, чтобы забрать его душу для вечного блаженства». После чего почтенная процессия прошла в помещение, где лежал умирающий, и оставалась там некоторое время. Наконец святая душа простилась со своим телом. И тогда добрый друг защитил ее от посягательств злых сил и благополучно препроводил к небесным радостям.
Есть там и рассказ о том, как блаженный Августин однажды сидел и читал книгу. И вдруг он увидел, что мимо прошел Диавол, Диавол нес на плече книгу. Августин сразу попросил его рассказать, что написано в той книге. Диавол ответил: «В этой книге записаны человеческие грехи. Я собираю их повсюду и записываю сюда». Августин приказал Диаволу показать ему книгу и дать прочитать, что в ней написано о его собственных грехах. Диавол показал ему одну страницу, но там было написано только, что один раз Августин не прочитал в церкви комплеторий. Августин попросил Диавола подождать — ему надо ненадолго отлучиться. Он пошел в церковь и с большим благоговением, как всегда, прочитал там и комплеторий, и другие молитвы. После этого он вернулся к Диаволу и сказал, что тот должен еще раз показать ему эту страницу. Диавол перелистал книгу и обнаружил, что страница пуста. Он сказал: «Ты позорно обманул меня. Я жалею, что показал тебе эту книгу, потому что силой молитвы ты стер грех».
Одна женщина несправедливо страдала по вине злых людей. Она пошла к блаженному Августину, чтобы он посоветовал, что ей делать. Августина она застала за письменным столом и почтительно поздоровалась с ним. Но он не поднял глаз от стола и не ответил ей. Она решила, что, наверное, он в силу своей святости не хочет видеть женского лица, поэтому она подошла поближе и изложила ему свое дело. Но он не повернулся к ней и не ответил. Подавленная, она ушла от него. На другой день Августин служил литургию, и женщина была в церкви. Когда он преломил хлеб, ее душа вдруг оказалась перед престолом Святой Троицы. Там она увидела, как Августин со склоненной головой благоговейно и с глубоким пониманием говорит о блеске Святой Троицы. И услыхала голос, который сказал ей: «Когда ты посетила Августина, он настолько углубился в блеск Святой Троицы, что даже не заметил тебя. Поэтому ты можешь спокойно прийти к нему еще раз. Он дружески отнесется к тебе и даст полезный совет». Женщина сделала, как ей было сказано. Августин дружески выслушал ее и дал ей нужный совет.
Рассказывают также, что душа одного благочестивого человека покинула его тело и увидела святых во всем их блеске. Но среди них не было блаженного Августина. Она спросила у одного святого, где же блаженный Августин, и тот ответил: «Августин находится на самом верху, там, где обсуждают блеск Святой Троицы».
Несколько человек из Павии были захвачены в плен маркграфом Маласпиной, который не давал им пить, чтобы таким образом заставить их заплатить ему выкуп. Кое–кто из них уже умер. Другие пили собственную мочу. Был среди них один юноша, который очень почитал блаженного Августина и молился ему о спасении. И вот, в полночь блаженный Августин явился юноше, взял его правой рукой и подвел к реке Гравелон. Там он взял виноградный лист, смочил его водой и освежил им губы юноши так, что тот, готовый раньше пить собственную мочу, потом уже не хотел пить никакого другого нектара.
Священник одной церкви очень уважал и почитал блаженного Августина. Случилось, что он три года страдал серьезным недугом и три года не вставал с постели. Подошел канун дня блаженного Августина, уже зазвонили к службе, и тогда священник от всего сердца обратился к блаженному с молитвой. Августин явился ему в белом плаще, трижды назвал его имя и сказал: «Смотри, вот я, которого ты так часто призывал. Встань поскорей и отслужи со мной вечерню». Больной встал и оказался совершенно здоровым. Он пошел в церковь, удивив всех этим, и с большим благоговением отслужил мессу.
У одного пастуха случился большой чирей между лопатками, и он совсем обессилел от болезни. Но когда он обратился с молитвой к блаженному Августину, тот явился ему, прикоснулся рукой к его чирью и полностью исцелил пастуха. В старости тот же человек потерял зрение. Он много раз отчаянно призывал к себе блаженного Августина. Августин явился ему в полдень, потер ему глаза своими руками и исцелил его.
Примерно в 812 году серьезно больные люди, числом более сорока, отправились из Германии во Францию, а оттуда в Рим, чтобы посетить могилы апостолов. Некоторые согбенные передвигались на низких скамеечках, другие шли на костылях, третьи были слепые, их вели за собой зрячие, у четвертых были парализованы руки или ноги.
Они перевалили через горы и подошли к местности, которая называлась Карбонария. Недалеко от городка Кана, лежавшего в трех милях от Павии, им явился блаженный Августин в епископском облачении. Он вышел из церкви, посвященной святым мощам Козьмы и Дамиана, приветствовал больных и спросил, куда они направляются. Они объяснили ему, куда идут, и он сказал им: «Идите в Павию, спросите там монастырь Святого Петра, который называют Под золотым небом. Там вам помогут». Они спросили его имя, и он ответил им: «Я блаженный Августин, который некогда был епископом в Гиппоне». И тут же исчез. А они пошли дальше в Павию. Придя в монастырь и узнав, что там покоятся мощи блаженного Августина, они воскликнули хором: «Блаженный Августин, исцели нас!» Услыхав этот крик, туда собрались местные жители и монахи и стали свидетелями чуда: с больных слетели все мышцы и потекла кровь, ее было столько, что вся дорога от монастырских ворот до могилы блаженного была залита кровью. Но как только они подошли к могиле, они исцелились, словно у них никогда и не было никаких недугов. Так росла слава блаженного Августина, и множество больных совершали паломничество к его могиле, все они исцелились и оставили свидетельства своего выздоровления. Со временем этих свидетельств накопилось столько, что они заполнили весь храм и сени так, что входить и выходить стало трудно. И монахам пришлось убрать их оттуда.
Есть три вещи, которых больше всего желают мирские люди — это богатство, удовольствия и слава. Но блаженный Августин был так совершенен, что отказался от богатства, отказался от славы и бежал от всех удовольствий. Он сам рассказывает в «Монологах», как он отказался от богатства. Разум спросил у него: «Ты не желаешь богатства?» Августин отвечает: «Нет, и я не желаю его не только теперь. Когда мне было тридцать лет, я уже почти четырнадцать лет не жаждал никаких земных благ. Мне нужно было лишь самое необходимое, чтобы поддерживать свою жизнь. Прочитав книгу Цицерона, я понял, что человек не должен стремиться к богатству».
Что Августин отказался от славы, можно узнать из той же книги, там Разум говорит ему: «А что ты скажешь относительно славы?» И Августин отвечает: «Не так давно я отказался от тщеславия, и до сих пор мне немного трудно вырвать из сердца последние ростки тщеславия».
От похоти и чувственности он бежал так же, как от радостей любви и лакомств. О первом Разум спрашивает его в той же книге: «А что ты скажешь о женщинах? Неужели тебе не понравилась бы женщина, которая была бы красива, скромна, добродетельна и богата, если бы ты знал к тому же, что тебе от нее не будет никакого зла?» Августин отвечает: «Какой бы красивой ты ни изобразил ее, какими добродетелями ни наградил бы ее, я тем более бежал бы от сожительства с такой женщиной». Тогда Разум говорит: «Я спрашиваю не о том, какие у тебя намерения, но о том, чего тебе действительно хочется». И Августин отвечает: «Ничего этого я не хочу и не желаю, но думаю об этом с ужасом и отвращением». Разум спрашивает его о других вещах: «Ну, а, например, вкусная пища?» Августин отвечает: «Не спрашивай меня о пище и питье, о бане и других телесных удовольствиях. Мне нужно лишь самое необходимое, чтобы поддерживать здоровье моего тела».
Мы замечаем, что Августин особенно ассоциируется с видениями и восторгом верующих. Светлое епископское облачение и епископская митра, которые являются постоянными атрибутами Августина в изобразительном искусстве, также присутствуют в видениях. Рассказ о том, как он, углубившись в Писание и в тайну Троицы, не заметил пришедшей к нему за советом женщины, был, вероятно, вдохновлен его портретами за письменным столом или склоненным над книгами, или с устремленным вдаль задумчивым взглядом. Интересно, что Иаков из Варацце использовал именно «Монологи» в качестве доказательства добродетели блаженного Августина. Иаков, несомненно, считал этот текст правдивым в том смысле, что Августин как действующее лицо был идентичен автору диалогов. Во времена раннего средневековья из богословских текстов совершенно исчезает юмор и ирония. На сцену выходит мрачное недоверие ко всем искусным речам и остается на ней до тех пор, пока в XII веке с сочинений Ансельма Кентерберийского и Бернарда Кпервоского не начался готический ренессанс Августина.
Хронологическая таблица
354: Августин родился в Тагасте (город Сук–Арас в современном Алжире, недалеко от границы с Тунисом) 13 ноября. В том же году родился Иоанн Хризостом (Златоуст).
356: Ритор Марий Викторин в Риме обратился в христианство. В Египте умер отшельник святой Антоний.
361–363: Правит император Юлиан Отступник.
366–369: Августин учится в Мадавре, расположенной дальше от побережья, чем Тагаста. Дамас становится епископом в Риме.
369–370: Год живет в Тагасте. Се. Мартин становится епископом в Туре.
370–373: Августин продолжает образование в Карфагене. Берет себе конкубину (371). Рождение Адеодата (372). Читает «Гортензия» Цицерона (373). Присоединяется к манихеям (373–82).
372: Умирает Патриций, отец Августина, приняв крещение на смертном одре.
372: Преподает риторику в Тагасте.
376–83: Преподает риторику в Карфагене. Пишет сочинение «О красивом и соответственном» (De pulchro et apto), сочинение утрачено.
379: Императором становится Феодосий Великий.
383: Знакомится с манихеем Фавстом Милевским.
383–384: Бежит в Рим. Первое пребывание у друзей манихеев. Изучает скептиков. Симмах становится префектом Рима. Борьба за алтарь богини Виктории в здании сената летом 384 г. Макробий издает свои «Сатурналии» как реакцию язычества на христианство.
384–387: С осени 384 преподает риторику в Милане. К нему приезжает Моника (385). Знакомится с епископом Амвросием, приехавшим в Милан из Трира в январе 384. Борьба Амвросия с Юстиной — февраль 386. Читает книги платоников — весна 386. «Против академиков» (Contra academicos). Читает апостола Павла — июль 386. Слышит: «Возьми, читай!» в саду и «обращается» в августе 386. Амвросий проводит в Трире лето и осень после того, как в июле нашел мощи Гервасия и Протасия. Августин с семьей и близкими друзьями уезжает в Кассициак и живет там всю осень 386 года. Трактаты «О блаженной жизни» (De beata vita), «О порядке» (De окШю), «Монологи» (воШосцва). Крещен епископом Амвросием в Милане на Пасху 24 апреля 387 года. Трактат «О бессмертии души» (De immortaBtate arttnae).
385: Иероним (p. 347) навсегда уезжает в Иерусалим.
387–388: Второе пребывание в Риме. Моника умирает в Остии в августе 387 года. Трактаты «О музыке» (De mustса), «О количестве души» (De quantitate animae).
388–390: Возвращается в Африку и основывает в Тагасте домашний монастырь. Умирают Адеодат и Небридий.
Трактаты «О нравах католической церкви и о нравах манихеев» (Ое moribus ecdesiae cathoticae et de moribus manichaeorum), «О свободном решении» (De libero arbitrio), «О Книге Бытия против манихеев» (De Genesi contra manichaeos). «Об учителе» (De magistro). — Кровавая расправа в Фессалониках в 390 году. Епископ Амвросий угрожает Феодосию Великому отлучением от церкви.
391: 24 февраля император Феодосий запрещает все языческие культы. Августин становится пресвитером в Гиппоне Регии. Аврелий становится епископом Карфагенским.
391–395: Трактаты: «Об истинной религии» (De vera reiiд'юпе), «О пользе веры к Гонорату» (De utilitate credendi ad Honoratum). Полемика с манихеем Фортунатом — август 392. Выступление на соборе в Гиппоне в октябре 393.
392–420: Работа над «Толкованиями на Псалмы» {Enarratbnes in Psalmos).
394–396: Заново читает апостола Павла и разрабатывает учение о благодати. Трактаты: «О различных вопросах к Симплициану» (De diversis quaestionibus ad Simplicianum), «Разъяснение некоторых положений из Послания к Римлянам» (Expositio quarumdam propositbnum ex epistola ad Romanos), «Разъяснение Послания к Галатам» (Expositio epistolae ad Galatas).
395: 17 января умирает Феодосий Великий. Гонорий становится императором Западной части империи. Аркадий — императором Восточной части империи. Весной 395 года Августин становится соепископом Валерия.
396: Гильдон, comes Africae, поднимает в Северной Африке восстание против римлян.
397: Августин принимает участие в соборе в Карфагене и начинает работать над «Исповедью» (Confessbnes), эта работа продолжается до 401 года. Начинает борьбу с донатистами. Трактаты: «О борении христианском» (De адопе christiano), «О христианском учении» (De doctrina Christiana). 4 апреля в Милане умирает епископ Амвросий. Епископом Миланским становится друг Августина Симплициан. Августин поручает Павлину Ноланскому написать сочинение о жизни Амвросия. Таким образом он хочет представить себя истинным наследником Амвросия.
398: Восстание Гильдона подавлено. Император считает донатистов соучастниками восстания.
399: Трактат «О природе блага против манихеев» (De nature boni contra manichaeos) — формулировка основных пунктов полемики с манихеями. Люди императора закрывают языческие храмы в Африке.
399–419: Работа над трактатом «О Троице» (De Trinitate).
401: «Исповедь» закончена и получает самое широкое распространение из всех работ Августина. Трактат «О супружеском благе» {De bono conjugal·). Несколько сочинений о браке и девстве. Иннокентий I избран папой.
401–414: «О Книге Бытия буквально» (De Genesi ad litteram). Четвертые толкования Августина на Книгу Бытия, если считать в том числе последние книги «Исповеди».
402: Алларих первый раз вторгается в Италию, но Симмах изгоняет его. Смерть Симмаха в Риме.
403: Собор в Карфагене. Августин благополучно избегает нападения.
405: Императорский эдикт о единстве против донатистов (De unitate ecclesiae).
408: В октябре Алларих снова вторгается в Италию.
407–414: Трактаты: «Рассуждения на Евангелие от Иоанна» (Tractatus in Johannis Evangelium), «Рассуждения на Послание Иоанна к парфянам» (Tractatus in Epistolam Johannis ad Parthos). «Люби и делай, что хочешь»: dilige et quod vis fee.
410:18 августа Алларих захватил и разграбил Рим. Поток беженцев в Африку. Пелагий проездом посещает Гиппон Регий. Донатисты получили передышку, пока поздней осенью в Карфаген не приехал Марцеллин.
411: Начинается борьба с Пелагием. В течение всей весны Августин выступает с проповедями против донатистов.
411—412: Беженцы требуют от Августина, чтобы он объяснил им смысл поражения Рима.
412: Собрания донатистов наконец запрещены, и Церковь получает их собственность.
413: Трактаты: «О вере и делах» (De fide et operibus), «О природе и Благодати к Тимасию и Иакову» (De natura et Gratia ad Timashm etJacobum). 13 сентября в Карфагене казнен Марцеллин.
413–427: Работа над трактатом «О граде Божием» (De civitate Dei).
414: Орозий едет в Иерусалим, чтобы предупредить Пелагия, и остается там на два года.
416: Соборы в Карфагене и Милеве поддерживают Августина, осудившего Пелагия. Орозий после двухлетнего пребывания в Иерусалиме возвращается в Гиппон с мощами святого Стефана. Западные готы захватывают Испанию.
417: Папа Иннокентий осуждает Пелагия. Иннокентий умирает, и на один год папой становится Зосима.
418: Собор в Карфагене одобряет учение Августина о первородном грехе и крещении детей. Папа Зосима осуждает Пелагия. Начинается борьба Августина с Юлианом Экланским, которая длится до самой смерти Августина. Трактат «О Благодати Христовой и о первородном грехе против Пелагия и Целестия» (De Gratia Christi et de peccato originali contra Pelagium et Coelestium).
419–421: Трактат «О браке и вожделении к Валерию» (De nuptiis et concuplscentia ad Vaterium).
420–421: Августин едет к границе с Нумидией, чтобы встретиться с Алипием.
422: «Энхиридион к Лаврентию, или О Вере, Надежде и Любви»» (Enchiridion ad Laurantium, sive de Fide, Spa et Charitata). Умирает папа Бонифаций I. Папой избран Целестин I.
425: Священник Гераклий строит в Гиппоне каппелу для мощей святого Стефана. Валентиниан III становится императором Западной части империи.
426: Августин называет своим преемником Гераклия. Начинает работу над «Пересмотрами» (Retractationes), для чего перечитывает все свои произведения и комментирует их.
427: Бывший сторонник Августина по борьбе с донатистами военачальник Бонифаций поднимает в Северной Африке восстание против императора и призывает на помощь вандалов Гензериха.
428–429: Трактаты «О даре упорства» (De dono perseverantiae) и «Против второго ответа Юлиана» (Contra secundam Julian responsionem) — последние сочшения Августина против самого упорного сторонника Пелагия.
430: Августин умирает 26 августа после трехмесячной осады вандалами Гиппона Регия. Поссидий спасает библиотеку Августина и начинает писать его биографию.
Библиография
Albrecht, М. Von. A History of Roman Literature from LMus Andronicus to Boethius. 2 vols. Leiden 1997.
AUsi, L. L’altro neffio. In dialogo con Agostino. Roma 1999/
Ammianus MarceDinus. Fern og tyve ar af Rons Historie i detfjerde arh. EfterKr. (overs, av V. Ullmann). 1. bind Arendal 1877. 2. Bind Kobenhavn 1880.
Andersen, O. / retorikkens hage. Oslo 1995. (Книга, незаменимая для всех, кто интересуется главным феноменом античной культуры и учением о воспитании.)
Angenendt, A. (Geschichte der Religiositat кп Mittelalter. Dramstadt 1997.
Arendt, H. Love and Saint Augustine. Chicago–London 1996 (Разбросанное и малоинтересное сочинение, которое читают только потому, что перу автора принадлежат значительные книги.)
Armstrong, A. H. (ed.) Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy. Cambridge 1970.
Auerbach, E. Literary Language and Public in Later Antiquity and the Middle Ages. London 1965.
Augustin. Agostino di Ippona. Demoni e profezte. De divinations daemonum (ed. F. Cardini и G. Borelli). Milano 1993.
Augustin. Aurelii Augustini opera omnia. 11 vol. Paris 1836–38. (Очень объемный труд, который современный читатель едва ли осилит до конца. На это не хватит целой жизни. Труд содержит более пяти миллионов слов.)
Augustin. Bekjenneber. Bok l–X (utg. Αν O. Hjelde). Oslo 1961.
Augustin. Confessiones. Bekenntnisse. Lateinisch und deutsch (ed. J. Bernhart). 3 Aufl. Munchen 1966.
Augustin. De dvitate Dei. Opere di Sant’Agostino edizione latino–italiana (ed. Agostino Trape et al.) Vol. V, 1–3. Roma 1978–1991. (Содержит все, что нужно знать об этом труде. В этой серии, состоящей из 29 томов, представлено по–латыни все творчество Августина, она снабжена предисловием, комментариями и переводом на итальянский.)
Augustin. De dialectics (ed. В Darrell Jackson). Dordrecht/Boston 1975/
Augustin. De doctrina Christiana. Bn kristen reorikk (utg. av H. SIaattefid). Oslo 1998/ (Хороший перевод с подробным предисловием.)
Augustin. Gott ist die Liebe. Predigten des hi. Augustinus uber den ersten Johannesbrief (ed. F. Hofmann). Freiburg in B. 1940.
Augustin. От Guds stat. 5 bind (overs, av Dalsgaard Larsen). Arhus 1984–96.
Augustin. От Isereren. От det lyksaiige liv (overs. Av N. Henningsen). Fredriksberg 1999.
Augustin. Saint Augustine. Soliloquies and Immortality of the Soul (transl. and comm, by G. Watson) Warminster 1990.
Augustin. Sant’Agostino. II Maestro (ed. D. Gentili). Roma 1984/
Augustin. Sant’Agostino. La nature del bene (ed. LAlid) Roma 1998.
Augustin. Sant’Agostinjo. La vita felice. De beata vita (ed. M. Barracano). Torino 1997.
Augustin. St. Augustine. 5 vols. A Select Library of the Nicene and the Post–Nicene Fathers (ed. P. Schaff). New York 1886–1887, и много более поздних изданий. (Самое раннее является наиболее полным английским переводом. Имеются более поздние серии, такие как Ancient Christian Writers. The Works of the Fathers in Translation (ed. J. Quasten and J. C. PIumpe. Westminster 1946-) and The Fathers of the Church. A New Translation (ed. R. J. Deferrari. Washington D. C. 1947-). Год за годом растет число переведенных работ, которые уже вошли в обиход.)
Augustin. Ueber den dreieinigen Gott (ed. M. Schmaus). Leipzig 1936.
Augustin. Ueber die Psalnnen (ed. H. Urs von Balthasar). Leipzig 1936.
Bailey, C. Religion'm Vergil. Oxford 1935.
Battenhouse, R. W. (ed.) A Companion to the Study of Saifit Augustine. Oxford 1955.
Becker, C. L. The Heavenly city dt the Eighteenth Century Philosophers. New Haven 1977.
Benz, E. Marius Victorinus und die Entwhklung der abend· landischen Willensmetaphysik. Stuttgart 1932.
Bernheim, E. Die Zeitanschauungen. Die Augustinischen Ideen, Antichyrist und Friedensfurst, Regnum und Sacerdotium. Tubingen 1918. (Большой незаконченный труд.)
Bieter, L. Theios aner. Das Bild des gottlichen Menschen in Spatantike und Fruhchristentum. Darmstadt 1976.
Bonner, Q. Augustine of Hippo. Life and Controversies. 2 ed. Norwich 1986.
Boros, L (ed.) Aurelius Augustinus. Aufstieg zu Qott. Munchen 1985. (Очень хороший выбор текстов, расположенных no темам.)
Bowie, J. Western Political Thought. London–New York 1971.
Brown, P. Augustine of Hippo. A Biography. Berkeley and Los Angeles 1967. (Груд о жизни Августина, долго считавшийся образцовым. В настоящее время потеснен превосходным, содержательным исследованием Сержа Ланселя.)
Brown, Р. Authority and the Sacred. Aspects of the Christianization of the Roman World. Cambridge 1995.
Brown, P. ТЫ Body and Society. Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity. New York 1988. (Безусловно хорошая работа на данную тему.)
Burnaby, J. Amor Dei. A Study in the Religious Thought of St. Augustine. 2. ed. London 1947.
Carlyle, A..J. & R. W. A History of Medieval Political Theory in the West. 6 vote. Edinburgh–London 1950. (Мало об Августине, но очень хорошо об истории его влияния.)
Ceillier, R. Об Августине в Historie generate des auteurs sacres Tomes XI и XII. Paris 1744. (Глубокое исследование всего творчества на полутора тысячах страниц. До сих пор лучшее из всего, что можно найти.)
Chapman, E. SL Augustines Philosophy of Beauty. N. Y. 1939.
Christensen, T. Romermagt, hedenskab og kristendom. En kulturkamp. Kobenhavn 1970. (Заслуживающий внимания обзор развития христианства в Римской империи, до сих пор представляет интерес.)
Clark, E. (ed.) St. Augustint on Marriage and Sexuality. Washington D. C. 1996. (Важнейшие тексты с хорошими комментариями.)
Cochrane, Charles N. Christianity and Classical Culture. Oxford 1940.
Courcell, P. Recherches sur les Confessions de Saint Augustin. 2 ed. Paris 1968.
Curtlus, E. R. Europaisches Uteratur und latinisches Mittelaiter. 9. Aufl. Bern–Munchen 1978. (Книга незаменима при изучения литературы поздней античности и средневековья.)
Delius, H. — U. Augustin als Quelle Luthers. Eine Materialsammelung. Berlin 1984.
Dlhle, A. The Theory of the Will in Classical Antiquity. Berkeley 1982.
Edelstein, H. Die Musikanschauung Augustin nach seiner Schrift «De musica». Ohlau 1929.
Eibl, H. Augustin und die Patristik. Munchen 1923.
Eibl, H. Augustinus. Von Gotterreich zum Gottesstaat. Freiburg i B. 1953.
Ferrante, J. M. The Political Vision of the Divine Comedy. Princeton 1984.
Festugiere, A. — J. Personal Religion among the Greeks. Berkeley–Los-Angeles 1954.
Figgis, J. N. The Political Aspects of St. Augustine’s City of God. London 1921.
Fitzgerald, Allan D. O. S. A. (ed.) Augustine through the Ages. An Encyclopedia. Grand Rapids/Cambridge 1999. (Очень хороший справочник, вышедший слишком поздно, чтобы он мог порадовать своего автора.)
Flasch, К. Augustin. Einfuhrung in sein Denken. 2. Aufl. Stuttgart 1994. (Толковое, но специфическое изложение мышления Августина в виде постоянных метаморфоз.)
Flasch, К. Was istZeit? Augustinus von Hippo. Das XI Buch der Confessiones. Frank, am M. 1993. (Поучительная, но часто неубедительная и сумбурная реконструкция.)
Fuchs, Н. Augustin und derantike Friedensgedanke. Berlin 1927.
Gardner, E. G. Dante and the Mystics London 1913.
Gentili, D. (ed.) II discorso del Signore sulla montagna. Roma 1991. (Введение и перевод трактата Августина De sermone Domini in monte.)
Gilardi, P. Un riflesso deffanhna del SanfAgostino in Boeso/ Dante e Petrarca. Pavia 1913.
GHson, E. Derhelfge Augustinus. Breslau 1930. (До сих пор весьма популярное систематическое изложение философских мыслей Августина, в котором делается упор на его ранние размышления. Gilson часто настолько увлекается излагаемым материалом, что не всегда понятно, ему или Августину, принадлежат те или иные мысли. Однако достойной замены этой книге пока нет.)
Gilson, Е. Les metamorphoses de la Cite de D'mi. Louvain 1952.
Hadot, I. Arts flberaux et philosophy dans la pensee antique* Paris 1984.
HagendaN, H. Augustine and the Latin Classics. 2. Vols. Goteborg 1967.
Hagendahl, H. Latin Fathers and the Classics. A Study on the Apologists, Jerome and other Christian Writers. Goteborg 1958.
Haskin, C. H. The Renaissance of the 12 th Centuy. New Haven 1927.
Haystrup, Η. Augustinstudier. Bind 1–10. Kobenhavn 1989–99. (Теологическое исследование без каких–либо теоретических или научных претензий, тем не менее, оно отличается необыкновенно глубоким пониманием самых редко читаемых произведений Августина.)
Нот, С. (utg.) Augustinus. De cMtate Dei. Berlin 1997.
Horn, C. Augustinus. Munchen 1995. (Хорошее, сжатое изложение философского учения Августина.)
Jurgens, Н. Ротра Diabofi. Die lateinischen Kirchenvater und das antlke Theater. Stuttgart 1972.
Keller, A. Aurelius Augustinus und die Musik. Wurzburg 1993.
Kelly, J. N. D. Jerome. His Life, Writings and Controversies. London 1975.
Kelle, J. N. D. Early Christian Doctrines. 5. ed. London 1977.
Kermit Scott, T. Augustine. His Thought in Context. New York 1995.
Krebs, E. Sankt Augustin. Der Mensch und der Kirchenlehrer. Koln 1930.
Kreuzer, J, Augustinus. Frankfurt/New York 1995.
Lancel, S. Saint Augustin. Paris 1999. (Новая отличная работа о жизни Августина. Много документов, хорошая композиция, исчерпывающее содержание, написана хорошим языком.)
Lloyd, G. E. R. The Anatomy of Neoplatonism. Oxford 1990.
Lossky, V. The Mystical Theology of the Eastern Church. Cambr. And London 1957.
Lossky, V. The Vision of Qod. Clayton Wise. 1963.
MacCormack, S. The Shadows of Poetry. Vergil in the Mind of Augustine. Berkeley/ Los Angeles/London 1998. (Хорошая работа на эту тему, содержит много интересных соображений об отношении Августина к языческой литературе.)
MacKendrick, P. The Philosophical Books of Cicero. London 1989.
MacKey, J. P. The Christian Experience of God as Trinity. London 1983.
MacLynn, N. B. Ambrose of Milan. Church and Court in a Christian Capital Berkeley–Los-Angeles–London 1994.
Maier, F. G. Augustin und das antike Rom. Stuttgart 1955.
Mara, G. M. et al. La Genesineile Confession/. Atti della giornata di studio su S. Agostino. Roma 6. Dicembre 1994. Roma 1996.
Markus, R A Gregory the Great and his World. Cambridge 1997.
Markus, R. A. Saecuium. History and Society in the Theology of St. Augustine. Cambridge 1970.
Markus, RA The End of Ancient Christianity. Cambridge 1990.
Marrou, H. — I. Sant Agostino. Milano 1960.
Marrou, H. — I. Augustinus und das Ende derantiken BUdung. Paderbom 1981. (Хорошая работа о чтении и образовании Августина.)
Mausbach, J. Die Ethik des heiligen Augustinus. 2 Bde. Freiburg im Breisgau 1909/ (Подробное и хорошо читающееся изложение всего учения Августина.)
Mazzeo, J. A. «St. Augustine’s Rhetoric of SBens», Journal of History of Ideas. 23 (1962), pp. 175–196.
Mazzolani, LS. Sant Agostino в ipagani. Palermo 1987.
McMullen, R. Enemies of the Roman Order. Treason, Unrest and Alienation in the Empire. New York 1992.
Menn, S. Descartes and Augustine. Cambridge 1998. (Параллель между Августином и современной филосифией, показанная с новой точки зрения.)
Molland, Е. «Three Passages in St. Augustine». Symbolae Osloensis. Oslo 1942 (s. 112–117).
Mommsen, Th. & P. Kruger (utg.) Theodosiani libri XVI. Berlin 1905. (Тексты из свода законов Феодосия II, в том числе, законов о религиозной политике.)
Mondin, В. Ilpensiero di Agostino: filosofia, teologia, culture. Roma 1988.
Nigg, W. Das Buch der Ketzer. Zurich 1949. (В том числе о Донате, Арии и Пелагии.)
Nigg, W. Geheimnis der Monche. Zurich 1953. (В том числе об Антонии и Августине.)
Nygren, A. Eros und Адаре. Den kristna karlekstanken genom tidema. Stockholm 1966. (Достойное внимания упрощение сложных рассуждений Августина.)
O’Connell, Robert J. S J. Art and Christian Intelligence in St. Augustine. Oxford 1978. (Неважное, но еднственное изложение проблемы, которым можно пользоваться. Писателя не интересует история, и он считает, что можно сделать Августина интересным, модернизировав его учение.)
O’Connell, Robert J. S. J. Imagination and Metaphysics in St. Augustine. Milwaukee 1986.
O’Connell, Robert J. S. J. St. AugustMs Early Theory of Man. Cambridge. Mass. 1968.
O'Connell, Robert J. S. J. The Origin of the Soul in St Augustine’s Later Works. New York 1987.
O’Donnell, J J. Augustine's Confessions. Introduction, Text and Commentary. 3 vols. Oxford 1992. (Большой труд о главной книге в творчестве Августина. Необходимый для изучения Августина.)
O’Meara, J. J. The Young Augustine. An Introduction to the Confessions of St. Augustine. London–New-York 1980.
Obertello, L. Boezio e dintomi. Ricerche sulla culture altomedivate.
Pelikan, J. Christianity and Classical Culture. The Metamorphosis of Natural Theology in Christian Encounter with Hellenism. New Haven 1993.
Piccolomini, R. (ed.) La filosofia antica. Pagine antologiche. Roma 1983. (Систематизированное представление текстов Августина об античных философах.)
Piccolomini, R. (ed.) Verso la verita. Corrispondenza tra Agostlno e Nebridio. Roma 1990.
Pieretti, A. (ed) La vera religbne. Roma 1992. (Введение и перевод книги Августина)
Pieretti, A. (ed.) Sessualita в amore. II dono recsiproco nel mattimonio. Roma 1996.
Portalie, Eugene S. JA Guide to the Thought of Saint Augustine. Westport, Conn. 1975. (Первое французское издание 1902. Старое, церковное введение в теологию Августина. Солидное, тяжело изложенное и бездуховное.)
Rand, Е. К. Founders of the Middle Ages. New York 1928.
Rist, J. M. Augustine. Ancient Thought Baptized. Cambridge 1994 (Содержит много полезных сведений.)
Rist, J. M. Plotinus. The Road to Reality. Cambridge 1967.
Ruokanen, M. Theology оf Social Life in Augustine’s De civttate Dei. Gottingen 1993
Salin, E. Civitas Dei. Tubingen 1926.
Schmaus, M. Die psychologische Trinitatslehre des hi. Augustinus. Munster 1927. (He очень хорошая, но до сих пор лучшая из существующих работа по учению о Троице).
Scholz, Н. Glaube und Unglaube in der Weltgeschichte. Ein Kommentar zu Augustinus’ De civitate Dei. Leipzig 1911.
Schon, К Skepsis, Wahrheit und Gewissheit bei Augustinus. Heidelberg 1954.
Schopf, A. Augustinus. Munchen 1970.
Setton, K. M. Christian Attitude towards the Emperor in the Fourth Century. New York 1941.
Stock, B. Augustine The Reader. Meditation, Self–Knowledge and the Ethics of Interpretation. Cambr. Mass. 1996. (Интересное современное исследование. Вообще одно из лучших исследований мышления Августина.)
Studer, В. The Grace of Christ and the Grace of God in Augustine of Hippo. Christocentrism or Theocentrism? Collegeville, Minn. 1997. (Подведение итогов в длинном споре о том, Христос или Бог стоит в цетре христианства, как его понимал Августин.)
Taylor, С. Sources of the Self. The Making of Modern Identity. Cambridge 1989. (Интересный труд no истории мышления, в котором Августин занимает центральное место между Платоном и Декартом.)
Testard, M. S. Saint Augustin et Ciceron. 2 voll. Paris 1958.
Tilley, M. A. The Bible in Christian North Africa. Tne Donatist World. Minneapolis 1997. (Попытка представить полемику с Августином глазами его главного противника.)
Trape, A. et al. Agostino е Luthero. II tormento per I’uomo. Palermo 1985,
Turner, D. The Darkness God. Negativity in Christian Mysticism. Cambridge 1996. (Сенсацонное новое понимание мистики Августина.)
Van der Meer, F. Augustinus der Seelsorger. Laban und Wirken eines Klrchenvaters. Koln 1951. (Глубокое культурно–историческое исследование.)
Veyne, P. Bread and Circuses. Historical Sociology and Political Pluralism. Harmondsworth 1990.
Wilken, R. L. The Christians as the Romans saw them. New Haven/London 1984. (Превосходная небольшая книга, посвященная отношению к христианству, в том числе, Галена, Кельсия, Порфирия и Юлиана Отступника.)
Williams, S. & G. Friell. Theodosius. The Empire at Bay. London 1998. (Новое, опирающееся на документы, исследование внутреннего застоя Римской империи во времена Августина.)
Witke, С. Numen litterarum. Tne Old and the New in Latin Poetry from Constantine to Gregory the Great Leiden 1971.
Wolfson, HA The Philosophy of the Church Fathers. Faith, Trinity, Incarnation. Cambr. Mass. 1970. (Фрагмент интересной попытки прочитать отцов Церкви так, чтобы они могли занять свое место в изложении истории философии.)
Wunderle, G. Einfuhrung in Augustins Konfessbnen. Augsburg 1930.
Адрес в интернете, по которому можно познакомиться с материалами об Августине: http://ccat.sas.UDenn.edu/iod/auQUStine.html