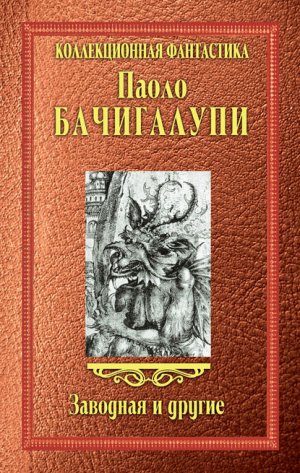
Специалист по калориям[1]
Мамы нет, папы нет, бедный я сирота! Деньги? Дашь денег? Мальчишка сделал «колесо», потом перекувырнулся посреди улицы, поднимая липнущую к голому телу желтую пыль.
Лалджи остановился посмотреть на белобрысого попрошайку, который замер у него под ногами. Внимание, кажется, придало парнишке храбрости: он еще раз перекувырнулся. Улыбнулся, сидя на корточках и глядя на Лалджи снизу вверх, расчетливо и напряженно; ручейки пота и грязи стекали у него по лицу.
— Деньги? Дашь денег?
Город вокруг них был почти безмолвен в этот жаркий день. Несколько фермеров в рабочих комбинезонах вели мулов на поля. Здания, спрессованные из «всепогодного» камня, заваливались на соседей, словно пьяные, в пятнах от дождя и в трещинах от солнца, однако, как и следовало из названия материала, они все равно держались. В дальнем конце узкой улицы начинались тучные поля с «СоейПРО» и «Хай-Ростом», волны шелестящей растительности катились до самого голубого горизонта. Все было в основном так, как и во всех небольших городах, какие повидал Лалджи, путешествуя вверх по реке, просто еще один фермерский анклав, обязанный выплачивать долги за пользование интеллектуальной собственностью и отправлять калории в Новый Орлеан.
Мальчишка подполз ближе, заискивающе улыбаясь и покачивая головой, словно готовая напасть змея.
— Деньги? Деньги?
Лалджи сунул руки в карманы на случай, если у попрошайки имеются сообщники, и полностью сосредоточился на мальчишке.
— А с чего я должен давать тебе деньги?
Мальчишка уставился на него, озадаченный. Он раскрыл рот, затем снова закрыл. Наконец вернулся к тому, с чего начал: эта часть выступления была ему более привычной.
— Ни мамы? Ни папы? — Теперь это звучало скорее как вопрос, лишенный внутренней убежденности.
Лалджи поморщился от отвращения и примерился, чтобы дать парню пинка. Мальчик отшатнулся в сторону, упал на спину в отчаянной попытке увернуться, и Лалджи тут же развеселился. По крайней мере, у мальчишки быстрая реакция. Он развернулся и зашагал дальше по улице. У него за спиной завывания попрошайки звучали отчаянным эхом:
— Ма-а-амы не-е-ет! Па-а-апы не-е-ет!
Лалджи в раздражении помотал головой. Мальчишка сколько угодно мог кричать о деньгах, однако за ним он не потащился. Никакой это не настоящий попрошайка. Работает от случая к случаю, скорее всего на мысль его натолкнули какие-нибудь чужаки, забредшие в городок и проявившие щедрость к нищему светловолосому ребенку. Ученые из «Агро-Гена» или «Растениевода Среднего Запада» и прочие аграрники охотно проявляют к горожанам в провинции показную щедрость.
Сквозь дыры в убогих постройках Лалджи снова мельком увидел буйную поросль «СоиПРО» и «Хай-Роста». Все эти выставленные напоказ калории пробуждали в воображении волнующие фантазии о том, как можно было бы загрузить баржу и отправить ее вниз по течению, минуя шлюзы, в Сент-Луис или Новый Орлеан, в пасти заждавшихся мегадонтов. Напрасные мечты, конечно, зато зрелище изумрудных полей являлось более чем достаточным доказательством, что ни у одного ребенка здесь нет оснований попрошайничать. Только не рядом с «СоейПРО». Лалджи снова с неодобрением покачал головой и свернул на тропинку, зажатую между двумя домами.
В темном переулке тек едкий ручей из отработанных «всепогодных» масел. Пара чеширцев, прятавшихся в безлюдном месте, бросилась прочь и исчезла, растворившись в ярком солнечном свете. Здесь же, привалившись к своим видавшим виды соседям, стояла кинетическая мастерская, добавляющая запаха навоза и животного пота к вони «всепогодных». Лалджи навалился на дощатую дверь мастерской и протиснулся внутрь.
Солнечный свет пронзал сладко пахнущий навозом сумрак ленивыми золотыми лучами. На одной стене висело два раскрашенных вручную плаката, кое-где оторванных, но все еще читаемых. «Неучтенные калории означают голодающие семьи!» «Мы следим за отчислениями и использованием права на интеллектуальную собственность!» Фермер с семейством таращился пустыми глазами поверх суровых слов. За распространение этих плакатов платили «Чистые Калории». На другом плакате красовался коллаж из торговой марки «Агро-Гена», сжатых пружин, зеленых рядов «СоиПРО», залитых солнечным светом, и улыбающихся детишек среди слов «Мы обеспечиваем мир энергией!» Лалджи с кислым видом изучил плакаты.
— Уже вернулся? — Владелец мастерской вышел из намоточной, вытирая руки о штаны и смахивая грязь и солому с ботинок. Он посмотрел на Лалджи. — Запаса моих пружин оказалось недостаточно. Пришлось лишний раз кормить мулов, чтобы набрать тебе джоулей.
Лалджи пожал плечами, он ожидал, что в последнюю минуту хозяин начнет торговаться, точно так же, как делал обычно Шри-рам, поэтому из любопытства напустил на себя оскорбленный вид.
— Ну? И сколько?..
Хозяин покосился на Лалджи, потом втянул голову в плечи, его тело будто приготовилось к обороне.
— П-пять сотен. — Голос его сорвался, как будто кляп собственной поразительной алчности оцарапал ему горло.
Лалджи нахмурился и дернул себя за ус. Неслыханно. Калории еще даже не перевезли. Городок купается в энергии. И, несмотря на висящие в мастерской добропорядочные плакаты, то, что калории, питающие эту кинетическую мастерскую, были должным образом учтены, вызывало сильные сомнения. Только не при непосредственной близости от нее вводящих в искушение зеленых полей. Шрирам часто говорил, что использовать учтенные калории — все равно что швырять деньги в компостную яму.
Лалджи еще раз дернул себя за ус, соображая, сколько следует заплатить за джоули, не привлекая к себе чрезмерного внимания. Должно быть, богачи регулярно посещают этот городишко, раз хозяина мастерской обуяла такая алчность. Почти наверняка какие-нибудь ответственные за калории лица. Очень может быть. Городок расположен близко к центру. Может быть даже, этот самый город участвует в выращивании главных драгоценностей для энергетической монополии «Агро-Ген». Но все равно не все, кто проезжает через город, настолько богаты.
— Две сотни.
Хозяин облегченно заулыбался, показывая кривые желтые зубы: его вина сделалась очевидной, когда Лалджи начал торговаться.
— Четыре.
— Две. Я могу стать на якорь на реке, и мои собственные намотчики сделают ту же работу.
Хозяин засопел:
— На это уйдут недели. Лалджи пожал плечами:
— Время у меня есть. Можешь впустую слить джоули обратно в свои пружины. Я сам сделаю всю работу.
— У меня семья, которую нужно кормить. Три?
— У тебя под боком столько калорий, сколько и некоторым богатым семьям в Сент-Луисе не снилось. Две.
Хозяин угрюмо покачал головой, но повел Лалджи в намоточную. Навозная мгла сгустилась. Огромные, в два раза выше человеческого роста, барабаны, хранящие кинетическую энергию, стояли в темном углу, грязь и навоз налипли на их точные, высокой емкости, сжатые пружины. Солнечные лучи проникали в зияющие дыры в крыше, там, где из нее выдуло ветром дранку. Лениво шевелились ошметки навоза.
Полдюжины гипертрофированных мулов механически выполняли свой нудный труд, их ребра медленно вздымались, на боках виднелись соленые разводы от пота, которым они истекали, заводя лодочные пружины Лалджи. Они выдували воздух через ноздри; внезапно донесшийся запах Лалджи встревожил их, и их толстые ноги замерли. Мышцы, похожие на булыжники, проступили на костлявых телах, когда они остановились. Животные смотрели на Лалджи обиженно, почти разумно. Один мул показал крепкие желтые зубы, похожие на зубы хозяина.
На лице Лалджи отразилась досада.
— Покорми их.
— Я уже кормил.
— У них все кости видны. Если хочешь получить с меня деньги, покорми еще раз.
Хозяин возмутился:
— Они и не должны быть жирными, они должны заводить твои чертовы пружины. — Но все-таки кинул по две горсти «СоиПРО» в кормушки.
Мулы засунули головы в корзинки, истекая слюной и постанывая от вожделения. В своем нетерпении один мул пошел было вперед по кругу, передавая энергию опустошенным пружинам мастерской, но потом, кажется, понял, что от него не требуется работы и он может есть без всяких помех.
— Они просто не созданы для того, чтобы жиреть, — пробормотал хозяин мастерской.
Лалджи чуть улыбнулся, отсчитывая пачку банкнот и передавая деньги хозяину. Тот снял заведенные пружины Лалджи с намоточных барабанов и поставил рядом с невольниками-мулами. Лалджи поднял одну пружину, охнув под ее тяжестью. Ее масса осталась точно такой же, как когда он принес ее в кинетическую мастерскую, но сейчас она, кажется, почти вибрировала от заключенного в ней труда мулов.
— Помочь?
Хозяин не сдвинулся с места. Он косился на кормушки мулов, все еще прикидывая, не удастся ли помешать их трапезе.
Лалджи тянул с ответом, наблюдая, как мулы приканчивают остатки своих калорий.
— Нет. — Он снова взвалил на себя пружину, ухватившись поудобнее. — За остальными придет мой помощник.
Повернувшись к двери, он услышал, как хозяин оттаскивает от мулов кормушки, а они ворчат, сражаясь за провизию. И в который раз Лалджи пожалел, что вообще согласился на эту поездку.
Предложение исходило от Шрирама. Они сидели под навесом на крыльце дома Лалджи в Новом Орлеане, сплевывая сок бетеля в сточную канаву в переулке, глядя, как льет дождь, и играя в шахматы. Вдалеке, в сером утреннем свете, мелькали велорикши и просто велосипедисты, проблески зеленого, красного и синего, проезжающие мимо входа в переулок в своих блестящих от дождя, зерненых полимерных пончо.
Игра в шахматы была многолетней традицией, ритуалом, который свершался, если Лалджи бывал в городе, а у Шрирама появлялась возможность оставить на время свою маленькую кинетическую компанию, занимавшуюся взведением домашних и лодочных пружин. Между ними существовала добрая дружба, ставшая еще и плодотворной, когда Лалджи добыл неучтенные калории, которым предстояло кануть в пасти голодного мегадонта.
Оба они играли в шахматы не слишком хорошо, и поэтому партии часто сводились к серии обменов, совершаемых в головокружительной последовательности, к непрерывному уничтожению, в результате которого поле с еще недавно аккуратно расставленными фигурами представляло собой картину полного разорения, и оба оппонента изумленно моргали, пытаясь сообразить, стоило ли подобное безобразие баталии. И вот после одного из такого «зуб за зуб» разгромов Шрирам спросил Лалджи, может ли тот подняться вверх по реке. Выше южных штатов.
Лалджи помотал головой и сплюнул кроваво-красный сок бетеля в выходящую из берегов сточную канаву.
— Нет. Невыгодно заходить так далеко. Слишком много джоулей придется потратить. Пусть лучше калории сами плывут ко мне.
Лалджи с удивлением заметил, что у него до сих пор сохранился ферзь. Он взял им пешку.
— А если вся потраченная энергия будет оплачена? Лалджи засмеялся, дожидаясь, пока Шрирам сделает свой ход.
— Это кем? «Агро-Геном»? Полицейскими, охраняющими интеллектуальную собственность? Только их лодки ходят так далеко по течению и против него.
Он нахмурился, осознав, что его ферзю теперь угрожает оставшийся конь Шрирама.
Шрирам молчал, не прикасаясь к фигурам. Лалджи оторвал взгляд от доски и изумился серьезности лица Шрирама.
— Я заплачу. Я сам и кое-кто еще. Есть один человек, которого некоторые из нас хотели бы доставить на юг. Весьма необычный человек, — произнес Шрирам.
— Так отчего бы не отправить его на юг на гребном судне? Вверх по реке идти дорого. Сколько уйдет гигаджоулей? Мне придется заменить лодочные пружины, и что тогда скажет мне полицейский патруль? «Куда это ты направляешься, странный индиец, на своей маленькой лодчонке с таким количеством пружин? Собираешься в дальнее путешествие? А с какой целью?» — Лалджи покачал головой. — Пусть этот человек сядет на паром, наймет баржу. Дешевле обойдется, разве нет? — Он махнул рукой на шахматную доску. — Твой ход. Тебе предстоит взять мою королеву.
Шрирам задумчиво наклонял голову то в одну сторону, то в другую, но не спешил продолжить игру.
— Дешевле, да…
— Но?..
Шрирам пожал плечами:
— Быстрая маленькая лодка привлечет к себе меньше внимания.
— Что же это за человек такой?
Шрирам внезапно воровато огляделся вокруг. Метановые лампы светились голубыми призрачными огоньками за закрытыми, испещренными каплями дождя окнами соседей. Дождь ручьями стекал по окрестным крышам, выбивал мокрую дробь в пустом переулке. Чеширец взывал к подруге откуда-то из мокроты, едва слышный за шумом текущей воды.
— Крео сейчас дома?
Лалджи удивленно поднял брови:
— Он отправился в спортзал. А что такое? Какое это имеет значение?
Шрирам пожал плечами и смущенно улыбнулся:
— Кое-что должно оставаться только между старыми друзьями. Людьми, связанными крепкими узами.
— Крео работает со мной много лет.
Шрирам что-то неразборчиво пробурчал, снова огляделся вокруг и вытянулся вперед, понизив голос, вынуждая и Лалджи податься ближе.
— Есть один человек, которого очень хотели бы найти энергетические компании. — Он постучал по своей лысеющей голове. — Очень умный человек. Мы хотим ему помочь.
Лалджи втянул воздух сквозь зубы:
— Потрошитель генов?
Шрирам избегал смотреть в глаза Лалджи.
— В некотором смысле. Специалист по калориям. Лалджи скроил гримасу отвращения:
— Еще одна причина не участвовать в этом деле. Я не имею ничего общего с этими убийцами.
— Нет, нет. Разумеется, нет! Однако же… когда-то ты привез с собой грандиозную вывеску, разве не так? Несколько смазанных жиром пальм, таких скользких, и ты въехал в город, и Лакшми[2] вдруг улыбнулась тебе, этакому энергетическому разбойнику, и вот теперь ты торговец антиквариатом. Какие поразительные перемены!
Лалджи пожал плечами:
— Мне повезло. Я знал одного человека, который помог мне пройти шлюзы.
— Так в чем дело? Повтори это.
— Если за ним охотятся энергетические компании, дело будет опасным.
— Но не невыполнимым. Шлюзы пройти легко. Гораздо легче, чем провезти нелицензированное зерно. Или что-нибудь такое же огромное, как вывеска. А это будет просто человек. Ни одна ищейка им ничуть не заинтересуется. Посадишь его в бочку. Все пройдет легко. А я оплачу. Все твои джоули и еще сверху.
Лалджи пожевал орех бетеля, сплюнул красным, снова сплюнул, размышляя.
— А какую пользу получит от этого специалиста по калориям такой второстепенный владелец кинетической компании, как ты? Потрошители генов охотятся на большую рыбу, мелкая рыбешка их не интересует.
Шрирам улыбнулся с несчастным видом и пожал плечами, словно осуждая себя самого.
— Тебе не кажется, что в один прекрасный день «Ганеша Кинетик» может стать крупной компанией? Вторым «Агро-Геном», может быть?
Они оба засмеялись над этим абсурдным предположением, и Шрирам сменил тему.
Полицейский с собакой преградил Лалджи путь, когда тот подходил к своей лодке, неся заведенную пружину. Псина ощетинилась при его приближении и рванулась с поводка, ее тупой нос подрагивал от желания добраться до него. Патрульный из службы по охране интеллектуальной собственности с трудом сдерживал собаку.
— Нужно тебя обнюхать.
Снятая каска уже лежала на траве, но он все равно обливался потом, запакованный в серый бронежилет и с навешенным на него тяжелым пружинным ружьем и патронташем.
Лалджи застыл. Звериный рык раздался откуда-то из глубины глотки, и собака двинулась вперед. Она обнюхала его одежду, скаля жадные зубы, обнюхала еще раз, затем черная шерсть вокруг шеи начала переливаться синим, она расслабилась и вильнула купированным хвостом. Села. Розовый язык вывалился из улыбающейся пасти. Лалджи кисло улыбнулся собаке в ответ, радуясь, что не везет с собой контрабандных калорий и ему не придется разыгрывать пантомиму послушания, когда патрульный потребует квитанции, и не придется доказывать, будто бы за зерно уплачены все пошлины и все лицензии на руках.
Когда собака поменяла цвет, патрульный тоже несколько расслабился, но все равно внимательно рассмотрел Лалджи, отыскивая в нем сходство с какой-нибудь хранящейся в памяти фотографией. Лалджи терпеливо ждал, знакомый с правилами проверки. Многие пытались присвоить честные прибыли «Агро-Гена» и ему подобных компаний, но, насколько было известно Лалджи, он не числился в картотеках полиции по охране интеллектуальной собственности. Он — торговец антиквариатом, имеющий дело с хламом предыдущего столетия, а не какой-нибудь энергетический бандит, чье изображение хранится в корпоративных фотоархивах.
Наконец патрульный махнул, чтобы он проходил. Лалджи вежливо кивнул и пошел вниз по ступеням к невысокому речному причалу, где стояла его узкая лодка. По реке проползали неуклюжие зерновые баржи, низко сидящие в воде под тяжестью груза.
Движение на реке, хотя и достаточно интенсивное, не могло сравниться с тем, что творилось во время сбора урожая. Тогда калории, выдоенные из таких городков, как этот, заполняли всю Миссисипи вниз по течению. Баржи перекрывали главные потоки речной системы в Миссури, Иллинойсе, Огайо, забивали тысячи мелких рек. Некоторые из этих калорий отправлялись только до Сент-Луиса, где их пожирали мегадонты, отрыгивая джоули, но остальные, основной поток, шли до Нового Орлеана, где ценное зерно грузили на клиперы и дирижабли крупных энергетических компаний. Оттуда они отправлялись по всей земле с попутными ветрами или по морю, чтобы поспеть обратно к следующему посевному сезону и чтобы весь мир продолжал есть.
Лалджи посмотрел, как медленно проходят мимо баржи, перегруженные, раздутые от своего богатства, затем подхватил заведенную пружину и спрыгнул на борт лодки.
Крео лежал на палубе в той же позе, в какой Лалджи оставил его, мускулистое тело намазано маслом и сверкает под солнцем: светловолосый Арджуна,[3] ожидающий славной битвы. Разделенные на косички волосы, цвета спелой пшеницы, рассыпались вокруг головы нимбом, привязанные к концам косичек кости лежали, будто фишки, брошенные гадателем, на горячей палубе. Он не шевельнулся, когда Лалджи спрыгнул на палубу. Лалджи встал перед Крео, мешая тому загорать. Молодой человек медленно открыл голубые глаза.
— Поднимайся. — Лалджи опустил свою ношу на мускулистый живот Крео.
Крео шумно выдохнул и обхватил пружину руками. Он легко сел и переложил тяжесть на палубу.
— А остальные пружины заведены?
Лалджи кивнул. Крео взял пружину и пошел вниз по узкому трапу в машинное отделение. Когда он вернулся, вставив пружину в зубчатую передачу двигателя, то заявил:
— Твои пружины полное дерьмо, все без исключения. Не понимаю, почему ты не поставил что-нибудь побольше. Нам приходится заново заводить их каждые — сколько? — двадцать четыре часа? А на паре больших пружин мы бы прошли весь путь.
Лалджи угрюмо посмотрел на Крео и мотнул головой в сторону патрульного, который все еще стоял на берегу реки, глядя на них сверху. Лалджи заговорил, понизив голос:
— И что мы потом скажем властям Среднего Запада, когда поднимемся вверх по реке? Когда все их патрульные начнут приставать с вопросом, куда это мы собрались. Будут ходить тут, интересуясь, зачем это нам такие большие пружины. И какие это у нас дела выше по течению? — Он покачал головой. — Нет, ни в коем случае. Так лучше. Маленькая лодка, небольшое расстояние, кому тогда какое дело до Лалджи и его глупого белобрысого помощника? Никому. Нет, уж лучше так.
— Ты всегда был дешевкой. Лалджи покосился на Крео.
— Тебе еще повезло, что ты не ходил по реке сорок лет назад. Тогда тебе пришлось бы грести вверх по течению вручную, вместо того чтобы бездельничать, предоставляя выполнять всю работу чудесным заводным пружинам! Вот тогда мы посмотрели бы, на что годятся твои мускулы.
— Если бы мне повезло, я родился бы во времена экспансии и мы до сих пор использовали бы бензин!
Лалджи хотел что-то возразить, но мимо них прошла патрульная лодка, оставляя за кормой глубокий след. Крео метнулся к тайнику, где у них хранились пружинные ружья. Лалджи кинулся вслед за ним и захлопнул крышку тайника.
— Они не за нами!
Крео уставился на Лалджи, какое-то мгновение не понимая, затем облегченно выдохнул. Он отошел от спрятанных ружей. Лодка с патрулем прошла вверх по реке, половина ее палубы была занята массивными высокоточными заведенными пружинами, накопленные джоули так и лились от высвобождающихся молекул. Оставленная лодкой пенная волна раскачала их суденышко. Лалджи ухватился для равновесия за фальшборт, а патрульная лодка уменьшилась до размеров пятна и затем исчезла за растянувшимися цепью баржами, заслоняющими обзор.
Крео выругался вслед лодке:
— Я бы запросто их снял. Лалджи глубоко вздохнул:
— И нас бы перебили.
Он взглянул на берег: заметил ли патрульный, как они запсиховали? Патрульного не было видно. Лалджи мысленно вознес благодарности Ганеше.[4]
— Не люблю, когда они болтаются поблизости, — сетовал Крео. — Они похожи на муравьев. На последнем шлюзе их было четырнадцать. Еще один здесь на берегу. И теперь лодки.
— Мы сейчас в центре энергетической житницы. Ничего удивительного.
— Ты сделаешь на этой поездке кучу денег?
— А почему тебя это интересует?
— Просто ты никогда раньше не брался за такую рискованную работу. — Крео вскинул руку, указывая на город, на возделанные поля, на грязную широкую реку и массивные баржи, перегораживающие ее. — Никто не поднимается так высоко по течению.
— Моей выручки хватает на то, чтобы платить тебе. Это все, что тебе следует знать. А теперь отправляйся за остальными пружинами. Когда ты слишком много думаешь, у тебя мозги размягчаются.
Крео с сомнением покачал головой, но перепрыгнул на причал и пошел вверх по лестнице к кинетической мастерской. Лалджи отвернулся к реке. Тяжело вздохнул.
Патрульная лодка была первым звоночком. Крео слишком уж рвется в драку. Им просто повезло, что они не превратились в куски рваного мяса, расстрелянные из пружинных ружей патрульных. Он устало покачал головой, вспоминая, был ли он хоть когда-нибудь таким же безрассудно самоуверенным, как Крео. Едва ли. Даже когда был мальчишкой. Наверное, Шрирам прав. Даже если Крео и заслуживает доверия, он все равно опасен.
Караван барж, груженных «тотально-питательной пшеницей», прополз мимо. Счастливые снопы с их логотипа улыбались по всей грязной реке, обещая «здоровое завтра» заодно с фолатами, витамином В и свиным белком. Еще одна патрульная лодка пронеслась по реке, виляя между баржами. Находившиеся на ее борту патрульные холодно оглядели Лалджи, скользя мимо. У Лалджи по коже пошли мурашки. Стоит ли овчинка выделки? Если бы он как следует подумал, его чутье дельца — взращенное в нем тысячелетним существованием кастового общества — сказало бы ему. «нет». Однако была еще Гита. Когда каждый год на Дивали[5] он подсчитывал свои долги, разве он мог сосчитать все, что задолжал ей? Как можно расплатиться за то, что стоит больше всех прибылей, полученных за всю жизнь?
«Питательная пшеница» неуклюже проползла мимо, бездумно призывая и не давая ответа.
— Ты хотел знать, есть ли что-то такое, что стоит твоего путешествия вверх по реке.
Лалджи с Шрирамом стояли в намоточной «Ганеша Кинетик», наблюдая, как попавшая не по адресу тонна «Супервкуса» обращается в джоули. Пара мегадонтов Шрирама трудилась над мотальными веретенами; громоздкие и неповоротливые, они обращали только что переработанные калории в кинетическую энергию, закручивая главные резервные пружины мастерской.
Прити и Биди. Массивные создания едва ли напоминали слонов, которые некогда снабдили их образцами своих ДНК. Потрошители генов воплотили в них идеально сбалансированное сочетание мускулатуры и аппетита с одной-единственной целью: поглощать калории и безропотно выполнять чудовищные объемы работы. Исходящий от них запах стоял повсюду. Мегадонты двигались с трудом.
«Животные стареют», — подумал Лалджи, и вслед за этой мыслью пришла другая: он и сам стареет. Каждое утро он находил новые седые волоски в усах. Он, естественно, выдирал их, но на их месте все время вырастали новые. А теперь еще и суставы стали болеть по утрам. Да и у самого Шрирама голова блестела, как полированное дерево. Он когда-то успел облысеть. Жирный и лысый. Лалджи не понимал, когда они умудрились сделаться такими старыми.
Шрирам повторил вопрос, и Лалджи отмахнулся от своих мыслей.
— Нет, мне ничего не нужно вверх по течению. Это вотчина энергетических компаний. Я уже смирился с тем, что ты развеешь мои останки над Миссисипи, а не над священным Гангом, но я не настолько сильно стремлюсь в следующую жизнь, чтобы позволить своему телу болтаться по волнам где-нибудь в Айове.
Шрирам нервно заломил руки и огляделся. Он понизил голос, хотя равномерного стона шпинделей было вполне достаточно, чтобы заглушить любой звук.
— Прошу тебя, друг, есть люди… которые хотят… убить этого человека.
— А меня это должно волновать? Шрирам успокаивающе замахал руками:
— Он знает, как делать калории. «Агро-Ген» мечтает до него добраться, и очень сильно. То же самое и «Чистые Калории». Он отрекся от них и всех подобных компаний. Его интеллект дорогого стоит. Он нуждается в ком-то надежном, кто мог бы переправить его вниз по реке. Кто не дружен с патрулями.
— И раз он враг «Агро-Гена», я должен ему помогать? Какой-нибудь бывший компаньон клики из Де-Мойна? Какой-то экс-добытчик калорий, руки которого в крови, и ты думаешь, что он поможет тебе делать деньги?
Шрирам покачал головой:
— Ты говоришь так, будто этот человек нечистый.
— Мы говорим о потрошителе генов, верно? Разве он может обладать какой-то моралью?
— Он генетик. Не потрошитель генов. Генетики дали нам мегадонтов. — Он махнул на Прити и Биди. — А мне — средства к существованию.
Лалджи развернулся к Шрираму:
— Так ты, значит, находишь утешение в подобных смысловых тонкостях? Ты, человек, погибавший от голода в Ченнаи, когда все зерно было заражено генерированным «Ниппоном» долгоносиком? Когда земля превратилась в алкоголь? Когда «Ю-Текс», «Хай-Рост» и все прочие культуры пришлись так кстати? Ты, кто с остальными торчал в порту, когда прибыло зерно, и видел, как его огородили и приставили охрану в ожидании, когда явятся люди с деньгами, чтобы его купить? Что общего может быть у меня с подобными людьми? Да я скорее плюну ему в глаза, этому специалисту по калориям. Да пусть его схватят черти из «Чистых Калорий», вот что я скажу!
Город оказался ровно таким, как описывал Шрирам. Тополя и ивы росли по берегам реки, а над ними висели остатки моста, кое-где над водой еще виднелась призрачная паутина поломанных ферм и обвалившихся опор. Лалджи с Крео глядели на ржавеющую конструкцию, паучью сеть из стали, кабелей и бетона, плавно уходящую в воду.
— Как ты думаешь, сколько можно взять за сталь? — спросил Крео.
Лалджи кинул в рот горсть семечек подсолнуха «Пест-Резист» и принялся разминать их зубами. Он сплевывал шелуху, одну за другой, в реку.
— Немного. Слишком много энергии уйдет на то, чтобы вытащить, а потом переплавить. — Он помотал головой и в очередной раз сплюнул. — Слишком убыточно связываться со сталью. Лучше использовать фастгенное твердое дерево или «всепогодные».
— Но ими не покрыть такого расстояния. Сейчас такого не делают. Разве что в Де-Мойне. Я слышал, они там жгут уголь.
— И еще у них электрические фонари, которые горят всю ночь, и компьютеры размером с дом. — Лалджи махнул рукой, решив сменить тему, и отвернулся, чтобы закончить швартовку. — Кому теперь нужен такой мост? Убыточно. Паром с мулом послужат не хуже.
Он спрыгнул на берег и полез вверх по разрушенным ступеням, уводящим от реки. Крео пошел за ним.
На вершине крутого подъема начинался разрушенный пригород. Построенный, чтобы обслуживать большие города далеко за рекой, когда поездки были делом обычным, а бензин — дешевым, сейчас пригород достиг последней стадии разрушения. Никчемный город, выстроенный из дешевых материалов, быстротечный, как вода, и легко оставленный, когда ездить из него на работу стало слишком накладно.
— Что, черт возьми, это за место? — спросил Крео. Лалджи цинично улыбнулся. Он кивнул на зеленые поля за рекой, до самого горизонта поросшие «СоейПРО» и «Хай-Ростом».
— Настоящая колыбель цивилизации, а? «Агро-Ген», «Растениевод Среднего Запада», «Чистые Калории», у всех здесь поля.
— Правда? Тебя это волнует?
Лалджи развернулся и поглядел на караван барж, идущий вниз по течению; с высокого берега они уже не казались такими чудовищно громадными.
— Если бы мы смогли превратить все эти калории в безликие джоули, то сделались бы богачами.
— Давай мечтай дальше. — Крео глубоко вдохнул и потянулся. У него в спине хрустнуло, и он поморщился от этого звука. — Я теряю форму, когда так долго правлю лодкой. Надо мне было остаться в Новом Орлеане.
Лалджи удивленно поднял брови:
— Тебе не нравится наше путешествие? — Он указал на реку. — Где-то там, может быть, на этих самых акрах, «Агро-Ген» создал «СоюПРО». И все кругом думали, какие они замечательные люди. — Он поморщился. — А потом пришел долгоносик, и вдруг всем оказалось нечего есть.
Крео скорчил рожу:
— Я не вникаю во все эти тайные заговоры.
— Ты даже не родился, когда это произошло. — Лалджи развернулся и повел Крео в разрушенный пригород. — Зато я помню. Ничего подобного никогда раньше не случалось.
— Монокультуры. Они уязвимы.
— «Басмати»[6] не был монокультурой! — Лалджи махнул рукой назад, на зеленые поля. — «СояПРО» — монокультура. «Чистые Калории» — монокультура. Потрошители генов создают монокультуры.
— Как скажешь, Лалджи.
Лалджи мелком взглянул на Крео, пытаясь понять, собирается ли молодой человек продолжать спор, но тот внимательно оглядывал разрушенную улицу, и Лалджи ничего больше не сказал. Он пошел дальше по улице, следуя заученным указаниям.
Все улицы были нелепо широкие и совершенно одинаковые, такие просторные, что по ним могло бы запросто пройти стадо мегадонтов. Двадцать велорикш легко проехали бы по таким улицам бок о бок, а этот город был всего лишь вспомогательным пригородом. После такой мысли Лалджи побоялся размышлять дальше на тему, как сильно изменилась жизнь.
Ватага детишек наблюдала за ними из дверного проема разрушенного дома. Половины досок в нем не хватало, оставшаяся половина была разбита и торчала из фундамента, как кости скелета, с которого содрали все мясо.
Крео показал детям свое пружинное ружье, и они разбежались. Он выругался вслед удаляющимся фигурам.
— Какого лешего мы здесь ищем? Ты охотишься за какой-то очередной древностью?
Лалджи пожал плечами:
— Ну, говори уже. Все равно через пару минут мне придется тащить это на борт. К чему такие тайны?
Лалджи взглянул на Крео:
— Тебе ничего не придется тащить. Это человек. Мы ищем одного человека.
Крео недоверчиво хмыкнул. Лалджи не удосужился ответить.
Они подошли к перекрестку. Посреди дороги лежал старый разбитый светофор. Вокруг него, сквозь асфальт, пробивалась уже отцветшая трава. Торчали желтые головки одуванчиков. На другой стороне перекрестка поднималось высокое кирпичное здание, руины культурного очага, продолжающего стоять, выстроенного из лучших материалов, чем дома, которые он обслуживал.
Чеширец промчался по зарослям сорняков. Крео попытался его подстрелить. Промазал.
Лалджи изучал кирпичное здание.
— Это здесь.
Крео проворчал что-то и выстрелил в другого промелькнувшего чеширца.
Лалджи подошел рассмотреть разбитый светофор, из праздного интереса пытаясь понять, стоит ли он чего-нибудь. Светофор был ржавый. Лалджи медленно обошел вокруг него, прикидывая, не прихватить ли что-нибудь с собой вниз по реке. В некоторых руинах периода экспансии до сих пор сохранились ценные предметы. В таком же вот месте он нашел вывеску «Коноко», в пригороде, который вскоре поглотили поля «СоиПРО». Вывеска сохранилась идеально, очевидно, она никогда не висела под открытым небом и не стала жертвой разъяренных толп во время энергетического уплотнения. Он продал ее представителю «Агро-Гена» более чем за целый контрабандный груз «Хай-Роста».
Женщину из «Агро-Гена» вывеска развеселила. Она повесила ее на стену в окружении менее значительных артефактов эпохи экспансии: пластиковых стаканов, компьютерных мониторов, фотографий с несущимися автомобилями, ярко раскрашенными детскими игрушками. Она повесила вывеску на стену, а затем отошла, пробормотав, что, судя по всему, это была мощная компания… даже международная. Международная.
Она произнесла это слово почти с сексуальным вожделением, разглядывая красочный полимер. Международная.
На какой-то миг Лалджи захватила представшая перед ней картина: компания, добывающая энергию в самых удаленных частях планеты и продающая ее еще дальше спустя какое-то время, компания, у которой покупатели и инвесторы — со всех континентов, а ее представители пересекают часовые пояса так же привычно, как Лалджи переходит улочку, чтобы навестить Шрирама.
Женщина из «Агро-Гена» повесила вывеску на стену, как голову трофейного мегадонта, и в этот момент, находясь рядом с предметом, олицетворяющим самую мощную энергетическую компанию на свете, Лалджи ощутил вдруг острую тоску из-за того, насколько измельчало человечество.
Лалджи стряхнул с себя воспоминания и снова медленно оглядел перекресток, отыскивая признаки присутствия его будущего пассажира. Полным-полно чеширцев резвилось на руинах, их дымные мерцающие тела вспыхивали на солнце и исчезали в тени. Крео снова взвел пружину ружья и выбросил облако дисков. Мерцание дернулось и застыло, превратившись в тусклые, черно-бело-рыжие кровавые ошметки.
Крео снова перезарядил пружинное ружье.
— Так где этот тип?
— Думаю, он появится. Если не сегодня, то завтра или через день.
Лалджи поднялся по ступеням культурного центра и протиснулся между створками дверей. Внутри не было ничего, кроме пыли, сумрака и птичьего помета. Он отыскал лестницу и поднимался по ней, пока не нашел разбитое окно, из которого можно было выглянуть. Порыв ветра загромыхал рамой окна и дернул Лалджи за усы. Пара ворон кружила в голубом небе. Внизу Крео перезарядил ружье и выстрелил в очередного мерцающего чеширца. В ответ раздалось сердитое мяуканье. Кровавые пятна расползались по поросшей сорняками мостовой, стайка животных пустилась наутек.
Вдалеке окраины пригорода уже перетекали в поля. Его время сочтено. Скоро дома запашут, и все здесь покроет безупречный ковер «СоиПРО». История пригорода, пусть глупая и быстротечная, позабудется, растоптанная под пятой идущего маршем энергетического развития. Небольшая потеря с точки зрения здравого смысла, однако же где-то в глубине души Лалджи коробило от мысли о стирании времени. Он слишком много времени потратил, пытаясь вспомнить Индию своего детства, чтобы испытывать удовольствие от ее исчезновения. Он спустился по запыленной лестнице обратно к Крео.
— Никого не нашел?
Лалджи покачал головой. Крео хмыкнул и выстрелил в очередного чеширца, чуть не попал. Он хорошо стрелял, только едва видимые животные представляли собой нелегкую мишень. Крео взвел пружину и снова выстрелил.
— С ума сойти, сколько здесь чеширцев!
— Здесь их некому истреблять.
— Хочу забрать шкурки и отвезти их в Новый Орлеан.
— Только не на моей лодке.
Многие из мерцающих животных разбежались, наконец сообразив, на что способен их враг. Крео снова взвел пружину и прицелился в дрожащий огонек дальше по улице.
Лалджи с благодушным видом наблюдал.
— Ни за что не попадешь.
— Смотри. — Крео старательно целился. На них упала чья-то тень.
— Не стреляйте!
Крео развернулся вместе с ружьем. Лалджи замахал на него рукой:
— Стой! Это он!
Вновь прибывший оказался худощавым стариком, лысым, если не считать засаленного седого пуха и бровей, тяжелая нижняя челюсть густо заросла щетиной. Грязная и изодранная мешковина прикрывала его тело, в запавших глазах светилось некое знание, пробудившее в Лалджи давнее воспоминание о виденном когда-то садху,[7] посыпанном пеплом, все это — спутанные волосы, пренебрежение к одежде, отстраненность во взгляде — результат просветленности. Лалджи прогнал от себя воспоминание. Этот человек вовсе не святой старец. Просто человек, к тому же потрошитель генов.
Крео снова прицелился в далекого чеширца.
— На юге я получил бы по голубой банкноте за каждого убитого зверя.
— Здесь вам никто ничего не заплатит, — сказал старик.
— Верно, но это же вредители.
— Не их вина, что мы сделали их слишком совершенными. — Старик неуверенно улыбнулся, словно примеряя новое выражение лица. — Прошу вас — Он опустился перед Крео на колени. — Не стреляйте.
Лалджи положил руку на пружинное ружье Крео.
— Оставь чеширцев в покое.
Крео нахмурился, но все-таки разрядил механизм, раздался вздох высвободившейся энергии.
Специалист по калориям произнес:
— Я Чарльз Бауман. — Он выжидающе смотрел на них, будто надеясь быть узнанным. — Я готов. Я могу ехать.
Гита умерла, теперь Лалджи был в этом уверен.
Временами он притворялся, будто может быть иначе. Притворялся, будто она могла обрести какую-то новую жизнь, даже после того, как он уехал.
Но она умерла, и он был в этом уверен.
Это был его тайный позор. Один из наростов на его жизни, приставший к нему, словно собачье дерьмо к ботинкам, умаляющий его в собственных глазах; как и тот случай, когда он кинул камень и разбил голову мальчику, без всякой причины, просто посмотреть, сможет ли, или когда он выкапывал из земли зерна и съедал одно за другим, слишком оголодавший, чтобы с кем-то делиться. А потом была Гита. Вечно была Гита. И то, как он бросил ее и уехал, чтобы жить поближе к калориям. И то, как она стояла в доках и махала, когда он отчаливал, хотя она сама оплатила его переезд.
Он помнил, как догонял ее, когда был маленьким, следуя за шуршанием шальвар-камиза,[8] а она мчалась впереди, волосы черные и черные глаза и белые-пребелые зубы. Он не знал, действительно ли она была так красива, как он помнил. В самом ли деле ее умащенная черная коса блестела так, как ему казалось, когда она сидела с ним в темноте, рассказывая истории об Арджуне и Кришне,[9] Раме[10] и Ханумане.[11] Как много всего потеряно! Он задумывался иногда, правильно ли он помнит ее лицо, или же он подменил его лицом какой-нибудь болливудской актрисы[12] со старого плаката, одного из древних плакатов, которые Шрирам держал в укромном месте в мастерской и ревностно оберегал от влияния света и воздуха.
Долгое время он думал, что вернется назад и отыщет ее. Что сможет ее накормить. Что станет посылать деньги и пищу на свою истребленную насекомыми родину, существующую ныне лишь в его воображении, в его снах, когда он в полусознательном состоянии бредил пустыней, черными и красными сари, женщинами в песках, их черными волосами и серебряными браслетами и голодом, — последние его воспоминания были полны голода.
Он фантазировал, что сумеет контрабандой перевезти Гиту через сверкающее море, поближе к бухгалтерам, высчитывающим квоты на сожжение калорий для всего мира. Поближе к калориям, как однажды сказала она сама, давным-давно. Поближе к людям, которые обеспечивали стабильные цены, учитывая возможные ошибки, и управляли энергетическим рынком, защищая его от переизбытка пищи. Поближе к этим маленьким божкам, в чьей власти, большей, чем у Кали,[13] было разрушить мир.
Но теперь она уже умерла, либо от голода, либо от болезней, он был в этом уверен.
Уж не поэтому ли Шрирам обратился к нему? Шрирам знал о его жизни больше, чем кто-либо другой. Шрирам нашел его вскоре после его приезда в Новый Орлеан, узнал в нем своего соотечественника, не одного из индийцев, давно обосновавшихся в Америке, а того, кто говорит на диалектах деревень пустыни, кто все еще помнит, какой был страна до нашествия генномодифицированного долгоносика, листоверток и корневой гнили. Шрирам спал на полу рядом с ним, когда они оба работали в намоточных мастерских за одни лишь калории, и ничего больше, и были благодарны и за это, как будто бы они сами были модифицированными долгоносиками.
Естественно, Шрирам сумел подобрать слова, чтобы отправить его вверх по течению. Шрирам знал, как сильно он хочет привести в равновесие то, что его утратило.
Они шли за Бауманом по пустым улицам, сворачивали в сохранившиеся переулки, петляли между изъеденными термитами деревянными постройками, спотыкались о бетонные фундаменты и металлическую арматуру, слишком бесполезную, чтобы брать ее с собой, и слишком упрямую, чтобы проржаветь и рассыпаться. Наконец старик заставил их протиснуться между ободранными корпусами двух ржавых автомобилей. Пройдя между ними, Лалджи с Крео ахнули.
Подсолнухи качались у них над головами. Заросли широких плотных листьев хлестали по ногам. Сухие кукурузные стебли шуршали на ветру. Бауман обернулся на их удивленные возгласы, и его улыбка, сначала неуверенная, сделалась широкой от нескрываемого удовольствия. Он засмеялся и замахал, предлагая идти дальше, продираясь через сад из цветов, и трав, и еды, цепляясь своей драной мешковиной за высохшие кочаны капусты, на которых зрели семена, и путаясь в плетях канталуп. Крео с Лалджи пробирались сквозь заросли, огибая лиловые кусты баклажанов, помидоры с алыми круглыми плодами, шуршащие оранжевые перцы. Пчелы громко гудели между подсолнухами, тяжело нагруженные пыльцой.
Лалджи остановился среди зарослей и окликнул Баумана:
— Все эти растения, они не созданы?
Бауман остановился и пошел назад, вытирая с лица пот и овощной сок, улыбаясь:
— Ну, смотря что подразумевается под словом «созданные», но нет, эти растения не принадлежат ни одной энергетической компании. Некоторые из них — даже прямые наследники настоящих. — Он снова улыбнулся. — Или очень близкие родственники.
— Как же они выжили?
— Ах, это. — Он протянул руку и сорвал помидор. — Генномодифицированные долгоносики «Ниппона», листовертки или, может быть, цибискозные бактерии, вы это имеете в виду? — Он впился зубами в помидор, и сок брызнул на его заросший седой щетиной подбородок. — На многие сотни миль нет других наследников настоящих растений. Это островок в океане «СоиПРО» и «Хай-Роста». Они образуют вокруг непреодолимый барьер. — Он задумчиво посмотрел на сад и снова откусил кусок помидора. — Но теперь, когда приехали вы, разумеется, выживут лишь немногие из этих растений. — Он покивал Лалджи и Крео. — Вы принесли с собой какую-нибудь инфекцию, а большинство этих раритетов способно выжить только в полной изоляции. — Он сорвал еще один помидор и протянул его Лалджи. — Попробуйте.
Лалджи посмотрел на блестящую алую кожицу. Откусил кусочек и ощутил разом сладость и кислоту. Улыбаясь, он протянул помидор Крео, тот откусил кусок и поморщился от отвращения.
— Меня устраивает «СояПРО».
Он отдал помидор Лалджи, который с жадностью прикончил его.
Бауман улыбнулся аппетиту Лалджи:
— Думаю, вы достаточно пожилой человек, чтобы помнить, какой была настоящая еда. Можете есть до нашего отъезда, сколько захотите. Они все равно погибнут.
Он развернулся и снова побрел через заросший сад, отводя в стороны сухие кукурузные стебли властными движениями рук.
За садом стоял разрушенный дом, накренившийся так, будто на него сел мегадонт, прогнувшиеся стены были в дырах. Обрушившаяся крыша съехала набок, с одной стороны находился водоем, глубокий и спокойный; его гладь тревожили только водомерки. Была прорыта дренажная канава, чтобы направлять дождевую воду в пруд.
Бауман обогнул пруд по краю и исчез на ведущей вниз крошащейся лестнице. К тому времени, когда Лалджи с Крео нагнали его, он уже завел пружину фонарика, и его тусклая лампочка неровным светом заливала подвал, пока раскручивалась пружина. Он еще раз завел фонарик, озираясь кругом, потом нашарил спички и зажег лампу. Замоченный в растительном масле фитиль давал высокое пламя.
Лалджи осмотрел подвал. Здесь было пусто и сыро. Пара соломенных тюфяков лежала на разбитом бетонном полу. В углу находился компьютер, корпус красного дерева и крошечный экран поблескивали, ножной привод был истерт от частого употребления. У стены располагалась кухня, где на полках буфета во множестве выстроились банки с зерном, мешочки с продуктами свисали с потолка, чтобы до них не добрались грызуны.
Старик указал на стоящий на полу рюкзак:
— Вот мой багаж.
— А что делать с компьютером? — спросил Лалджи. Бауман хмуро посмотрел на машину:
— Ничего. Он мне не нужен.
— Но он стоит денег.
— Все, что мне требуется, заключено у меня в голове. Все, что есть в этой машине, идет от меня. Мой жир превратился в знания. Мои калории с помощью ножного привода перешли в анализ данных. — Он поморщился. — Иногда я гляжу на этот компьютер, и все, что вижу, — себя, сходящего на нет. Я когда-то был толстяком. — Он многозначительно покачал головой. — Я не стану по нему скучать.
Лалджи начал протестовать, но тут Крео вздрогнул и вскинул пружинное ружье:
— Здесь еще кто-то есть.
Лалджи увидел ее, пока Крео говорил: девушку, сидящую на корточках в углу, скрытую тенью, худенькое, внимательно глядящее веснушчатое создание со слипшимися каштановыми волосами. Крео со вздохом опустил ружье.
Бауман помахал рукой:
— Выходи, Тази. Это те люди, о которых я тебе рассказывал.
Лалджи пытался понять, сколько времени она просидела вот так, в темноте подвала, дожидаясь. Она производила впечатление существа, которое почти срослось с этим подвалом: висящие сосульками волосы, темные глаза, почти поглощенные расширенными зрачками. Он развернулся к Бауману:
— Мне казалось, речь шла только о вас. Радостная улыбка Баумана угасла.
— И вы из-за этого повернете назад?
Лалджи рассматривал девушку. Кто она, любовница? Его дочь? Удочеренная дикарка? Он так и не решил. Девушка втиснула ладонь в ладонь Баумана. Старик успокаивающе похлопал ее по руке. Лалджи помотал головой:
— С ней нас будет слишком много. Я согласился доставить вас. Я продумал способ, как вас перевезти, как спрятать от пограничников и патрулей. А ее, — он махнул рукой в сторону девушки, — я брать не обязан. И вас-то везти — слишком рискованно, а с ней риску — в два раза больше? Нет. — Он энергично замотал головой. — Это невозможно.
— Но какая разница? — спросил Бауман. — Это ничего вам не стоит. Сила течения перевезет нас всех. У меня есть запас пищи на нас обоих. — Он подошел к буфету и принялся снимать стеклянные банки с бобами, чечевицей, кукурузой и рисом. — Вот, смотрите.
— Пищи у нас более чем достаточно, — ответил Лалджи.
— Надо полагать, «СоиПРО»? — покривился старик.
— А чем плоха «СояПРО»? — возмутился Крео.
Старик усмехнулся и взял банку зеленой фасоли, плавающей в рассоле.
— Конечно, ничем не плоха. Но человеку необходимо разнообразие. — Он принялся набивать рюкзак новыми банками, беззаботно позволяя им стукаться друг о друга. Он уловил презрительное сопение Крео, улыбнулся и вдруг пояснил заискивающе: — На всякий случай, если вдруг все остальное закончится. — Он закинул в рюкзак еще несколько банок.
Лалджи рубанул по воздуху рукой:
— Ваша еда не проблема. Проблема — ваша девушка, с ней опасно!
Бауман покачал головой:
— Никакой опасности. Никто даже не посмотрит на нее. Она даже может ехать не прячась.
— Нет. Вам придется ее оставить. Я ее не возьму. Старик в сомнении посмотрел на девушку. Она в ответ взглянула на старика, вырвав свою руку из его.
— Я не боюсь! Я могу пока пожить здесь. Как и раньше.
Бауман нахмурился, о чем-то задумавшись, и в конце концов покачал головой:
— Нет! — Он поднял взгляд на Лалджи: — Если она не может поехать, то не могу и я. Она кормила меня, пока я работал. На мои исследования уходили те калории, которые должны были достаться ей. Я слишком многим ей обязан. Я не оставлю ее волкам, рыщущим по округе.
Он положил руки девушке на плечи и поставил ее перед собой, между ним и Лалджи. Крео поморщился:
— Какая разница-то? Возьми ее. У нас полно свободного места.
Лалджи, не соглашаясь, покачал головой. Они с Бауманом пристально глядели друг на друга.
— А может, он отдаст нам компьютер? И мы в расчете, — предложил Крео.
Лалджи упрямо мотнул головой:
— Нет. Меня не волнуют деньги. Слишком опасно везти ее с собой.
Бауман засмеялся:
— Зачем же вы проделали весь этот путь, если боитесь? Половина энергетических компаний хочет меня прикончить, а вы говорите о какой-то опасности!
Крео нахмурился:
— О чем это он толкует?
Брови Баумана поползли вверх от изумления.
— Так вы не рассказали обо мне вашему товарищу? Крео переводил взгляд с Лалджи на Баумана и обратно.
— Лалджи?
Лалджи глубоко вздохнул, все еще не сводя взгляда с Баумана.
— Говорят, он может подорвать энергетические монополии. Может воссоздать «СоюПРО».
Крео на миг обомлел:
— Это невозможно! Бауман пожал плечами:
— Для вас, может быть. Но для человека, обладающего знаниями?.. По доброй воле посвятившего жизнь спиралям ДНК? Более чем возможно. — Он обхватил руками свою худущую девчонку и прижал к себе. Улыбнулся Лалджи. — Итак? Мы пришли к какому-нибудь соглашению?
Крео покачал головой, сбитый с толку.
— Я-то думал, ты затеял денежное дело, Лалджи, но это… — Он снова покачал головой. — Не понимаю. Как, черт побери, мы сможем сделать на таком деньги?
Лалджи одарил Крео мрачным взглядом. Бауман улыбался, терпеливо дожидаясь, а Лалджи боролся с желанием запустить лампу в лицо этому человеку, такому методичному, такому уверенному в себе, такому верному…
Он резко развернулся и пошел к лестнице.
— Бери компьютер, Крео. Если из-за его девчонки у нас будут какие-нибудь неприятности, мы вышвырнем обоих в реку, а его знания останутся с нами, — бросил он на ходу.
Лалджи помнил, как его отец отодвигал тхали,[14] притворяясь, будто бы уже сыт, хотя дал[15] едва покрывал дно стальной тарелки. Он помнил, как мать подкладывала ему лишний кусочек. Он помнил Гиту, глядевшую пристально и молча, а затем все они поднимались с общей кровати, на которой сидели с поджатыми под себя ногами, и лихорадочно принимались за какие-то дела, нарочито не обращая внимания на него, доедающего дополнительную порцию. Он помнил вкус лепешек-роти во рту, сухих, как зола, которые он все равно заставлял себя глотать.
Он помнил посадки. Он сидел на корточках рядом с отцом в знойной пустыне, весь облепленный желтой пылью, и сажал семена, которые они сберегли, сохранили, хотя их можно было бы съесть, скопили, хотя с их помощью Гита могла бы потолстеть и выйти замуж; и отец, улыбаясь, говорил:
— Эти семена породят сотни новых семян, и тогда все мы будем есть досыта.
— А сколько семян они породят? — спрашивал Лалджи.
И отец смеялся и раскидывал руки во всю ширь и казался таким сильным и большим со своими белыми крупными зубами, красными и золотыми серьгами, с морщинками вокруг глаз, когда кричал в ответ: «Сотни! Тысячи, если ты будешь молиться!» Лалджи молился, молился Ганеше и Лакшми, Кришне и Рани Сати,[16] Раме и Вишну,[17] каждому богу, какого мог припомнить, присоединяясь к множеству крестьян, делавших то же самое, пока он поливал водой из колодца крошечные зерна или стоял на страже в темноте на случай, если кто-нибудь захочет выкопать бесценные семена и перевезти на какое-нибудь другое поле.
Он сидел там каждую ночь, пока над головой не загорались холодные звезды, глядя на ряды семян, ожидая, поливая, молясь и снова ожидая до того дня, когда отец покачал головой и сказал, что все без толку. Но он и тогда еще надеялся, пока наконец не пришел на поле и не выкопал зерна, одно за другим, и обнаружил, что они уже испортились; крошечные трупики лежали у него на ладонях, сгнившие. Такие же безжизненные, как и в тот день, когда они с отцом посадили их.
Он сидел скорчившись в темноте и поедал холодные мертвые семена, понимая, что должен поделиться ими, но был не в силах обуздать свой голод и отнести зерна домой. Он сожрал их в одиночку, наполовину сгнившие и испачканные землей, тогда он впервые ощутил истинный вкус «Чистых Калорий».
В свете раннего утра Лалджи омывался в самой священной реке усыновившей его земли. Он погружался в илистые воды Миссисипи, смывая с себя груз сна, очищая себя перед лицом богов. Он забрался обратно на палубу, скользкий от воды, — с плавок текло, коричневая кожа блестела, — насухо вытерся полотенцем, глядя на противоположный берег, где восходящее солнце кидало золотистые блики на рябую поверхность реки.
Он закончил вытираться и надел новую, чистую одежду, прежде чем отправиться к своим святыням. Он зажег перед богами благовония, положил «Ю-Тех» и «СоюПРО» перед крошечными резными идолами Кришны и его супруги, щедрой Лакшми, перед Ганешей с головой слона. Он опустился перед идолами на колени, пал ниц и молился.
Они плыли на юг по течению реки, легко расставаясь с яркими осенними деньками, глядя, как листья меняют цвет и наступает холодная погода. Умиротворенное небо висело над головой и отражалось в реке, превращая грязные воды Миссисипи в мерцающую синеву, и они двигались по этой синей дороге на юг, следуя по главному потоку реки, оставляя позади бухты и притоки и забившие их караваны барж, а сила течения увлекала лодку вперед, выполняя всю необходимую работу.
Лалджи был рад этому плавному движению вниз по реке. Первые шлюзы уже остались позади, и он был свидетелем того, как вынюхивающие ищейки патрульных проходили мимо того места под палубой, где прятался Бауман. Лалджи начал надеяться, что поездка окажется такой легкой, как обещал Шрирам. Тем не менее он молился дольше и горячее каждый раз, когда полицейские патрули проносились мимо на своих скоростных судах, и он подкладывал дополнительную порцию «СоиПРО» идолу Ганеши, в отчаянной надежде, что Устранитель Препятствий и дальше будет их устранять.
К тому времени, когда он завершил утреннее священнодействие, зашевелились все остальные. Крео спустился вниз и отправился на камбуз. Бауман пришел вслед за ним, ругая «СоюПРО» и предлагая что-то из наследников прежних культур, которых Крео с подозрением отверг. Тази сидела на палубе, закинув в воду удочку, в надежде выловить одного из увесистых неповоротливых живолососей, которые время от времени били хвостами по днищу судна в теплой мутной воде.
Лалджи отвязал лодку и занял свое место у руля. Он снял ступоры с пружин, и лодка выбралась на стремнину, накопленные джоули сочились из драгоценных пружин ровным потоком по мере высвобождения молекул, одной за другой, надежные от первого витка до последнего. Он пристроил лодку между неуклюжими зерновыми баржами и снова застопорил пружины, ложась в дрейф.
Бауман с Крео вернулись на палубу, Крео как раз спрашивал:
— …знаешь, как вырастить «СоюПРО»? Бауман засмеялся и сел рядом с Тази.
— И что с того толку? Патрули найдут поля, потребуют лицензии, а если их не предъявишь, поля будут жечь, жечь и снова жечь.
— Так какая от тебя польза?
Бауман улыбнулся и ответил вопросом на вопрос:
— «СояПРО», каким самым ценным качеством она обладает?
— Высокой калорийностью.
Резкий смех Баумана разнесся над рекой. Он взъерошил волосы Тази, и они обменялись изумленными взглядами.
— Ты насмотрелся рекламных плакатов «Агро-Гена»! «Энергия — миру», как же, как же… О, «Агро-Ген» и им подобные должны просто обожать вас. Таких легковерных, таких… сговорчивых. — Он снова засмеялся и покачал головой. — Нет. Любой может создать высококалорийные растения. Что еще?
Крео, уязвленный, сказал:
— Они устойчивы к долгоносику.
На лице Баумана появилось хитрое выражение.
— Уже ближе, да. Непросто создать растение, устойчивое к долгоносику, к листовой ржавчине, почвенным бактериям, поражающим корни… Сколько напастей одолевает нас в современном мире, сколько тварей покушается на наши растения, но подумай еще, за что мы больше всего любим «СоюПРО»? Мы, «Агро-Ген», который «обеспечивает мир энергией»? — Он махнул рукой на караван барж, раскрашенных рекламой «Супервкуса». — Что делает «Супервкус» настолько идеальным с точки зрения перспектив энергетических компаний? — Он повернулся к Лалджи. — Ты-то ведь знаешь, индиец, верно? Разве не поэтому ты проделал такой большой путь?
Лалджи пристально посмотрел на него. Когда он заговорил, голос его звучал хрипло:
— Их зерна стерильны.
Бауман смотрел Лалджи в глаза. Улыбка сошла с его лица. Он наклонил голову:
— Да. Именно так, именно. Генетический тупик. Дорога в один конец. Мы теперь платим за привилегию, которую природа дала нам добровольно, в обмен всего лишь на незначительный труд. — Он снова взглянул на Лалджи. — Прости. Я должен был подумать, прежде чем задавать тебе этот вопрос. Наверное, ты больше, чем кто-либо из нас, знаешь цену всем оптимистическим заявлениям.
Лалджи покачал головой:
— Можешь не извиняться. — Он кивнул на Крео. — Расскажи ему все остальное. Расскажи ему, что ты умеешь. Что ты, как мне сказали, можешь.
— Кое-что лучше оставлять не высказанным вслух. Лалджи это не обескуражило.
— Расскажи ему. Расскажи мне. Еще раз. Бауман пожал плечами.
— Если ты ему доверяешь, значит, я тоже должен ему доверять, верно? — Он повернулся к Крео. — Ты ведь знаешь чеширцев?
Крео фыркнул, выражая свое отвращение.
— Они вредители сельского хозяйства.
— Ах да! По голубой банкноте за каждого мертвого зверя. Я и забыл. Но что же делает наших чеширцев такими паразитами?
— Они линяют. Они уничтожают птиц.
— И?.. — подталкивал его Бауман. Крео пожал плечами.
— Подумать только, ради таких людей я даром растрачиваю жизнь на исследования, а свои калории — на компьютерные циклы. — Бауман покачал головой. — Ты назвал чеширцев заразой, действительно, они и есть зараза. Нашлось несколько зажиточных заказчиков, одержимых Льюисом Кэрроллом, и чеширцы вдруг появились повсюду, прямые наследники обычных кошек, убивающие птиц, вопящие по ночам, но, что самое важное, их потомки, в поразительных девяноста двух процентах из ста, тоже чеширцы, чистокровные, абсолютные. Мы создали новый вид в мгновение ока, с точки зрения эволюции, и популяция певчих птиц исчезла почти с той же скоростью. Из-за более совершенного хищника, и, что самое важное, хищника, который размножается.
С «СоейПРО», с «Ю-Техом» энергетические компании могут выдавать патенты на растения, использовать полицию по охране интеллектуальной собственности и чувствительных псов, чтобы вынюхивать то, что им принадлежит, но даже полицейские патрули могут только лишь инспектировать все эти акры. Самое главное — семена стерильны, это вещь в себе. Кое-кто может украсть немного, там или тут, как делаете вы с Лалджи, но в конечном счете это всего лишь небольшие потери от общих чудовищно больших прибылей, поскольку никто, кроме энергетических компаний, не может вырастить из этих семян растения.
Но что произойдет, если мы придадим «СоеПРО» новые качества, тайком, как мужчина приходит к жене лучшего друга? — Он взмахнул руками, указывая на зеленые поля, тянущиеся вдоль реки. — Что, если кто-нибудь посеет неких бастардов среди этих лицензированных драгоценностей, окружающих нас? До того, как энергетические компании соберут урожай и разошлют клиперы своей могучей флотилии, груженные сжатым зерном по всему миру, до того, как лицензированные дилеры доставят патентованный урожай своим покупателям. Какого рода семена они в таком случае соберут?
Бауман начал загибать пальцы на руке, перечисляя:
— Устойчивые к долгоносику и листовертке, да. Высококалорийные, да, разумеется. Генетически отличные и, следовательно, незапатентованные? — Он коротко улыбнулся. — Может быть. Но самое главное, способные давать потомство. Необычайно плодовитые. Зрелые, калорийные, потенциально способные к воспроизводству. — Он подался вперед. — Только представьте. Семена, развезенные по всему миру теми же самыми рогоносцами, которые все время сжимали их в кулаке, все эти семена, жаждущие размножаться, жаждущие дать чудесное потомство с полным набором тех самых качеств, которыми в первую очередь им запрещалось обладать! — Он захлопал в ладоши. — О, что это будет за зараза! И с какой скоростью она распространится!
Крео смотрел во все глаза, на его лице отображалось нечто среднее между ужасом и восторгом.
— И ты можешь это сделать?
Бауман засмеялся и снова захлопал в ладоши:
— Я стану новым Джонни Яблочное Зернышко![18]
Лалджи проснулся как от толчка. Вокруг него по реке растекалась почти непроницаемая тьма. На зерновых баржах горело несколько сигнальных огней, поддерживаемых энергией течения, огибающего их неповоротливые туши. Вода била в борта лодки и плескала на берег, к которому они причалили. Рядом с Лалджи, завернувшись в одеяла, лежали все остальные.
Что его разбудило? Вдалеке перекликалась в темноте пара деревенских петухов. Лаяла собака, выведенная из себя какими-то таинственными запахами или звуками, которые заставляют собак порывисто вскакивать и охранять свою территорию. Лалджи закрыл глаза и прислушался к мягкому плеску воды, к звукам далекой деревни. Если напрячь воображение, можно представить, что он встречает рассвет рядом с другой деревней, далеко-далеко отсюда, давным-давно исчезнувшей.
Почему же он проснулся? Он снова открыл глаза и сел. Напрягая зрение, всмотрелся в темноту. На черном фоне реки возникла тень, движущееся пятно.
Лалджи затряс Баумана, зажав ему рот рукой.
— Прячься! — прошептал он.
Рядом с ними вспыхнули огни. Глаза Баумана широко раскрылись. Он скинул с себя одеяло и пополз к своему убежищу. Лалджи бросил его одеяло к своим, пытаясь скрыть количество спящих на палубе, когда ярко вспыхнули новые огни, заскользили по палубе, пригвождая их, как насекомых к доске коллекционера.
Отбросив игру в таинственность, лодка с полицейским патрулем отпустила пружины и рванулась к ним. Затормозила перед их лодкой, прижав их к берегу, и полицейские полезли на борт. Трое и две собаки.
— Всем оставаться на местах! Держать руки на виду! Лучи фонариков заскользили по палубе, ослепительно яркие.
Крео с Тази выползли из-под своих одеял и встали, изумленные. Ищейки заворчали и рванулись с поводков. Крео попятился от них, выставив перед собой руки, защищаясь. Один из полицейских осветил их фонариком.
— Кто владелец лодки? Лалджи перевел дыхание:
— Лодка моя. Это моя лодка. — Фонарик развернулся и ослепил его. Он сощурился от яркого света. — Мы сделали что-то не так?
Старший, капитан, ничего не ответил. Остальные полицейские рассыпались по палубе, водя фонариками, освещая людей на борту. Лалджи заметил, что все они, за исключением старшего, сущие мальчишки, у них едва начали пробиваться усы и бороды. Просто новобранцы, и только пружинные ружья и бронежилеты придают им весомости.
Двое из них пошли к трапу вместе с собаками, а четвертый перепрыгнул на борт с отлично оснащенной полицейской лодки.
Лучи фонариков исчезли в недрах суденышка Лалджи, вытянутые тени заплясали по трапу. Крео, пятясь, умудрился каким-то образом добраться до того места, где находился их тайник с пружинными ружьями. Его руки как бы невзначай застыли рядом со щеколдами. Лалджи шагнул к капитану, в надежде предупредить какую-нибудь безрассудную выходку со стороны Крео. Капитан посветил на него фонариком.
— Что вы здесь делаете?
Лалджи остановился и беспомощно развел руками:
— Ничего.
— Ничего?
Лалджи гадал, сумел ли Бауман спрятаться.
— Я хотел сказать, мы просто причалили, чтобы переночевать.
— Почему вы не остановились на Ивовой излучине?
— Я не знаю этой части реки. Темнело. Мне не хотелось, чтобы нас раздавили баржи. — Он заломил руки. — Я занимаюсь продажей антиквариата. Мы осматривали старые пригороды на севере. Это же не незакон…
Его прервал крик снизу. Лалджи с тоской закрыл глаза. Миссисипи станет местом его погребения. Ему никогда не вернуться в воды Ганга.
Полицейские поднялись на палубу, таща за собой Баумана.
— Смотрите, кого мы нашли! Думал спрятаться под палубой! Бауман пытался сбросить их руки.
— Понятия не имею, о чем вы говорите…
— Заткнись! — Один из мальчишек ударил Баумана дубинкой в живот.
Старик согнулся пополам. Тази рванулась к ним, но капитан перехватил ее и крепко держал, освещая фонариком лицо Баумана. Он ахнул:
— В наручники его! Он в розыске. Держать их под прицелом! — Капитан хмуро поглядел на Лалджи. — Торговец антиквариатом! Я тебе почти поверил. — Своим подчиненным он сказал: — Это потрошитель генов. С огромным стажем. Посмотрите, нет ли на борту чего еще. Каких-нибудь дисков, компьютеров, бумаг.
— Внизу стоит компьютер с ножным приводом, — сообщил ему один из полицейских.
— Несите сюда.
Мгновение, и компьютер был на палубе. Капитан осмотрел свою добычу.
— В наручники всех.
Один из мальчишек-полицейских заставил Лалджи опуститься на колени и принялся пригибать его к палубе, пока ворчащая ищейка не оказалась над ними.
Бауман проговорил:
— Мне очень жаль. Наверное, вы совершили ошибку. Наверное…
Вдруг капитан заорал. Фонарики полицейских повернулись на звук. Тази висела на руке капитана, вцепившись в нее зубами. Он стряхивал ее, как будто она была собакой, стараясь другой рукой спустить пружину пистолета. Какой-то миг все глядели на борьбу между девушкой и довольно крупным мужчиной. Кто-то — Лалджи решил, что это кто-то из полицейских, — засмеялся. Затем Тази отлетела в сторону, капитан спустил пружину, и послышался резкий свист дисков. Фонарики упали на палубу и покатились, выбрасывая дрожащие лучи света.
В темноте просвистели еще диски. В свете перекатывающегося фонарика было видно, как упал капитан, свалился на компьютер Баумана, серебристые диски торчали из его бронежилета. Он завалился назад вместе с компьютером. Снова темнота. Всплеск. Собаки выли, то ли спущенные с цепи и готовые к нападению, то ли тоже раненные. Лалджи упал и распластался на палубе, когда над головой пожужжал металл.
— Лалджи! — Это был голос Крео.
Ружье проехало по доскам палубы. Лалджи пополз на звук.
Луч света одного из фонариков обрел уверенность. Капитан сидел на палубе, черные струйки крови потянулись ото рта, когда он поднял пистолет и прицелился в Тази. Бауман бросился на свет, закрыв девушку своим телом. Он согнулся, когда диски впились в него.
Рука Лалджи натолкнулась на пружинное ружье. Он продолжал шарить по палубе. Пальцы сомкнулись на ружье. Он взвел пружину, прицелился на звук шагов и спустил пружину. Тень одного из полицейских, мальчишки, поднялась над Лалджи, и тот упал, обливаясь кровью, умерев раньше, чем его тело успело коснуться палубы.
Кругом стояла тишина.
Лалджи ждал. Никакого движения. Он все равно ждал, вынуждая себя дышать ровно, напряженно вглядываясь в темноту, куда не попадал свет фонариков. Неужели он один остался в живых?
У раскиданных по палубе фонариков, одного за другим, кончился весь заряд. Темнота окружила их. Лодка полицейских мягко ударялась о борт их лодки. Ветер шуршал в ивах на берегу, принося с собой пронзительный запах рыбы и травы. Стрекотали кузнечики.
Лалджи поднялся. Ничего. Никакого движения. Он медленно проковылял по палубе. Оказывается, он умудрился в какой-то момент подвернуть ногу. Лалджи нащупал один из фонариков, заметил его по тусклому металлическому блеску, и завел. Поводил дрожащим лучом света по палубе.
Крео. Здоровый светловолосый парень был мертв, диск угодил ему в горло. Лужа крови натекла в том месте, где диск перерезал артерию. Рядом с ним, исполосованный дисками, лежал Бауман. Его кровь была повсюду. Компьютер исчез. Свалился за борт. Лалджи опустился на корточки рядом с телами, вздыхая. Убрал с лица Крео окровавленные косицы. Он был быстр. Точно так быстр, как сам о себе говорил. Уложить троих полицейских заодно с собаками! Лалджи снова вздохнул.
Послышалось хныканье. Лалджи направил фонарик на источник звука, боясь того, что может ему открыться, но это оказалась всего лишь девушка, судя по всему не пострадавшая, подбирающаяся к телу Баумана. Она подняла взгляд на свет фонарика Лалджи, никак не отреагировала на него и опустилась рядом с Бауманом. Она зарыдала, затем заставила себя замолчать. Лалджи зафиксировал пружину фонарика, позволяя темноте окутать их.
Он снова прислушивался к ночным звукам, молясь Ганеше, чтобы на реке не оказалось другого патруля. Глаза привыкли к темноте. На черном фоне проступила тень девушки, горестно стоящей на коленях над искалеченными телами. Он помотал головой. Сколько людей умерли из-за какой-то идеи! Такой человек, как Бауман, мог бы приносить пользу. Какие напрасные жертвы! Он прислушивался, не приближается ли другая лодка, но не слышал ничего. Видимо, одинокий патруль, чьи действия не были согласованы с другими. Не повезло. Вот и все. Одно маленькое невезение разорвало цепочку удач. Боги капризны.
Лалджи захромал к швартовам и начал отвязывать их. Тази сама подошла к нему, ее маленькие ручки принялись неумело дергать узлы. Он пошел к рулю и отпустил пружины. Лодка дернулась, когда сцепились шестерни, и они вылетели на середину черной реки. Он час несся на пружинах, впустую растрачивая джоули, только бы оказаться подальше от места убийства, затем оглядел берега, отыскал бухту и бросил якорь. Тьма была почти непроницаемой.
После того как Лалджи спрятал лодку, он нашел грузы и привязал их к ногам полицейских. То же самое проделал с собаками, потом принялся сталкивать тела с палубы. Вода легко поглотила их. Казалось нечистым выбрасывать их столь бесцеремонно, но он не намеревался тратить время на их похороны. Если повезет, тела останутся под водой и рыбы объедят их до полного исчезновения.
Когда с полицейскими было покончено, он постоял немного над Крео. Какая невероятная быстрота реакции! Он столкнул
Крео за борт, жалея, что не может устроить для него погребальный костер.
Лалджи принялся драить палубу, смывая оставшуюся кровь. Взошла луна, заливая его бледным светом. Девушка сидела над телом своего покровителя. Лалджи не мог и дальше обходить ее со своей шваброй. Он опустился на колени рядом с ней:
— Ты понимаешь, что и его надо кинуть в реку? Девушка не отвечала. Лалджи воспринял это как согласие.
— Если ты хочешь оставить себе что-нибудь из его вещей, бери сейчас. — Девушка покачала головой. Лалджи, посомневавшись, положил руку ей на плечо. — Нет ничего позорного в том, чтобы быть погребенным в реке. Наоборот, это даже честь, оказаться в такой реке.
Он ждал. В конце концов она кивнула. Он поднялся и подтащил тело к краю лодки. Привязал к нему груз и перебросил ноги за борт. Старик выскользнул из его рук. Девушка молчала, уставясь на то место на воде, где исчез Бауман.
Лалджи домыл палубу. Утром придется вымыть еще раз и присыпать пятна песком, но пока что сойдет и так. Он начал выбирать якоря. Через мгновение девушка принялась делать то же самое, помогая. Лалджи сел у руля. «Какие напрасные жертвы! — думал он. — Какие ужасные напрасные жертвы!»
Течение медленно вынесло узкую лодку на стремнину. Девушка подошла и села на палубу рядом с ним.
— Они выследят нас? Лалджи пожал плечами:
— Если повезет? Нет. Они будут искать что-нибудь покрупнее нашей лодки, учитывая, сколько их людей пропало. Нас теперь всего двое, мы для них покажемся совсем мелкой, не имеющей отношения к делу рыбешкой. Если повезет.
Она кивнула, вроде бы пытаясь осознать информацию.
— Он ведь меня спас. Я сейчас уже была бы мертвой.
— Я видел.
— Ты посеешь семена?
— Теперь, когда нет его, того, кто мог бы вырастить их, никто не сможет посеять эти семена.
Тази нахмурилась:
— Но у нас их очень много.
Она поднялась и скользнула вниз по трапу. Девушка вернулась, волоча за собой рюкзак Баумана с запасами провизии. Принялась вытаскивать банки из рюкзака: рис и кукуруза, соевые бобы и зерна пшеницы.
— Это же просто еда, — запротестовал Лалджи. Тази упрямо покачала головой:
— Это и есть семена Джонни Яблочного Зернышка. Я не должна была тебе говорить. Он до самого конца не верил, что ты заберешь нас. Что возьмешь меня. Но ты ведь тоже можешь посеять их, правда?
Лалджи нахмурился и поднял банку с кукурузой. Зерна лежали, плотно прижатые друг к другу, их были сотни, все до единого без патента, все до единого — генетическая инфекция. Он закрыл глаза, и перед его мысленным взором предстало поле: ряд за рядом шуршали зеленые растения, и его отец, смеющийся, с широко раскинутыми в стороны руками, кричал: «Сотни! Тысячи, если ты будешь молиться!»
Лалджи прижал банку к груди, и его губы медленно растянулись в улыбке.
Узкая лодка шла вниз по течению, крошечное пятнышко в потоке Миссисипи. По сторонам от нее поднимались чудовищные тени зерновых барж, все они шли на юг мимо плодородных берегов к воротам Нового Орлеана; все они размеренно двигались в далекий безбрежный мир.
Человек с желтой карточкой[19]
Блеск мачете, горящий склад. Пылают коробки с джутом, тамариндом и сжатыми пружинами. Всюду эти люди: зеленые повязки на головах, окровавленные лезвия, яростные лозунги… Их крики эхом разлетаются над улицами. Первый Сын убит. Телефон жены не отвечает. Лица дочерей… Превращены в кашу, похожи на лопнувшие гнилые плоды.
Пожар усиливается. Отовсюду валит черный дым. Тран бежит по складским помещениям, мимо офисов, мимо тиковых корпусов вычислительных машин с ножными приводами, мимо груд пепла, оставшихся от сожженных документов с именами тех, кто субсидировал «Три-Просперитис».
Легкие едва справляются с жаром и дымом. Ворвавшись в собственный офис, Тран бросается к решетчатым жалюзи, дрожащими руками нащупывает медные задвижки. Склад горит, за спиной — толпа смуглых людей уже ломится в двери, размахивая липкими от крови мачете… Он просыпается, тяжело дыша.
Жесткий угол ступени давит в спину. На лице — чья-то липкая, потная нога. Тран скидывает ее. Влажная от жары кожа блестит в темноте — только так и различишь шевелящиеся вокруг тела. Они толкаются, пускают газы, охают, переворачиваются с одного бока на другой… Плоть к плоти, кость к кости. Живые и задушенные жарой. Вповалку.
Кто-то кашляет и харкает мокротой рядом с лицом Трана. Тело его слиплось с чужими — голыми и потными. Он изо всех сил сопротивляется клаустрофобии. Лежи спокойно, дыши глубже, забудь о жаре. И пусть разум в смятении — ты выжил посреди духоты и мрака.
Он не смыкает глаз, пока другие спят. В нем еще теплится жизнь, тогда как остальные уже подобны мертвецам. Он принуждает себя лежать тихо и слушать.
Сигналы велосипедных звонков. Внизу, далеко, за тысячи тел отсюда, на расстоянии в целую жизнь… Кто-то едет на велосипеде и сигналит. Значит, надо поторапливаться. Тран высвобождается из-под массы переплетенной человеческой плоти, вытягивает за собой тряпичный мешок со всем своим скарбом. Похоже, он опаздывает. А ведь именно сегодня этого нельзя делать. Закинув рюкзак на костлявое плечо, он начинает спускаться по лестнице, ищет путь в каскаде спящих тел… Переставляет ноги между семьями, любовниками, скрюченными голодными полупризраками, желающими ему оступиться и сломать себе шею… Шаг — на ощупь, шаг — на ощупь.
Вслед несутся проклятия. На лестничной площадке, среди счастливчиков, спящих в горизонтальном положении, Тран переводит дух и снова пускается «вброд». Ниже, ниже, минуя повороты, по ковру из тел соотечественников… Шаг — на ощупь, шаг — на ощупь. Еще поворот. Внизу — серый просвет. Свежий воздух уже ласкает лицо. Свалка безымянной плоти редеет, теперь можно разглядеть, что это мужчины и женщины растянулись на глухой лестнице; их подушки — грязный бетон. Серый свет становится золотым. Велосипедные звоночки бренчат все ближе. Звук такой чистый, как сигнал об эпидемии цибискоза.
Из плена высотки — на запруженную людьми улицу. Здесь торговцы вареным рисом, ткачи конопляных изделий, развозчики картофеля. Тран опирается ладонями о колени и тяжело дышит, благодарный за каждый вдох, пусть и наполненный уличной пылью и запахом утоптанных нечистот. По спине струится пот. Соленые хрустальные капли падают с кончика носа, усеивают влажными точками красную брусчатку. Жара убивает людей. Убивает стариков. Но пекло позади; он выбрался, не превратился в жаркое, хотя сезон засухи в самом разгаре.
Поток велосипедистов напоминает стаю карпов; люди спешат на работу. За Траном — тень высотки. Сорок этажей нестерпимой духоты, лестничных изгибов и гнили. Выбитые окна, разграбленные квартиры. Останки былого величия времен экспансии. Теперь это гроб, жаровой шкаф. Ни электричества, ни систем кондиционирования… Никакой защиты от слепящего тропического солнца. Бангкок загнал всех беженцев под самое небо и желает, чтобы они оставались там. Но Тран все еще жив. Он вновь спустился с небес на землю, несмотря на Навозного Короля, «белые рубашки» и преклонный возраст.
Он распрямляет спину. Лавочники помешивают лапшу в котелках и снимают пароварки, полные баоцзы,[20] с бамбуковых поддонов. От высокобелковой каши из серого риса «Ю-Текс» тянет порченой рыбой и маслами жирных кислот. Желудок Трана сжимается от голода, и вязкая слюна наполняет рот — единственная реакция, на которую способно его обезвоженное тело. Чеширцы, эти воришки, снуют под ногами у торговцев, как акулы, надеясь перехватить кусочек-другой. Их быстрые мерцающие силуэты-хамелеоны шныряют тут и там: цвет хаки, потом окрас сиамских кошек, затем — рыжие полосы… После они окончательно сливаются с бетоном и толпой голодных людей, их конкурентов.
Метановые горелки подсвечивают зеленым кипящие котелки; те жарко бурлят, источают новые ароматы, едва лапша попадает в кипящее масло. Тран заставляет себя отвернуться.
Он пробирается сквозь плотную толпу с рюкзаком за спиной, не смотрит, кого задел, не слышит, что кричат ему вслед. Калеки, ютящиеся у дверей, шевелят изувеченными конечностями, просят милостыню. Мужчины горбятся на табуретах, глядя на знойное марево, и по очереди затягиваются крохотными самокрутками из листьев желтого табака, найденных на мусорных отвалах. Женщины сбились в кучки и тихо переговариваются, сжимают в пальцах желтые карточки, на случай, если явятся «белые рубашки» для проверки регистрации.
Всюду, насколько хватает глаз — люди с желтыми карточками: целая раса переселенцев, бежавших из Малайзии в Таиланд. Для «белых рубашек» из министерства среды — это лишь очередная эпидемия, вроде вызванных цибискозом или ржавчинными грибами. В одном ряду с нашествием популяции генно-модифицированного долгоносика. И методы борьбы — соответствующие.
Желтые карточки, желтые люди. Хуан жэнъ[21] заполонили все пространство вокруг. И шанс покинуть пределы этой безликой толпы может быть вновь упущен. Тот единственный за многие месяцы шанс для беженца-китайца — для человека с желтой карточкой. Неужели слишком поздно? Тран сталкивается с продавцом крыс, и запах жареной плоти вызывает новый ком густой слюны во рту. Чуть дальше по улице — водяной насос. Тран останавливается там, пытается отдышаться.
К насосу выстроилась очередь — старики, молодые женщины, матери с детьми.
Тран чувствует, как подкашиваются ноги. Он придерживается рукой за стену дома. Если бы у него были силы — если бы он наелся вчера досыта, или хотя бы пару дней назад, — он завыл бы зверем и запинал бы свой рюкзак до состояния мочалки. Но калорий слишком мало. Очередная возможность ускользнет легко, как песок сквозь пальцы, и не заметишь. Проклятая лестница! Не надо было жалеть, надо было отдать Навозному Королю последний бат, чтобы получить место рядом с окнами, выходящими на восток. Смог бы встать раньше.
Но ведь это единственная монета! Возможно, единственный шанс на будущее. Как часто твердил он своим сыновьям: чтобы делать деньги, следует их тратить! Но пугливый беженец с желтой карточкой, которым он стал, счел благоразумным придержать оставшийся бат. Словно последняя крыса, он припрятал добро, сэкономив на ночлеге. А ведь должен был, как тигр, бросить вызов «белым рубашкам» с их дубинками, несмотря на комендантский час! Теперь что же… Он опаздывает, стоит, насквозь пропитанный вонью лестницы, а впереди еще десять человек, каждый из которых напьется, почистит зубы и наполнит ведро мутной водой из реки Чао Прайя, прежде чем подойдет очередь Трана.
Было время, когда он требовал пунктуальности от своих подчиненных, собственной жены и сыновей, от наложниц, но тогда у него имелись великолепные наручные часы, так что он мог положиться на точный ход стрелок. Время от времени он подводил механизм, вслушивался в сладкое тиканье и бранил сыновей за праздное отношение к обязанностям.
Не стань он такой развалиной, безмозглой и медлительной, он все предусмотрел бы. Бунт «зеленых повязок» тоже. И когда только его мозг превратился в труху?
Один за другим люди в очереди завершают свои утренние омовения. Женщина с беззубым ртом и серыми наростами фа гань за ушами наполняет ведро и уступает место Трану.
Ведра у него нет. Только мешок. Бесценная ноша. Он кладет его перед собой и посильнее запахивает саронг на костлявых бедрах, прежде чем опуститься на корточки под насос. Иссушенной рукой берется за рычаг. Мощный бурый поток воды обрушивается на его тело. Речная благодать. Под ее напором кожа Трана провисает складками, как у лысой кошки. Он раскрывает рот и глотает не очищенную от песка воду, трет зубы пальцем, подспудно размышляя, какую инфекцию может сейчас подхватить. Не важно. Он надеется на лучшее. Все, что остается.
Дети наблюдают за Траном, пока их матери роются в кучах манговой кожуры и шкурок тамариндов с наклейками «Чистых Калорий» и «РедСтар» в надежде найти кусочки фруктов без цибискозных пятен, lllmt.6… Или это 111 mt.7? А может, mt.8? Когда-то Тран мог определить по пятнам конкретный вид цибискоза, которым заражен продукт. Он был способен предсказать, погибнет ли урожай, знал, испорчен ли семенной фонд нового. Своим успехом он был обязан этому знанию: клиперы Трана пускались в плавание, груженные только здоровыми семенами и «чистыми» продуктами питания. Но все это было вечность назад.
Трясущимися руками он раскрывает мешок и достает одежду. Откуда эта дрожь? Возраст или волнение? Чистая одежда. Дорогая. Белоснежный льняной костюм богача.
Вещь не всегда принадлежала Трану, но, завладев ею, он бережно хранил ее. Как раз для такого случая. Не продал, когда положение было особенно отчаянным, не надел, когда тело прикрывали лохмотья…
Балансируя на одной ноге, он натягивает брюки; торопливо застегивает рубашку. Внутренний голос подгоняет, твердит, что время уходит.
— Собираешься продать? Будешь расхаживать тут, пока кто-нибудь с достаточным количеством мяса на костях у тебя его не купит?
Тран поднимает взгляд — хотя нужды нет, ему знаком этот голос. И все равно смотрит, не может удержаться. Прежде он был тигром. Теперь — запуганная мышка, которая шарахается в тень при первом признаке опасности. И вот перед ним Ма. Сияющий, раскормленный, пышущий здоровьем, с ухмылкой на лице.
— Смотришься, как манекен в «Палаван Плаза».
— Не знаю. Для меня там слишком дорого. — Тран продолжает одеваться.
— Да? А костюм как из бутика. Где взял? Тран молчит.
— Да брось, кого тут дурачить? Размер больше твоего раз в десять!
— Не всем же быть толстыми и везучими, — шепчет Тран.
Он что, всегда шептал? Всегда был размазней, крысиной падалью, едва ворочающей языком и кряхтящей при малейшем усилии?! Вроде бы нет. Но слишком тяжело помнить, каким должен быть рык настоящего тигра. Он повторяет, пытаясь совладать с голосом:
— Не всем же быть везучими, как Ма Пин, который живет в пентхаусе, под боком у самого Навозного Короля.
Это не рык. Это шорох тростника.
— Везучими? — Ма хохочет. Такой молодой. Такой самодовольный. — Я заслужил. Не ты ли мне всегда говорил, что удача и успех — это разные вещи? Что люди сами творят свою судьбу?
Он снова смеется.
— А на тебя посмотреть… Тран сжимает зубы:
— Да те, кто лучше тебя, — пали. Все тот же жалкий шепот.
— А те, кто лучше тебя, — вознеслись.
Пальцы Ма пробегают по запястью, касаются часов, прекрасного золотого хронометра, старинного, с бриллиантами. Это «Ролекс». Ушедшее время… Другое место, другой мир. Оцепенев, Тран смотрит на часы, словно впавшая в транс змея. И не может отвести взгляда.
Ма лениво улыбается.
— Что, нравятся? Нашел в одной антикварной лавке. Где-то мы их уже видели, правда?
Тран вскипает от злости. Хочет ответить, но оставляет эту идею. Время не ждет. Покончив с пуговицами, он надевает пиджак. Поправляет редкие пряди на голове. Расческа не помешала бы… Тран морщится. Глупо желать большего. Костюма достаточно. Он надеется.
Ма насмешливо хмыкает:
— Теперь ты вылитый Мистер Важная Шишка.
«Не обращай внимания», — велит внутренний голос. Тран достает свой последний бат из мешка, злосчастную монету, из-за которой он теперь и опаздывает, и опускает ее в карман.
— Вижу, торопишься. У тебя встреча?
Тран спешит прочь, стараясь не выдать волнения, пока обходит тушу Ма.
Тот кричит ему вслед:
— Куда намылился, Мистер Важная Шишка? Мистер Три-Просперитис! Есть чем поделиться с остальными?
Окружающие оборачиваются на крики. Голодные желтые лица. Голодные рты. Куда ни глянь — люди с желтыми карточками. И все они таращатся на Трана. Выжившие. Мужчины. Женщины. Дети. Все вдруг узнают его. Ведь он легенда. Другая одежда, издевки Ма — и вот он внезапно восстает из пепла забвения. Чтобы попасть под настоящий шквал насмешек:
— Эй! Мистер Три-Просперитис! Шикарные тряпки!
— Огонька не найдется, Мистер Важная Шишка?
— Куда разоделся?
— Женитесь?
— Десятую наложницу берете?
— Никак на работу?
— Мистер Важная Шишка! Для меня местечка не найдется?
— Куда торопишься? Прежняя конторка еще фурычит?
У Трана горит шея. Он пытается избавиться от накатившего волной страха. К счастью, даже если они и увяжутся следом, шансы не на их стороне. Впервые за полгода он чувствует уверенность — у него есть опыт и знания. Это большое преимущество. Лишь бы хватило времени.
Он проталкивается сквозь утреннюю толчею Бангкока. Мимо едут велосипеды, рикши, заводные скутеры. Тран обливается потом. Дорогая рубашка промокла насквозь, даже пиджак уже влажный. Он снимает его. Седые волосы липнут к покрытой старческими пятнами коже. Он то и дело останавливается, переводит дыхание; ноют щиколотки, изношенное сердце бешено стучит в груди, подступает одышка.
Придется на пресловутый бат нанять велорикшу. Но Тран никак не может решиться. Вдруг он уже опоздал? В таком случае деньги будут потрачены впустую, и Тран останется без ужина. А с другой стороны, какой толк от потерявшего вид, пропитанного потом костюма?
Одежда делает человека, повторял он сыновьям. Первое впечатление — самое важное. Начни достойно — и ты в фаворитах. Кого-то обойдешь благодаря знаниям и опыту, но люди — это прежде всего животные. Презентабельная внешность. Дорогой запах. Пусть останутся довольны первым впечатлением. После, заполучив их благосклонность, делай предложение.
Не потому ли Тран поколотил Второго Сына, когда тот притащился домой с татуированным красным тигром на плече, как у пищевых гангстеров? Не потому ли заказал дочери каучуковые скобы из Сингапура, чтобы ее зубы были прямые и острые?
«И не потому ли малайзийские „зеленые повязки" ненавидели нас, китайцев? Потому что мы хорошо выглядели? Выглядели дорого? Говорили грамотно и работали до седьмого пота, пока они слонялись без дела?»
Тран глядит вслед группе заводных скутеров, прошмыгнувших мимо. Все они собраны на заводах китайцев Таиланда. Гениальные, быстроходные изобретения — сжатая пружина в мегаджоуль, маховик, педали и фрикционная муфта для выработки кинетической энергии. Их производство под полным контролем чаочжоу.[22] А ведь в жилах Таиланда нет ни капли крови этой этнической группы. Тем не менее чаочжоу прижились здесь, хотя и прибыли в Королевство как фаранги.[23]
«Если бы мы ассимилировались в Малайзии, как чаочжоу в Таиланде, выжили бы мы?»
Тран гонит прочь эту мысль. Невозможно. Его семье пришлось бы принять ислам, предкам нашлось бы место только в мусульмайском аду. Нет-нет. Возможно, такова карма его соотечественников — быть уничтоженными. Вознестись до небес, покорить города Пенанга и Малакки,[24] всего западного побережья Малайзийского полуострова. Познать короткий век славы и погибнуть.
Одежда делает человека. Или убивает его. Теперь Тран понимает. Белоснежный, шитый на заказ костюм от братьев Хван — это только тряпка. Старинный золотой механизм на запястье не стоит ничего, если лишен главного назначения — привлекать внимание. До сих пор ли, думает Тран, безупречные зубы Первого Сына лежат среди пепла складов компании «Три-Просперитис»? А великолепные часы Второго Сына… Теперь они привлекают разве что акул и крабов: остались навеки на дне океана вместе с затопленными клиперами.
Он должен был предвидеть, не упустить момент, когда взъярилась жаждущая крови подпольная секта националистов. Так же как и человек, за которым Тран шел два месяца назад, должен был понимать, что костюм его не спасет. Человек в дорогой одежде, причем владелец желтой карточки… Ему следовало знать, что он лишь кусок мясистой наживки перед мордой комодского дракона. По крайней мере, этот идиот не запачкал кровью свой дорогущий костюм, когда «белые рубашки» разделались с ним. Определенно он был лишен способности к выживанию и, видимо, забыл, что больше не является Мистером Важная Шишка.
Но Тран — способный ученик. Как прежде он досконально изучал статистику приливов и карты глубин, мировые рынки и биоинженерные разработки в области эпидемиологии, схемы повышения прибыли и бухгалтерские книги, так теперь перенимает повадки чеширцев, этих котов-дьяволов, исчезающих при первой же опасности. Учится у ворон и коршунов, прочно обосновавшихся на свалке. Эти животные подают отличный пример выживания. Трану необходимо подавить в себе рефлексы тигра. Тигры остались только в зоопарках. Тигр — это всегда повод для охоты. Но у мелкого зверя, рыщущего среди отбросов, есть все шансы обглодать тушу большой полосатой кошки и уйти с костюмом от братьев Хван — последним из Малайзии. Семья Хван уничтожена, склады с тканями сожжены, не осталось ничего, кроме воспоминаний, антиквариата и одного нищего старика, которому одинаково хорошо известны сильные и слабые стороны безупречного внешнего вида.
Свободный велорикша вопросительно глядит на Трана, привлеченный контрастом дорогого костюма и тщедушного тела. Старик неуверенно поднимает руку. Рикша притормаживает.
Оправдан ли риск? Так легкомысленно потратить последние деньги?
Во времена величия он без колебаний отправлял целые флотилии с пахучим дурианом[25] к порту Мадраса просто из предположения, что индийцам не успеть вырастить новый вирусоустойчивый урожай, прежде чем очередная мутация ржавчинных грибов погубит его. Или на всякий случай скупал черный чай и сандаловое дерево у речных жителей северной Малайзии для торговли на южном побережье. Теперь же он даже не в состоянии решить, — идти ему пешком или нанять рикшу. Жалкое подобие человека! Голодный призрак, застрявший среди миров, не способный сделать выбор, чтобы избежать незавидной участи…
Рикша катится по инерции, ожидая решения; голубая майка, мокрая от пота, блестит под тропическим солнцем. Тран жестом указывает в сторону. Рикша ставит ноги на педали и проезжает мимо. По мозолистым пяткам хлопают сандалии.
Трана вдруг охватывает паника. Он бежит следом, машет рукой.
— Стойте! — Снова шепот.
Рикша теряется в толпе, среди велосипедов и огромных неуклюжих фигур мегадонтов. Тран безвольно роняет руку, испытывая смутную радость, что его не услышали, что решение о судьбе последнего бата было принято не им, но некими более могущественными силами.
Плотным потоком вокруг — утренняя толчея. Сотни ребятишек в матросках спешат к школьным воротам. Монахи в одеждах цвета шафрана прогуливаются, укрываясь от солнца широкими черными зонтами. Человек в шляпе нон2 пристально смотрит на Трана и перешептывается со своим приятелем. Оба внимательно изучают его. Страх струйками сбегает по спине старика.
Они повсюду, как в Малакке. По привычке он зовет их чужаками, фарангами. Хотя и сам он здесь чужой; ему тут не место. И они это знают. Женщины, развешиваюшие саронги на балконах, босые мужчины, потягивающие кофе с сахаром, торговцы рыбой и карри. Все они знают, что он чужак, и это внушает Трану бесконтрольный ужас.
Бангкок — это не Малакка, повторяет он себе. Это не Пенанг. У нас нет жен; и золотых часов — тоже. Нет и торговых флотилий, чтобы воровать. Спросите у змееголовов, нелегально переправивших меня в болотистые джунгли на границе. Я отдал им все мое добро. У меня ничего не осталось. Я не тигр. И тут я в безопасности.
На пару секунд Тран даже верит в это. Но потом смуглый мальчишка отсекает верхушку кокосового ореха ржавым мачете и с улыбкой протягивает ему. Едва не закричав, Тран бежит прочь.
Бангкок это не Малакка. Здешние люди не станут жечь склады и превращать твоих служащих в груды акульей наживки. Тран отирает потное лицо. Стоило повременить с костюмом. Слишком много внимания. Безопаснее котом-дьяволом шмыгать по городу, чем вышагивать тут, как павлин.
Постепенно ряды стройных пальм вдоль улиц сменяет открытое пространство квартала иностранцев. Тран торопится к реке, вступает на территорию промышленной империи белых фарангов.
Гвейло, ян гуйцзы, фаранг. Столько названий на стольких языках для потных обезьян с бледной кожей. Два поколения назад, когда мировые запасы нефти исчерпали себя и заводы гвейло обанкротились, все вздохнули с облегчением — белые оставили эти земли и их жителей в покое. Теперь же они вернулись. Монстры из прошлого. Вооруженные новыми игрушками и передовыми технологиями. Герои страшных историй на ночь, которыми пугала Трана мать, вновь наводнили азиатское побережье. Сущие дьяволы. Бессмертные.
И он собирается на них работать: на старых знакомцев из «Агро-Гена» и «Чистых Калорий», монополистов в производстве риса «Ю-Текс» и высококалорийной пшеницы. Благодаря их инвестициям биоинженеры, вдохновившись детскими сказками, создали котов-дьяволов и пустили по всему миру плодиться и множиться. Это их щедрому спонсорству обязана полиция по охране интеллектуальной собственности, не раз фрахтовавшая клиперы Трана для патрульных рейдов. Эти магнаты словно волки охотились на каждую неучтенную калорию, на каждое генно-модифицированное зерно без лицензии… Будто созданных в их же лабораториях бесчисленных штаммов цибискоза и ржавчинных грибов было недостаточно для поддержания высоких прибылей…
Тран хмурится: впереди толпа. Следует поторопиться, но он принуждает себя идти шагом — бег требует слишком много ценных калорий. Настоящая живая цепь выстроилась перед заводом белых дьяволов — братьев Тэннисон. Она тянется почти на ли,[26] огибает угол, минует литые чугунные ворота «Сухумвит Рисеч Корпорэйшн» с велосипедной шестеренкой на логотипе, сплетенных драконов восточноазиатского отделения «Чистых Калорий», здание компании «Мисимото энд К0», специализирующейся на гидроаэродинамике; сюда однажды обратился Тран за проектом для клиперов.
Мисимото, как говорят, вовсю использует труд дарум,[27] нелегально созданных существ, едва умеющих говорить, покачивающихся из стороны в сторону при движении и питающихся рисом, как настоящие люди. По слухам, у них нет ног, чтобы не сбежали, восемь рук, как у индуистских богов, и огромные, с блюдца, глаза, которые видят едва ли дальше нескольких футов и придают дарумам чрезвычайно любознательный вид. Впрочем, доказать достоверность слухов нельзя, и даже если «белые рубашки» в курсе, то умные японцы платят им достаточно, чтобы не афишировать свое преступление против природы и религии. В конце концов, у дарум нет души. Это единственное, в чем согласны и добропорядочный буддист, и набожный мусульманин, и даже христианин.
Трану до этого не было никакого дела, когда он покупал клиперы «Мисимото». Теперь же он думает: действительно ли там, за этими высокими стенами, вкалывают уродливые дарумы и люди с желтыми карточками толпятся снаружи и молят о работе напрасно?
С трудом он добирается до ограничительной линии. Вдоль прогуливаются охранники с дубинками и пружинными пистолетами, время от времени отпуская шуточки по поводу фарангов, жаждущих работать на фарангов. Жара лишает сил, беспощадная к людям, выстроившимся в цепь перед воротами завода.
— Ты смотри! Что за тряпки, красота!
От неожиданности Тран вздрагивает. Ли Шэнь, Ху Лаоши и Лао Ся тоже здесь. Три старика, не менее жалкого вида, чем он сам. Ху призывно машет рукой, предлагает только что скрученную сигарету. При виде табачных листьев Трана охватывает волнение, но он говорит «нет». Соглашается лишь на третий раз, довольный, что друг настойчив, и все гадает, где же тот разжился таким сокровищем. Впрочем, что тут думать: Ху из четверых самый сильный. Плата носильщику гораздо выше, если он способен работать так же быстро, как Ху.
Тран отирает потный лоб:
— Как много народу.
Его беспокойный вид вызывает у друзей смех. Ху зажигает для него сигарету.
— Думал, наверное, ты один в курсе?
Тран пожимает плечами и глубоко затягивается, передает «сокровище» Лао Ся.
— Просто слухи. Из заявления Картофельного Короля ясно, что его племянника повысили. Я решил, место освободится.
Ху насмешливо морщится:
— А, так вот где я это слышал: «Эгэ, да он будет богачом. Управлять пятнадцатью служащими! Да, он будет богачом». Мне вот хотя бы одним из этих пятнадцати стать.
— По меньшей мере, слухи подтвердились, — говорит Лао Ся. — В конце концов повысили не только племяша.
Он вдруг яростно чешет лысеющий затылок, словно пес, гоняющий блох. Его локти покрыты пятнами наростов фа гань, как и потная кожа за ушами. Он любит шутить: ничего, мол, немного деньжат, и я вылечусь. Шутить хорошо. Но сегодня его одолевает чесотка, и наросты потрескались и кровоточат. Лао замечает, что все смотрят, и быстро опускает руку. С гримасой передает сигарету Ли Шэню.
— Сколько вакансий? — спрашивает Тран.
— Три.
— Мое любимое число, — усмехается старик.
Сквозь толстые линзы Ли Шэнь оценивает длинный хвост очереди:
— Будь оно хоть пятьсот пятьдесят пять. Нас слишком много.
— Да нас четверых уже многовато! — фыркает Лао Ся. Он хлопает по плечу стоящего впереди: — Эй, отец! Кем раньше работал?
Незнакомец, удивленный, оборачивается. Он был прежде уважаемым человеком, судя по строгому воротничку и тонким кожаным туфлям, теперь, правда, стоптанным и почерневшим от угля, который встречается повсюду на мусорных отвалах.
— Я преподавал физику. Лао Ся кивает:
— Что я говорил? Все мы тут семи пядей во лбу. Я был управляющим каучуковой плантацией. Ли — Профессор со степенью по гидроаэродинамике и дизайну материалов. Ху — известный врач. И еще наш друг из «Три-Просперитис». Не просто торговая компания, а целая международная корпорация. — Он, словно пробуя слова на вкус, повторяет: — Международная корпорация.
Странное, могучее, чарующее звучание. Тран скромно опускает голову:
— Ты слишком добр.
— Фан пи.[28] — Ху делает затяжку, передает сигарету. — Ты нас тут всех с потрохами мог купить. А теперь, посмотрите только, убеленные сединами, а занимаемся работой для сопляков. Да тут каждый в тысячу раз опытнее, чем требуется.
Сзади кто-то заявляет:
— Я занимал пост юрисконсульта в «Стандард энд Коммерс».
Лао Ся корчит рожу:
— Да кого это волнует, гондон собачий? Теперь ты пустое место.
Униженный, банковский служащий отворачивается. Хмыкнув, Лао Ся глубоко затягивается и отдает сигарету Трану. Ху вдруг подталкивает того локтем:
— Глянь! Старина Ма притащился.
Тран резко втягивает табачный дым и поворачивается. Сначала он думает, что Ма преследовал его, но потом понимает, что ошибся. Это фабрика фарангов. Ма работает на западных дьяволов, ведет бухгалтерию. Компания по производству пружин «Спринглайф». Да, «Спринглайф». Вполне естественно, что Ма, блаженно развалившийся позади взмокшего велорикши, явился сюда.
— Ма Пин, я слышал, живет нынче в пентхаусе. Прямо под крылышком Навозного Короля, — говорит Ли Шэнь.
Тран хмурится:
— Однажды, давным-давно, я его уволил. Ленивый был и воровал.
— Какой же он толстый.
— Я его жену видел, — говорит Ху. — И сыновей. Жирные. Едят мясо каждый день. Парни жирнее самого жира. Просто напичканы белками «Ю-Текс».
— Да ты болтаешь.
— Уж толще, чем мы.
Лао Ся чешет костлявый бок:
— Толще тебя даже бамбук.
Тран смотрит, как Ма Пин исчезает за дверьми завода. Что было, то было. Жить прошлым — безумие. Что у него осталось? Ни часов, ни наложниц, ни трубок, набитых опиумом, ни нефритовых скульптур божественной Гуаньинь.[29] Ни роскошных клиперов, плавно скользящих по волнам, несущих в себе богатство и успех. Он качает головой и передает остаток сигареты Ху. Тот его еще сможет разок запалить. Все в прошлом. Ма, «Три-Просперитис». Чем скорее он расстанется с воспоминаниями, тем скорее выберется из этой зловонной дыры.
Сзади ему кричат:
— Эй! Лысый! Очередь не для тебя? Нашелся, основной!
— Очередь?! Не смеши! — Лао Ся машет рукой на стоящих впереди. — Вон сколько народу, какая разница, где стоять?
Но остальные уже волнуются.
— А ну в очередь! Пай дуй![30] Пай дуй!
Возмущение растет, и охранники подходят ближе к живой цепи, небрежно помахивая дубинками. Они не «белые рубашки», но голодранцев с желтыми карточками не переносят.
Тран успокаивающе поднимает руки:
— Конечно, конечно. Вот, смотрите, я уже иду. Не стоит волноваться.
Он прощается с друзьями и следует вдоль этого туловища длинной желтой змеи, пытаясь найти ее хвост.
Когда он доберется до него, всем уже будет отказано в работе.
Снова ночь в поисках объедков. Голодная ночь. Тран рыщет по темным переулкам, избегая удушливых тюрем-высоток. Вокруг и впереди бурлит, перемещается мерцающая волна котов-дьяволов. Мигают метановые фонари, горят слабо, коптят, чернят город. Жаркий бархатный мрак оплетает зловонным запахом гниющих фруктов. Сильная влажность тяжелит воздух. Духота. Темень. Пустые прилавки. На тротуаре спят актеры, словно разыгрывают сценку из истории о Раване.[31] Подобные серым горам, возвращаются домой мегадонты. Массивные тени и ведущие их неясные золотистые пятна тел погонщиков.
По узким улочкам прячутся дети с острыми блестящими ножами, поджидают неосторожных владельцев желтых карточек и пьяных тайцев, но Тран достаточно мудр, чтобы не стать их добычей. Год назад он их не заметил бы. Теперь же взрастил в себе необходимое для выживания чутье параноика. Эти существа не страшнее акул: предсказуемы, бесхитростны. Не они заставляют кишки Трана сворачиваться от страха. Слишком эти хищники явны. А вот хамелеоны, обычные люди, которые работают, торгуют, улыбаются так открыто и располагающе, а потом внезапно поднимают мятеж, — вот кто пугает Трана до смерти.
Он роется в мусорных кучах, дерется с котами-дьяволами за остатки пищи, жалея, что силы уже не те, иначе давно поймал бы одну из этих кошек-невидимок себе на ужин. Он тщательно исследует выброшенные кем-то плоды манго, то подносит их к старческим глазам, то отстраняет, принюхивается… Кожура пахнет ржавчинным грибом, а внутри — уже сплошь пятна заразы. Тран отбрасывает плоды в сторону. Некоторые из них еще неплохо выглядят, но даже вороны не станут их клевать. Они скорее накинутся на вздувшийся труп, чем обратят внимание на зараженный ржавчинными грибами плод.
Прихвостни Навозного Короля сгребают лопатами испражнения животных в мешки и грузят в тележки трехколесных велосипедов: ночные сборщики дневного урожая. Они с подозрением наблюдают за Траном. Тот не поднимает взгляда, чтобы не спровоцировать драку. В конце концов, на костре из ворованного дерьма ему нечего приготовить да и продать на черном рынке не удастся: Навозный Король подстелил соломку везде, где мог. Здорово было бы найти себе местечко в рядах сборщиков навоза. Такая работа — гарантия, что ты выживешь. Фабрики по производству метана — прибыльное место. Но это, разумеется, опиумные грезы. Человеку с желтой карточкой вход в подобный «элитный клуб» заказан.
Тран поднимает еще один манго и вдруг замирает. Медленно наклоняется, подозрительно щурясь. Отодвигает в сторону мятый плакат с жалобами на министерство торговли, разгребает буклеты с рекламой нового роскошного комплекса «Ривер Ват». Отбрасывает черную кожуру банана и погружает руки в мусор. Там, в глубине, он нащупывает запачканный обломок огромного рекламного щита, который, возможно, высился как раз над этой рыночной площадью: «…огистика. Судоходство. Торгов…» Обрывки слов написаны поверх величавого силуэта Утренней Звезды. Остаток логотипа компании «Три-Просперитис», на котором в лучах рассветного светила плывут три клипера, обгоняющие ветра, гладкие, словно акулы… Дорогая краска на полимерах пальмового масла. Белоснежные, острые, будто крылья чаек, паруса…
Потрясенный, Тран отворачивается. Все равно что разрыть могилу и увидеть там свой труп. Его гордость. Слепое тщеславие времен, когда он считал, что может соперничать с западными дьяволами и стать судоходным магнатом. Этакий Ли Ка Шин[32] или Ричард Квок[33] эпохи новой экспансии. Возрожденная слава китайского морского торгового флота. Словно пощечина: часть его «эго» похоронена тут, среди ржавчинной гнили и отбросов, пропитана мочой котов-дьяволов.
Тран оглядывается, пытается нащупать другие части щита. Кто-нибудь еще набирает тот старый номер?.. А секретарь, которому он прежде платил… Сидит ли он за своей стойкой в приемной? Работает на нового хозяина, урожденного малайца, вероятно… С безупречной родословной и религиозными взглядами… А те клиперы, которые люди Трана не успели затопить… До сих пор ли они бороздят морские просторы?
Хватит. Он заставляет себя прекратить поиски. Даже будь у него деньги, он не решился бы позвонить. Не стал бы тратить калории. Не вынес бы потери еще раз.
Тран выпрямляется, отгоняет котов-дьяволов, уже собравшихся вокруг. Кроме очистков и навоза, на рыночной площади ничего не осталось. Зря потратил силы. Даже тараканов и жуков подъели. Искать дальше бесполезно. До него здесь побывало слишком много людей.
По пути к своей высотке ему приходится трижды прятаться от «белых рубашек». Съеживаться, сливаться с тенью, когда те слишком близко, проклиная белый костюм, столь заметный ночью. На третий раз его охватывает суеверный страх: дорогая одежда притягивает патруль министерства среды, потому что жаждет смерти очередного владельца. В каких-то сантиметрах от его лица руки небрежно вертят черные дубинки. Пружинные пистолеты сверкают серебром. Хищники стоят так близко, что Тран без труда может сосчитать количество патронов в их джутовых плечевых ремнях. Один из патрульных мочится на аллею, где прячется старик, и не замечает его лишь потому, что напарник решил проверить документы сборщиков навоза.
Снова Трана душит желание сорвать с себя белоснежный костюм, стать безликим, безымянным и получить шанс на спасение. Ведь это только вопрос времени, когда до него доберутся «белые рубашки» и превратят его китайский череп в кашу из крови и костей. Лучше уж нагишом раствориться в липком, жарком мраке, чем подохнуть важным павлином. И все же он не в состоянии расстаться с костюмом. Гордыня? Глупость? Но рука не поднимается. Несмотря на то что эти вызывающие тряпки заставляют потроха трястись от ужаса.
К моменту, как он добирается до ночлежки, даже на Сухумвит-роуд и на проспекте Рамы IV уличные фонари погашены. На торговых лотках, мимо которых он шел утром, все еще кипят котелки — ужин для кучки оборванцев, которым повезло работать ночью, да еще и в комендантский час. На столах горят свечи из свиного сала. В кипятке шипит лапша. Недалеко прохаживаются «белые рубашки», неотрывно следят за людьми с желтыми карточками, проверяют, не позволил ли кто себе бесстыдную роскошь заснуть под открытым небом и не оскверняет ли тротуара, растянувшись на нем и захрапев.
Тран шагает на спасительную территорию ночлежки, ощущает себя под сенью безграничного могущества Навозного Короля. Задерживается у входа, гадая, как высоко ему придется подняться, прежде чем найдется место для его худого тела. — Тебя не взяли, да?
Тран съеживается при звуке голоса. Ма Пин. Сидит за столиком посреди тротуара, с бутылкой «меконга» в руке. От возлияний лицо сияет, как красный бумажный фонарь. Полупустые тарелки по всему столу. Еды столько, что насытятся еще пять человек.
Облик Ma не дает Трану покоя. Молодой служащий, которого он прогнал за слишком вольное обращение со счетами компании; человек, у которого сын толстый и сытый; мужчина, сумевший очень рано сделать карьеру. Раньше он умолял о том, чтобы его приняли назад в «Три-Просперитис», а теперь разъезжает по Бангкоку с последней собственностью Трана — золотыми часами на запястье, единственной вещью, которую даже «змееголовы» не получили. Тран приходит к выводу, что судьба поистине жестока, если неустанно сводит его с тем, кого он однажды счел недостойным своего внимания.
Вновь, несмотря на намерение говорить бодро, старику удается лишь прошептать:
— Какое тебе до этого дело?
Ма наливает очередную порцию виски, пожимает плечами:
— Не будь костюма, я бы тебя в очереди не заметил. Хорошая идея — вырядиться. Правда, стоял ты слишком далеко. Жаль.
Трану бы уйти, проигнорировать заносчивого щенка, но объедки на его тарелках… Дымящийся окунь и лаап,[34] лапша из риса «Ю-Текс». Дразняще близко! Запах свинины заставляет рот наполниться слюной. У Трана буквально зудит челюсть при мысли, что зубы могут впиться в мясо. Интересно, вынесут они испытание такой роскошью?..
Неожиданно он понимает, что смотрит на еду слишком пристально. Полным вожделения взглядом. А Ма внимательно наблюдает за ним. Тран краснеет и шагает прочь.
— Я покупал часы не для того, чтобы досадить тебе. Тран останавливается.
— Для чего тогда?
Пальцы Ма рассеянно пробегают по золотой безделушке в бриллиантах. Потом будто бы застают себя за непозволительным занятием и тянутся за спиртным.
— Хотел получить напоминание.
Ма делает глоток и ставит стакан обратно, между нагромождениями тарелок, аккуратно, неторопливо, как всякий пьяный. По лицу скользит неожиданно робкая улыбка. Как-то виновато он постукивает ногтем по золотому браслету часов:
— Да. Хотел получить напоминание. А не отомстить. Тран сплевывает:
— Фан пи.[35]
Ма решительно трясет головой:
— Нет! Серьезно! — Заминается и продолжает: — Крах подстерегает каждого. Участь «Три-Просперитис» вполне может ожидать и меня. Хотел, чтобы напоминание об этом было рядом, если забуду.
Заливает в рот виски.
— Ты правильно сделал, что уволил меня. Тран усмехается:
— Тогда ты так не думал.
— Я был зол. Кто ж знал, что это спасет мне жизнь. — Ма снова пожимает плечами. — Не выгони ты меня, я бы из Малайзии не уехал. И восстания я не предвидел тем более. Столько денег вложил, чтобы жить там…
Неожиданно он садится прямо и предлагает Трану присоединиться:
— Иди, выпей. Поешь. Как-никак, я тебе многим обязан. Ты спас мою задницу, а я не отблагодарил. Садись.
Тран отворачивается:
— Я еще уважаю себя.
— Сохранить лицо тебе дороже, чем нормальная еда?! Расслабься. Плевать мне, что ты меня ненавидишь. Просто позволь тебя накормить. А проклинать потом станешь, когда пузо набьешь как следует.
Напрасно старик борется с гордостью. Голод берет свое. Да, он знает людей, которые умрут от истощения, но не примут даров Ма, но Тран не один из них. Нет. Прежде — может быть. Теперь… Жизнь среди отбросов показала, каков он на самом деле. Конец иллюзиям.
Тран садится за стол. Ма придвигает к нему тарелки с едой.
За какой такой проступок приходится ему сейчас расплачиваться подобным унижением? И как справиться с жадностью, ведь он готов наброситься на еду руками! К счастью, ему приносят палочки и ложку с вилкой. Лапша со свининой отправляются в рот. Тран пытается жевать, но едва пища касается языка, он тут же ее глотает. Еще еды. Больше. Он держит тарелку близко к губам, буквально сгребает в себя то, что не доел Ма. Рыба, подвядший кориандр, горячее, вязкое масло — сущее блаженство.
— Ешь, ешь. — По знаку Ма на стол ставят еще один стакан. Резкий запах спиртного аурой повисает вокруг, пока молодой мужчина наливает виски. В груди у Трана все сжимается от этого аромата. Он вытирает ладонью запачканный маслом подбородок, неотрывно следит за льющейся янтарной жидкостью.
Как-то Тран пил коньяк, старый, шестилетней выдержки. Доставленный его же клиперами. Заоблачно высокая цена плюс расходы на перевозку… Вкус обители западных дьяволов из эпохи, предшествующей коллапсу, призрак, возрожденный к жизни новой экспансией и собственным осознанием Трана, что мир очень мал…
Совершенный дизайн корпуса, полимерные высокие технологии… Его божественные клиперы обогнули всю планету и вернулись домой, груженные бутылями, в которых плескалась легенда. И малайзийские клиенты были счастливы отдать за нее любые деньги, не важно, что предписывала их религия. То была баснословная прибыль…
Ма протягивает стакан Трану, поднимает свой для тоста.
Все в прошлом. Все это в прошлом.
Они выпивают. Тепло алкоголя достигает желудка Трана, присоединяется к специям, рыбе, свинине, сочной масляной подливе и лапше.
— Действительно очень жаль, что тебе не дали работу. Старик морщится:
— Не спеши злорадствовать. У судьбы есть привычка держать все в равновесии. Я усвоил этот урок.
Ма отмахивается:
— И не думал злорадствовать. Правда в том, что таких, как мы, слишком много. Ты ведь в тысячу раз опытнее, чем требуется для той работы. Для любой работы, которую тебе здесь могут предложить. — Он смотрит на собеседника поверх стакана. — Помнишь, как назвал меня ленивым тараканом?
Тран рассеянно кивает: не может отвести взгляда от бутылки.
— Я и похуже тебя называл.
Он ждет, не наполнит ли Ма ему стакан еще раз. Гадает, как велико его состояние и как далеко тот готов зайти в своих щедротах. Ненавидит себя: сидит тут, ни дать ни взять попрошайка, перед сосунком, которого однажды выгнал с работы. Теперь его мир — сферы, управляющие жизнью таких, как Тран… Щенок… Все-таки наполняет стакан старика до краев, позволяет виски литься через край. Янтарный каскад в мерцающем сиянии свечей…
Ма отставляет бутылку, смотрит на лужу спиртного:
— Поистине мир перевернулся. Молодой король вознесся над старым. Малайзийцы выставили китайцев вон. Западные дьяволы ринулись обратно к нашим берегам, как побитая болезнью гнилая рыба во время прилива…
Он улыбается.
— Держи ухо востро, чтобы не упустить шанс. Ты не такой, как эти старики, сидящие вдоль улицы и считающие за благо тяжелую работу. Найди себе новую нишу. Как я сделал. Меня поэтому взяли.
Тран кривится:
— Ты просто перебрался сюда в более подходящее время. — Он вдруг оживляется. Его живот наполнен, спиртное разгорячило тело, разрумянило лицо… — В любом случае гордиться нечем.
У тебя еще молоко на губах не обсохло, хотя ты и живешь в пентхаусе Навозного Короля. Может, ты и король среди желтых карточек… Но, в сущности, что это значит? То, что ты и в подметки мне не годишься, все еще нет. Мистер Большая Шишка. Ма выпучивает глаза, хохочет:
— О нет! Разумеется нет! Куда мне… Однажды, может быть. У меня хороший учитель. — Снисходительная улыбка, намек на жуткий вид Трана. — Исключим эту главу твоей жизни, естественно.
— Правда, что у вас там, наверху, повсюду вентиляторы? Что там не жарко?
Ма смотрит в сторону своей высотки.
— Да, правда. И сильные люди, чтобы заводить их, когда требуется. Они носят воду, работают противовесом в лифте — весь день, вверх-вниз, — выполняют все, что ни пожелает Навозный Король. — Он снова хохочет, подливает виски, предлагает Трану выпить еще. — Но ты прав, конечно. Это пустышка. Жалкий притон. Впрочем, уже не важно. Я и моя семья переезжаем. Получили постоянную регистрацию. Завтра заберу свой оклад — и все. Больше никаких желтых карточек. Никаких откупных лакеям Навозного Короля. Никаких «белых рубашек». Я все уладил с министерством среды. Теперь мы тайцы. Пусть иммигрировавшие. Не какие-то беженцы. — Ма поднимает стакан. — Вот, праздную.
Тран хмурится:
— Должно быть, ты доволен. — Допивает виски и со стуком опускает стакан на стол. — Только не забудь, что рука дающая вольна забрать, когда ей вздумается.
Ма отмахивается. Блестят насмешливые, пьяные глаза:
— Бангкок это не Малакка.
— А Малакка не Бали. И все равно они взялись за мачете и винтовки, покромсали наши тела и спустили по реке до самого Сингапура.
Но молодому, похоже, все равно:
— Чего ворошить прошлое?
Он делает знак торговцу, требует еще еды.
— Теперь наш дом будет здесь.
— Неужели? Думаешь, кто-нибудь в белой рубашке упустит шанс выпотрошить тебя в переулке по дороге домой? Мы другой породы. И в этой стране удача против нас.
— Удача? Когда это Мистер Три-Просперитис стал таким суеверным?
Трану и Ма приносят тарелки с крошечными поджаристыми крабами — каждый не больше мизинца. Хрустящие, соленые, политые масляной приправой… Ма палочками берет одного и отправляет в рот.
— Так когда Мистер Три-Просперитис превратился в размазню? Уволив меня, ты сказал, что моя удача в моих же руках. А сам твердишь, мол, собственная тебя покинула? — Он сплевывает под ноги. — Дарумы жизнь больше ценят, чем ты.
— Фан пи.
— Да-да! В баре, куда наведывается мой босс, есть японка, дарума. — Ма подается вперед. — Все при ней, хоть не человек. А что вытворяет… — Он похабно улыбается. — У тебя стоит, как каменный. Ни разу не слышал, чтобы она ныла или судьбу проклинала. «Белые рубашки» озолотили бы того, кто закопал бы ее живьем на компостных отвалах, а ей хоть бы что. Танцует, бесстыжая, каждую ночь в баре, на виду у всех. Да так, что слепой разглядит все подробности.
— Ерунда.
Ма пожимает плечами.
— Думай, что хочешь. Но я собственными глазами видел. И она не умирает с голоду. Берет все, что дают, объедки, деньги… И плевать ей на «белые рубашки», на законодательство Королевства, на националистов и религиозных фанатиков. Танцует себе, и уже давно.
— В чем же секрет?
— В том, сколько зарабатывает за час? А может, кувыркается с каким-нибудь уродом фарангом… Кто знает. Но она уникальна. Настоящей женщине такое не под силу. Пульс зашкаливает. Забываешь даже, что перед тобой дарума, глядя на все эти выкрутасы…
Ма смеется, сверлит взглядом Трана.
— Так что не болтай про удачу. Везения всего Королевства не хватит, чтобы спасти ей жизнь. И уж точно не карма держит ее на плаву. Она же дарума.
Трану остается только неопределенно хмыкнуть и набить рот крабами.
— Признай, ведь я прав. — Ма опустошает стакан с виски и наполняет его по новой. — Мы держим удачу за хвост. Правим судьбой. Дарума танцует в баре, а я пашу на богатого верзилу фаранга, который до задницы своей дотянуться не может без моей помощи! Разумеется, я прав! Кончай себя жалеть и выбирайся из норы. Западные дьяволы плевать хотели на везение и судьбу. Одно их заботит: вернуть азиатский рынок. Они как очередной изобретенный вирус. Даже коллапс их не остановил. Живучие, словно коты-дьяволы. Стабильно на плаву. Сомневаюсь даже, что влияние кармы на них распространяется. И уж если таким кретинам благоволит успех, то неужели мы, китайцы, будем прозябать? Человек сам творец своей судьбы, так ты говорил. Сказал, что я свою удачу не удержал и винить могу только себя.
Тран поднимает глаза на Ма:
— Может, мне нашлось бы место? — Он морщится, старается не выглядеть жалким. — Я бы мог зарабатывать деньги для твоего ленивого босса.
Взгляд Ма делается непроницаемым.
— Э, трудно сказать. Вряд ли.
Вежливый отказ. Надо принять и заткнуться. Но поздно: минутной слабости достаточно, и Тран вновь раскрывает рот, чтобы умолять и настаивать:
— Тебе, наверное, нужен помощник. Вести бухгалтерию. Я говорю на языке дьяволов. Научился, когда торговал с ними. Я могу пригодиться.
— Да мне самому приходится выдирать работу с боем!
— Но если он такой безмозглый, как ты говоришь…
— Безмозглый, это правда. Но не настолько, чтобы не заметить новичка в офисе. Наши столы слишком близко друг от друга. — Ма руками показывает расстояние. — Думаешь, тощий, как щепка, узкоглазый старикан за компьютером не привлечет внимания?!
— Тогда на его фабрике? Ма трясет головой:
— Была бы возможность, я бы помог. Но энергией там снабжают мегадонты, а в охранники фарангов не берут. Без обид. И конечно, никто не поверит, что ты разбираешься в производстве метана. Нет, фабрика — это не для тебя.
— Мне подойдет любая работа, даже сборщиком навоза!.. Но в ответ мужчина напротив мотает головой еще сильнее, и Тран, опомнившись, умолкает, прерывает поток раболепия.
— Ничего, ничего. — Он выдавливает улыбку. — Уверен, что-нибудь да подвернется. Даже не сомневаюсь.
Не обращая внимания на протесты, Тран выливает остатки виски в стакан Ма и залпом опорожняет свой собственный — за молодого мужчину, который обставил его во всем. У костлявых ног старика вьются едва различимые коты-дьяволы, ждут, когда человек уйдет, и надеются на его глупость, чтобы полакомиться объедками.
Утро. Тран блуждает по улицам в поисках непозволительной роскоши: съедобного куска на завтрак. Бредет вдоль торговых рядов, благоухающих рыбой, заваленных несвежими зелеными пучками кориандра, расцвеченных яркими пятнами лимонного сорго.[36] Зловонная груда колючего дуриана сплошь покрыта ржавчинной накипью. Тран присматривается — не удастся ли стянуть какой-нибудь плод. Зараза еще не добралась до питательной мякоти фруктов. Интересно, какое количество этой дряни выдержит организм человека, прежде чем наступит кома?
— Хотесь? Специально сделка! Пять са пять бат! Идет, да? Скрипучий голос принадлежит беззубой женщине, которая улыбается ему голыми деснами и все повторяет:
— Пять са пять бат!
Говорит она на мандарине,[37] признавая в Тране соотечественника, хотя родилась уже здесь, в Королевстве, а Тран имел несчастье перебраться в Малайзию. Истинная чаочжоу, счастлива под покровительством своего клана и короля. Помимо воли Тран завидует.
— Лучше четыре за четыре,[38] — говорит он и сам удивляется каламбуру. Четыре за смерть. — На них ржавчинный гриб.
Торговка вяло помахивает рукой:
— Пять са пять. Есе хоросо. Отень хоросо. Вовремя сняты. — Блестящим мачете она рассекает один плод пополам, демонстрируя чистую желтизну его липкого и мясистого нутра. Тошнотворный сладковатый запах дуриана повисает в воздухе. — Видеть? Внутри хоросо! Вовремя снят! Есе чисто!
— Ну, может быть, один я куплю.
Сказать по чести, даже один ему не по карману. Но как отказаться от торга? Вдруг почувствовать себя покупателем! Какое неожиданное удовольствие! Конечно, дело в костюме. Братья Хван возвысили его в глазах этой женщины. Она и рта не раскрыла бы, если бы не костюм. Какой уж там разговор…
— Бери больсе! Больсе брать, дольсе зить!
Тран нерешительно улыбается. Он уже сам не рад, что начал торговаться.
— Я всего лишь одинокий старый человек. Мне много не нужно.
— Одинокий и тосий. Есь больсе! Набери зиру!
Они смеются. Тран тщетно пытается подобрать слова, чтобы поддержать неожиданный приятельский тон разговора, но язык не слушается. Заметив беспомощность в его глазах, торговка качает головой:
— Да, отес. Тязелые времена для всех. Слиском много таких, как ты. Никто не думать, сто так плохо будет сдесь.
Тран опускает голову в смятении.
— Я отвлекаю вас. Извините.
— Стой. Вот. — Женщина протягивает ему половину дуриана. — Бери.
— Нет денег.
Она нетерпеливо сует ему в руки плод.
— Бери. Рада помось кому-то с презней родины. — Усмехается. — К тому зе фрукты слиском плохи, стобы продать.
— Вы очень добры. Да озарит вас улыбка Будды.
Тран принимает дар, и взгляд его вдруг снова падает на груду дурианов позади торговки. Аккуратно сложенные, в кровавых пятнах ржавчины. Совсем как головы китайцев в Малакке; головы его жены и дочерей взирают на него в немом упреке. Тран роняет плод, пинком отшвыривает в сторону, судорожно вытирает руки о пиджак, словно пытается стереть кровь с ладоней.
— Э-э-э! Так не напасесся!
Но Тран едва ли слышит. Нетвердой походкой он пятится от фрукта, все смотрит на его колючую кожуру, на убийственно пахнущую мякоть. Затравленно озирается. Прочь. Прочь из толпы, на свежий воздух, подальше от шевелящейся человеческой массы и вони дуриана, от которой выворачивает кишки. Прижав ладонь ко рту, Тран пускается бежать, лавируя между торговцами, проталкиваясь сквозь давку.
— Куда ты? Вернись! Хуэйлай![39]
Женский окрик немедленно тонет в общем гаме. Тран распихивает прохожих, задевает старуху с корзиной, полной белых корней лотоса и фиолетовых баклажанов, едва не налетает на крестьян, громыхающих по брусчатке бамбуковыми тележками, петляет среди бочек с кальмарами и змееголовами. Он, словно воришка, которого застукали, мчится, не разбирая дороги… По сути, ему все равно, куда бежать, лишь бы подальше от сваленных в кучу голов, среди которых и останки его домашних.
Прочь. Без оглядки…
И вот Чароен-Крунг-роуд.[40] Оживленная широкая улица, яркий солнечный свет, в котором клубится взвесь частиц переработанного навоза и дорожной пыли… Сигналят велорикши. Пальмы и невысокие банановые деревья поражают сочной зеленью.
Паника внезапно оставляет Трана, так же быстро, как овладела им. Он замирает на месте, тяжело дыша, уперев руки в старые колени и проклиная себя. «Глупец! Глупец! Не будешь есть — протянешь ноги!»
Выпрямившись, он думает вернуться, но едва вспоминает запах дуриана, как приходится спешно отбежать на обочину — его опять тошнит. Назад дороги нет. Ему не вынести вида кровавых груд. Рвотный рефлекс заставляет согнуться пополам, но желудок выдает только сгустки слюны.
Утерев рот лацканом пиджака, Тран оглядывает чужие лица вокруг. Бесконечное море иностранцев, в котором он должен научиться держаться на плаву. Для каждого из идущих мимо он фаранг. Все в нем бушует при одной только мысли об этом. Как при мысли, что в Малакке, где китайский клан пустил прочные корни, где его семья с многовековой историей жила в роскоши, он сам был не более чем контрабандистом. Что трагедия, разыгравшаяся в Малайзии, — только очерк на тему доказавшей свою несостоятельность китайской экспансии. Что соотечественники Трана по сути лишь горстка рассыпанного риса, который теперь собрать гораздо сложнее.
Ночная разгрузка мешков «Ю-Текс», доставленных Картофельному Королю. Трану наконец повезло. Удача, несмотря на ноющие колени и подступающую слабость. Удача, хотя руки дрожат от тяжелой ноши. Сегодня у него есть возможность не только получить плату за труд, но и прикормиться от десницы дающего. Картофель «Ред Силк» в мешках мелкий и собран раньше времени, чтобы избежать порчи плесенью, — четвертой ее генетической мутацией за год. И все же он хорош. А отличное сочетание компактных размеров и питательности означает, что корнеплоды прекрасно поместятся в карманах Трана.
Мешки с мегадонта ему скидывает Ху. Огромные животные переступают с ноги на ногу и фыркают, ожидая конца разгрузки. Тран ловит груз специальными крючьями, затем спускает на землю. Зацепить, схватить, раскачать, скинуть. Снова, и снова, и снова, и снова.
Они здесь не одни. Толпа женщин из высотки сгрудилась у лестницы, на которой стоит Тран. Руки тянутся к каждому мешку, едва тот оказывается на земле, пальцы ощупывают дерюжину, ищут дыры, бреши в надежде на счастливую случайность, тщательно следуют вдоль швов и прерывают свое занятие, лишь когда носильщики подходят, чтобы забрать мешки и отнести к Картофельному Королю.
Спустя час такой работы у Трана трясутся руки. Через три он едва держится на ногах. Шаткая лестница поскрипывает всякий раз, как он спускает очередной мешок на землю. Тран тяжело дышит, то и дело встряхивает головой: пот заливает глаза ручьем.
Ху окликает:
— Ты там как?
Тран осторожно глядит через плечо. Картофельный Король считает мешки, которые несут на склад. Время от времени пробегает взглядом по контейнерам на спинах мегадонтов и лицу Трана. Неподалеку, затаившись в тени, пятьдесят неудачников молча ждут своего шанса, и один из них куда более наблюдателен, чем большой босс. Тран готовится принять очередной груз, стараясь не думать о пристально следящих за ним глазах. Сколько терпения в их ожидании. Сколько тишины. Сколько голода.
— Я в порядке. В порядке.
Ху кивает и вытягивает на край контейнера следующий мешок. Место у него определенно лучше, но Тран не сетует. Лестница все равно кому-то досталась бы, а Ху, как-никак, нашел эту работу. У него есть полное право на более выгодную позицию. На возможность перевести дух. Останься Тран без помощи друга — вновь пришлось бы голодать. Все честно.
Новый мешок повисает над лесом женских рук. В повороте Тран освобождает крюки и бросает ношу на землю. Такое чувство, что суставы стали резиновыми и разболтанными, что бедро и большая берцовая вот-вот разъедутся. От жары кружится голова, но Тран не смеет просить сбавить темп.
Алчущие руки внизу подобны сплетенным морским водорослям, которые колышет течение. Духу не хватит отогнать этих женщин. Прикрикни на них Тран — они все равно вернутся. Словно коты-дьяволы. Голод сильнее воли.
Внезапно, в тот самый момент, когда Тран принимает новый мешок, раздается треск, и лестница теряет устойчивость, кренится в сторону, дребезжа краями о бок контейнера. Потом замирает. Тран, покачнувшись, изо всех сил старается удержать мешок и равновесие. Руки вокруг возбужденно тянутся к ноше, толкают, ощупывают…
— Осторожно!
Лестница падает, и женщины бросаются в стороны. Тран камнем летит вниз. Боль пронзает колено. Мешок лопается, как спелая ягода. Что скажет Картофельный Король? Эту мысль заглушают крики вокруг. Старик перекатывается на спину: прямо над ним угрожающе раскачивается контейнер. Люди с воплями разбегаются кто куда. Мегадонт срывается с места; яростный разворот — и мимо Трана пролетает контейнер, кроша повалившиеся на брусчатку бамбуковые лестницы в щепки. Сила и проворность животного ужасают. Монстр распахивает огромную пасть и издает протяжный, высокий, тревожный крик. Почти человеческий.
Остальные тут же отзываются. Их рев какофонией разносится по улицам. Мегадонт встает на задние ноги и всю силу своих мышц обрушивает на обломки контейнера, топча его, словно игрушку. Люди ссыпаются с его спины, будто облетает вишневый первоцвет. В приступе ярости животное пинает контейнер, и тот снова летит в нескольких жалких сантиметрах от Трана.
Старик силится подняться, но тщетно. Контейнер разбивается о стену. Мегадонт жаждет полной победы: дробит бамбуковые и тиковые обломки тяжелыми ступнями. На локтях Тран ползет
прочь от бушующего зверя, волоча за собой обездвиженную ногу. Погонщики пытаются обуздать животное, выкрикивают команды. Старик назад не смотрит. Он сосредоточен на груде булыжников для мостовой неподалеку. За нею можно укрыться. Нога не слушается. Отказывается работать. Как будто отвергает Трана. Мстит. Наконец он в укрытии. Опирается спиной о камни.
— Ничего, — бормочет он под нос. — Все в порядке. — И осторожно переносит вес на покалеченную ногу.
Нога дрожит, подкашивается, но страшной боли нет. Пока что.
— Мэй вэньти,[41] Мэй вэныти, — шепчет Тран. — Пустяки. Просто трещина. Пустяки.
Повсюду крики людей и рев животных. Но перед его глазами только старое разбитое колено. Он отталкивается от каменной груды, делает шаг и немедленно падает, словно марионетка, нити которой лишились натяжения.
Стиснув зубы, Тран вновь опирается на камни и массирует колено, оглядывая беспорядок вокруг. Через спину разъяренного мегадонта перекинуты веревки. Два десятка человек тянут их вниз, заставляя животное пригнуться к земле и утихнуть. От контейнера остались только щепки. Рассыпанный картофель превращен в густое месиво. Женщины ползают на коленях, дерутся за питательную массу, соскабливают ее с мостовой. Красное пятно быстро расползается по этой каше, но никому нет дела. «Сбор урожая» не прервать. В самом центре пятна из картофельной жижи торчат чьи-то штаны. Тран подозрительно хмурится и на здоровой ноге скачет туда. Неподалеку от разбитого контейнера замирает. Тело друга жестоко искалечено, обезображено, смешано с навозом мегадонта и картофельной массой. Огромная серая ступня животного испачкана в крови и плоти Ху. Кто-то зовет врача, но нерешительно, словно по привычке, оставшейся от времен, когда они не были сбродом с желтыми карточками.
Тран пробует идти — снова неудача. Он опирается на каркас контейнера, шевелит больной ногой, пытается понять, в чем дело. Колено сгибается, не особенно болит, но совершенно не держит вес. Еще попытка. Тот же результат.
Мегадонт наконец обуздан. Тело Ху оттаскивают в сторону. Коты-дьяволы немедленно сбегаются к луже крови — пировать. Мерцают в неясном свете метановых фонарей. Невидимые лапы ступают по картофельному месиву; число следов, усыпающих его, постоянно растет. Причем новые появляются уже совсем недалеко от тела Ху.
Тран тяжело вздыхает. Что ж, все мы умрем. Даже тем из нас, кто силен духом и телом, путь в один конец. Он решает сжечь несколько ритуальных банкнот ради Ху, чтобы облегчить ему долгий путь в потустороннем мире, потом одергивает себя: не слишком ли прыткий? Даже мин би[42] для тебя теперь непозволительная роскошь…
Подходит Картофельный Король, злой, взмыленный, разглядывает Трана, недоверчиво щурится:
— Сможешь работать?
— Да. — Тран хочет доказать, но нога снова подводит. Король качает головой.
— Заплачу, сколько накапало.
Машет рукой молодому парню, разгоряченному после схватки с мегадонтом.
— Эй ты! Шустрый! Работаешь. Оставшиеся мешки — на склад. Парень выжидает очередь к уцелевшему грузу, берет мешок, по пути к хранилищу минует Трана. Быстро отводит взгляд, радуясь, что старик уже не конкурент.
Довольный вновь налаженным процессом, Картофельный Король направляется назад к складу.
— Заплати мне больше, — говорит ему в спину Тран. — Вдвойне заплати. Твои мешки стоили мне ноги.
Король глядит на старика с жалостью, переводит взгляд на тело Ху. Пожимает плечами. Он не против. Мертвец своей доли не попросит.
Лучше подохнуть в состоянии полной невменяемости, чем осознавать и переживать в подробностях каждое мгновение неизбежной смерти от голода. Заработанные деньги Тран спускает на бутылку «меконга». Дряхлый. Немощный калека. Последний из своего рода. Его дети давно мертвы. А предкам суждено прозябать и мучиться в загробном мире: никто не зажжет для них благовоний, не пожертвует духам сладкого риса.
Должно быть, они проклинают его.
Сильно хромая и без конца спотыкаясь, Тран бредет сквозь душный мрак ночи. В одной руке сжимает начатую бутылку, другой — опирается о двери, стены, фонари, чтобы не упасть. Порой колено даже слушается. Но чаще отказывается работать. Сколько раз Тран уже поцеловал мостовую — не сосчитать.
Он даже пытается уверить себя, что валится на землю нарочно: вдруг съестное подвернется. Но Бангкок — это царство падалыциков и охотников за объедками. Коты-дьяволы, вороны и дети уже все здесь подобрали. Если Трану действительно повезет, то он наткнется на «белые рубашки», и они изобьют его до обморочного состояния, а может, отправят к бывшему владельцу костюма от братьев Хван. Эта мысль кажется ему весьма привлекательной.
В пустом желудке плещется целый океан виски. Тран весел и беззаботен впервые с тех пор, как случилось восстание. Он пьет, хохочет и призывает «белые рубашки», обзывая их бумажными тиграми и собачьими гондонами. Пусть придут к нему. Набор ругательств настолько впечатляющ, что любой услышавший не сможет устоять перед соблазном намять бока сквернослову. Но полиция министерства среды, видимо, слишком занята другими «желтокарточниками», ибо Тран блуждает по зеленой мути бангкокской ночи в совершенном одиночестве.
Ну что ж. Пусть так. Если не «белые рубашки», то он сам себя прикончит. Доберется до реки и бросится в грязный поток. Какое блаженство. Течение вынесет его в открытые воды океана, словно клипер. Так окончится род Трана. Он прикладывается к бутылке, теряет равновесие и мешком валится на мостовую, всхлипывая и проклиная «белые рубашки», «зеленые повязки» и мачете.
Добравшись до ступеней неподалеку, Тран переводит дух, скрючившись и прижимая к груди чудом уцелевшую бутылку. Словно бесценный осколок нефрита в слабых руках. Тран смеется от радости. Было бы совсем скверно расплескать остатки живительного пойла по брусчатке.
Он делает новый глоток и смотрит на мерцающие фонари. Цвет горящего метана нынче — это цвет отчаяния. Прежде зеленый был цветом кориандра, шелка и нефрита. Теперь же метановая муть напоминает только о кровожадных людях в зеленых повязках и о ночных поисках еды среди мусорных куч. Фонарный свет подрагивает. Бесконечный зеленый город. Бесконечный мир отчаяния.
Внезапно, держась тени, кто-то пересекает дорогу. Тран подается вперед, чтобы разглядеть. На миг кажется, что это «белая рубашка». Но нет. Слишком уж воровато движется. Это женщина. Точнее, девушка. Ладная, все при ней. И сколько соблазна в этой странной перекатывающейся походке…
Дарума.
Тран ухмыляется. Точнее, складки на его худом лице собираются в удивленную гримасу при виде этого невероятного существа, крадущегося в ночи. Вот это потеха! Дарума. Дарума Ма Пина. Противоестественная форма жизни.
Она скользит от тени к тени. Создание, которое «белые рубашки» пугают больше, чем старого пьяного китайца с желтой карточкой. Беспризорное дитя, вырванное из привычной среды обитания и брошенное в городе, презирающем все, что дарума собой представляет: ее генетический набор, ее производителей, ее нечеловеческое телосложение. Отсутствие души.
Она призрак. Который был здесь каждую ночь, неподалеку от Трана, роющегося в мусоре и объедках. Призрак уродливо ковылял сквозь удушающий мрак, когда Тран прятался от патруля «белых рубашек». Несмотря ни на что, даруме удается выживать. Раз за разом.
Покачиваясь, Тран встает на ноги и шагает, опираясь рукой о стену. Глупая мысль, нелепая прихоть, но дарума полностью овладела его пьяным воображением. Тран собирается проследить путь «японской поделки», этого чужеродного тела, презираемого сильнее, чем что бы то ни было в Бангкоке. Он идет за нею. Возможно, в надежде украсть поцелуй. Возможно, чтобы защитить от опасностей, таящихся в ночи. В конце концов, представить, что он еще тигр, а не пьяная немочь, жалкая карикатура на человека.
Дарума следует по самым темным из улочек, держится спасительного мрака, укрытая от глаз «белых рубашек», которые зарыли бы ее живьем, она и пикнуть не успела бы. Коты-дьяволы мяукают ей вслед, чуя ту же циничность, с которой сами были созданы. Королевство кишит болезнями, его осаждает такое количество монстров, выведенных в биоинженерных лабораториях, что контролировать их нет никакой возможности. Будь то возбудитель серых чесоточных наростов или гигантские рабочие животные — их не остановить. И с той же настойчивостью, с которой Таиланд сопротивляется нашествию мутантов, Тран идет за дарумой. Два захватчика здешних территорий, подобные ржавчинному грибу на дуриане. Нежеланные гости. Неприкаянные.
Несмотря на способ передвижения, дарума довольно резвая. Тран едва поспевает следом. Колено трещит и болтается; старик то и дело стискивает зубы от боли. Порой он падает, но отступать не собирается. Дарума, качнувшись, ныряет в очередную тень. Походка неваляшки выдает нечеловеческую природу. Не важно, насколько девушка красива. Не важно, насколько умна, насколько здорово ее тело и как нежна ее кожа. Она дарума и создана служить. И весь ее генный набор сбалансирован и подобран именно с этой целью. И каждый ее неестественный шаг выдает в ней всего лишь рабу человеческих прихотей.
Наконец, когда Тран понимает, что ноги его больше не удержат, дарума останавливается перед чернеющей пастью входа в высотку. Многоэтажная башня вроде той, где ночевал Тран. Еще один жалкий, полуразваленный остов, призрак времен старой экспансии. С высоты доносятся звуки музыки и смех. В красном свете, льющемся из окон пентхауса, мелькают тени, силуэты танцующих женщин. Пьяные вопли, грохот барабанов… Дарума исчезает внутри.
Перешагнуть порог подобного заведения… Спустить последний бат, пока женщины вокруг танцуют и поют похабные песни… Неожиданно Тран жалеет, что уже потратил выручку на бутылку виски. Вот где он хотел бы умереть. В притоне плотских удовольствий, которых не ведал с тех пор, как прибыл сюда. Он поджимает губы, соображая. Может, и удастся проникнуть внутрь. Обтрепавшийся костюм вполне сгодится для блефа. А сам Тран, возможно, и сойдет за приличного посетителя. Да. Пожалуй, стоит рискнуть. Если же с позором выставят, если снова смешают с грязью, что с того? Все равно его ожидают мутные речные воды, по которым он отправится в последний путь к океану, чтобы встретиться с сыновьями.
Собравшись перейти улицу, Тран падает — снова подводит колено. И снова чудом цела бутылка. Остатки янтарной жидкости сверкают в метановом свете. Поморщившись, Тран отползает и усаживается спиной к стене дома, поближе к дверному проему. Сперва отдохнуть. И покончить со спиртным. Дарума останется здесь надолго. Есть еще время перевести дух. А если свалится снова, то хотя бы виски ничего не будет угрожать. Он запрокидывает голову, упирается затылком в стену и подносит бутылку ко рту. Вот так. Просто перевести дух.
Вдруг раздается громкий смех. Тран вздрагивает. Из входа в высотку показывается пьяный, хохочущий человек. За ним вываливается целая толпа таких же, гогочущих и толкающих друг друга. Они тащат за собой хихикающих девиц, машут велорикшам, поджидающим надравшихся толстосумов. Неспешно толпа редеет. Тран прикладывается к бутылке, но та уже пуста.
Показываются еще двое. Один из них — Ма Пин. Другой — фаранг, видимо, его босс. Последний подзывает рикшу, взбирается в повозку и машет Ма на прощание. Молодой человек поднимает руку в ответ, и золотые часы на запястье искрятся в мутном зеленом свете фонарей. Часы Трана. Сияющий осколок его жизни. Семейная ценность. Тран хмурится. Заполучить бы их обратно…
Рикша Навозного Короля отъезжает. Все дальше скрип несмазанной цепи и пьяная болтовня. Ма Пин остается один посреди пустой дороги. Смеясь, направляется обратно к высотке, потом, будто что-то вспомнив, поворачивается и нетвердым шагом идет через дорогу, прямо в сторону Трана.
Старик отодвигается в тень дверного проема, не желая, чтобы Ма застал его в подобном виде. Довольно с Трана унижений. Он сжимается все сильнее, пока пьяный человек блуждает в поисках рикши. Все извозчики разъехались. И у высотки бездельников не осталось…
В метановой мути сверкают золотые часы.
Из зеленой клубящейся завесы появляются неясные фигуры. Идут трое, их коричневая кожа почти сливается с ночным мраком, контрастируя с белыми мятыми рубашками. На запястных ремешках крутятся черные дубинки. Ма, похоже, не замечает, как приближаются патрульные. В ночном воздухе отчетливо слышно каждое слово, которое они произносят:
— Что-то вы припозднились.
Ма вздрагивает, нервно улыбается:
— Неужели? На мой взгляд, еще не очень поздно! Трое окружают его.
— Довольно поздно для человека с желтой карточкой. Вы должны быть дома. Весьма неразумно гулять после комендантского часа. Особенно с такими вещами на запястье.
Ма успокаивающе поднимает руки:
— Да что вы. Какая желтая карточка… вы ошиблись.
— Судя по акценту — нет. Ма шарит по карманам:
— Серьезно, сейчас я покажу…
Один из патрульный подходит совсем близко:
— Я сказал, что можно шевелиться?
— Мои бумаги, взгляните…
— Руки за голову!
— Взгляните на печати!
— Я сказал, за голову!
Вхмах дубинки. Ма вскрикивает, хватается за руку. Обрушивается град ударов. Человек корчится, закрывается руками:
— Нгшадэ би![43]
«Белые рубашки» давятся от смеха:
— А наречие желтых карточек знаешь!
Дубинка быстро и сильно опускается, и Ма с воплем падает, схватившись за ногу. Пинок в лицо заставляет разогнуться, и патрульный стучит окровавленной дубинкой по груди жертвы:
— Смотри, что за рубашка, Тонгчай. Получше, чем у тебя.
— Наверное, протащил через таможню с полной задницей нефрита.
Над Ма склоняются:
— Это правда? Ты гадишь нефритом?
Будто полоумный, китаец мотает головой и ползет прочь. Изо рта обильно льется кровь. Одна нога недвижна. Патрульный пинает Ма еще раз, переворачивает носком ботинка на спину, ставит ногу ему на лицо. Другие двое, перепугавшись, пятятся. Бить человека — это одно…
— Саттипонг. Не надо… Тот оборачивается:
— Чего струхнули? Эта мразь не лучше ржавчинного гриба. Все они ныть начинают, выпрашивают жратву, когда нам едва хватает. — Он пинает руку Ма. — А сами… Поглядите. Золото.
Ma хрипит, пытается снять часы:
— Возьмите. Пожалуйста. Заберите…
— Не тебе подачками сорить, желтая карточка.
— Не желтая карточка… Нет… — Ма едва ворочает языком. Не ваше министерство…
Он судорожно рыщет в кармане под пристальным взглядом «белой рубашки». Наконец достает документы, трясущейся рукой протягивает…
Саттипонг берет бумаги, разглядывает. Наклоняется:
— Думаешь, местные нас не боятся?
Он швыряет документы на землю и набрасывается на Ма, как кобра. Пинки так и сыплются. Он очень быстр. Избивает со знанием дела. Ма клубком катается по земле, пытаясь увернуться. Наконец, тяжело дыша, Саттипонг отступает.
— Теперь вы, научите его уважению.
Товарищи нерешительно переглядываются, но перечить не смеют и принимаются за дело, подбадривая друг друга выкриками. Из высотки выходят люди, но, завидев патрульных, спешно возвращаются обратно. Свидетелей нет. Единственный наблюдатель не показывается из своего убежища.
Теперь Саттипонг, кажется, доволен. Он снимает «Ролекс» с руки китайца, плюет ему в лицо и жестом приказывает товарищам идти за ним. От места, где прячется Тран, они проходят угрожающе близко. Тонгчай с сомнением замечает:
— Он может пожаловаться.
Саттипонг качает головой, защелкивая браслет часов на запястье:
— Свой урок он усвоил.
Постепенно их шаги затихают. В пентхаусе все еще грохочет музыка. На улице — ни души. Тран терпеливо ждет на случай новых хищников. Но никто не появляется. Будто городу теперь нет никакого дела до искалеченного малайского китайца на мостовой. Тран направляется к Ма.
Несчастный, завидев старика, тянет к нему слабую руку:
— Помогите…
Сначала на тайском, потом на английском, затем на малайском, на языке прошлого. Узнав Трана, слабо улыбается окровавленным ртом. Произносит на мандарине, на наречии их прежнего союза:
— Лао пэнъю.[44] Ты что тут делаешь?
Тран опускается на здоровое колено рядом, изучает избитое лицо перед собой:
— Видел твою даруму.
Ма слабо улыбается:
— Теперь веришь?
Из-за огромного отека его глаз почти не видно, кровь струится из рассеченной брови.
— Верю.
— Кажется, они сломали мне ногу.
Ма пытается сесть, но, вскрикнув, валится на землю. Ощупывает ребра, голень.
— Не смогу идти.
От боли втягивает воздух: еще одна кость сломана.
— Ты был прав насчет «белых рубашек».
— Рука дающая вольна забрать, когда ей вздумается. Тон старика заставляет Ма повернуть голову.
— Прошу. Я ведь накормил тебя. Найди мне рикшу. — Он пристально вглядывается в лицо Трана, рукой по памяти ощупывает запястье, где раньше красовалась драгоценность. Попытка предложить сделку. Обмен на жизнь.
Неужто злой рок, думает Тран. Или удача? Злой рок, ведь часы теперь у «белых рубашек» с черными дубинками. Удача — Тран пришел сюда, чтобы увидеть мучения Ма. Неужто действительно так? Или кармой для них двоих уготовано куда большее предназначение?
Мольба в глазах несчастного. Тран вдруг вспоминает, как давным-давно уволил молодого служащего, выставив на улицу без компенсации и запретив возвращаться. Правда, тогда он был большим человеком. Теперь же полное ничтожество. Даже хуже. Он помогает Ма сесть.
— Спасибо… спасибо…
Старик методично ощупывает его карманы, шарит в поисках случайного бата, который не забрали «белые рубашки». Неосторожным движением задевает Ма, и тот со стоном выругивается. Тран подсчитывает добычу: жалкая мелочь, которая для него все равно что целое состояние. Ссыпает монеты в собственный карман.
Дыхание Ма учащается, он хрипит:
— Прошу. Рикшу. Это все. Его едва слышно.
Склонив голову набок, Тран размышляет, пока инстинкты в нем ведут борьбу. Затем со вздохом качает головой:
— Мы держим удачу за хвост, так ты говорил. Натянуто улыбается:
— Мое собственное высокомерие из свежих, молодых уст.
Все еще удивляясь своему прежнему сытому «эго», Тран разбивает бутылку о булыжники. Стекло брызжет в стороны. Осколки сияют зеленым в свете фонарей.
— Будь я прежним большим человеком…
Горькая ухмылка.
— Но в конце концов и ты, и я лишь рабы иллюзий. Мне очень жаль.
Бросив последний взгляд вокруг, он всаживает осколок бутылки в горло Ма. Тот дергается, и кровь фонтаном брызжет на руку Трана. Старик отскакивает, чтобы не запачкать костюма. Ма силится достать до осколка в клокочущей глотке, но рука безвольно падает. Булькающее дыхание замирает.
Трана колотит. Рука дрожит, как от электрического разряда. Так много смертей он видел… Но редко убивал сам. И вот перед ним лежит Ма, еще один малайский китаец, в чьей гибели виноват только Тран. История повторилась. Сильная тошнота заставляет согнуться.
Он ползет в спасительную тень дверного проема и там поднимается на ноги. Проверяет колено. Будто бы держит. На улице пусто и тихо. Посреди дороги куча мусора: тело Ма. Вокруг все недвижно.
Тран поворачивается и хромает прочь, придерживаясь стен. Пройдя несколько домов, он замечает, как гаснут фонари, один за другим, будто подвластные чьей-то огромной руке. В это время министерство общественных работ отключает газовое снабжение. Улица погружается в кромешную тьму.
Широкая Суравонг-роуд темна и почти пуста, когда Тран добирается до нее. В свете звезд — пара старых быков, неспешно волокущих телегу на каучуковых колесах. Рядом с ними неясная тень хозяина, тихо приговаривающего что-то. Мяуканье возбужденных котов-дьяволов разрезает горячий воздух. Больше никого.
Вдруг со стороны — скрип ржавой велосипедной цепи. Шорох колес по мостовой. Тран оборачивается, опасаясь, что это патруль гонится за ним. Но это всего лишь велорикша. Старик поднимает руку, сжимая в пальцах бат из кармана Ма. Рикша тормозит. Худые потные конечности блестят в свете луны.
— Куда направляетесь?
Тран сверлит взглядом широкое лицо извозчика, вдруг тот переодетый хищник… Но рикша всего лишь жаждет заполучить монету в руках старика. Тран отбрасывает сомнения прочь и забирается в повозку:
— К фабрикам фарангов. У реки. Рикша удивленно оборачивается:
— Они все закрыты. Ночью тариф на энергию слишком высокий. Никто не работает.
— Не важно. Появилась вакансия. Будет конкурс на место. Рикша поднимается на педалях:
— Ночью?!
— Завтра. — Тран устраивается удобнее. — Не хочу опоздать.
Заводная
Посвящается Анджуле
1
— Нет, не надо мне мангостан. — Андерсон тянет руку и показывает пальцем. — Вот, вот это. Ко полламаи ни кхап. С красной шкуркой, с зелеными усиками.
Крестьянка улыбается, выставляя напоказ почерневшие от бетеля зубы, и тычет в сложенную рядом с ней горку фруктов:
— Ан ни чай май кха?
— Да, вот их. Кхап. — Андерсон кивает, вымучивая улыбку. — Как называются?
— Нго-о, — выговаривает она старательно, чтобы иностранец хорошо расслышал, и протягивает один на пробу.
— Не было таких раньше, — недоверчиво замечает Андерсон.
— Кха, — кивает крестьянка.
Он вертит диковину в руках, внимательно разглядывает со всех сторон. Больше похожа на цветастую актинию или на раздувшуюся рыбу-иглобрюха, чем на фрукт. Торчащие со всех сторон крупные зеленые усики щекочут ладонь. Шкурка отливает коричнево-рыжим — признак пузырчатой ржи. Андерсон принюхивается, но не чувствует ни малейшего запаха гнильцы. Похоже, плод совершенно здоров, хотя выглядит подозрительно.
— Нго, — повторяет крестьянка и, словно угадав мысли покупателя, добавляет: — Совсем новый. Пузырчатой ржи нет.
Андерсон рассеянно кивает. Бангкокский рыночный переулок-сой бурлит от утреннего наплыва покупателей. В воздухе висит неприятный запах, источаемый горами дурианов. В бочках с водой плещутся змееголовы и красноперые рыбы-пла. Тенты, сотканные из полимеров пальмового масла, провисают под тяжелыми лучами раскаленного тропического солнца. На землю падают тени от нарисованных на них вручную парусников торговых компаний и лика досточтимой Дитя-королевы. Мимо протискивается человек — он держит над головой кур, которых несет на убой; птицы хлопают крыльями, трясут алыми гребешками и отчаянно квохчут. Женщины в ярких юбках-пасин, улыбаясь, торгуются с продавцами — сбивают цены на пиратскую модификацию риса компании «Ю-Текс» и томаты новой версии. Эти продукты Андерсона не интересуют.
— Нго, — снова говорит крестьянка, выводя покупателя из задумчивости.
Длинные зеленые усики щекочут ладонь, дразнят, требуют выяснить, откуда взялся этот фрукт, эта победа тайских генных хакеров — такая же, как томаты, баклажаны и перцы чили, которыми переполнены соседние прилавки. Все здесь так, будто сбылись пророчества грэммитской библии[45], будто святой Франциск восстал из могилы и приготовился ступить на землю, неся щедрые дары — утраченные человечеством калории.
«И приидет он при звуке труб, и станет всюду рай…»
Андерсон крутит в ладони странный плод: ни дурного запаха, какой бывает при цибискозе, ни парши от пузырчатой ржи, ни крохотных узоров, которые оставляют после себя долгоносики с измененными генами. У Андерсона Лэйка своя карта мира: вместо стран на ней цветы, овощи, деревья и фрукты, но нигде среди них нет ни единой подсказки.
Нго. Тайна.
Он показывает крестьянке, что хотел бы попробовать фрукт. Та, проведя смуглым пальцем, легко счищает кожуру, обнажая бледную сердцевину — полупрозрачную, в прожилках, необычайно похожую на маринованные луковки, которые подают с мартини в Де-Мойне в клубах исследователей.
Андерсон берет плод и осторожно принюхивается. Пахнет цветочным сиропом. Нго. Невозможный фрукт. Еще вчера не существовал, еще вчера его было не найти ни на одном лотке во всем Бангкоке, а теперь — вот он, целые горы заняли все пространство вокруг этой чумазой женщины, которая сидит на корточках наполовину в тени тента. На шее торговки блестит позолотой и подмигивает Андерсону амулет: мученик Пхра Себ[46] — защита от мора, что напускают на растения компании-калорийщики.
Хорошо бы увидеть, как растет этот фрукт, думает Андерсон, на каком висит дереве, в листве какого кустарника прячется. Знать бы чуть больше, и можно предположить его род и семейство, сделать робкую попытку угадать, что за тайны генного прошлого жаждет разыскать тайское королевство. Но нигде ни малейшей зацепки, и остается лишь попробовать этот скользкий полупрозрачный шарик.
Взрыв насыщенного сладкого вкуса; липкий цветочный сироп мгновенно обволакивает язык. Андерсону кажется: он снова сынишка простого айовского фермера, стоит босиком посреди скошенного кукурузного поля компании «Хайгро», и агроном из «Мидвест компакт» только что угостил его крохотным, первым в жизни леденцом. Ошеломляющий, первый настоящий аромат после целой вечности безвкусной пищи.
На землю льется солнечный свет. Кругом толкотня, базарный шум, но Андерсон не замечает ничего. Закрыв глаза, он перекатывает во рту нго, смакует вкус прошлого, когда эти фрукты росли в изобилии, а цибискоз, японские долгоносики со взломанными генами, пузырчатая ржа и чесоточная плесень еще не опустошили сады и поля.
Солнце давит на плечи раскаленным грузом, мычат буйволы, где-то режут кур, а он блаженствует. Будь Андерсон грэммитом, рухнул бы прямо тут на колени, забился в экстазе и возблагодарил небо за то, что на землю сошел рай.
Он сплевывает на ладонь черную косточку и улыбается. В бессчетных дневниках исследователей и ботаников минувших времен их авторы в поисках новых видов растений прорубались сквозь неизведанные джунгли, но ничто из найденного ими и близко не стоит с одним-единственным нго.
Тем ученым хотелось сделать открытие; ему посчастливилось стать свидетелем воскрешения.
Крестьянка так и сияет, понимая, что фрукты купят.
— Ао ги кило кха? Сколько.
— А не заразные?
Она показывает разложенные прямо на мостовой сертификаты министерства природы, тычет пальцем в даты инспекций.
— Самая последняя версия. Высший класс.
Андерсон разглядывает блестящие печати и думает, что она подкупила белых кителей — вряд ли товар проходил полную проверку на устойчивость к пузырчатой рже восьмого поколения и к цибискозу-111 седьмой и восьмой мутаций. Цинизм подсказывает, что в бумажках нет никакого смысла. Сверкающие на солнце замысловатые печати — скорее талисманы, в этом опасном мире людям с ними спокойнее. Если же опять грянет эпидемия цибискоза, сертификаты не помогут — старые тесты не определят новую мутацию. Народ станет молиться амулетам Пхра Себа, образу Рамы XIII, делать подношения в храме Священного столпа и кашлять ошметками легких, сколько бы министерских штампов ни украшало продукты.
Он кладет косточку нго в карман.
— Беру кило. Нет. Два. Сонг.
Андерсон протягивает крестьянке сумку из конопляного полотна и даже не думает торговаться. Сколько ни попросит — продешевит. Такие чудеса стоят всех денег мира. Редкий ген, благодаря которому растение не поддается мору или лучше перерабатывает азот, заставит прибыли взлететь до небес. Доказательства всюду, куда ни глянь. Рыночный переулок забит тайцами, покупают все подряд — от ю-тексовского риса со взломанным генетическим кодом до домашней птицы, у которой мясо красного цвета. Но все это — уже прошлые успехи генхакеров «Агрогена», «ПурКалории» и «Тотал нутриент холдингз», плоды старой науки, произведенные в недрах лабораторий «Мидвест компакт».
Нго — иной. Нго — не из «Мидвеста». Тайское королевство умеет схитрить там, где остальные спасовали бы. Пока Индия, Бирма, Вьетнам и прочие рушатся как фишки домино, голодают и вымаливают у монополистов-калорийщиков новые научные разработки, оно процветает.
Несколько прохожих останавливаются оценить покупку, и хотя Андерсон полагает, что заплатил немного, находят ее слишком дорогой и шагают дальше.
Крестьянка протягивает нго, и он от радости едва не заходится смехом. Ни одного из этих лохматых плодов не должно существовать в природе, с таким же успехом в сумке могли бы лежать живые трилобиты. Если его догадка о том, откуда взялись эти фрукты, верна, значит, произошло возрождение, а такое потрясает не меньше, чем встреча с тираннозавром посреди Тханон Сукхумвит[47]. Но в таком случае так же вернулись из небытия и томаты, картофель, перец, которыми завален рынок. На изобильных лотках стройными рядами лежат пасленовые со всхожими семенами — такого люди не видели уже несколько поколений. Будто нет ничего невозможного в этом тонущем городе: фрукты и овощи возвращаются с того света, давно вымершие цветы обрамляют проспекты, а за всем этим стоит министерство природы, которое творит чудеса с помощью генетического материала, добытого из безвозвратного прошлого.
С сумкой в руках Андерсон протискивается через рыночный переулок на соседний проспект. Движение бурлит — тханон Рамы IX больше похожа на Меконг во время наводнения: толкутся утренние пешеходы, снуют велосипеды и рикши, вышагивают иссиня-черные буйволы, плетутся огромные мегадонты.
Из тени ветхого офисного небоскреба возникает Лао Гу, который на ходу сбивает тлеющий кончик сигареты. Опять пасленовые. Они повсюду. Нигде в мире их не найти, а тут — куда ни посмотри. Лао Гу прячет остатки табака в карман рваной рубахи и бежит вперед к рикше Андерсона.
Старый китаец — настоящее чучело в лохмотьях, но при этом везунчик. Почти весь его народ погиб, а он жив; собратья — беженцы-малайцы — теснятся в душных башнях времен Экспансии, как куры на птицефабрике перед убоем, а у него есть работа. У жилистого Лао Гу достаточно денег, чтобы баловать себя сигаретами марки «Сингха». По сравнению с другими владельцами желтых билетов беженцев он настоящий король.
Лао Гу, усевшись в седло, терпеливо ждет. Андерсон устраивается позади на пассажирском месте и приказывает:
— В офис. Бай кхап. — Потом переходит на китайский: — Зу ба.
Старик давит на педали всем весом, и экипаж с трудом влезает в общий поток. Вокруг тут же начинают возмущенно трезвонить другие велосипедисты — так, словно началась эпидемия цибискоза. Лао Гу не обращает на них внимания и въезжает в самую гущу.
Андерсон тянет руку еще за одним нго, но тут же себя осаживает — следует приберечь. Слишком уж эти фрукты ценны, не стоит набрасываться на них как жадный ребенок. Тайцы извлекли прошлое из могилы, и, получив тому доказательство, надо получить от него настоящее неспешное удовольствие.
Он нетерпеливо постукивает пальцами по сумке и, желая отвлечься от фруктов, закуривает. Наслаждаясь каждой затяжкой, Андерсон вспоминает тот день, когда с изумлением обнаружил, что Тайское королевство процветает, а пасленовые растут здесь повсюду. Еще на память приходит Йейтс: расстроенный, тот сидит напротив, в воздухе между ними клубится дым — знак воскресшего прошлого.
— Пасленовые.
В сумеречном офисе «Спринглайфа» пламя спички выхватило багровое лицо Йейтса. Он прикурил, глубоко затянулся — кончик сигареты вспыхнул, затрещала рисовая бумага — и выпустил струю дыма в потолок, где вентиляторы с механическим приводом гоняли душный, как в сауне, воздух.
— Баклажаны, томаты, перцы чили, картофель, жасмин, nicotiana, — Йейтс слегка взмахнул сигаретой, поднял бровь, — она же табак, — и снова сделал затяжку, скосив глаза на огонек.
Из полумрака выступали рабочие столы и выключенные компьютеры с ножными динамо. По вечерам, после закрытия завода, могло показаться, что пустые столешницы — вовсе не свидетельство полного упадка; что сидевшие за ними люди разошлись по домам отдохнуть перед новым тяжелым днем. Если бы не слой пыли на стульях и компьютерах, то в сумерках среди падавших на мебель полосок лунного света, который пробивался сквозь деревянные ставни, вполне можно было бы представить, что предприятие благоденствует.
Медленно вращались лопасти механических вентиляторов. Ритмично поскрипывали протянутые под потолком ремни из лаосской резины — твердый ручеек кинетической энергии, текущий от центральных пружин завода.
— Сначала у тайцев в лабораториях удача за удачей, — сказал Йейтс, — а тут еще ты появляешься. Я не суеверен, а то решил бы, что они и тебя наколдовали из воздуха, как те помидоры. Хотя понимаю: всякому организму — свой хищник.
— Ты должен был сообщать об их достижениях. У тебя есть обязанности помимо фабрики.
Йейтс поморщился. По его лицу — настоящему справочнику о вреде тропического климата, — как реки по земле, бежали лопнувшие сосудики; они покрывали щеки и расчерчивали пунктиром мясистый нос. Йейтс моргнул и уставил на Андерсона взгляд своих почти бесцветных глаз — мутный, словно пропитанный навозным смрадом городской воздух.
— Стоило догадаться, что ты закроешь мою нишу.
— Ничего личного.
— Да, ерунда — дело всей жизни. — Такой же трескучий смех бывал у больных на ранней стадии цибискоза. Не знай Андерсон, что все сотрудники «Агрогена» привиты от новых штаммов, немедленно убежал бы.
— Я возводил все это годами, — Йейтс махнул рукой в сторону смотровых окон, выходивших в цех, — а ты говоришь «ничего личного». У меня тут спиральные пружины размером с кулак, и в каждой — миллиарды джоулей. Соотношение вес — емкость — в четыре раза выше, чем у любых других на рынке. Это без пяти минут революция, а ты хочешь взять все и выбросить. — Он наклонился к Андерсону. — Люди не знали настолько компактных источников энергии со времен бензина.
— И не узнают, пока не начнешь их выпускать.
— Я уже близко. Надо только разобраться с водорослевыми ваннами, в них вся загвоздка.
Андерсон промолчал. Йейтс решил продолжать.
— Здесь основной принцип — звук. Когда ванны станут давать достаточный объем…
— Ты должен был сразу поставить нас в известность, как только увидел, что здесь начали продавать пасленовые. Тайцы уже пятый сезон преспокойно выращивают картофель, у них явно появился свой банк семян, а от тебя — ни слова.
— Это не по моей части. Мое дело — накопители энергии, а не сельское хозяйство.
Андерсон фыркнул в ответ.
— И где ты возьмешь калории, чтобы заводить свои чудо-пружины, если случится неурожай? Пузырчатая ржа теперь мутирует каждые три сезона. Генхакеры-восстановители вскрывают нашу сою-про и пшеницу «Тотал Нутриента». Сопротивляемость долгоносикам у последней версии кукурузы «Хайгро» шестьдесят процентов, и вдруг мы узнаем, что у тебя тут вокруг, оказывается, генетический рай. Люди голодают…
— Вот только не надо о спасении жизней, — хохотнул Йейтс. — Я видел, что случилось с банком семян в Финляндии.
— Не мы взорвали их запасники. Кто же знал, что финны — такие фанатики.
— Да любой идиот догадался бы, что так и произойдет — компании-калорийщики репутацию себе заработали что надо.
— Это была не моя операция.
— Наша любимая отговорка, — снова засмеялся Йейтс. — Компания что-нибудь натворит, а мы все разводим руками и делаем вид, будто ни за что не отвечаем. Оставили Бирму без сои-про — мы отошли в сторонку и сказали, что споры об интеллектуальной собственности — не по нашей части. А люди голодают точно так же. — Он затянулся, выпустил клуб дыма. — Сказать по правде, не понимаю, как такие, как ты, могут спокойно спать.
— Просто. Молюсь Ною, святому Франциску и благодарю Бога за то, что мы пока на шаг впереди пузырчатой ржи.
— Ну так что теперь — закроешь завод?
— Нет, разумеется. Производство пружин пусть себе идет.
— Вот как? — оживился Йейтс.
Андерсон только пожал плечами:
— Хорошее прикрытие.
Тлеющий кончик сигареты обжигает руку, Андерсон выбрасывает окурок на дорогу, потирает большой и указательный пальцы. Лао Гу крутит педали, прокладывая путь сквозь плотное движение. Мимо плывет Бангкок, город Божественных воплощений.
Монахи в одеждах шафранового цвета бредут по тротуарам, прикрываясь черными зонтами. В монастырскую школу стайками бегут дети — толкаются, теснятся, хохочут, что-то кричат друг дружке. Уличные торговцы широко раскидывают руки, увешанные гирляндами из бархатцев — подношениями храму, — и поднимают повыше над головами блестящие на солнце амулеты преподобных монахов, которые защищают от всего подряд — от бесплодия до чесоточной плесени. На передвижных лотках с едой шипит и дымится горячее масло, попахивает ферментированной рыбой; под ногами покупателей мерцают силуэты чеширов, которые громко мяукают в ожидании объедков.
Высоко над улицей смутно маячат старые башни времен Экспансии, одетые в лианы и плесень; окна давно выбиты, каменные кости дочиста обглоданы, обшивка вспучивается на солнце. Жить в них невозможно — ни лифтов, ни кондиционеров. Сквозь поры в стенах местами валит черный дым от костров на сухом навозе — беженцы из Малайи пекут лепешки-чапати и наспех заваривают кофе, пока не налетели белые кители, не взяли штурмом душный небоскреб и не избили самовольных захватчиков.
Посреди дороги сидят согнувшиеся в глубоком поклоне беженцы с севера, с угольной войны и протягивают кверху руки — отточенный жест, просьба о помощи. Поток велосипедов, рикш и запряженных в повозки мегадонтов обтекает их, как речная вода — валуны на стремнине. Губы и носы нищих будто головками цветной капусты покрыты густой бахромой шрамов фагана, зубы черны от бетеля. Андерсон бросает к их ногам деньги и, проезжая мимо, чуть кивает в ответ на благодарные ваи[48].
Вскоре впереди возникают беленые стены и узкие проезды промышленного района фарангов. Склады и фабрики стоят тесно, в воздухе пахнет солью и гниющей рыбой. Длинные улицы будто сплошь обросли коростой — везде сидят торговцы, прикрываясь от страшного солнечного пекла кусками брезента и одеял. Чуть дальше видны шлюзы и укрепления дамбы короля Рамы XII, которая сдерживает мощь голубого океана.
Трудно постоянно не вспоминать об этих высоких стенах и о том, с какой силой давит на них вода; трудно представлять себе город Божественных воплощений и не думать о катастрофе, только и ждущей своего часа. Но тайцы упорны, они затратили массу усилий на то, чтобы спасти священный город Крунг Тхеп[49] от потопа. Работающие на угле насосы, постоянное укрепление дамбы и искренняя вера в мудрость правящей династии Чакри помогают им пока держать в узде ту мощь, что поглотила Нью-Йорк, Рангун, Мумбаи и Новый Орлеан.
Лао Гу едет медленно, раздраженно трезвонит заполонившим проезд чернорабочим-кули. На их смуглых спинах покачиваются ящики из древесины «Везеролл», гипнотически ходят из стороны в сторону логотипы китайских спиральных пружин «Чаочжоу», антибактериальных рукояток «Мацусита» и керамических водяных фильтров «Бо Лок». Заводские стены сплошь расписаны иллюстрациями к учению Будды, ликами досточтимой Дитя-королевы, а между ними втиснуты нарисованные от руки картинки прошедших боев по муай-тай, тайскому боксу.
Огромной крепостью над толпой возвышается фабрика «Спринглайф», вдоль верхнего этажа пунктиром идут вентиляционные отверстия, в них медленно вращают лопастями огромные вентиляторы. На другой стороне проулка стоит здание-близнец — Чаочжоуская фабрика велосипедов. Между двумя строениями — обычный затор из торговых тележек с едой, здесь рабочие покупают закуски и обеды.
Лао Гу с трудом пробивается на фабричный двор и высаживает Андерсона у центрального входа. Тот берет сумку с нго и ненадолго замирает, глядя на широкие, под мегадонтов, восьмиметровые ворота. Следовало бы назвать предприятие по-другому: «Йейтсов каприз». Этот Йейтс был страшный оптимист. Андерсон в красках вспоминает, как тот горячечно убеждал его в поразительных свойствах водорослей со взломанными генами, рылся в столе, искал нужные схемы и неразборчиво написанные заметки, не переставая возмущаться:
— Нельзя заранее ставить крест на моей работе из-за одного только провала того проекта, «Океанских даров». Если водоросли отверждать правильно, их способность поглощать вращательный момент вырастет экспоненциально. Не важно, какой у них калорийный потенциал, — думай о промышленном применении. С моей помощью весь рынок хранения энергии будет твой, дай только время. Или хотя бы испытай прототип пружины, прежде чем примешь решение.
Андерсон входит внутрь. Фабричный грохот прогоняет воспоминание о последнем, отчаянном вопле Йейтса в защиту своей идеи.
Мегадонты с ревом тянут рычаги воротов, медленно вышагивая вокруг центральных валов — огромные головы опущены, хоботы волочатся по полу, ритмично лязгает упряжь. Эти существа, полученные генным взломом, — живое сердце главного движущего механизма, который передает энергию конвейерам, вентиляторам и всем машинам фабрики. Рядом в красно-золотых одеждах идут надсмотрщики — члены профсоюза, покрикивают на зверей и время от времени подстегивают их, заставляют гигантских, выведенных из слонов животных трудиться усерднее.
В дальнем конце завода поточная линия выплевывает только что скрученные спиральные пружины; те отправляются на технический контроль, а оттуда в отдел упаковки, где их раскладывают по местам и оставляют до никому не известного дня и часа. Когда в цех входит Андерсон, рабочие бросают дела и вдоль всего конвейера бежит волна ваи — друг за другом тайцы подносят сложенные ладони ко лбу.
Улыбаясь, подбегает Баньят, начальник отдела контроля, и тоже делает ваи.
Андерсон отвечает тем же, но более небрежно.
— Что с качеством?
Баньят снова улыбается:
— Ди кхап. Хорошо. Уже лучше. Идемте, я покажу. — Он машет рукой, и дежурный бригадир по имени Нам ударяет в колокол, приказывая остановить конвейер. — Тут кое-что интересное. Вы будете довольны.
Андерсон отвечает сдержанной улыбкой — вряд ли тот вообще может его чем-либо порадовать, — потом достает из сумки нго и протягивает Баньяту.
— Есть успехи? В самом деле?
Баньят, почти не замечая фрукт, счищает шкурку и кладет полупрозрачную сердцевину в рот. На лице — ни следа удивления, никакой необычной реакции. Проглатывает чертов нго не задумываясь — и все. Андерсон морщится. Фаранги узнают новости последними — так всегда говорит Хок Сен, когда на него накатывает паранойя и он думает, будто Андерсон хочет его уволить. Наверняка Хок Сен тоже знает об этом фрукте или, если спросить, сделает вид, что знает.
Баньят кидает косточку в кормушку мегадонтов и ведет Андерсона вдоль конвейера.
— Мы починили вырубной пресс.
Нам снова звонит в колокол, рабочие отходят от своих мест. По третьему сигналу погонщики-махуты ударяют мегадонтов бамбуковыми прутами, животные устало замирают. Конвейер замедляет ход. На дальнем конце фабрики скрипят и пощелкивают барабаны с промышленными пружинами — маховики нагоняют в них энергию, тот живительный сок, который запустит механизмы, едва Андерсон закончит проверку.
Баньят ведет Андерсона мимо поточной линии, мимо кланяющихся рабочих, одетых в бело-зеленые цвета своей гильдии, и отодвигает занавеску, сделанную из полимеров пальмового масла, — за ней открывается зал очистки. Здесь со сказочной расточительностью распыляют промышленное открытие Йейтса: результатом его случайного генетического изобретения покрывают спиральные пружины. Женщины и дети, заметив Андерсона, снимают маски с тройным фильтром и приветствуют своего кормильца почтительным ваи. По бледным от порошка лицам бегут дорожки пота, темная кожа видна только рядом с фильтрами вокруг носа и рта.
Андерсон с Баньятом проходят помещение насквозь и ныряют в зной разрезочного цеха. От нагревающих ламп исходит жар, в воздухе стоит резкий запах резервуаров, где выращивают водоросли со взломанными генами. Под потолком ярусами висят сушильные сетки, размазанная по ним масса из водорослей сочится водой, усыхает и чернеет, постепенно превращаясь в густую пасту. На взмокших от пота рабочих почти нет одежды — только шорты, майки и защитные каски. Ни сильная вытяжка, ни бешеное вращение лопастей вентиляторов не спасают — здесь как в печи. По шее Андерсона бежит пот, рубашка мгновенно намокает.
— Вот тут. — Баньят показывает на разобранный режущий механизм, который лежит у конвейера, и добавляет негромко: — Ржавчина.
Андерсон присаживается, рассматривает поближе.
— Я думал, мы проверяли на ржавчину.
— Это все соленая вода, — говорит Баньят, нервно улыбаясь. — Океан близко.
Андерсон с недовольным видом поднимает взгляд на сетки, с которых капает.
— Никакого прока ни от резервуаров, ни от этих решеток. Какой дурак решил использовать избыток жара для просушки водорослей? Энергоэффективность, чтоб ее…
Теперь Баньят улыбается растерянно.
— Так вы заменили резец?
— Теперь надежность — двадцать пять процентов.
— Вот как? Настолько лучше? — Андерсон небрежно кивает и делает знак ответственному за инструмент. Тот через весь зал кричит Наму. Снова звенит колокол, в нагревающие лампы и горячие прессы подают электричество. Андерсона резко обдает жаром, и он шарахается в сторону. Каждое включение этих приборов встает в пятнадцать тысяч батов налогов — столько «Спринглайф» послушно отстегивает в угольный бюджет королевства. Йейтс, конечно, ловко втиснул фабрику в госраспределение угля, но непременные взятки все же заоблачно велики.
Центральный маховик набирает обороты, механизмы под полом оживают, по зданию проходит дрожь, половицы начинают вибрировать. Словно адреналин по венам, по приводам пробегает кинетическая энергия — взрывное предчувствие силы, которая вот-вот запустит производственную линию. Возмущенно трубит и умолкает под ударом хлыста мегадонт. Стон маховиков превращается в вой и внезапно стихает — поток джоулей входит в движущую систему.
Главный по линии снова звонит в колокол. Рабочие подходят к режущим механизмам и выравнивают резцы: изготовление небольших двухгигаджоульных спиральных пружин требует особой тщательности. Чуть дальше идет скручивание — гидравлические стойки с шипением поднимают вверх вырубные прессы с только что отремонтированными прецизионными резцами.
— Сюда, пожалуйста, кун. — Баньят указывает Андерсону на зарешеченную кабину.
Колокол Нама звонит в последний раз. Приводы скрипят, приходят в движение. Андерсона на мгновение охватывает трепет. Рабочие приседают за защитными экранами. Из направляющих выползает проволока и тянется по горячим валикам. На металл ржавого цвета распыляют мерзко пахнущий реагент, а тот образует глянцевую пленку, к которой вскоре ровным слоем прилипнет Йейтсов порошок из водорослей.
С грохотом падает пресс. Андерсон представляет силу удара, и у него сводит зубы. Обрубленная проволока звонко щелкает, уходит за штору в зал очистки и через полминуты появляется вновь — уже бледно-серая, в пыльном налете порошка из водорослей. Горячие ролики передают ее дальше, в агонию последних мук формовки: металл станут скручивать туже и туже, истязая молекулярную структуру, затягивая в спираль. Нарастает оглушительный скрежет. На стягиваемую проволоку льется дождь из смазки и оставшейся от водорослей жидкости, брызги летят на рабочих и оборудование, затем сжатую пружину стряхивают с линии — теперь ее установят в корпус и отправят в отдел контроля качества.
Вспыхивает желтая лампочка — можно выходить. Рабочие выбегают из кабин и переустанавливают пресс, из недр цеха закалки с шипением выползает новая струйка ржавого на вид металла. Дребезжат на холостом ходу валики. Прикрытые форсунки готовятся выдать следующую порцию смазки — прочищаются, выплевывая в воздух мельчайшие капельки влаги. Рабочие заканчивают установку прессов и ныряют в укрытия. Если произойдет сбой, пружинная проволока станет неуправляемым лезвием, которое со страшной силой хлестнет через весь цех. Андерсон как-то видел обычный исход промышленной аварии: вскрытые, будто мягкие манго, головы, срезанные части тел и поллаковские брызги крови.
С грохотом падает пресс и отрубает заготовку пружины — очередную из сорока за час; теперь ее шансы оказаться на складе брака в министерстве природы всего лишь семьдесят пять процентов. Миллионы уходят на производство мусора, и еще миллионы на его уничтожение — неутомимая палка о двух концах. Йейтс то ли случайно, то ли со зла где-то напортачил, и больше года ушло на то, чтобы полностью разобраться в проблеме — исследовать водорослевые ванны, где вызревает материал для революционной оболочки пружин, заново создать кукурузную смолу, которой заливают места стыковки пружины и механизма, сменить процедуру работы отдела контроля качества и понять, как почти круглогодично стопроцентная влажность влияет на производство, придуманное для более сухого климата.
Откинув штору, из зала очистки в облаке бледной пыли входит рабочий: на темном лице струйки пота, комочки грязи и капли спрея пальмового масла. Сквозь проем на секунду мелькают его коллеги — тени в снежной круговерти светлого порошка, в который утрамбовывают пружинную проволоку, чтобы ту не застопорило от мощного сжатия. Пот рабочих, калории, плата за уголь — все ради одного: создать Андерсону правдоподобное прикрытие, пока он разгадывает тайну пасленовых и нго.
Любой разумный бизнесмен давно прикрыл бы фабрику — даже Андерсон, хотя и он понимает кое-что в производстве спиральных пружин нового поколения. Однако ни у его рабочих, ни у профсоюзов, ни у белых кителей и внимательных наблюдателей, которых в королевстве немало, — ни у кого не должно возникнуть сомнений в том, что он настоящий увлеченный предприниматель, а для этого фабрика должна работать, причем на полную мощность.
Андерсон жмет Баньяту руку и хвалит за хорошую работу.
В самом деле, досадно: завод мог бы преуспеть. Дух захватывает от того, как работают пружины Йейтса. Он сумасшедший, но не идиот. Андерсон сам наблюдал, как крохотный корпус со спиралью, пощелкивая, час за часом отдавал джоули энергии, в то время как одни пружины весом в два раза больше не вырабатывали и четверти такой мощи, а металл других, не выдержав страшного давления, терял молекулярную структуру и сливался в сплошную массу. Время от времени Андерсон чувствовал, что вот-вот поддастся вдохновению Йейтса.
Он делает глубокий вдох, ныряет в зал очистки, выходит из него с другой стороны в клубах дыма и водорослевого порошка, потом снова вдыхает — в воздухе пахнет растертым по полу навозом — и шагает по лестнице в контору. Позади снова слышен рев — судя по всему, кому-то из мегадонтов больно. Андерсон примечает одного из погонщиков-махутов — вал номер четыре, еще одна проблема в длинном списке неприятностей «Спринглайфа», — и открывает дверь.
В офисе мало что изменилось с тех пор, как он впервые сюда пришел. Все тот же сумрак, все та же гулкая пустота и выключенные компьютеры с ножными динамо. Лезвия солнечных лучей, проходя сквозь красно-коричневые деревянные ставни, прорезают дымку воскурений в честь тех богов, что не спасли в Малайе китайский клан Хок Сена. Внутри не продохнуть от аромата сандаловых палочек, в углу безостановочно текут вверх шелковистые нити дыма — поднимаются над алтарем, где у мисок с ю-тексовским рисом и облепленными мухами манго сидят улыбчивые золотые статуэтки.
Хок Сен уже за компьютером — жилистой ногой раскачивает педаль привода, ток от которого питает микропроцессоры и двенадцатисантиметровый дисплей. В сером отсвете экрана Андерсон успевает заметить быстрый взгляд — всякий раз, когда открывается дверь, старик вздрагивает в страхе, что его пришли убивать. Этот испуг — будто галлюцинация, такая же, как исчезновение чеширов: только что ты его видел, а через секунду уже не знаешь, был ли кот на самом деле. Но Андерсон достаточно хорошо знает беженцев-желтобилетников и может распознать подавленный ужас. Он прикрывает дверь, заводской шум стихает, Хок Сен успокаивается.
Андерсон кашляет и отгоняет от лица дым.
— Я же просил тебя не жечь эту дрянь.
Старик пожимает плечами, не переставая крутить динамо и стучать по клавишам.
— Открыть окна? — Его голос шуршит, словно бамбук по песку.
— Господи, нет, конечно. — Андерсон, щурясь, глядит на пекло за ставнями. — Просто жги их дома, а тут они мне не нужны.
— Хорошо.
— Я не шучу.
Хок Сен на секунду отрывает взгляд от монитора — по выражению скуластого лица и запавших глаз видно, что у старика отлегло от души, — и снова принимается стучать по клавишам своими паучьими пальцами.
— Это на удачу, — бормочет он и продолжает с сиплым негромким смешком: — Даже заморским дьяволам нужно везение. Учитывая все проблемы фабрики, вы, возможно, оценили бы помощь Будая[50].
— Дыми не здесь. — Андерсон кидает на стол сумку с сегодняшней находкой, растягивается в кресле и вытирает лоб. — Жги их дома.
Старик едва заметно кивает в ответ. Под потолком медленно вращаются ряды механических вентиляторов, бамбуковые лопасти лениво гоняют горячий воздух. Хок Сен и Андерсон совершенно одни среди вереницы пустых столов и выключенных компьютеров. По грандиозному замыслу Йейтса, тут должен был работать целый штат продавцов, логистов, кадровиков и секретарей.
Андерсон перебирает нго и показывает один Хок Сену.
— Видал такие?
Тот мельком смотрит на фрукт с зелеными усиками, говорит:
— Тайцы называют их «нго», — и продолжает просматривать таблицы, в которых никогда не появится новых данных, и подсчитывать убытки, которые никогда не попадут в отчеты.
— Как их называют тайцы, я знаю. — Андерсон подходит, кладет нго рядом с компьютером. Хок Сен вздрагивает и глядит на плод с испугом, как на скорпиона. — Фермеры на рынке мне сказали. В Малайе такие были?
— Я… — Старик прикусывает язык. Видно, как он старается взять себя в руки, подчинить воле стремительный калейдоскоп эмоций. — Я…
Страх то накатывает, то отпускает. Едва ли один из ста малайских китайцев спасся во время Казуса. Ему, как ни посмотри, очень повезло, и все же Андерсон жалеет старика: один простой вопрос, вид какого-то фрукта — и тот готов бежать без оглядки.
Хок Сен хрипло дышит и смотрит на нго не моргая.
— В Малайе не было. Такое только тайцы могут, — наконец произносит он и тут же возвращается к работе: глаза — в монитор, воспоминания — под замок.
Андерсон ждет еще какой-то реакции, но старик упорно глядит на экран. Тайна нго не прояснилась.
Он шагает обратно к своему столу разобрать почту. На углу лежит подготовленное Хок Сеном срочное: квитанции, налоговые документы. Андерсон с головой уходит в бумаги: подписывает чеки профсоюзу погонщиков мегадонтов, ставит печати на бланках утилизации и попутно теребит на груди рубашку — влажный воздух с каждой минутой все жарче.
Через некоторое время Хок Сен произносит:
— Вас спрашивал Баньят.
Андерсон рассеянно кивает.
— На вырубном прессе обнаружили ржавчину. Заменили — надежность выросла на пять процентов.
— Значит, теперь двадцать пять?
Андерсон пожимает плечами, перелистывает бумаги, заверяет печатью расчет угольного налога в министерство природы, говорит:
— Так он мне сказал, — и кладет документ обратно в конверт.
— Все равно убыточно. Ваши пружины на полезное дело не раскручиваются — держат свои джоули под замком, как Сомдет Чаопрайя — Дитя-королеву.
Андерсон раздражен, но защищать свой товар сейчас не хочет.
— Баньят рассказал вам о питательных резервуарах? Тех, где выращивают водоросли?
— Нет, только о ржавчине. А в чем дело?
— Обнаружили загрязнение: часть из них не дает… — Хок Сен колеблется. — Поверхностная пленка — она не нарастает.
— Даже не упомянул.
Снова неуверенная пауза.
— Уверен, он пытался сказать.
— И что говорит? Насколько все плохо?
— Не знаю. Просто пленка не отвечает требованиям.
Андерсон хмурит лоб.
— Я его уволю. Зачем мне начальник отдела качества, который боится рассказать о проблемах?
— Вероятно, вы не очень внимательно слушали.
Андерсон уже готов выдать тираду по поводу людей, которые заводят разговор, а к сути не переходят, но его прерывает рев мегадонта, да такой, что дрожат стекла. Он закрывает рот и прислушивается к крикам погонщиков.
— Четвертый вал. Махут никуда не годен.
— Тайцы все никуда не годны, — комментирует Хок Сен, не отрываясь от компьютера.
Андерсона веселит, что такое сказал желтобилетник, но он сдерживает смешок и говорит, возвращаясь к бумагам:
— Значит, он хуже остальных. Его надо заменить. Запомни — вал номер четыре.
Ритм ножного динамо сбивается.
— Непростая задача, разрешите заметить. Даже Навозный Царь идет на уступки профсоюзу погонщиков. Без мегадонтов джоули пришлось бы вырабатывать с помощью человеческой силы, а такая позиция невыгодна при переговорах.
— Мне все равно. Этого — уволить. Придумай какой-нибудь мягкий способ, чтобы без ажиотажа. — Андерсон берет на подпись очередную кипу чеков.
Хок Сен не отступает.
— Кун, с профсоюзом очень трудно торговаться.
— Поэтому у меня есть ты, а у тебя — такая вещь, как полномочия. — Андерсон продолжает перелистывать бумаги.
— Да, разумеется, — холодно отвечает Хок Сен. — Благодарю за ценные указания.
— Ты постоянно говоришь мне, что я не разбираюсь в местных обычаях. Вот ты и займись — уволь махута. Мне все равно: мягко это будет или все потеряют лицо, но придумай, как его выгнать. Держать таких на силовой установке опасно.
Хок Сен поджимает губы, но больше не возражает. Андерсон думает, что уж теперь тот выполнит задание. Он возвращается к бумагам и строит недовольную мину: перед ним очередное разрешительное письмо из министерства. Только тайцы способны так замысловато представить взятку договором об оказании услуг. Они вежливы, даже когда вымогают у тебя деньги. Или когда возникают проблемы с водорослевыми резервуарами. Баньят…
Андерсон окликает Хок Сена.
— Я разберусь с махутом, — отвечает тот, не поднимая взгляда и продолжая печатать. — Он уйдет, даже если вам это припомнят на переговорах насчет новых премий.
— Рад слышать, но я о другом. — Андерсон хлопает ладонью по столу. — Ты сказал — Баньят жаловался на то, что на водорослях не вырабатывается пленка. Где — в старых резервуарах или в новых?
— Я… Он толком не объяснил.
— Разве ты не говорил мне на прошлой неделе, что к нам идет новое оборудование? Новые резервуары, новые питательные культуры?..
Пальцы старика на секунду сбиваются с ритма. Андерсон делает вид, что озадачен: энергично перелистывает бумаги, но уже знает — ни квитанций, ни бланков о прохождении карантина там нет.
— Где-то был список… Точно помню: ты говорил — уже едет. — Он смотрит на Хок Сена. — Я вот думаю и все больше удивляюсь — откуда загрязнение? Неоткуда ему взяться, если новое оборудование уже растаможили и установили.
Старик молчит и упорно продолжает печатать, будто не слышал вопроса.
— Ты мне все рассказал?
Хок Сен, не отрываясь, глядит в монитор. В тишине слышен только стук подножки и мерное поскрипывание вентиляторов.
— Декларация еще не готова, — говорит он наконец. — Груз по-прежнему на таможне.
— Он должен был пройти на прошлой неделе.
— Произошли накладки со сроками.
— Ты же сказал мне, что проблем не возникнет. Ты уверял, говорил, лично поедешь и поторопишь. Я тебе даже еще денег дал.
— У тайцев свое представление о сроках. Может быть, сегодня к вечеру доставят, может быть, завтра. — Хок Сен изображает все понимающего человека. — Все они все лентяи — не то что мы, китайцы.
— Так ты дал им взятку? Часть должна была пойти в министерство торговли, белому кителю — их карманному инспектору.
— Я заплатил им.
— Достаточно?
Хок Сен щурит глаза.
— Я заплатил.
— Ты же не оставил себе половину?
Тот нервно смеется:
— Конечно, я все отдал.
Андерсон еще какое-то время пристально смотрит на желтобилетника — не соврал ли, потом кидает бумаги на стол. Он даже не вполне понимает, какое ему до всего этого дело; злит, что старик полагает его дурачком, которого легко провести. Андерсон снова глядит на сумку с нго. Возможно, Хок Сен догадывается, что фабрика — лишь прикрытие для чего-то еще… Он гонит подозрения прочь и продолжает наседать.
— Ну так что — завтра?
— Вероятнее всего, да, я почти уверен.
— Ну, кто бы сомневался.
Хок Сен никак не реагирует — даже не ясно, уловил ли сарказм. Старик необычайно хорошо говорит по-английски, и все же они постоянно натыкаются на стену непонимания, и загвоздка тут скорее в разнице их культур, чем словарных запасов.
Андерсон продолжает перебирать бумаги: сплошные налоги и зарплатные чеки. Он переплачивает сотрудникам вдвое — еще один повод не иметь дел с королевством. «Тайскую работу — тайцам». По всей стране голодают беженцы-желтобилетники, а нанимать их запрещено. По закону место Хок Сена — на бирже труда среди прочих переживших Казус в Малайе. Если бы не его знание языка и бухгалтерского дела, да не снисходительность Йейтса — нищенствовал бы, как остальные.
В кипе бумаг он находит конверт, адресованный ему персонально. Печать, как водится, сломана: Хок Сен все никак не усвоит, что личная переписка — табу. Тысячу раз это обсуждали, но старик упорно «ошибается».
Внутри приглашение. От Райли. Предлагает встречу.
Андерсон задумчиво постукивает карточкой по столу. Райли. Осколок эпохи Экспансии, допотопный плавник, выброшенный приливной волной тех времен, когда бензин стоил дешево, а кругосветные путешествия занимали не недели, как теперь, а считанные часы. Когда с затопленных полос бангкокского Суварнабхуми поднимались в воздух последние лайнеры, он стоял по колено в прибывающей океанской воде и глядел им вслед. Потом поселился в заброшенном здании со своими подружками, пережил их, завел новых и продолжал наслаждаться яствами, деньгами и опиумом высшей пробы. Если верить россказням Райли, его не взяли ни государственные перевороты, ни реставрации, ни эпидемии, ни голод. Теперь, весьма довольный собой, похожий на жабу, покрытую старческими пигментными пятнами, он поживает в башне Плоенчит, которую именует «клубом», и учит вновь прибывших иностранцев забытому с наступлением эпохи Свертывания искусству буйных гулянок.
Андерсон бросает карточку на стол. Что бы там ни задумал старикан, приглашение само по себе вполне невинно. Райли протянул в королевстве столько лет исключительно благодаря своей паранойе. Андерсон, пряча улыбку, искоса смотрит на Хок Сена. Эти двое отлично бы спелись — что один, что другой мыкаются на чужбине вдали от родины, оба выживают благодаря уму и крайней подозрительности.
— Если сейчас у вас нет других дел, кроме как наблюдать за моей работой, — замечает Хок Сен, — то сообщаю: профсоюз владельцев мегадонтов просит пересмотра своих ставок.
Андерсон, оглядывая гору расходных документов, отвечает:
— Сомневаюсь, что они сообщили об этом настолько вежливо.
Хок Сен откладывает ручку.
— Тайцы вежливы всегда. Даже когда угрожают.
Внизу снова трубит мегадонт.
Андерсон бросает на старика красноречивый взгляд.
— Вот тебе и козырь, когда дойдешь до увольнения махута с четвертого вала. Черт возьми, я вообще ничего не буду им платить, пока сами не прогонят этого поганца.
— Профсоюз силен…
Фабрика сотрясается от нового звериного рева. Андерсон вздрагивает и поворачивает голову к смотровым окнам.
— …и туп! Да что же они с ним делают? Пойди, посмотри.
Хок Сен хочет сказать «нет», но Андерсон бросает на старика такой взгляд, что тот молча встает; его невысказанный протест прерывается трубным воем, от которого начинают опасно дребезжать стекла.
— Какого…
Здание снова вздрагивает, но теперь к звуку примешивается пронзительный металлический скрип: заклинило силовую установку. Андерсон с Хок Сеном бегут к смотровому окну — старик успевает первым и замирает, разинув рот.
Прямо на них уставлен желтый глаз размером с хорошую тарелку. Покачиваясь на задних ногах, снаружи стоит мегадонт. Его четыре бивня спилены, но десять тонн мышц и ярости — и без них серьезная угроза. Животное пяти метров в холке рывком натягивает цепи, которыми приковано к вороту, вздымает хобот и открывает огромную пасть. Андерсон зажимает уши.
Оглушающий рев валит его на пол, в голове звенит.
— Где махут?!
Хок Сен только мотает головой — вряд ли он разобрал вопрос. Андерсон и сам слышит все словно сквозь вату. Он кое-как встает и толкает дверь наружу в тот самый момент, когда мегадонт вдребезги разбивает четвертый вал. Щепки острым дождем летят во все стороны — Андерсон вздрагивает, чувствуя, как деревянные иглы вонзаются ему в кожу.
Внизу махуты лихорадочно снимают могучих животных с привязи, тянут подальше от обезумевшего зверя, кричат, понукают; мегадонты возмущенно ревут — инстинкты заставляют их забыть дрессуру и прийти на помощь собрату. Все рабочие-тайцы, кроме погонщиков, бегут из здания прочь.
Взбесившееся животное снова нападает на вал и разбивает его рычаги. Там, где стоял махут, — кровавое месиво.
Андерсон кидается назад в офис, лавирует между столами, прыгает на крайний, скользит по нему и падает на пол прямо перед сейфами.
Пот застилает глаза, пальцы скользят по наборному диску — 23 влево, 106 вправо, — перескакивают на следующую ручку — лишь бы не сбиться, лишь бы не начинать снова. Внизу опять трещит древесина, кричат те, кто подошел к мегадонту слишком близко.
Сбоку, совсем рядом возникает Хок Сен.
Андерсон машет ему уйти.
— Всех рабочих наружу! Всех до последнего!
Он продолжает набирать комбинацию — старик кивает, но мешкает. Андерсон бросает на него яростный взгляд.
— Быстро!
Хок Сен неохотно подчиняется и бежит к двери, его команды тонут в треске и воплях паникующих рабочих. Андерсон докручивает последний диск и рывком открывает дверцу. За ней — бумаги, пачки пестрых купюр, конфиденциальные документы, пневматическая винтовка и… пружинный пистолет.
Он недовольно морщится: «Йейтс. И сюда пролез, старый мерзавец. Будто послал своего духа-пхи следить за мной», — заводит пружину, засовывает оружие за пояс, потом смотрит, есть ли в винтовке заряд. Снова слышны вопли. По крайней мере Йейтс подготовился к неприятностям. Старикан был наивен, но далеко не глуп. Андерсон нагнетает в ружье воздух и бежит к двери.
Движущая система и конвейер в цехе контроля качества забрызганы кровью. Сколько человек погибло — не разобрать, явно не один махут. В воздухе сладковато пахнет внутренностями, которые размазаны вдоль всей дорожки мегадонта вокруг вала. Животное — гора генетически сконструированных мускулов — опять встает на задние ноги и изо всех сил натягивает последнюю цепь.
Андерсон наводит винтовку, краем глаза замечает, как поднимается еще один зверь, слышит его ликующий трубный рев, видит, что махуты уже не в силах с ним сладить, но заставляет себя не думать об охватывающем фабрику хаосе и сосредотачивается на оптическом прицеле.
Перекрестье пробегает по рыжеватой стене морщинистой шкуры. В приближении мегадонт выглядит огромным — промазать невозможно. Андерсон переключает винтовку в автоматический режим, делает выдох и выпускает из резервуара сжатый воздух.
Из ствола вылетает облако дротиков. Ярко-оранжевые точки усеивают бок животного. К его центральной нервной системе бежит заряд токсинов, разработанных в «Агрогене» на основе осиного яда.
Андерсон опускает винтовку. Без оптики дротики на шкуре почти не видно. Еще несколько секунд — и зверь умрет.
Животное поворачивается и упирает полный дремучей ярости взгляд прямо в Андерсона. Тот с изумлением осознает, что мегадонт будто бы понимает, кто в него стрелял.
Зверь наваливается и рвет стальную цепь — звенья со свистом рассекают воздух и бьют по конвейерной линии. Убегающий рабочий падает замертво. Андерсон отшвыривает бесполезную винтовку и достает пружинный пистолет — игрушка против десяти тонн живого бешенства, но другого оружия у него нет. Животное шагает вперед. Андерсон жмет на курок так быстро, как только может. Заточенные по краям диски бессильно отскакивают от громады.
Хобот сбивает его на пол и тут же туго, по-змеиному обвивает ноги. Андерсон брыкается, тянет руки к дверному косяку. Колени сжимает так сильно, что в глазах темнеет — зверь будто хочет раздавить его, как напившегося крови комара, но вместо этого начинает тянуть к балкону. Андерсон отчаянно ловит пальцами скользящие мимо перила и взмывает в воздух. Его больше ничто не держит.
Он летит под раскатистый ликующий рев мегадонтов. Стремительно приближается бетонный пол фабрики. Удар. Темнота. «Лежи и умирай». Андерсон заставляет себя не терять сознание. «Просто умри». Хочет встать, откатиться в сторону, сделать хоть что-то, но ничего не выходит. Перед глазами плывут цветные разводы. Огромный зверь дышит совсем рядом.
Пятна сливаются в одно большое: это мегадонт — дремучая ярость в рыжеватой шкуре. Животное поднимает ногу — вот-вот раздавит Андерсона в лепешку. Тот перекатывается на бок — тело ниже пояса не действует — и ползет с трудом, слишком медленно, руки скользят по бетону, как паучьи лапы по льду. «Господи, не хочу так умирать. Не здесь, не так…» Он будто ящерица, которой прижали хвост — ни встать, ни убежать; один шаг гигантского слона — и погибнет, превратившись в кашу.
Мегадонт трубит. Андерсон видит через плечо, как тот опускает ногу, шатается, будто пьяный, фыркает, взмахивает хоботом, задняя часть туловища отказывает, он оседает и глядит по-собачьи ошалело, не понимая, что с его телом. Передние ноги медленно разъезжаются, и мегадонт со стоном падает в месиво из соломы и навоза. Его глаза — растерянные, почти человечьи — точно напротив Андерсона. Животное тянет хобот — могучую, но уже непослушную змею, — неуклюже хлопает им по полу, хочет схватить, но лишь бессильно толкает человека. Шумное раскаленное дыхание вырывается из открытой пасти потоками сладковатого воздуха.
Андерсон медленно отползает, встает на колени, потом в полный рост — кое-как, неуверенно, борясь с головокружением. Мегадонт продолжает следить за ним желтым глазом, в котором уже погасла ярость, и хлопает длинными ресницами. Андерсон хочет понять, что сейчас чувствует животное — ощущает ли, как стремительно отказывает его нервная система, знает ли, что вот-вот наступит конец, или просто испытывает усталость.
Ему почти жалко этого зверя. Вместо грубо спиленных бивней — четыре грязных беловатых овала с оббитыми краями, каждый шириной с фут. На коленях язвы, вся пасть в чесоточных наростах. Вблизи, когда видно, как грудная клетка мегадонта ходит вверх-вниз, как безвольно обмякли мышцы, зверь кажется просто замученным существом — существом, не созданным для битв.
Последний вздох, тело обмякает.
Повсюду суетятся люди, тянут Андерсона куда-то, помогают раненым, ищут погибших. Кругом толпа униформ: красно-золотых профсоюзных, зеленых спринглайфовских; на огромную тушу лезут махуты.
Андерсон на секунду представляет стоящего рядом Йейтса, который курит табак и злорадствует: «А говорил — уедешь через месяц», — но вместо него возникает Хок Сен — шелестящий голос, темные глаза-миндалины, костлявые руки — трогает его за шею и видит на своих пальцах красную влагу.
— У вас кровь.
2
— Поднимай! — командует Хок Сен.
Пом, Ну, Кукрит и Канда наваливаются на сломанный вал, тянут его вверх из гнезда, будто огромную занозу из тела великана, в зазор проскальзывает Маи.
— Ничего не видно! — кричит она снизу.
Мускулы играют на спинах Пома и Ну, которые еле удерживают всю конструкцию, не давая той рухнуть на место. Хок Сен встает на колени, опускает вниз фонарь, девушка берет его на ощупь и уносит в темноту. Механический светильник — потряси и заработает — стоит больше нее; старик очень надеется, что рабочие не уронят вал в гнездо, пока она там.
Проходит минута.
— Ну? Треснул? Нет?
Тишина. Лишь бы Маи нигде случайно не застряла. Хок Сен садится на корточки и ждет, пока девочка все там осмотрит. Кругом кипит работа — все приводят в порядок. Тушу словно мухи облепили члены профсоюза: блестящие мачете, четырехфутовые костепилки, руки по локоть красны от трудов — разнимают целую гору плоти. Обильно течет кровь, под снятой шкурой видны мышцы и жилы.
Хок Сена передергивает — точно так же расправлялись и с его людьми: им тоже пускали кровь и тоже на разрушенной фабрике. Какие уничтожили склады, каких погубили людей… Он смотрит по сторонам и живо вспоминает, как пришли «зеленые повязки» со сверкающими мачете наперевес и спалили его хранилища. Мотки джутовой нити, запасы тамаринда, пружины — все погибло в дыму и огне. Хок Сен отводит взгляд, отгоняя воспоминания, и заставляет себя дышать ровней.
Едва в профсоюзе погонщиков прослышали о гибели животного — немедленно прислали мясников. Хок Сен хотел заставить их вытащить тушу из цеха и сделать все снаружи, чтобы сразу начать ремонт главного привода, но те отказались, и теперь вдобавок к суете здесь все сильнее смердит и вьются тучи мух.
Кости мегадонта торчат, будто океанские кораллы в густо-алой толще мяса. Кровь рекой течет в ливневые коллекторы Бангкока к работающим на угле помпам, что берегут город от потопа. Хок Сен угрюмо смотрит на поток: бессчетные калории уходят в никуда. Мясники работают споро, но трудиться им предстоит большую часть ночи, пока не разделают всю тушу.
— Ну, чего она там? — кряхтит Пом, который вместе с Ну и остальными по-прежнему изо всех сил держит вал. Старик возвращается к делам насущным и кричит в темноту:
— Маи, что видно?
В ответ неразборчивое бормотание.
— Ну тогда вылезай! — Он снова садится на корточки и утирает пот — на фабрике жарче, чем в кастрюле с рисом. Мегадонтов развели по загонам, поэтому энергии нет — ни для конвейеров, ни для вентиляторов. Влажная жара и зловоние от мертвых тел окутывают людей душным одеялом — в точности как на бойнях в Клонг Той[51]. Хок Сен с трудом сдерживает приступ тошноты.
Рядом с тушей возгласы и оживление: из вспоротого брюха вывалились внутренности. Сборщики потрохов — люди Навозного царя — тут же бросаются к ним и начинают лопатами переваливать в ручные тележки этот щедрый источник калорий; щедрый и ничем не зараженный — полученное скорее всего пойдет свиньям на окраинные фермы Навозного царя или китайцам — беженцам из Малайи, которые живут под его протекцией в душных старых башнях времен Экспансии. То, что не съедят животные и желтобилетники, отправят вместе с ежедневным урожаем негодных фруктов и навоза в компост-машины, где эта масса станет разлагаться на удобрения и метан, который позже осветит зеленоватыми огоньками городские улицы.
Хок Сен задумчиво теребит свою счастливую родинку. Отличный бизнес у этого Навозного короля — монополия охватывает почти весь город. Удивительно, как его до сих пор не сделали премьер-министром. Впрочем, будь у него, крестного отца крестных отцов, самого влиятельного криминального авторитета-джаопора за всю историю королевства, такое желание, оно немедленно бы исполнилось.
«Вот только заинтересует ли его мое предложение? Разглядит ли возможности для своего бизнеса?»
Ход его мыслей прерывает голос Маи.
— Треснул! — кричит она снизу и через секунду вылезает из темноты, вся в поту и пыли. Ну с компанией бросают пеньковые веревки, вал с грохотом падает в гнездо, да так, что вздрагивает пол. По лицу девушки пробегает легкий испуг — понимает, что ее чуть не раздавили, — но уже через мгновение она опять спокойна. Беспечное дитя.
— Ну? Что треснуло-то? Сердечник?
— Да, кун, рука вот посюда влазит. — Маи показывает на запястье. — И во втором, дальнем то же самое.
— Тамади[52]! — вырывается у старика вопреки его спокойствию — он ждал чего-то подобного. — А цепной привод?
— Все звенья, какие видела, гнутые.
— Тогда зови Лина, Лека, Чуана…
— Чуан умер. — Девушка показывает на кровавые разводы там, где мегадонт растоптал двоих рабочих.
— Верно. — Хок Сен морщится. Чуан, а еще Нои, Капипхон и бедолага Баньят из отдела контроля — этот уже не узнает, как вышел из себя Андерсон, когда услышал о загрязнении водорослевых ванн. Новые расходы: тысячу батов семьям погибших, две — родным Баньята. Старик снова делает кислое лицо. — Значит, зови кого-то еще из вашей шайки чистильщиков, тоже мелкого — полезете вниз. Пом, Ну, Кукрит — вытаскивайте вал. Полностью вынимайте — надо осмотреть систему приводов звено за звеном. Механизмы нельзя запускать, пока все не осмотрим.
— Куда спешить-то? — с усмешкой говорит Пом. — Когда еще запустимся… Заставить профсоюз опять работать — тут фаранг одним мешком опиума не отделается. Тем более после того, как пристрелил Хаприта.
— Рано или поздно заработает, и начнем мы тогда без четвертого вала, — обрывает его Хок Сен. — Королевское разрешение на спил дерева такого же диаметра дадут не сразу, потом его какое-то время станут сплавлять с севера — и то если повезет и в этом году придут муссоны, — а до тех пор на фабрике будет дефицит энергии. Ты вот о чем подумай: кое-кто вообще окажется не у дел. — Он кивком указывает на вал. — Работу дадим только самым усердным.
Пом, пряча злобу, виновато делает ваи.
— Простите, кун, я позволил себе необдуманные слова. Я совсем не хотел нагрубить.
— Вот так-то, — кивает старик и с недовольным видом отворачивается, хотя втайне согласен с Помом: прежде чем мегадонты снова тяжело зашаркают вокруг валов, будут мешки опиума, взятки, пересмотры энергетического контракта — новые расходные статьи в бюджете. И это не считая тех денег, что пойдут монахам за церемониальные песнопения, а может, браминам или специалистам по фен-шую, или медиумам, которые испросят разрешение у пхи[53], успокоят рабочих и уговорят их вернуться на злосчастную фабрику.
— Тань сяншен![54]
Возглас отвлекает Хок Сена от подсчета убытков. Напротив у шкафчиков с одеждой сидит ян гуйдзы[55] Андерсон Лэйк, которому женщина-врач обрабатывает раны. Поначалу этот заморский демон хотел, чтобы его штопали наверху, но старик настоял, чтобы все происходило в цеху, у всех на глазах — пусть рабочие видят и залитый кровью светлый костюм, и самого Андерсона, больше похожего на вылезшего из могилы пхи, зато живого и неиспугавшегося. Если лицо можно потерять, то сейчас он его зарабатывает. Бесстрашный чужестранец.
Андерсон отхлебывает виски прямо из бутылки, купить которую попросил Хок Сена, будто тот ему слуга какой-нибудь. Старик отправил Маи, та принесла поддельный «Меконг» с этикеткой, как у настоящего, и прилично сдачи — столько, что Хок Сен отсыпал ей за сообразительность пару батов на чай и сказал, глядя в глаза: «Помни мою доброту». Та серьезно кивнула в ответ.
В прежней жизни китаец решил бы, что купил немного преданности этой девочки, но здесь и сейчас может лишь рассчитывать, что та не убьет его сразу, если тайцы вдруг решат взяться за китайцев-желтобилетников и выгнать их всех в зараженные пузырчатой ржой джунгли. Возможно, за эти чаевые он выгадал себе немного времени. А может, и нет.
— До чего упрямый заморский демон — все время ерзает, — говорит на мандаринском доктор Чан, когда Хок Сен подходит поближе.
Чан тоже из желтых билетов. В королевстве этим беженцам нельзя зарабатывать себе на жизнь, но некоторые хитростью и уловками умудряются обходить запреты. Если белые кители узнают, что она таскает рис из кормушки тайских врачей… Хок Сен гонит от себя эту мысль. Помочь земляку, пусть даже самую малость, — стоящее дело, что-то вроде искупления за прошлое.
— Постарайтесь, чтобы выжил, — с едва заметной улыбкой говорит Хок Сен. — Он нам еще нужен — чеки подписывать.
Доктор Чан смеется:
— Тин мафань. Давно я никого не шила, но ради вас вытащу это мерзкое создание хоть с того света.
— Если вы и в самом деле такой талант, подхвачу цибискоз — позову лечить.
— Чем она недовольна? — встревает ян гуйдзы, который ни слова не понимает.
— Тем, что вы все время вертитесь.
— Коряво работает. Скажи, пусть штопает быстрее.
— А еще доктор Чан говорит, что вам очень и очень повезло. Щепка прошла в сантиметре от артерии. Чуть в сторону — и вашей кровью тоже залило бы пол.
К удивлению Хок Сена, Лэйк улыбается и глядит на мясников, которые разделывают тушу.
— Щепка… Я думал, меня мегадонт убьет.
— Да, вы чуть не умерли.
Вот это была бы катастрофа — инвесторы мистера Лэйка тогда опустили бы руки. От одной этой мысли старику не по себе. Влиять на Йейтса было, конечно, куда проще, чем на ян гуйдзы, но без этого упрямого заморского демона фабрику точно прикрыли бы.
Хок Сен с досадой понимает, что когда-то у него завязались отличные отношения с Йейтсом, а теперь вместо них — натянутые с Лэйком. Собственное невезение плюс упрямство ян гуйдзы — и снова надо придумывать, как выживать дальше и как возрождать свой клан.
— Думаю, вам стоит отпраздновать спасение, — подбрасывает он идею. — Сделать подношения Гуанинь[56] и Будаю, поблагодарить их за такую удачу.
Лэйк ухмыляется, уставив на старика дьявольские омуты водянисто-серых глаз:
— Чертовски хорошая мысль! — Будто чокаясь, он приподнимает наполовину пустую бутылку «Меконга». — Всю ночь буду отмечать.
— Найти вам компанию?
На лице заморского демона тут же застывает нечто вроде омерзения.
— Моя компания — не твое дело.
Хок Сен проклинает себя, но вида не подает — очевидно, зашел слишком далеко и опять разозлил это создание.
— Разумеется. Я не хотел оскорбить вас. — Старик торопливо делает ваи.
Ян гуйдзы, начисто забыв о веселье, обводит взглядом цех.
— Большой ущерб?
Хок Сен пожимает плечами:
— Вы были правы насчет сердечника — он треснул.
— А основная цепь?
— Проверим каждое звено. Возможно, нам повезет и выяснится, что пострадали только второстепенные передачи.
— Это вряд ли. — Заморский демон протягивает ему бутылку, Хок Сен мотает головой, пытаясь скрыть отвращение. Лэйк понимающе подмигивает, отпивает и вытирает губы тыльной стороной ладони.
В толпе мясников опять шумят — из туши с новой силой хлещет кровь. Голова животного наклонилась — ее уже наполовину отняли. Чем дальше, тем сильнее останки напоминают не целое и когда-то живое существо, а, скорее, детский конструктор для сборки мегадонта из мельчайших деталей.
Хок Сен размышляет, как бы ему заставить профсоюз поделиться с ним прибылью от продажи незараженного мяса. Маловероятно, учитывая скорость, с которой они застолбили за собой право разделать тушу, но не исключено — когда станут пересматривать энергетический договор или требовать компенсации.
— Возьмете себе голову? — спрашивает он Лэйка. — Хороший выйдет трофей.
Ян гуйдзы оскорбленно отказывается.
Хок Сен раздражен ответом, но вида не подает. С этим заморским демоном и сам осатанеешь — тот вечно зол, настроение скачет, как у ребенка: сейчас весел, а через секунду уже скандалит. Но тут ничего не поделаешь: карма. Она сделала мистера Лэйка демоном, и она же свела с ним Хок Сена. Что толку жаловаться на ю-тексовский рис, если умираешь от голода.
Лэйк замечает недовольный взгляд старика и поясняет:
— Это была не охота, а уничтожение. Один выстрел дротиками — и готово. Спортивный азарт тут ни при чем.
— Конечно. Очень благородно с вашей стороны. — Старик расстраивается еще больше: он рассчитывал заменить остатки бивней составом из кокосового масла, а саму слоновую кость продать лекарям у храма Ват Бовонивет, но даже эти деньги уплывают из рук. Все без толку. Хок Сен подумывает, не втолковать ли Лэйку, сколько стоят лежащие перед ним мясо, калории и кость, но бросает эту затею — заморский демон ничего не поймет, а только разозлится еще сильнее, как, впрочем, и обычно.
— Смотри — чеширы явились, — замечает Лэйк.
Вокруг туши бродят заметные лишь по мерцанию шкур похожие на кошек существа — сгустки теней и бликов, которых привлек запах падали. Ян гуйдзы глядит на них с явной неприязнью, Хок Сен — отчасти с уважением. Эти твари хитры — благоденствуют там, где их все ненавидят. Можно даже подумать, что эти дьявольские кошки чуют кровь еще до того, как она прольется, будто умеют заглядывать в будущее и точно знают, где их вскоре ждет обед. Чеширы осторожно подходят к липкому красному озерцу. Мясник пинком отшвыривает одного, но воевать тут бесполезно — животных слишком много.
Лэйк отхлебывает виски.
— Нам их не выгнать.
— Можно позвать детей-охотников. Недорого.
Ян гуйдзы только машет рукой:
— На Среднем Западе такие тоже есть.
«Только у наших причины посерьезней», — думает Хок Сен, но решает не спорить. Позвать ловцов все равно надо: если этих дьявольских тварей не распугать, рабочие станут шептаться, что несчастье навлек пхи Оун, злой дух — повелитель чеширов.
Коты подходят все ближе, их то видно, то нет, шкуры принимают оттенки всего, что находится рядом. Животные опускают головы к кровавым разливам, и их переливчатые рыжие и угольно-черные пятна краснеют.
По слухам, чеширов вывела компания-калорийщик — то ли «ПурКалория», то ли «Агроген» — по приказу одного из начальников; говорят — как сувенир для гостей ко дню рождения его дочери, когда той исполнилось столько же, сколько кэрролловской Алисе.
Дети разобрали котят по домам, те дали потомство с обычными кошками, и через двадцать лет чеширы заселили все континенты; теперь только два процента их потомства напоминает старых животных — Felis domesticus с лица земли исчезли. В Малайе «зеленые повязки» ненавидели китайцев и чеширов одинаково, только последние, насколько известно Хок Сену, по-прежнему живут там и процветают.
Доктор Чан кладет очередной стежок, ян гуйдзы вздрагивает и бросает на нее злобный взгляд.
— Ну все, хватит.
Та делает ваи, пряча испуг за сложенным ладонями, и шепчет Хок Сену:
— Он снова дернулся. Анестезия плохая, я к такой не привыкла.
— Я дал ему виски для обезболивания. Заканчивай, я все улажу, — успокаивает ее старик и добавляет, глядя на сяншена Лэйка: — Осталось совсем немного.
Тот корчит недовольную мину, но оставляет доктора в покое и дает ей спокойно зашить рану. Затем старик отводит женщину в сторону и вручает конверт с деньгами. Та начинает кланяться, однако Хок Сен тут же прерывает поток благодарностей.
— Здесь больше, чем договаривались, — я попрошу тебя передать вот это письмо. — Он протягивает второй конверт. — Мне надо поговорить с главным вашей башни.
— С Собакотрахом? — Доктора передергивает от омерзения.
— Вот услышит он это прозвище и перережет всю твою родню, сколько их там осталось.
— Это очень жестокий человек.
— Просто передай записку, о большем не прошу.
Доктор Чан нерешительно берет конверт.
— Вы всегда так добры к нашей семье. И все соседи об этом говорят, даже делают подношения богам по… вашей утрате.
— О, моя помощь ничтожно мала, — вымучивает улыбку Хок Сен. — Нам, китайцам, непременно надо держаться вместе. Там, в Малайе, мы, может, и были из разных регионов и говорили на разных языках, но тут мы все как один — обладатели желтых билетов. Мне так стыдно, что я не могу сделать для вас больше.
— Другие и того не делают. — Она по чужой для обоих традиции делает ваи и уходит.
Глядя ей вслед, Лэйк говорит:
— Тоже желтобилетница?
— Да, — кивает Хок Сен. — В Малайе была врачом. Тогда, до Казуса.
Чужестранец какое-то время молчит, будто обдумывает сказанное.
— А что — за работу она берет меньше тайских докторов?
Хок Сен бросает на ян гуйдзы быстрый взгляд, пытаясь угадать, какой ответ тот хочет услышать.
— Да, гораздо меньше. А дело знает хорошо. Даже лучше их. А берет меньше. Врачами работать можно только тайцам, вот она и сидит почти без дела. Лечит желтобилетников, у которых и денег-то нет. Для нее просто потрудиться — уже счастье.
Лэйк кивает, явно о чем-то размышляя; Хок Сен очень хочет знать, о чем именно. Белый человек — сплошная загадка. Старик иногда думает: как народу ян гуйдзы, который слишком глуп, чтобы стать хозяином мира, это тем не менее удалось, причем не единожды? Преуспели во время Экспансии; энергетический коллапс заставил их поначалу вернуться домой, но потом они явились снова со своими компаниями-калорийщиками, эпидемиями и патентованным зерном… Их будто боги берегут. Если подумать, Лэйк должен был погибнуть, стать фаршем, одной кучей с останками Баньята, Нои и того безымянного погонщика с четвертого вала — он, конечно, во всем и виноват, потому что напугал мегадонта. И все же вот заморский демон — сидит себе и жалуется на какой-то несчастный укол, а то, что завалил десятитонного зверя одним выстрелом, его никак не волнует. Очень странные создания эти ян гуйдзы. В свое время Хок Сен часто вел с ними торговые переговоры, но даже не подозревал, что понимает в них так мало.
— Махутам снова нужно будет дать денег, без взяток на работу не выйдут, — сообщает старик.
— Знаю.
— А еще нанять монахов — читать на фабрике молитвы, чтобы успокоить рабочих, потом обязательно ублажить пхи. Это дорого встанет. Начнут говорить, что тут завелись злые духи, что место плохое, или что домик духов слишком маленький, или что во время стройки вы срубили дерево, где жил пхи. Придется нанять предсказателя или даже специалиста по фэн-шуй — тогда люди поверят, что здесь хорошее место. Потом махуты потребуют надбавку за вредность…
— Я хочу заменить погонщиков, — обрывает его Лэйк. — Всех до последнего.
Хок Сен шумно втягивает воздух сквозь сжатые зубы.
— Это невозможно. Все энергетические договоры в городе идут через профсоюз мегадонтов. У них разрешение правительства, а у белых кителей — монополия. С профсоюзами нам не сладить.
— Они никуда не годны. Им тут не место. С меня хватит.
Хок Сен неуверенно улыбается, не понимая, шутит фаранг или говорит всерьез.
— У них же королевский мандат. Идти против него — все равно что сказать: «Давайте поменяем людей в министерстве природы».
— А что, отличная мысль! — хохочет Лэйк. — Договорюсь с «Карлайлом и сыновьями», будем каждый день писать жалобы на высокие налоги и на закон о лимитах на уголь, заставим Аккарата, министра торговли, рассмотреть наше дело. — Он смотрит прямо на Хок Сена. — Но ведь ты же не захочешь так работать, верно? — Его взгляд внезапно становится ледяным. — Ты любишь, чтобы все было по-тихому, да с торгом, если договор, то без лишнего шума.
Хок Сену не по себе. Бледная кожа, светло-серые глаза — этот заморский демон такое же страшное и непостижимое существо, как чешир.
— Злить белых кителей — очень неумно, — бормочет старик. — Молния бьет в самое высокое дерево.
— Типичная философия желтобилетника.
— Как скажете. Но благодаря ей я, в отличие от многих, жив. У министерства природы большая власть. Что бы ни происходило, генерал Прача и его белые кители стоят на ногах крепко. Им был нипочем даже переворот двенадцатого декабря. Играете с коброй — готовьтесь к укусу.
Лэйк, кажется, вот-вот что-то возразит, но вместо этого только пожимает плечами и бросает:
— Ну да, ты лучше знаешь.
— За это вы мне и платите.
— Зверь не должен был вырваться, — говорит ян гуйдзы, глядя на мертвого мегадонта, и отхлебывает из бутылки. — Вот только цепи-то проржавели. Поэтому никаких компенсаций. Ни цента — и точка. Это мое последнее слово. Если бы мегадонта приковали как надо, не пришлось бы его убивать.
Хок Сен молча соглашается и прибавляет:
— Без компенсаций все же не выйдет, кун.
— Я понимаю — монополия, — недовольно отвечает Лэйк, холодно улыбаясь. — Дурак этот Йейтс, что организовал фабрику именно тут.
Старику беспокойно — Лэйк ведет себя как капризный ребенок. Детским поступком можно разозлить белых кителей или профсоюз. А еще дети любят схватить игрушку и убежать подальше. Вот это совсем нехорошо: ни Андерсон Лэйк, ни его инвесторы не должны никуда убегать. Пока не должны.
— Подсчитаем убытки.
К плохим новостям Хок Сен приступает с большой неохотой.
— Если учесть мегадонта и отступные профсоюзу? Миллионов девяносто бат, наверное?..
Маи машет ему рукой и что-то кричит. Хок Сен тут же понимает, в чем дело, но, не оглядываясь, продолжает:
— Думаю, поломки найдутся и под полом. Ремонт встанет дорого. — Он мешкает, прежде чем заговорить на щекотливую тему. — Следует известить мистера Грега и мистера Йи, ваших инвесторов. Вероятно, нам не хватит наличности на все сразу — еще нужно установить и отладить новые водорослевые ванны, как только они прибудут… Мы попросим дополнительных расходов.
Он умолкает и ждет, что скажет ян гуйдзы.
Деньги текут через компанию таким потоком, что иногда кажутся Хок Сену не дороже воды, но он понимает, что радости инвесторы не испытают, поскольку бывают очень прижимисты. При мистере Йейтсе деньги приходилось выбивать постоянно, при мистере Лэйке — реже, с ним претензий к расходам стало меньше, и все равно поразительно, какие суммы тратят Грег и Йи на свою мечту. Будь главным Хок Сен, он прикрыл бы фабрику еще год назад, а то и раньше.
Мистер Лэйк, однако, спокоен.
— Еще денег, ясно, — всего-то и говорит он, а потом спрашивает, глядя Хок Сену прямо в глаза: — Скажи-ка мне, когда на самом деле водорослевые ванны и питательные культуры пройдут растаможку?
Хок Сен бледнеет.
— Тут все непросто. Через бамбуковый занавес за один день не пробиться. Министерство природы лезет во все дела.
— Ты же сказал, что заплатил белым кителям и теперь они от нас отстанут.
— Да, я сделал нужные подарки нужным людям.
— Тогда почему я вообще слышу от Баньята про загрязненные ванны? Будь в них живые организмы…
Хок Сен торопливо прерывает Лэйка:
— Груз уже в порту, «Карлайл и сыновья» доставили его еще на прошлой неделе… — Тут он наконец решается: пусть ян гуйдзы услышит хорошие новости. — Таможню пройдет завтра, а потом — сразу на фабрику, на мегадонтах. Если, конечно, вы прямо сейчас не уволите членов профсоюза, — пытается пошутить старик и вздыхает с облегчением: демон отрицательно мотает головой и даже отвечает слабой улыбкой.
— Значит, завтра. Точно?
Хок Сен с уверенным видом кивает, надеясь, что все будет именно так. Чужестранец, не сводя с него пристальных светло-серых глаз, добавляет:
— Сюда вкладывают очень большие деньги. Единственное, чего инвесторы не потерпят, — это плохой работы. Я тоже терпеть ее не стану.
— Понимаю.
Таким ответом Лэйк удовлетворен.
— Вот и хорошо. Разговор с головным офисом мы отложим. Придет новое оборудование, тогда и позвоним. Плохие новости надо подавать вместе с хорошими. Какой смысл просить денег у инвесторов, когда нам нечего им предъявить? Я так считаю. А ты? Ты что думаешь?
Старик через силу кивает:
— Как скажете.
— Ладно. — Лэйк снова прикладывается к бутылке. — Подсчитай пока убытки. Отчет жду завтра утром. Иди.
Хок Сен шагает к ждущей у вала бригаде и думает: хорошо, если груз в самом деле пройдет таможню, тогда он докажет свою правоту на деле. Это, конечно, рискованная игра, но не совсем безнадежная. В любом случае демон не обрадовался бы еще одной плохой новости.
Маи стряхивает с себя пыль — она только что вернулась из очередной вылазки в подпольные коммуникации.
— Ну, что там? — спрашивает ее Хок Сен.
Вал — огромное тиковое бревно, теперь полностью отсоединенное от системы, — лежит рядом, все в больших трещинах.
— Много поломок? — кричит старик в дыру, где раньше стоял вал.
Через минуту из отверстия выглядывает перепачканный в смазке Пом.
— Тоннели узкие, — пыхтит он, стирая с лица грязь и пот. — В нижних механизмах точно есть повреждения, но где и какие — это надо детей посылать, они там проползут. Если проблемы с главной цепью — придется вскрывать пол.
Хок Сен глядит в дыру и вспоминает, как выживал в джунглях, прячась среди крыс в похожих тоннелях.
— Маи найдет нам кого-нибудь, кто туда пролезет.
Когда-то старик сам владел зданием, похожим на эту фабрику, и не одним — у него были целые склады, заваленные добром. И кто он теперь? Мальчик на побегушках у ян гуйдзы, развалина, которую все чаще подводит собственное тело, босс клана, уничтоженного на корню, чтобы только добраться до него. Хок Сен разочарованно вздыхает и гонит прочь грустные мысли.
— Я должен знать все о наших поломках, прежде чем доложу о них фарангу. Все до мельчайших деталей.
— Да, кун. — Пом делает ваи.
Хок Сен идет в офис — первые несколько шагов прихрамывает, но потом решает не давать ногам слабины. Ходит он много, и в колене постоянной болью отдается давняя встреча с одним из тех чудовищ, которые приводят в движение механизмы фабрики. Старик невольно замирает на вершине лестницы и еще раз оглядывает тушу мегадонта и то место, где погибли рабочие. Вороньем налетают воспоминания — кружат, клюют, мутят сознание. Друзья, семья — почти никого не осталось. Четыре года назад имя Хок Сена гремело. А кто он сейчас? Никто.
В офисе тишина. Пустые столы, дорогие компьютеры с ножными динамо, педали приводов, крохотные экраны, тяжелые сейфы. Старик смотрит по сторонам и видит: из углов выскакивают религиозные фанатики — в руках мачете, на головах зеленые повязки. Но это лишь воспоминания.
Дверь закрывается, шум стихает. Хок Сен подавляет желание подойти к окну и еще раз посмотреть на труп животного и алые разливы — не стоит бередить душу воспоминаниями о крови, текущей по водостокам на улицах Малакки, о китайских головах, выставленных штабелями наподобие дурианов на рыночных лотках.
«Тут не Малайя. Тут спокойно».
Но образы — отчетливые, как фотографии, и яркие, как вспышки фейерверков, — не отступают. В такие моменты любая мелочь кажется ему таящей угрозу. Со времен Казуса прошло четыре года, однако без ритуала успокоения не обойтись. Хок Сен прикрывает глаза, глубоко вдыхает и представляет, как один из его клиперов летит по голубым океанским волнам. Еще один вдох — и можно снова посмотреть вокруг. Никакой опасности: только аккуратные ряды пустых столов с компьютерами, ставни, которые не дают раскаленному солнцу проникнуть внутрь, в воздухе — пылинки и аромат благовоний.
В густой тени в дальнем конце офиса тускло, с издевкой, поблескивает сталью двудверная сокровищница «Спринглайфа». К меньшему из сейфов — тому, где лежат деньги, — у Хок Сена есть ключ, а вот ко второму, большому, доступ только у мистера Лэйка.
«Как же они близко!»
Там, за дверцей, всего в нескольких дюймах — старик как-то видел их собственными глазами — лежат технические документы, образцы ДНК водорослей со взломанным кодом, кубические носители с геномными картами, подробные указания по получению и переработке поверхностной пленки в смазку и порошок, инструкции по правильной закалке проволоки, чтобы та не отторгала новый тип оболочки. На расстоянии вытянутой руки лежит ключ к новому поколению накопителей энергии, а с ним надежда на воскрешение и самого Хок Сена, и его клана.
Битый год старик выслушивал путаные, невнятные разговоры Йейтса, когда тот выпивал, подливал баиджу[57], втирался в доверие, хотел стать нужным, но все пошло прахом. Этот дурак разозлил инвесторов, да к тому же не смог воплотить собственный замысел, и вот исход: запертый сейф.
Стоит Хок Сену заполучить данные, и он построит собственную империю. Но пока у него есть лишь копии отдельных листов: до того как пьяница Йейтс купил этот проклятый железный шкаф, бумаги часто валялись на рабочем столе в открытую. Теперь же старика отделяют от документов стальная дверца, отсутствие ключа и неизвестный код. Добротное устройство — это Хок Сен знает наверняка. В те дни, когда он стоял во главе собственной торговой корпорации «Ин Тай» в Малайе, у него тоже было что прятать под замком. Но самое обидное: пользовался он тогда точно такими же сейфами, именно этими китайскими механизмами, которые теперь служат иностранцам. Старик иногда целыми днями разглядывает стальную дверцу и размышляет о скрытых за ней знаниях.
Хок Сена внезапно осеняет.
«А не забыли ли вы, мистер Лэйк, ее запереть? Немудрено в такой-то суматохе».
У старика убыстряется пульс.
«Отвлеклись? Запамятовали?»
С Йейтсом такое случалось.
Хок Сен пытается взять себя в руки. Прихрамывая, подходит ближе и замирает. Святыня. Стальной монолит, подвластный лишь терпению и силе алмазного бура. Предмет, который изо дня в день всем своим видом издевательски его дразнит. Неужели? Возможно ли, что Лэйк попросту забыл запереть дверцу?
Хок Сен нерешительно берется за ручку, задерживает дыхание, возносит молитвы предкам, слоноголовому Пхра Канету[58] — избавителю от преград, всем богам, каких знает, — и тянет рычаг вниз.
Каждый атом стального, весом в тысячу цзинь[59] шкафа дает ему отпор.
Старик выдыхает и делает шаг назад, уговаривая себя не переживать.
Терпение. На каждый замок найдется свой ключ. Лучшим из возможных был бы мистер Йейтс, если бы не разозлил инвесторов. Значит, действовать нужно через Лэйка.
В день, когда привезли сейф, Йейтс приговаривал: «Пора мне поберечь свои золотые яйца, да и курицу вместе с ней». Хок Сен в ответ кивал, натужно улыбался шутке, но думать мог только о том, что документы бесценны, а сам он сглупил, не скопировав их раньше, пока мог.
Теперь Йейтса нет. Его место занял новый демон, причем самый настоящий: сероглазый, русоволосый и, в отличие от прежнего, совершенно непреклонный. Это грозное создание, которое перепроверяет каждое действие Хок Сена и очень мешает его планам, еще нужно как-то убедить, что доверить секреты компании старику можно.
«Терпение и еще раз терпение. Рано или поздно заморский демон обязательно сделает неверный ход».
— Хок Сен!
Старик подходит к двери, машет Лэйку — мол, слышал, сейчас спустится, — но сперва идет к алтарю и встает на колени перед образом Гуанинь. Он молит бодхисаттву быть к нему и его предкам милостивой, дозволить ему и роду его искупить грехи. Под золотым иероглифом удачи, который висит вверх ногами, чтобы везение нисходило прямо на просящего, Хок Сен кладет пригоршню ютексового риса и надрезает красный апельсин. По руке бежит алая струйка. Фрукт спелый, ничем не зараженный и очень дорогой — на богах экономить нельзя, они любят жир, а не постные прожилки.
Дым от благовоний снова растекается в неподвижном воздухе конторы. Старик продолжает молить: пусть фабрику не закрывают, пусть взятки помогут и новое оборудование доставят беспрепятственно. И еще пусть заморский демон наконец спятит и начнет доверять Хок Сену как самому себе, а сейф откроется и выдаст все тайны до последней.
Старик просит богов об удаче. Она нужна даже старому китайцу-желтобилетнику.
3
Эмико потягивает виски, мечтает опьянеть и ждет, когда по знаку Канники пойдет за очередной порцией унижения. В душе она бунтует, но все остальное — то, что с голым животом, одетое в коротенькую блузку и обтягивающую юбку-пасин, сидит и пьет, — бороться за себя не может.
А вдруг все наоборот? Вдруг к саморазрушению толкает другая ее половина, которая так старательно поддерживает иллюзию собственного достоинства, а выживать заставляет тело, этот набор клеток и переиначенных ДНК, эта система, имеющая свои, более сильные и конкретные потребности — потому что именно тело и обладает волей?
И не потому ли Эмико сидит здесь, слушает ритмичный стук бамбуковых палочек и завывание пикланга[60], пока танцовщицы извиваются на сцене, освещенной только светлячками, а клиенты со шлюхами громко подбадривают друг друга? Может, дело в том, что ей не хватает духа умереть? Или ее останавливает собственное упрямство?
Райли говорит, все на свете происходит по кругу: то поднимается, то опускается приливная волна у пляжей Ко Самета[61] или член, когда рядом есть красивая девушка. Райли шлепает подружек по голым попкам, хохочет шуткам новоприбывших гайдзинов[62] и объясняет Эмико: что бы те ни захотели с ней сделать — деньги есть деньги, и вообще нет ничего нового под солнцем. Очень может быть. Его прихоти не оригинальны, да и Канника, когда причиняет ей боль и требует кричать, тоже не удивляет — разве только тем, что страстно постанывать заставляет не настоящую девушку, а механическую — пружинщицу. Это, конечно, свежо.
«Ты смотри! А ведь совсем как человек!»
Гендо-сама часто повторял ей: «Ты больше чем человек». После секса он гладил ее черные волосы и с сожалением говорил, что новых людей уважают не так, как стоило бы, а самой Эмико очень не хватает плавности в движениях, но тут уж ничего не поделаешь. С другой стороны, разве у нее не превосходное зрение, не идеальная кожа и не стойкие к раку и болезням гены? Как тут можно быть недовольной? Во всяком случае, ее волосы никогда не поблекнут, а старость наступит гораздо позже, чем у Гендо, несмотря на все его омолаживающие таблетки, операции, кремы и отвары.
Как-то раз он сказал:
— Ты прекрасна, хотя и не совсем человек. Тут нечего стыдиться.
— А я и не стыжусь, — ответила она и обняла его крепче.
Правда, было это в Киото, где Новые люди встречались на каждом углу и исправно служили обществу; кое-кого даже высоко ценили. К человеческому роду они, конечно, не относились, но и угрозы для него не представляли, хотя местные дремучие тайцы считают именно так. И уж точно Новые люди — не демоны, какими с кафедр их объявляют проповедники-грэммиты, и не адские твари, у которых нет души, а значит, места в цикле перерождений, и жажды обрести нирвану — так говорят лесные монахи-буддисты. Не оскорбляют они своим существованием и Коран, что бы ни думали «зеленые повязки».
Японцы были прагматичны. Стареющая нация нуждалась в молодой рабочей силе, а в том, что создали ее в пробирке и вырастили в инкубаторах, греха никто не видел. Да, японцы были прагматичны.
«Может, все дело именно в этой прагматичности, из-за нее ты и сидишь здесь? И хотя внешне ты — их копия, у вас общий язык и только в Киото чувствуешь себя дома, японкой по-настоящему ты никогда не была».
Она опускает голову на руки и размышляет, подцепит ее кто-нибудь или она так останется до утра в одиночестве. Неизвестно еще, что хуже.
Райли говорит: нет ничего нового под солнцем. На это Эмико заметила ему сегодня, что она — из Новых людей, а их раньше на свете не было. Райли хохотнул, согласился, сказал: «Ты у нас — нечто особенное», — и добавил, что раз так, то как знать — возможно, для нее и нет ничего невозможного. А потом шлепнул пониже спины и отправил на сцену — побыть особенной уже там.
Она чертит пальцем на столе дорожку между намокшими подставками под бокалами с теплым пивом — скользкими и влажными, как тела девушек и посетителей, как ее собственная кожа, если ее натереть лосьоном, чтобы на ощупь (а клиенты щупать любят) та была мягче самого мягкого сливочного масла. Пусть движения Эмико неестественно резкие и механически угловатые, зато кожа более чем идеальна. Зрение у девушки лучше, чем у людей, однако даже с его помощью почти невозможно разглядеть поры на ее коже — такие они крохотные, изящно-незаметные. Оптимальные. Их сделали такими с расчетом на климат Японии и кондиционированный воздух богатых домов, но никак не на местную жару — здесь слишком тепло, а потеть не получается.
Эмико размышляет: если бы она родилась каким-нибудь другим существом, например безмозглым чеширом, было бы ей теперь прохладнее — не из-за уместных здесь более широких пор, а от неспособности думать? Она не понимала бы, что живет в западне удушающе идеальной кожи, придуманной и выведенной в пробирке из коктейля ДНК каким-то противным ученым, который сделал ее кожу вот такой вот мягкой, а остальное — ну уж слишком перегретым.
Внезапно Канника хватает ее за волосы.
Эмико охает, смотрит по сторонам — не поможет ли кто, но ее постоянные клиенты увлечены танцовщицами на сцене и девушками, которые щедро подливают им виски, трутся, сидя на коленях, гладят по груди. Всем работницам этого заведения на нее наплевать. Не вступятся даже самые добродушные — те, у кого джай ди, доброе сердце, те, кому отчего-то симпатичны механические создания, пружинщицы вроде Эмико.
Только Райли, который увлеченно и весело болтает с очередным гайдзином, не сводит с нее старческих глаз, следит за тем, что она будет делать дальше.
Канника снова дергает ее за волосы и стаскивает с барного стула.
— Баи!
Эмико угловатой походкой ковыляет к круглой сцене. Люди тычут пальцами, хохочут над ее рваными неестественными движениями, видят уродца, вырванного из родной среды и с рождения обученного лишь кланяться и подчиняться.
На то, что сейчас произойдет, она настраивает себя смотреть со стороны. Ее учили подавлять эмоции, когда это необходимо. В инкубаторе, где Эмико появилась на свет и выросла, не питали иллюзий относительно того, чем могут заставить заниматься Новых людей, даже самых совершенных. Новые люди служат безропотно.
К сцене она приближается уже как великосветская куртизанка — манерная продуманная походка десятилетиями подгонялась под ее заложенные генами особенности, чтобы подчеркнуть красоту и непохожесть тела. Но толпа видит только рваные движения, а вместо человека — несуразицу, странную куклу, механическое существо.
Ее заставляют обнажиться.
Канника плещет водой — на смазанной маслом коже Эмико капельки поблескивают как бриллианты, твердеют соски. На сцене приглушенный интимный свет, который исходит только от светлячков, порхающих под потолком. Канника шлепает Эмико по бедру — кланяйся; потом прижигает ладонью по заду — кланяйся ниже, надо выказать почтение этим людишкам, которые полагают, что началась новая эпоха Экспансии, а они — ее авангард.
Клиенты хохочут, машут руками, указывают на сцену, требуют еще виски. В углу ухмыляется Райли, счастливый в роли старого доброго дядюшки, наставляющего корпоративную поросль обоего пола, которая живет мечтами о наживе с транснационального бизнеса. Все как в старые добрые времена.
Канника дает девушке знак встать на колени.
Чернобородый гайдзин с густым моряцким загаром разглядывает Эмико почти вплотную. Их взгляды встречаются. Мужчина изучает ее как букашку под микроскопом — с большим интересом и с отвращением. Она очень хочет рявкнуть на него — пусть увидит человека, а не кучу генетического мусора, — но вместо этого отвешивает раболепный поклон лбом в деревянный пол и слушает, как Канника на тайском рассказывает ее историю: некогда дорогая японская забава теперь служит здесь — можно поиграть и даже сломать.
Канника поднимает ее рывком за волосы. Тело изгибается дугой, Эмико, ахнув, успевает заметить сначала взгляд бородача, удивленного таким жестоким и унизительным поступком, мельком — толпу зрителей, потолок, увешанный сетками со светлячками. Рука тянет ее дальше назад, сгибает как тонкое деревце, выставляет напоказ грудь, тащит голову вниз, для устойчивости раздвигает ноги пошире и упирает макушкой в пол. Канника отпускает очередную реплику, зрители хохочут. Эмико, выгнутая безупречно ровной аркой, чувствует страшную боль в спине и шее, кожей ощущает на себе сальные взгляды толпы. Она открыта и полностью беззащитна.
Ее чем-то обливают.
Эмико хочет встать, Канника не пускает, плещет в лицо остатками пива — девушка давится, сплевывает. Наконец хватка ослабевает, она рывком выпрямляет спину и заходится кашлем. Пена стекает по лицу, шее, груди, струйкой бежит к промежности.
Зал хохочет. Саенг торопливо подносит бородачу новый бокал, гайдзин с ухмылкой отдает чаевые. Клиенты веселятся, глядя, как смешно и нелепо эта кукла размахивает руками, пытаясь выбить жидкость из легких. Они видят дергунчика, безмозглую марионетку с прерывистыми жестами. От плавных движений, которым в инкубаторном детстве ее обучала сенсей Мидзуми, не осталось и следа. Силы, заложенные в ДНК, начисто смели всю приобретенную грацию — на потеху публике.
Эмико все никак не откашляется, ее почти рвет пивом, руки выписывают такие фигуры, что ни у кого не остается сомнений — это не настоящий человек. Наконец она делает первый ровный вдох, успокаивает конечности, встает на колени и ждет продолжения издевательств.
В Японии она считалась чудом техники, здесь — всего лишь пружинщица, заводная кукла. Люди смеются над ее диковатой походкой и кривят лица от одной мысли о том, что подобные существа есть на свете. Она для них табу. Тайцы с удовольствием покрошили бы ее в компостные резервуары, где получают метан. Встреть они одновременно ее и сотрудника «Агрогена», еще неизвестно, кто первым отправился бы на переработку. А еще эти гайдзины. Эмико прикидывает, сколько среди них прихожан грэммитской церкви, людей, которые обещают уничтожать любое оскорбление природе — то, что представляет собой пружинщица. И все же вот — сидят и получают удовольствие, глядя, как над ней глумятся.
Канника уже скинула с себя одежду и теперь стоит с нефритовым фаллосом в ладони. Она снова дергает девушку за волосы и валит на спину.
— Держите за руки!
Мужчины тут же подскакивают к сцене, хватают Эмико за запястья, Канника раздвигает ей ноги и вводит член. Та вскрикивает, отворачивает лицо и ждет, когда все закончится. Мучительница видит этот маневр, силой вздергивает голову девушки так, чтобы все видели ее реакцию, и приступает к делу.
Возбужденные клиенты начинают хором считать:
— Нынг! Сонг! Сам! Си!
Канника, к их удовольствию, прибавляет темп. Мужчины потеют, глядят, не отрываясь, кричат — за деньги, уплаченные на входе, они хотят большего. Все новые руки хватают девушку за плечи и лодыжки, давая Каннике свободу действий; та умело заставляет тело Эмико дрожать и извиваться рваными механическими движениями. Люди, посмеиваясь, обсуждают эти подергивания — угловатые и неестественно резкие.
Канника пускает в ход пальцы, играет ими там, куда входит фаллос. Эмико чувствует, что горит от стыда, вертит головой, хочет отвернуться. Мужчины стоят плотным кольцом, глазеют; подходят все новые и вытягивают шеи, пытаясь увидеть хоть что-нибудь. Девушка издает стон. Канника криво ухмыляется, говорит что-то толпе, ускоряет темп и начинает активнее тискать плоть пальцами. Эмико больше не владеет собой: стонет, вскрикивает, выгибается дугой. Тело точно выполняет порядок действий, заложенный учеными. Она может презирать свою оболочку, но контролировать ее не в состоянии — исключено даже малейшее неповиновение. Эмико кончает.
Толпа довольно ревет и хохочет, глядя на нелепые конвульсии, запрограммированные в ДНК на оргазм. Канника тычет в девушку пальцем, будто говорит всем: «Смотрите! Ну разве не животное?» — садится рядом и шипит ей в лицо:
— Ты — ничто, ты всегда будешь ничем. Вот так с вами, япошками, надо, вот так.
Эмико хочет ответить, что ни один уважающий себя японец никогда не сделал бы ничего подобного, что Канника отыгрывается всего лишь на шутке технического гения, на кукле — таком же расходном материале, как японские одноразовые накладки на руль рикши. Но если сказать такое, станет лишь хуже — уже проверено. А если промолчать — все скоро закончится.
Будь она хоть трижды Новый человек, нет ничего нового под солнцем.
Лопасти больших вентиляторов гоняют по клубу воздух. Налегая изо всех сил на рычаги, их крутят несколько кули-желтобилетников, по лицам и спинам которых стекают струйки пота. Трудяги сжигают калории с той же скоростью, с какой получают их из пищи, но в раскалившемся за день на солнце здании все еще жарко.
Под одним из вентиляторов стоит Эмико — остужает себя как может, отдыхает от беготни с подносом по залу и мечтает не попасться на глаза Каннике. Едва та замечает девушку, как немедленно тащит ее всем на обозрение, заставляет пройтись, как следует показать свои дерганые кукольные движения, то так повернет, то эдак. Посетители смотрят, отпускают шуточки, но втайне рассчитывают порезвиться с японской игрушкой, как только уйдут их приятели.
В центре главного зала медленно кружат по паркету клиенты с молоденькими девушками, одетыми в пасин и короткие блузки. Музыканты играют песни эпохи Свертывания, правда, не в оригинале: Райли извлек несколько штук из глубин своей памяти, переложил для тайских инструментов — вышел странный коктейль из грустных воспоминаний о прошлом, экзотика не меньшая, чем его собственные дети — круглоглазые, с волосами цвета куркумы.
— Эмико!
Девушка вздрагивает. Это Райли, зовет к себе в кабинет. Она идет мимо бара, посетители таращатся на прерывистые движения. Канника, отлепляясь от клиента, провожает ее ухмылочкой; когда Эмико только приехала в страну, ей сказали, что у тайцев есть тринадцать видов улыбок, и эта, видимо, не из доброжелательных.
— Идем же, — торопит Райли. Они оставляют позади занавес, коридор, раздевалки и входят в дверь.
Стены кабинета — сплошная выставка воспоминаний, скопившихся за тройной век их хозяина; здесь и пожелтевшие фотографии Бангкока, залитого одним только электрическим светом, и портрет самого Райли в костюме какого-то племени с северных холмов. Старик усаживает Эмико на подушки в той части комнаты, где пол немного приподнят — здесь он обычно ведет приватные беседы. Удобно развалившись, их ждет высокий человек: у него бледная кожа, светлые волосы, водянисто-серые глаза и воспаленный шрам на шее.
При виде девушки незнакомец вздрагивает.
— Иисусе и Ной ветхозаветный! Ты не говорил, что она пружинщица!
Райли, ухмыляясь, устраивается рядом и поддевает в ответ:
— Не знал, что ты грэммит.
Тот, чуть улыбнувшись, продолжает:
— С огнем играешь, Райли. Вернее, с пузырчатой ржой. Вот придут к тебе белые кители…
— Не придут. Пока я плачу взятки, министерству плевать на подробности. «Бангкокские тигры» за этим районом не приглядывают, а местным от жизни нужны только пара долларов в кармане да крепкий сон по ночам. — Он смеется. — Я на один лед вот для нее трачу больше, чем на все министерство природы, лишь бы оно не замечало чего не надо.
— На лед?
— Ну да. Перегревается — неподходящая структура пор. Знал бы, не стал покупать.
В комнате сильно пахнет опиумом. Райли набивает себе очередную трубочку. Он говорит, что это уже долгие годы придает ему сил и помогает не стареть, но Эмико подозревает: старик путешествует в Токио за теми же самыми омолаживающими процедурами, какими пользовался Гендо-сама. Райли греет опиум над лампадой: поворачивает зернышко на игле, мнет, а как только оно начинает шипеть и размякает, быстро сворачивает его в шарик, прижимает к чашечке трубки, подносит ее к огню и делает глубокий вдох. Смола превращается в дым. Райли с закрытыми глазами протягивает угощение своему бледному гостю.
— Нет, благодарю.
Райли удивленно разлепляет веки и хохочет:
— Стоит попробовать — эту штуку еще ни одна зараза не взяла. К тому же мне она приносит удачу. А завязывать даже не думаю — куда уж в мои годы.
Незнакомец не отвечает и пристально рассматривает Эмико; той делается очень неуютно — ее словно разбирают на части, всю до последней клеточки. И все же это не совсем тот взгляд, каким обычно раздевают — к подобным она привыкла: клиенты каждый день мысленно ощупывают ее — похотливо и вместе с тем презрительно. Сейчас девушку изучает пара совершенно бесстрастных светлосерых глаз, и если в них кроется похоть, то спрятана она очень хорошо.
— О ней ты говорил?
Райли кивает.
— Расскажи джентльмену о нашем недавнем знакомом.
Эмико в замешательстве: она вполне уверена, что никогда раньше не видела этого бледного светловолосого гайдзина, не подавала ему виски со льдом — то есть представления он точно не посещал. В памяти ничего не всплывает, сколько ни ройся. Этот загар, который видно даже в тусклом пламени свечек и опиумной лампадки, эти невероятно — и неприятно — светлые глаза… такие не забудешь.
— Ну, давай, давай, расскажи ему то же, что и мне. Про того парнишку, с которым ушла, про белого кителя.
Когда дело касается тайны посещений, Райли ведет себя как настоящий параноик. Он даже хотел устроить для постоянных клиентов подземный тоннель в башню Плоенчит со входом в соседнем квартале — просто чтобы никто не видел, как те приходят и уходят, — а теперь просит выложить все об одном из гостей.
— Про того мальчика? — Эмико встревожена его удивительным желанием раскрыть личность посетителя, да не обычного, а белого кителя, и тянет время. Она бросает быстрый взгляд на незнакомца, пытаясь угадать, чем тот так прижал ее папу-сана.
— Именно, — нетерпеливо бросает Райли сквозь сжатые зубы, которыми держит трубку, и снова прикуривает от лампадки.
— Белый китель, — начинает Эмико. — Пришел вместе с другими служащими…
Новичок, привели друзья, те веселились, подначивали его, угощались бесплатно (Райли считает их благосклонность дороже всякого алкоголя). Молодой человек напился, потом сидел в баре и отпускал шуточки по поводу Эмико, потом ушел. А затем вернулся тайком от своих любопытных приятелей.
— Разве они ходят к таким, как ты? — изумленно спрашивает бледнокожий.
— Хай. — Эмико кивает — не хочет показывать, что именно думает о его презрении. — Ходят. И белые кители, и грэммиты.
— Секс и лицемерие как кофе и сливки — всегда вместе, — посмеивается Райли.
Незнакомец сурово смотрит в ответ; Эмико думает, видит ли старик в этих белесых глазах то же отвращение, что и она, или уже накурился опиума и ничего не замечает.
— Продолжай, — командует гайдзин и садится спиной к Райли, выключая его из беседы.
Что это — он увлекся? Ею? Или рассказом?
Эмико чувствует в себе нечто забытое с тех самых пор, как ее бросили: гены приказывают угождать. Незнакомец чем-то напоминает Гендо-саму: даже несмотря на глаза цвета высветленного кислотой металла и на лицо, бледное, как маска из театра кабуки, в нем есть харизма. Девушка ясно ощущает властность его характера, и ей почему-то делается спокойнее.
«Ты грэммит? Попользуешься мной, а потом захочешь отправить на удобрения?»
Ее удивляет собственный интерес. Он не красив, он не японец, он — никто. И все же эти жуткие глаза держат Эмико с той же силой, с какой когда-то — глаза Гендо-самы.
— Что вы хотите знать? — шепчет она.
— Этот твой белый китель рассказывал о взломе генов?
— Хай, да. И, по-моему, очень гордился. У него была с собой целая сумка фруктов новой модели — подарки девушкам.
Интерес, разгорающийся в его глазах, подстегивает Эмико.
— Какие они?
— Красные вроде. С такими ниточками длинными.
— С зелеными усиками? Вот такими? — Он отмеряет пальцами сантиметр. — И толстенькими?
— Именно с такими. Называл «нго», говорил, что их его тетя сделала, и что теперь ее наградит Сомдет Чаопрайя, защитник Дитя-королевы, за пользу родине. Очень гордился тетей.
— Он пришел к тебе и?.. — торопит незнакомец.
— Да, пришел, но позже, когда никого из его друзей не осталось.
Гайдзин нетерпеливо мотает головой, ему наплевать на подробности их встречи: на беспокойный взгляд этого мальчика, на то, как робко расспрашивал маму-сан, как Эмико отправили наверх и ей пришлось порядочно ждать — никто не должен был заметить их одновременного отсутствия.
— О тете он еще говорил?
— Только то, что работает на министерство.
— Больше ничего? А где, например, у нее лаборатория, опытное поле?..
— Нет.
— И всё? — Незнакомец раздраженно смотрит на Райли. — Ты вытащил меня ради этого?
— А? — Старик возвращается из грез. — Ты про фаранга-то сказала?
Эмико только растерянно хлопает глазами:
— Прошу прощения? — Она помнит, как мальчик хвастался тетей — ее наградят за нго, продвинут по службе, — но никаких фарангов не упоминал. — Я не понимаю…
Старик сердито откладывает трубку.
— Ты же сама мне говорила — он рассказывал о фарангах, которые взламывают генетический код.
— Нет. Простите меня, но об иностранцах не было ни слова.
— Дай знать, когда появится информация, на которую мне действительно не жаль будет потратить свое время, — раздраженно бросает гайдзин, берет свою шляпу и встает.
Райли гневно смотрит на Эмико:
— А как же тот фаранг-генхакер?
— Но… Подождите! Постойте, кун. Я поняла, о чем говорит Райли-сан. — Она тянется к незнакомцу, трогает его за рукав — тот вздрагивает и брезгливо отступает. — Прошу вас! Я сначала не поняла. Тот мальчик ничего не говорил о фарангах, но назвал одно имя… как будто иностранное. Да? Вы об этом? — Она с надеждой смотрит на Райли.
О том странном имени, как у фаранга? Не тайское, не китайское и не южноминьское…
— Расскажи ему то же, что и мне, — обрывает ее старик. — Все до последней мелочи. Как мы обычно беседуем после каждой твоей встречи? Вот так и сейчас.
И она начинает снова. Гайдзин садится и с недоверчивым видом слушает историю о том, как мальчик нервничал, как сперва не мог смотреть на Эмико прямо и как потом не сводил с нее глаз, как переживал, что не может возбудиться, и как наблюдал за ней, когда она раздевалась, как рассказывал о своей тете и набивал себе цену — перед проституткой, перед проституткой — Новым человеком; как самой Эмико все это казалось нелепым и глупым и как старательно она от него это скрывала. Наконец пружинщица доходит до нужной части. Райли довольно улыбается, а бледный незнакомец со шрамом слушает ее затаив дыхание.
— Мальчик сказал, что копии документов им обычно дает некий Ги Бу Сен, хотя чаще он хитрит и привозит фальшивки. Но тетя обнаружила обман, а потом им удалось так составить код, что получился нго, и Ги Бу Сен тут ни при чем. В итоге все это — заслуга его тети. Вот так и сказал: Ги Бу Сен — обманщик, но тетю не проведешь.
Незнакомец со шрамом не мигая глядит на Эмико. Холодные серые глаза. Кожа бледная, как у трупа.
— Ги Бу Сен… — бормочет он. — Ты уверена?
— Уверена — Ги Бу Сен.
Гайдзин задумчиво кивает. В тишине потрескивает опиумная лампадка, а через открытые ставни и москитную сетку далеко снизу слышны выкрики припозднившегося торговца водой. Этот голос отвлекает незнакомца от размышлений, и он снова переводит взгляд на Эмико.
— Я бы очень хотел знать, когда твой друг придет в следующий раз.
— Ему потом было очень стыдно. — Девушка подносит руку к щеке, к замазанному косметикой синяку. — Думаю, он не…
— Иногда приходят снова, даже если чувствуют себя виноватыми, — обрывает ее Райли, свирепо сверкая глазами. Эмико кивает. Мальчик не вернется, но гайдзин будет рад думать иначе, а значит, рад будет и старик. А он — босс. То есть надо поддакивать и выражать уверенность.
— Иногда, — выдавливает она. — Иногда возвращаются, даже если стыдно.
Гайдзин переводит взгляд с Эмико на старика и обратно.
— Дай ей льда, Райли.
— Пока не время. И ей еще выступать.
— Я заплачу.
Райли совсем не хочет уходить, но ему хватает ума не возражать.
— Конечно, — натянуто улыбается он. — Я принесу. А вы пока побеседуйте. — И выходит, бросив на Эмико многозначительный взгляд. Старик хочет, чтобы она совратила гостя, соблазнила запретным сексом с марионеткой, а потом желает услышать подробный отчет — как и от всех девушек после встреч.
Эмико садится поближе. Его глаза скользят по приоткрывшемуся телу — вдоль ноги, туда, где пасин плотно обтягивает и скрывает плоть, — и смотрят в сторону. Девушка прячет раздражение. Что это — интерес? Тревога? Отвращение? Ничего не понятно. Большинство мужчин вписываются в элементарные схемы, с ними все просто и очевидно. Может быть, он находит Новых людей слишком гадкими? Или предпочитает мальчиков?
— Так как же ты здесь существуешь? Почему белые кители до сих пор не отправили тебя в компостную яму?
— Деньги. Они ничего не сделают, пока Райли-сан дает им взятки.
— А живешь ты, видимо, не здесь? Райли платит за отдельную комнату?
Она кивает.
— Дорого выходит?
— Не знаю, Райли-сан записывает это в мой долг.
Словно по зову появляется старик и начинает раскладывать лед на невысоком столике. Гайдзин умолкает и с нетерпением ждет, когда тот закончит. Райли мешкает, наконец замечает неловкую паузу и, пробормотав что-то вроде «не буду мешать», уходит. Эмико смотрит ему вслед и пытается понять, какую власть над ним имеет гайдзин.
На столе стоит соблазнительнейший стакан с ледяной водой. Незнакомец кивает, и она тут же — судорожно, почти мгновенно — выпивает все до дна, а потом прижимает холодное стекло к щеке.
Гайдзин наблюдает.
— Делали тебя не для тропиков. — Приблизившись, он начинает пристально изучать девушку. — Любопытно, что конструкторы решили изменить структуру пор.
Эмико подавляет в себе желание отпрянуть и через силу тоже тянется навстречу.
— Это чтобы кожа была привлекательней — глаже. — Она подтягивает пасин повыше, приоткрывает колени. — Хотите потрогать?
Гайдзин смотрит вопросительно.
— Пожалуйста, трогайте.
Его пальцы скользят по бедру.
— Приятно.
Ему в самом деле нравится — выдают сбивчивый шепот и жадный взгляд, как у ребенка, который предчувствует приключение.
— Кожа у тебя просто горит, — говорит он, кашлянув.
— Хай. Как вы сказали, делали меня не для тропиков.
Теперь гайдзин изучает ее до мельчайших подробностей, голодные глаза бегают вдоль тела, будто могут насытиться зрелищем. Райли бы это понравилось.
— Ну да. Такую модель могли продавать только богатым, в дома с кондиционерами. Тогда это имело бы смысл, — думает он вслух, и, догадавшись, спрашивает: — «Мисимото»? Тебя из «Мисимото» выбросили? Дипслужбе таких бы не дали — правительство не разрешило бы везти пружинщицу в страну, когда дворец на религии просто… — Гайдзин смотрит ей прямо в глаза. — Так что — «Мисимото»?
Эмико накрывает волной стыда, будто он вскрыл ее и покопался во внутренностях — отстраненно, безлично, но оскорбительно, как патологоанатом, который ищет в теле следы цибискоза. Она осторожно ставит бокал на стол.
— Вы генхакер? Поэтому так много обо мне знаете?
Выражение его лица мгновенно меняется — с изумленного восхищения на лукавство.
— Это, скорее, мое хобби — слежу за новостями генной инженерии.
— Вот как? — Девушка нарочно показывает, что испытывает к нему некоторое презрение. — Вы не сотрудник «Мидвест Компакт»? Нет? Не из какой-нибудь корпорации? — Придвигается поближе и добавляет с нажимом: — Не из калорийщиков, случайно?
Последние слова Эмико произносит шепотом, но эффект от них такой, будто закричала: гайдзин вздрагивает, глядит на нее, как мангуст на кобру, хотя вымученная улыбка с губ так и не сходит.
— Любопытное предположение.
Девушке приятно отыграться за прежний стыд. Если повезет, гайдзин просто убьет ее — и конец истории, наступит отдых от такой жизни.
Она ждет удара — дерзости от Новых людей не терпит никто. Сенсей Мидзуми позаботилась о том, чтобы Эмико никогда не выказывала и малейшего признака неповиновения: учила ее подчиняться, раболепствовать, выполнять любые желания тех, кто выше статусом, и быть гордой своим положением. И хотя девушке стыдно из-за излишнего любопытства гайдзина и своей несдержанности, сенсей Мидзуми сказала бы: это проступка не извиняет — нельзя так дразнить мужчину. Хотя какая разница — назад ничего не воротишь, а душа Эмико настолько омертвела, что сама она готова ко всему.
— Расскажи-ка мне еще раз про того мальчика. — В глазах гайдзина нет злобы — только то непреклонное выражение, какое бывало у Гендо-самы. — Все рассказывай. Ну?
Его приказ — как удар хлыстом. Эмико и рада бы отказать, вот только заложенное в Новых людях послушание и стыд за собственное неповиновение слишком сильны. «Он тебе не босс», — думает девушка, но уже готова лопнуть от желания угодить.
— Это было на прошлой неделе… — И девушка снова пересказывает ту ночь с белым кителем, стелет свою историю с таким же удовольствием, с каким когда-то играла для Гендо-самы на сямисене[63] — собачка, которая счастлива служить. Ей хочется посоветовать гайдзину съесть заразный фрукт и сдохнуть, но натура не велит, и она продолжает рассказывать, а он — слушать.
Некоторые места незнакомец заставляет повторять, задает вопросы, возвращает к пропущенному, настойчиво требует подробностей и разъяснений. Расспрашивает он умело — Гендо-сама так же дотошно выпытывал у своих подчиненных, почему опоздал парусник с грузом, и пробивался к сути через оправдания, как долгоносик со взломанными генами через мякоть фрукта.
Наконец гайдзин удовлетворенно кивает:
— Хорошо. Очень хорошо.
Она растекается от комплимента и ненавидит себя за это. Незнакомец допивает виски, достает пачку банкнот, дает несколько Эмико и встает.
— Это тебе и больше никому. Райли не показывай. С ним я рассчитаюсь.
Она понимает: надо бы испытывать благодарность, однако чувствует, что ею снова воспользовались — пусть не физически, а словесно, но в остальном так же, как все прочие лицемеры-грэммиты и белые кители из министерства природы, которым хочется согрешить с этой диковинкой, получить запретное удовольствие от совокупления с нечистым созданием.
Эмико берет купюры двумя пальцами. Ее учили быть вежливой, но эта самодовольная щедрость так и выводит из себя.
— И как же господин предлагает мне потратить эти деньги? Купить украшений? Сходить в ресторан? Я — вещь. Я принадлежу Райли. — Она швыряет бумажки ему под ноги. — Богатая или бедная — какая разница, если я — чья-то собственность?
Незнакомец, уже взявшись за ручку раздвижной двери, замирает.
— Тогда почему не сбежишь?
— Куда? Мое разрешение на вывоз из страны истекло. Если бы не опека Райли-сана и не его связи, меня бы давно отправили в переработку.
— На север, к другим пружинщикам.
— Каким другим?
На лице гайдзина возникает усмешка.
— А Райли не рассказывал? Про поселения пружинщиков в горах? Про беженцев с угольной войны и про отпущенных — разве не говорил?
Эмико непонимающе моргает.
— Там выше уровня джунглей целые поселки — дальше Чианграя[64], за Меконгом. Бедная местность, природа наполовину убита генвзломом, зато у пружинщиков ни хозяев, ни начальников. Угольная война еще не кончилась, но если тебе так уж здесь не нравится — чем не вариант?
— В самом деле есть такой поселок? — Эмико очень взволнована.
— Не веришь мне — спроси Райли, — усмехается гайдзин. — Он там был. Хотя, конечно, какой ему смысл тебя провоцировать этими рассказами…
— Вы говорите правду?
— Так же, как и ты мне. — Бледный загадочный незнакомец чуть приподнимает шляпу в знак прощания, толкает дверь и уходит. Эмико остается наедине с гулко стучащим сердцем и внезапным стремлением жить.
4
— Пятьсот, тысяча, пять тысяч, семь пятьсот… «Защищать королевство сразу от всех вирусов мира — все равно что удерживать море сетью. Рыбы, конечно, наловишь, но остальное спокойно пройдет насквозь».
— Десять тысяч, двенадцать пятьсот, пятнадцать, двадцать пять…
Такие мысли посещают капитана Джайди Роджанасукчаи, стоящего этой душной ночью под обширным брюхом дирижабля фарангов. Вверху гудят и гоняют воздух турбовентиляторы, внизу валяется груз: ящики грубо взломаны, коробки вскрыты, содержимое рассыпано по якорной площадке, будто брошенные ребенком игрушки; всякая дорогая всячина и вещи из черного списка лежат вперемешку.
— Тридцать тысяч, тридцать пять… пятьдесят тысяч…
Вокруг в свете мощных метановых ламп, установленных на зеркальных башнях, раскинулся недавно восстановленный бангкокский аэродром: огромное зеленое поле, над которым то тут, то там висят аэростаты фарангов, а по периметру густой стеной растет бамбук «хайгро» и тянется спираль колючей проволоки, отмечая границу международной территории.
— Шестьдесят тысяч, семьдесят, восемьдесят…
Тайское королевство гибнет. Джайди созерцает разгром, устроенный его командой, и ясно понимает: всех их поглощает океан. Почти в каждом ящике — что-нибудь подозрительное. Это не просто деревянные коробки, это знаки. Беда пустила корни повсюду: на чатучакском рынке[65] продают полулегальные химические растворы, по Чао-Прайе[66] темными ночами снуют плоскодонки — люди, толкая шестами свои суденышки, перевозят ананасы очередной модификации; пыльца, несущая каждый раз новый, измененный «Агрогеном» и «ПурКалорией» генетический код, пролетает через весь полуостров волна за волной; чеширы сбрасывают старые шкуры в мусорных углах переулков-сой, очередная разновидность гекконов разоряет гнезда козодоев и павлинов; бежевые жучки разрушают леса Кхао Яя[67], а цибискоз, пузырчатая ржа и плесень фаган — плоды и людские тела в перенаселенном Крунг Тхепе. Это и есть океан, субстрат самой жизни, в нем все они и плавают.
— Девяносто тысяч… сто… сто десять… сто двадцать пять…
Мыслители вроде Премвади Шрисати и Аличата Куникона могут обсуждать наилучшие способы защиты, спорить, что надежнее — ставить вдоль границ королевства обеззараживающие ультрафиолетовые кордоны или создавать упреждающие мутации, но, по мнению Джайди, все это работает лишь на словах. Океан всегда найдет лазейку.
— Сто двадцать шесть, сто двадцать семь, сто двадцать восемь, сто двадцать девять…
Он кладет руку на плечо лейтенанту Канье Чиратхиват и смотрит, как та пересчитывает только что полученную взятку. Двое таможенных инспекторов неподвижно стоят рядом и ждут, когда им вернут право распоряжаться на своем посту.
— Сто тридцать… сто сорок… сто пятьдесят… — Эти монотонные слова — будто хвалебная песнь богатству, мзде и новому бизнесу в древней стране. Дотошная Канья ошибок в подсчетах никогда не допускает.
Джайди улыбается: что дурного в добровольном пожертвовании?
Метрах в двухстах на соседней якорной площадке мегадонты с ревом тащат груз из брюха дирижабля и складывают его для сортировки и таможенного досмотра. В воздухе над ними, накренившись, медленно поворачивается огромный, закрепленный тросом аэростат, его поддерживают турбовентиляторы, от которых волнами набегает ветер. Выстроенных в ряд белых кителей обдает пылью и запахом навоза, Канья прижимает купюры пальцами, остальные люди Джайди смирно стоит рядом — щурятся и держат руки на мачете.
Таможенники потеют — слишком обильно даже для жаркого сезона. Вот Джайди — он не потеет. С другой стороны, это не его заставили второй раз платить за протекцию, которая и в первый стоила немало.
Ему почти жаль этих парней. Бедняги никак не могут взять в толк, что изменилось в привычном порядке вещей: почему деньги теперь надо отдавать не тем, кому раньше; кто этот человек — новая власть или соперник старой; какие права он имеет и какой ранг занимает в запутанной иерархии министерства природы. Они ничего не понимают и поэтому платят. Джайди даже удивлен тем, как быстро им удалось найти наличные. Впрочем, еще больше удивились сами таможенники, когда к ним, выбив двери, ввалились белые кители и оцепили площадку.
— Двести тысяч. — Канья наконец отрывается от денег. — Все точно.
— Я же говорил — заплатят, — с ухмылкой отвечает Джайди.
Девушка не улыбается, но он не дает испортить себе настроение: прекрасная жаркая ночь, им удалось раздобыть кучу денег, да еще и погонять таможенников. Канья совсем не умеет принимать подарки судьбы. Она разучилась получать удовольствие от жизни еще в детстве: сначала голод на Северо-Западе, потом смерть родителей и братьев с сестрами, тяжелая дорога в Крунг Тхеп — где-то там осталась ее способность радоваться. Она совсем не ценит санук[68], веселье, даже самый настоящий санук мак, который можно устроить, избавив министерство торговли от некоторой суммы или отпраздновав Сонгкран[69]. Поэтому когда Канья получает двести тысяч бат с совершенно каменным лицом (разве только смахнув с него пыль), Джайди не принимает это близко к сердцу. Не умеет наслаждаться — значит, такая у нее камма[70].
И все же он жалеет Канью. Нищие — и те хотя бы изредка улыбаются, а она никогда. Ненормально, что смущение, раздражение, злость, радость Канья испытывает без тени улыбки. Людям неуютно от такого абсолютного неумения вести себя как принято, поэтому Канья в конце концов осела у Джайди — больше ее нигде не выносили. Эти двое составили странный дуэт: мужчина, который всегда находит повод для радости, и девушка, чье лицо напоминает каменную маску.
Джайди снова пытается подбодрить своего лейтенанта ухмылкой.
— Раз все точно — упаковывай деньги.
— Вы превышаете свои полномочия, — бормочет один из таможенников.
Джайди самодовольно пожимает плечами.
— Юрисдикция министерства природы распространяется повсюду, где есть угроза Тайскому королевству. Такова воля ее величества.
— Вы понимаете, что я имею в виду, — добавляет таможенник с натянуто-любезной улыбкой.
Джайди только отмахивается от его холодного недоброжелательного взгляда.
— Какие вы все-таки жалкие! Если бы я сказал заплатить в два раза больше — заплатили бы.
Пока Канья упаковывает купюры, Джайди разгребает острием мачете содержимое одного из разбитых ящиков.
— Ты только посмотри, какой бесценный груз тут охраняют! — Он вытаскивает из кучи упаковку кимоно, присланных, видимо, для жены какого-нибудь японского управляющего, и начинает ее ворошить. Белье стоит больше его месячного оклада. — Мы же не станем устраивать здесь тотальный досмотр и ставить все вверх дном? — Джайди хитро смотрит на Канью. — Возьмешь себе что-нибудь? Настоящий шелк. Представь, в Японии еще есть шелковичные черви.
Та, не отрываясь от денег, бросает:
— Не мой размер. Эти японские жены разъелись на взломанных продуктах и больших деньгах от сделок с «Агрогеном».
— Так вы что — еще и украсть хотите? — цедит таможенник, с трудом сдерживая ярость, но продолжая улыбаться.
— Видишь же, что нет. У моего лейтенанта вкус получше, чем у японок. Да и отобьете вы еще свои деньги. А это все — так, мелкое неудобство.
— А как же ущерб? Вот об этом нам что сказать? — Второй таможенник показывает на порванную ширму с картиной в стиле «Сони».
Судя по всему, сцена из самурайской жизни конца двадцать второго века: менеджер «Мисимото флюид динамике» наблюдает за работающими в поле пружинщиками… У них что — по десять рук? От такого святотатства у Джайди мурашки бегут по спине. При этом неподалеку совершенно спокойно сидит обычная семья. Впрочем, это же японцы — они даже разрешают детям играть с обезьянками-пружинщиками.
Джайди недовольно морщится.
— Придумаете что-нибудь. Скажете: мегадонт взбрыкнул и раздавил случайно. — Он хлопает таможенников по спинам. — Чего такие угрюмые? Включите воображение — благое дело делаете, в другой жизни зачтется.
Канья укладывает последние банкноты, завязывает тряпичную сумку и забрасывает ее на плечо.
— Готово.
Неподалеку медленно идет на посадку очередной дирижабль. Мощные пропеллеры на пружинном ходу выжимают последние джоули, подгоняя его к якорной площадке. С корабля свисают тросы — длинные змеи, притянутые весом свинцовых грузил. Рабочие стоят, протянув кверху руки — они готовятся поймать крепления и привязать их к спинам мегадонтов, а выглядит это так, будто молятся огромному божеству. Джайди наблюдает за посадкой с интересом.
— Как бы то ни было, Благотворительное общество отставных офицеров министерства природы ценит ваше содействие. В любом случае в следующей жизни зачтется. — Он подкидывает в ладони мачете и обращается к своей команде, перекрикивая гул пропеллеров и рев мегадонтов: — Офицеры! Двести тысяч баттому, кто первый обыщет контейнер с корабля! — Джайди указывает ножом на опускающийся дирижабль: — Вон с того. Вперед!
Таможенники ошеломленно выкатывают глаза, что-то говорят, но сквозь шум моторов ничего не слышно, и только по губам читается: «Май тум! Май тум! Май тум! Нет-нет-нет-нет-нет!» Пока они отчаянно жестикулируют, Джайди с боевым кличем уже несется по полю к новой жертве и размахивает оружием.
Белые кители волной бегут за своим начальником, лавируют между ящиками и рабочими, перепрыгивают тросы, проныривают под животами мегадонтов. Вот это его парни, его верные дети, его сыновья. Недалекие идеалисты и верноподданные королевы беспрекословно следуют его приказам; их нельзя подкупить, вся честь министерства природы, какая только есть, хранится в этих сердцах.
— Вон тот дирижабль!
Стаей белых тигров команда мчит по полю. Разбитые и будто штормом раскиданные японские контейнеры оставлены позади. Голоса таможенников тают. Джайди уже далеко, он наслаждается ритмичным движением своих ног, ощущением благородной и бесхитростной охоты, бежит все быстрее и чувствует, как за ним, подгоняемые чистым адреналином, следуют его парни — машут топорами и мачете навстречу слетающей с неба огромной машине, которая нависает над ними как король демонов Тосакан во весь свой десятитысячефутовый рост. Это — настоящий царь мегадонтов, и на борту его написано: «КАРЛАЙЛ И СЫНОВЬЯ».
Джайди сам не замечает, как вопит от радости. Карлайл! Мерзкий фаранг, который походя предлагает упростить систему налогов на загрязнение, упразднить карантинную инспекцию и изменить все, что помогало королевству выживать в те времена, когда другие государства рассыпались; чужеземец, который постоянно заигрывает с министром торговли Аккаратом и защитником королевы Сомдетом Чаопрайей. Его корабль — бесценный трофей. Джайди не может думать ни о чем другом и тянется к посадочным тросам. Остальные — помоложе, побыстрее и пофанатичнее его — бегут вперед, чтобы поскорее напасть на свою жертву.
Но команда на этом дирижабле умнее, чем на прошлом.
При виде мечущихся внизу белых кителей пилот направляет турбины в другую сторону. Людей на земле накрывает мощным потоком воздуха. Моторы с пронзительным ревом набирают обороты, гигаджоули энергии отталкивают корабль от площадки, лебедки наматывают якорные тросы обратно, будто большой осьминог втягивает щупальца. Лопасти крутятся в полную силу, ветер пригибает Джайди к земле.
Аэростат уходит вверх.
Джайди встает, щурясь, смотрит, как корабль исчезает в темноте, и размышляет о том, кто предупредил экипаж — диспетчерская вышка или таможня, или сам пилот оказался неглуп и понял, что инспекция белых кителей невыгодна его хозяевам.
Ричард Карлайл. Слишком уж он умен: постоянно на виду у Аккарата, постоянно на вечерах в пользу жертв цибискоза, сорит деньгами и беспрестанно говорит о пользе свободной торговли; всего лишь один из многих фарангов, вернувшихся в королевство, как медузы после эпидемии горькой воды, но самый энергичный. Его улыбка раздражает Джайди как ничто другое.
Он встает в полный рост и отряхивает от грязи свою белую форму из конопляной ткани. Ерунда — дирижабль вернется. Фаранги — это приливы: как уходят, так и приходят. У суши и моря всегда есть место встречи, а у людей, сердце которых желает одной только прибыли, нет выбора: они придут снова, не думая о последствиях, и вот тут их будет ждать Джайди.
Камма.
Тяжело дыша после пробежки, стирая с лица пот, он медленно возвращается к взломанным контейнерам и машет команде:
— Все сюда! Вскрыть ящики и досмотреть. От первого до последнего.
Таможенники ждут неподалеку, и как только Джайди начинает ворошить кончиком мачете содержимое взломанного ящика, подходят ближе. Как собаки: не покормишь — не отстанут. Один пытается помешать ему вскрыть очередную коробку.
— Мы уже заплатили! Мы напишем жалобу, и будет расследование. Здесь международная территория!
— Вы еще тут? — Джайди строит кислую мину.
— Мы неплохо заплатили вам за протекцию!
— Более чем неплохо. — Он оттирает их в сторону и продолжает: — Но я сюда не спорить пришел. Ваша дамма[71] писать жалобы, моя — охранять границы, и если ради защиты своей страны мне надо вторгнуться на эту вашу «международную территорию», я так и сделаю. — Джайди поддевает лезвием мачете очередной ящик, и несколько везеролловских досок отлетают в стороны.
— Вы вышли за рамки дозволенного!
— Возможно. Но не вам это говорить — пришлите кого-нибудь постарше званием из министерства торговли. — Он многозначительно поигрывает оружием. — Или хотите поспорить прямо сейчас со мной и моими парнями?
Таможенники вздрагивают. Джайди краем глаза замечает на губах Каньи легкий намек на улыбку, изумленно присматривается, но на лице девушки вновь маска сухой деловитости и больше ничего. У него мелькает мысль о том, как бы заставить своего сурового лейтенанта еще раз выразить удовольствие — ему приятно видеть такую реакцию.
Но таможенники, видимо, передумывают давать отпор и пятятся от мачете.
— Думаете, вам сойдет это с рук?
— Что вы, конечно, нет. — Джайди доламывает ящик. — Тем не менее ценю ваше финансовое пожертвование. — И добавляет с ухмылкой: — Станете писать жалобу — обязательно укажите мое имя: Джайди Роджанасукчаи. И не забудьте рассказать, как пытались дать взятку Бангкокскому тигру.
Его парни хохочут над шуткой. Пораженные таможенники отступают еще дальше, начиная понимать, кто их соперник.
Джайди оглядывает учиненный разгром: все вокруг усыпано щепками пробкового дерева. Ящики из легкого материала прекрасно удерживают груз, но на удары мачете явно не рассчитаны.
Работа идет споро. Вдоль ящиков растут аккуратные ряды товаров. Таможенники висят над душой у белых кителей, записывают имена, но тем наконец надоедает — грозя ножами, они распугивают служителей границы, которые отходят подальше и теперь наблюдают с безопасного расстояния. Все это напоминает Джайди драку животных за добычу: его парни рвут плоть заморского зверя, а падальщики — вороны, чеширы и псы — беспокойно ходят кругами и ждут своей очереди отведать мертвечины; от этой мысли ему делается немного грустно.
Таможенники стоят в сторонке.
Джайди разглядывает выложенные предметы, Канья не отстает от него ни на шаг.
— Итак, лейтенант, что у нас тут?
— Агаровый раствор. Питательные культуры. Резервуары, видимо, для выращивания чего-то. Корица «ПурКалории». Семена папайи, у нас такие запрещены. Следующая версия ю-текса, которая, похоже, стерилизует любой другой сорт риса. — Она пожимает плечами. — Примерно как мы и думали.
Джайди откидывает крышку контейнера и читает внутри имя адресата: какая-то компания в промзоне фарангов. Он пытается произнести латинские буквы, бросает, вспоминает, мог ли видеть этот логотип раньше, но безуспешно, потом ощупывает содержимое ящиков — пакеты, вроде с протеиновым порошком.
— Стало быть, ничего особенного. И новый вид пузырчатой ржи из коробок «Агрогена» и «ПурКалории» на нас не выскочил.
— Нет.
— Жаль, что мы не смогли поймать тот дирижабль. Быстро удрал. Хотел бы я обыскать груз куна Карлайла.
— Вернется.
— Такие всегда возвращаются.
— Как псы на падаль…
По взгляду Каньи, направленному на стоящих в стороне таможенников, ясно, что последние слова относились именно к ним; Джайди становится грустно от такого сходства мыслей. Кто из них двоих на кого больше влияет? Когда-то работа доставляла ему куда больше радости, правда, и была много проще и понятнее, чем теперь. Не умеет он, как Канья, жить в вечных сумерках. Зато так веселее.
Один из парней прерывает его задумчивость. Не спеша, небрежно помахивая мачете, подходит Сомчай — шустрый, того же возраста, что и Джайди, но ожесточенный потерей родных в тот год, когда эпидемия пузырчатой ржи трижды за сезон прокатилась по Северу. Хороший человек, верный. И хитрый.
— Вон там, следит за нами, — говорит он, встав поближе.
— Где?
Сомчай едва заметно кивает в сторону. Джайди как бы рассеянно оглядывает суету, кипящую на поле. Канья напряженно замирает.
— Видите его?
— Кха, — кивает она.
Джайди наконец замечает невдалеке человека, который наблюдает и за ними, и за таможенниками. Одет он в обычный оранжевый саронг и пурпурную холщовую рубашку, будто простой рабочий, однако стоит без дела, с пустыми руками, к тому же не похож на того, кто знаком с голодом: ребра не торчат и щеки не ввалены, как у большинства трудяг. Просто стоит и смотрит, облокотившись на якорный крюк.
— Из Торговли? — пробует угадать Джайди.
— Военные? — подхватывает Канья. — Вон какой уверенный.
Будто ощутив на себе взгляды, человек оборачивается и долю секунды смотрит прямо в лицо Джайди.
— Черт! Заметил, — цедит Сомчай и вместе с Каньей начинает открыто изучать незнакомца. Тот с невозмутимым видом сплевывает красной от бетеля слюной и не спеша растворяется среди грузчиков. — Догнать? Допросить? — Сомчай готов пойти за ним следом.
Джайди вытягивает шею, пытаясь рассмотреть ушедшего среди толпы.
— А ты что скажешь, Канья?
— Может, хватит на сегодня ворошить осиные гнезда?
— Что я слышу! Благоразумие и сдержанность.
— Торговля точно взбесится, — поддакивает лейтенанту Сомчай.
— Очень надеюсь. — Джайди кивком велит ему возвращаться к работе.
— Думаю, в этот раз мы зашли слишком далеко, — говорит Канья.
— Хочешь сказать, я слишком далеко зашел? Что, нервишки шалят?
— Не мои. — Она смотрит туда, где недавно стоял незнакомец. — В этом пруду есть рыба покрупнее, чем мы с вами, кун Джайди. Все-таки заявиться на якорные площадки — это… — Канья некоторое время подбирает подходящее слово. — Это слишком дерзко.
— А тебе точно не страшно? — поддразнивает ее Джайди.
— Нет! — Она сдерживает вспышку гнева, берет себя в руки.
Джайди втайне восхищен её способностью говорить спокойно, что бы ни происходило. Сам он к церемониям не склонен ни на словах, ни на деле. Ввалиться как мегадонт на рисовое поле и устроить разгром, а потом приводить все в порядок — вот это в его духе. Джайрон, а не джай йен — горячая голова, а не холодная. А вот Канья…
— Якорные площадки — не лучшее место для нашей операции.
— Лучше не придумаешь! Что за пессимизм? Эти два червяка отчехлили нам двести тысяч бат. Будь тут все чисто — стали бы они платить? Давно стоило сюда наведаться и научить этих хийя[72] жизни — уж лучше, чем ходить на пружинной плоскодонке по рекам и задерживать детей за контрабанду генвзлома. Здесь хотя бы честная работа.
— Теперь Торговля точно вмешается. По закону это их вотчина.
— Да по любому вменяемому закону ничего из этого, — он обводит грузы рукой, — нельзя ввозить. Законы, они вообще очень путаные — только мешают устанавливать справедливость.
— Где министерство торговли, там справедливости нет.
— И мы оба это прекрасно знаем. Если что — полетит моя голова, тебя не тронут. Даже если бы знала, куда мы идем, ты не смогла бы меня остановить.
— Я бы не…
— Вот и не думай об этом. Пора бы Торговле и ее ручным фарангам дать здесь пинка. Они совсем обнаглели. Забыли, что хоть иногда должны проявлять кхраб[73] к законам. — Джайди умолкает, глядя на разбитые ящики. — Тут в самом деле нет ничего из черного списка?
Канья мотает головой.
— Только рис. Все остальное вполне безобидно, по крайней мере на бумаге. Ни материалов для разведения растений, ни генетических суспензий.
— Но?..
— Но большая часть пойдет не по назначению. Эти питательные культуры… ничего хорошего с ними делать не будут. — Лицо Каньи снова становится унылой каменной маской. — Укладываем груз обратно?
Джайди застывает с кислой миной и наконец говорит:
— Нет. Сжечь все.
— Что?
— Сжечь. Мы же с тобой понимаем, что тут происходит на самом деле. Так дадим фарангам повод подать в суд на своих страховщиков, пусть знают: просто им тут не будет. — Ухмыляясь, он отдает приказ: — Жгите все до последнего ящика.
Потрескивают доски, вспыхивает и разносится везеролловское масло, которым они пропитаны, выстреливают искры и словно молитвы летят к небу. Джайди доволен: второй раз за ночь он видит, как улыбается Канья.
Джайди приходит домой под утро. Дребезжащие голоса гекконов задают ритм монотонному треску цикад и тонкому писку москитов. Он снимает обувь и осторожно входит в стоящий на сваях дом, чувствуя, как поскрипывают под ногами мягкие, приятные на ощупь полированные половицы.
Капитан быстро проскальзывает за сетчатую дверь — мутная соленая вода канала-клонга течет почти у самых стен, и от москитов нет отбоя.
В комнате горит свеча; на низкой кровати дремлет заждавшаяся его Чайя. Джайди нежно смотрит на жену и спешит в ванную — поскорее сбросить одежду и ополоснуться. Несмотря на его торопливые предосторожности, вода шумно плещет на пол; тогда он набирает еще ковш и выливает себе на спину — в жаркий сезон воздух не остывает даже ночью, и любая прохлада приносит облегчение.
Когда Джайди, обмотав саронг вокруг пояса, выходит из ванной, Чайя уже не спит.
— Как ты поздно. Я волновалась. — В ее карих глазах видна задумчивость.
— Будто не знаешь, что беспокоиться не о чем. Я — тигр! — Он прижимает губы к ее щеке и нежно целует.
Чайя морщит нос и отталкивает его от себя.
— Не надо верить газетам. Тигр… Фу, пахнешь дымом.
— Да я только из ванной.
— От волос пахнет.
— Ночка выдалась что надо, — увлеченно начинает он.
Несмотря на темноту, видно, как Чайя улыбается, как поблескивают зубы и тусклым глянцем мерцает смуглая кожа.
— Операция во славу королевы?
— Операция в пику Торговле.
Она вздрагивает.
— Вот как…
Джайди трогает ее за руку.
— Было время, ты радовалась, когда я злил разных шишек.
Чайя отстраняется, встает и начинает нервно поправлять подушки.
— Было. А теперь я за тебя боюсь.
— Не стоит. — Джайди отходит в сторону, чтобы не мешать жене. — Вот ты сидела и ждала, а я бы на твоем месте сейчас сладко спал и видел девятый сон. Все и думать забыли мной управлять. Я для них уже привычная статья расходов. Я слишком известен — кто посмеет мне навредить? Тайных наблюдателей присылают — да, а остановить даже не пытаются.
— Для народа ты герой, но для министерства торговли — заноза. По мне, так пусть лучше народ будет тебе врагом, зато министр Аккарат — другом. Так гораздо спокойней.
— Ты думала совсем по-другому, когда выходила за меня замуж. Тебе нравилось, что я — боец, что за мной победы на Лумпини[74]. Помнишь?
Ничего не говоря, она снова берется за подушки и все время нарочно стоит к нему спиной. Джайди вздыхает, кладет ей руку на плечо, разворачивает и спрашивает, глядя прямо в глаза:
— Вот ты это к чему сейчас сказала? Я же тут, рядом. Со мной все в порядке.
— А когда тебя подстрелили — тоже называлось «в порядке»?
— Что было, то прошло.
— Прошло только потому, что тебя перевели на канцелярскую работу, а генерал Прача выплатил компенсацию. — Она показывает ему свою руку, на которой не хватает пальцев. — И не рассказывай мне о том, как тебе безопасно. Я была там и знаю, на что они способны.
Джайди строит недовольную гримасу.
— Как ни крути, нам всегда что-то угрожает. Если не Торговля, так пузырчатая ржа, цибискоз или еще что похуже. Это больше не идеальный мир. Эпоха Экспансии кончилась.
Чайя уже готова возразить, но передумывает и замолкает. Джайди ждет, пока жена возьмет себя в руки.
— Да, ты прав. Никто не может быть уверен в своей безопасности, — наконец произносит она ровным голосом. — А хотелось бы.
— Можно еще купить амулет на Та Прачане[75] — пользы как от хотений.
— Вообще-то я купила фигурку Пхра Себа, только ты ее не носишь.
— Суеверие это все. Если что-то со мной произойдет, значит, камма такая, и никакой талисман ее не изменит.
— Тебе трудно носить амулет? Мне было бы спокойней.
Джайди хочет посмеяться над предрассудками жены, но видит, что она нисколько не шутит, и потому обещает:
— Хорошо. Раз тебе так спокойней, буду носить Пхра Себа.
Из спален доносится мокрый кашель. Джайди замирает. Чайя поворачивает голову на звук.
— Сурат.
— Ты показывала его Ратане?
— Не ее это дело — лечить детей. У Ратаны есть занятия поважней — она гены взламывает.
— Так показывала или нет?
— Говорит, «не прогрессирует». Можно не волноваться, — облегченно вздыхает Чайя.
Он тоже рад, но вида не подает.
— Хорошо.
Снова слышен кашель, и Джайди вспоминает умершего Нама, но усилием воли прогоняет подступившую грусть.
Чайя касается пальцами его подбородка, заставляет посмотреть ей в глаза и спрашивает с улыбкой:
— Так отчего же благородный воин, защитник Крунг Тхепа так пропах дымом и почему так собой горд?
— Завтра узнаешь из печатных листков.
Она недовольно поджимает губы.
— Я беспокоюсь за тебя. Очень беспокоюсь.
— Это потому, что ты переживаешь из-за всего подряд. Не надо так тревожиться. Тяжелую артиллерию против меня больше не пускают — в прошлый раз им это вышло боком. О том случае написали в каждой газете и в каждой печатном листке. Меня поддержала сама досточтимейшая королева, и теперь они держатся подальше — по крайней мере уважение к ее величеству еще не потеряли.
— Тебе очень повезло, что ей вообще разрешили узнать о той истории.
— Даже этот хийя, защитник королевы не может закрыть ей глаза на все, что происходит вокруг.
Чайя испуганно застывает на месте.
— Джайди, прошу тебя, потише. У Сомдета Чаопрайи повсюду уши.
— Видишь, до чего дошло: защитник думает только о том, как бы захватить внутренние апартаменты Большого дворца, министр торговли вступает в тайный сговор с фарангами, хочет загубить коммерцию и отменить карантин, а мы все сидим по углам да шепчемся. Я рад, что навестил сегодня якорные площадки. Видела бы ты, как эти таможенники гребут деньги лопатой: стоят себе в сторонке и пропускают в страну все подряд. У них под носом в любой склянке может быть новая мутация цибискоза, а они только карманы пошире оттопыривают. Мне иногда кажется, что мы живем в последние дни Аютии[76].
— Как драматично.
— История идет по кругу. Аютию тоже никто не защищал.
— Так что — ты, выходит, в прошлой жизни был жителем Банг Раджана? Сдерживаешь нашествие фарангов, сражаешься до последнего человека? Вроде того?
— Они хотя бы боролись! А ты бы на чью сторону встала — крестьян, которые месяц отбивались от бирманских войск, или министров, которые бросили город на разграбление? Будь я умнее, навещал бы якорные стоянки каждый вечер и учил бы Аккарата и фарангов уму-разуму. Знали бы, что кто-то еще сражается за Крунг Тхеп.
Джайди думает: сейчас Чайя снова попросит его замолчать, остыть, но она долго молчит и наконец спрашивает:
— Думаешь, мы всегда перерождаемся здесь, в одном и том же месте? Нам обязательно переживать все снова и снова?
— Не знаю. Странный вопрос. Я бы ожидал такого от Каньи.
— Надо бы и ей амулет подарить. Может, улыбаться станет хоть иногда. Суровая она.
— Да, странноватая.
— Я думала, Ратана сделает ей предложение.
Джайди представляет себе Канью рядом с хорошенькой Ратаной, которая, скрыв лицо дыхательной маской, дни и ночи сидит в министерских подземных лабораториях и борется с биологическими угрозами.
— Я в ее жизнь не лезу.
— Ей бы мужчину, стала бы веселее.
— Ну, уж если Ратана не сделает ее счастливой, то у мужчин шансов ноль. Хотя, будь у нее кто-то, он все время ревновал бы к тем парням, которыми Канья у меня командует. А ребята-то симпатичные… — Джайди вытягивает шею и хочет поцеловать Чайю, но та резко отворачивает голову.
— Фу, от тебя еще и виски несет.
— Дым и виски — запах настоящего мужика.
— Иди в кровать, а то еще разбудишь Нивата с Суратом. И маму.
Он подбирается ближе и шепчет прямо в ухо:
— А она бы не возражала против еще одного внука.
Чайя, смеясь, отталкивает его.
— Возразит, если разбудишь.
Джайди гладит ее по бедрам.
— Я тихо.
Чайя с притворным недовольством шлепает Джайди по рукам, он ловит ее ладони и нежно поглаживает обрубки пальцев. Оба вновь делаются серьезными.
— Мы так много уже потеряли. Если не станет еще и тебя, я не переживу.
— Этого не будет. Я же тигр. И далеко не дурак.
— Надеюсь. Очень надеюсь. — Она крепко прижимается к Джайди; в теплых объятиях и взволнованном дыхании тот чувствует искреннюю заботу. Затем Чайя немного откидывает голову и внимательно глядит на Джайди. Тот говорит:
— Со мной все будет в порядке.
Она кивает, но, похоже, совсем не слушает — темные глаза, будто стараясь запомнить, долго, очень долго изучают линию его бровей, улыбку, шрамы, каждую оспинку. Наконец Чайя снова кивает, видимо, своим мыслям, и тревога исчезает с ее лица. Улыбнувшись, она притягивает Джайди поближе, шепчет ему прямо в ухо как настоящая прорицательница: «Ты тигр», — крепко обнимает, и от этого им обоим становится спокойней.
Джайди обнимает ее еще крепче и чуть слышно отвечает:
— Я скучал.
— Пойдем. — Чайя выскальзывает из объятий, ведет его за руку к постели, приподнимает москитную сетку и ныряет под полупрозрачный полог. Джайди слышит, как с шелестом падает одежда, и видит сумрачный силуэт манящей его женщины. — От тебя до сих пор пахнет дымом.
Он откидывает сетку в сторону.
— А виски? Не забывай про запах виски.
5
Солнце, едва выглянув из-за горизонта, заливает Бангкок ослепительным светом. Оно омывает огненными лучами торчащие сломанными ребрами башни эпохи Экспансии и покрытые золотом чеди[77]; играет бликами на высоких сводах Большого дворца, где, изолированная слугами от внешнего мира, живет Дитя-королева; вспыхивает на филигранных орнаментах храма Священного столпа, в котором монахи сутки напролет молят богов укрепить шлюзы и стены городских дамб. Голубое зеркало горячего, как кровь, океана сверкает под раскаленным небом.
Жар наваливается на балкон шестого этажа и втекает в квартиру Лэйка. Под навесом в потоках знойного ветра шелестят плети жасмина. Ослепленный сиянием Андерсон, щурясь, глядит в окно. На бледной коже мгновенно выступают блестящие капельки пота. Лежащий снаружи город похож на расплавленное море, в котором золотыми искрами вспыхивают металлические шпили и стеклянные стены.
Он сидит прямо на деревянном полу совсем без одежды в окружении раскрытых книг: каталогов флоры и фауны, записок путешественников, полной истории Индокитая. Повсюду ветхие заплесневелые тома, вырванные из дневников страницы — ископаемые воспоминания о тех временах, когда тысячи растений выпускали в воздух пыльцу, споры и семена. Андерсон просидел над бумагами всю ночь, но с трудом может вспомнить хоть что-то из прочитанного. Перед глазами постоянно встает пасин, скользящий вверх по ноге девушки, вышитые на искрящейся пурпурной ткани павлины, чуть влажная кожа разведенных бедер.
Вдалеке в желтоватом сыром мареве, будто пальцы, поднимаются к небу сумрачные высокие силуэты башен Плоенчит. В дневном свете они похожи на обычные трущобы времен Экспансии и сейчас ничем не выдают своей манящей тайны.
Пружинщица.
Пальцы Андерсона, прикасающиеся к ее коже. Темные серьезные глаза девушки, и слова «можно потрогать».
Лэйк, резко прерывисто вдохнув, отгоняет видение. Девушка — полная противоположность тем агрессивным эпидемиям, с которыми сам он ведет ежедневную войну; хрупкий тепличный цветок, высаженный в слишком суровые для него условия. Вряд ли долго протянет — особенно в этом климате, особенно среди этих людей. Возможно, его тронула ранимость девушки, та притворная сила, с которой она скрывала свою беззащитность, та попытка изобразить гордость, даже когда Райли приказал ей задрать юбку.
«Так ты из жалости рассказал ей о поселках? Не потому, что ее кожа была нежнее манго? Не потому, что у тебя при виде ее дыхание перехватывало?»
Андерсон болезненно кривит губы и заставляет себя сосредоточиться на главном — на имени, ради которого пересек полмира на парусниках и дирижаблях. Ги Бу Сен. Пружинщица так и сказала: Ги Бу Сен.
Среди книг и дневников он находит фотографию: толстый мужчина сидит в компании ученых из «Мидвест» на агрогеновском симпозиуме по мутациям пузырчатой ржи и со скучающим видом глядит куда-то в сторону, выставив напоказ все три подбородка.
«Интересно, ты похудел с тех пор или тайцы кормят так же хорошо, как когда-то мы?»
Подозревать можно только троих: Боумана, Гиббонса и Чаудхури. Боуман исчез незадолго до крушения монополии «Сои-про». Чаудхури, сойдя однажды с борта дирижабля, навсегда растворился где-то среди индийских поместий — то ли сам сбежал, то ли был похищен «ПурКалорией», то ли просто погиб. И Гиббонс. Ги Бу Сен. Самый умный из всех троих, но на него подумаешь в последнюю очередь. К тому же он мертв: обугленное тело отца под завалами дома нашли его дети и кремировали до того, как компания успела провести вскрытие. Их потом допрашивали на полиграфе под сывороткой правды, но выяснили лишь одно: Гиббонс всегда был против аутопсии, говорил — и думать не хочет о том, чтобы его тело резали и накачивали консервантами. Тем не менее тест ДНК показал: сгорел именно он. Сомнений не осталось ни у кого.
Впрочем, не следует забывать, что речь шла об обрывках генетического кода, полученных — да и то предположительно — из останков одного из лучших генхакеров на свете.
Андерсон листает бумаги. Подслушивающая аппаратура писала все разговоры в лабораториях, и теперь он надеется найти в расшифровках хоть что-нибудь о последних днях жизни калорийщика. Ничего. Ни намека на его планы. А потом он умер, и всех заставили в это поверить.
В таком случае появление нго, а заодно и пасленовых, почти объяснимо. Гиббонс, которого все коллеги называли эгоистом, любил прихвастнуть своим мастерством. Ему бы очень понравилось забавляться с материалами богатейшего семенного фонда. Целый биологический род взял и воскрес, а потом был приукрашен местным названием «нго». Во всяком случае, Андерсон считает, что фрукт местный. Хотя кто знает: вдруг это совершенно новое растение, родившееся из воображения Гиббонса, как Ева из ребра Адама.
Он рассеянно листает разложенные на полу бумаги. О нго ни слова. Все, что у него есть сейчас, — единственная встреча с красно-зеленым фруктом и само слово «нго». Андерсон даже не знает, традиционное это наименование или специально выдуманное. Старый, насквозь прокуренный опиумом Райли, к сожалению, ничем не помог: даже если и знал когда-то, как этот плод называется на ангритском[78], то давно забыл. А так просто угадать нужное слово нельзя. Исследовать образцы в Де-Мойне будут еще месяц, и совсем не факт, что найдут совпадение в своем каталоге: если гены фрукта модифицировали достаточно сильно, то сравнение ДНК ничего не даст.
Одно можно сказать наверняка: нго раньше не было. Год назад он не упоминался ни в одном из экообзоров, которые составляют переписчики. И вдруг этот фрукт просто взял да и возник — так, будто земля королевства решила возродить свое прошлое и выставить его на бангкокском рынке.
Андерсон открывает следующую книгу. С самого своего прибытия в Бангкок он собирал эту библиотеку, летопись города Божественных воплощений, тома, изданные еще до войн за калории, до эпидемий, до эпохи Свертывания; копался в разграбленных антикварных лавках и в завалах небоскребов времен Экспансии. Большая часть выпущенного тогда сгорела или сгнила во влажном тропическом климате, но ему удавалось находить оазисы знаний — семьи, где книги держали не на растопку. Теперь эти траченные плесенью источники информации рядами стоят на полках… и нагоняют тоску. Они напоминают о Йейтсе и его отчаянном желании поднять из могилы и воскресить прошлое.
— Только представь себе! — восторженно вопил он. — Новая Экспансия! Пружины следующего поколения, дирижабли, корабли, полные трюмы грузов, полные паруса ветра!..
У Йейтса были свои книги: пыльные фолианты, украденные из библиотек и с бизнес-факультетов по всей Северной Америке, — мудрость прошлого, забытая за ненужностью. Разграбления этих александрийских сокровищниц знания никто тогда даже не заметил — все считали, что глобальная торговля умерла.
Когда Андерсон только приехал, контора «Спринглайфа» была забита книгами, на столе у Йейтса в высоких кипах стояли «Практика глобального менеджмента», «Бизнес в межкультурной среде», «Менталитет Азии», «Маленькие тигры Азии», «Каналы поставки и логистика», «Популярная тайская культура», «Новая глобальная экономика», «Особенности валютных курсов в работе цепочки поставок», «Чего ждать от бизнеса по-тайски», «Международная конкуренция и ее регулирование» — история прежней Экспансии от «а» до «я».
Однажды в приступе отчаяния Йейтс, ткнув пальцем в эти книги, сказал:
— Но все это еще можно вернуть! Можно!
И заплакал. Андерсон тогда впервые пожалел его, человека, посвятившего жизнь тому, что никогда не сбудется.
Он открывает следующую книгу и одну за одной внимательно рассматривает старые фотографии. Перцы чили целые горы, разложенные перед камерой давным-давно умершего человека. Чили, баклажаны, томаты — снова это чудесное семейство пасленовых. Если бы не они, головной офис не отправил бы Андерсона в королевство, а у Йейтса все еще был бы шанс воплотить свои идеи.
Он достает из пачки свернутую вручную сигарету марки «Сингха», вытягивается на полу и глубоко, пробуя на вкус, вдыхает дым так же, как люди делали это с незапамятных времен. Поразительно, как, умирая от голода, тайцы все же нашли время и силы дать вторую жизнь своей никотиновой привычке.
«Человеческую натуру не изменить».
Солнце заливает Андерсона ослепительным светом. Вдали сквозь влажный, мутный от горящего навоза воздух едва проступают здания промзоны: ровный ритмичный рисунок, совсем не похожий на чехарду ржавых крыш старого города. За фабриками встает дамба: даже отсюда видны огромные шлюзы, по которым сухогрузы уходят в море.
Грядут перемены: вновь возникнет международная торговля, и товары опять будут пересекать планету из конца в конец. Пусть медленно, натыкаясь по пути на старые ошибки, но все станет как прежде. Йейтс обожал свои пружины, но еще больше его радовала мысль о воскрешении прошлого.
— Здесь ты не сотрудник «Агрогена», а очередной грязный предприимчивый фаранг, который приехал срубить денег, — такой же, как добытчики нефрита и матросы клиперов. Тут тебе не Индия, где можно налево и направо сверкать эмблемой из пшеничных колосьев и брать все, что понравилось. С тайцами такое не проходит: узнают, кто ты, — разделают твою тушку, упакуют в ящик и отправят по обратному адресу.
— Ты улетаешь следующим дирижаблем, — сказал тогда Андерсон. — И радуйся, что в головном офисе согласились взять тебя назад.
Но Йейтс не полетел. Он нажал на курок пружинного пистолета.
Андерсон раздраженно затягивается — вентилятор под потолком замер, и в комнате стало жарко. Рабочий, который каждый день в четыре утра должен заводить механизм, в этот раз, видимо, недодал пружинам джоулей.
Недовольно морщась, он встает и закрывает ставни. Здание новое и построено так, что прохладный приземный воздух свободно проходит через все этажи, но спокойно выносить прямые лучи раскаленного экваториального солнца Андерсон так и не привык.
Он снова начинает листать желтые страницы книг, потрепанных годами и влажным климатом: корешки треснули, бумага рассыпается под пальцами. Щурясь от дыма зажатой в зубах сигареты, Андерсон открывает очередной том и замирает.
Нго.
Целые развалы нго. Маленькие красные фрукты со странными зелеными усиками дразнят его с фотографии, где фаранг и фермер, которых уже давно нет в живых, спорят о цене. Мимо едут ярко раскрашенные, бензиновые такси, а рядом аккуратной пирамидой лежат нго и всем своим видом насмехаются над Андерсоном.
За разглядыванием старинных фотографий он провел довольно много времени и уже почти привык спокойно взирать на тупую самоуверенность прошлого — на расточительность, высокомерие и бессмысленное, непомерное богатство, — но эта картинка выводит его из себя. Чего стоит один фаранг, заплывший жиром, этим умопомрачительным излишком калорий, но даже он блекнет на фоне чарующей пестроты рынка, где одних только фруктов выложено три десятка видов: знакомые мангостаны, ананасы, кокосы… а вот апельсинов больше нет. И этой, как ее, питахайи. И помело, и вон тех желтых штук — лимонов. Их нет. Они просто исчезли, как и много что еще.
Но люди на снимке этого не знают. Давно умершие мужчины и женщины понятия не имеют об открытой перед ними древней сокровищнице, не подозревают, что живут в раю, каким его расписывает грэммитская библия — в месте, где чистые души восседают одесную Господа, где Ной и святой Франциск бережно хранят все ароматы и вкусы мира и никто не мучим голодом.
Андерсон внимательно разглядывает снимок. Толстые самодовольные идиоты не представляют, что стоят у золотой генетической жилы. При этом в книге никто даже не потрудился уточнить, что такое нго. Фотография — лишь очередной пример изобилия, которым люди бездумно наслаждались. Природа была к ним чертовски щедра.
У Андерсона на секунду возникает желание воскресить жирного фаранга и тайца-крестьянина, показать им, каково живется тут, в настоящем, наорать на них, а потом вышвырнуть с балкона так же, как они сами наверняка выкидывали фрукты, заметив хоть малейшую вмятинку.
Больше в книге нет ни иллюстраций, ни названий плодов. Он резко встает, снова выходит на балкон под палящее солнце и смотрит на город. Внизу призывно кричат торговцы водой, ревут мегадонты, по переулкам течет треск велосипедных звонков. К полудню Бангкок притихнет до самого заката.
Где-то там сейчас сидит и деловито играет с кирпичиками жизни генхакер: восстанавливает давно исчезнувшие ДНК, подгоняет их под нужды времени, наступившего за эпохой Свертывания, придает иммунитет к пузырчатой рже, японским долгоносикам со взломанными генами и цибискозу.
Ги Бу Сен. Пружинщица хорошо запомнила его имя. Значит, это Гиббонс.
Андерсон стоит, уперев локти в перила, и, жмурясь от солнца, смотрит на лабиринт городских улиц. Там в одном из зданий прячется Гиббонс — мастерит свой очередной шедевр. Если его где и искать, то непременно рядом с банком семян.
6
Вот в чем штука: стоит положить деньги в банк, как в мгновение тигриного ока оказываешься в ловушке. То, что было твоим — уже их. Полученное в обмен на труды, литры пота и годы жизни теперь принадлежит совершенно чужим людям. Этот вопрос о хранении денег гложет Хок Сена, будто долгоносик со взломанными генами, извлечь которого, раздавить ногтем, превратить в лепешку из гноя и хитиновой шкурки никак невозможно.
Если перевести все в годы — те, что сперва меняешь на зарплату, а потом сдаешь на хранение, — то банк, выходит, владеет половиной тебя. Или как минимум третью, если ты какой-нибудь ленивый таец. А человек, лишенный трети своей жизни, на самом деле лишен жизни полностью.
Тогда какую треть отдать — от груди до макушки лысеющего черепа? От пояса до пожелтевших ногтей на ногах? Две ноги и одну руку? Две руки и голову? Отними у человека четверть тела — еще есть шанс выжить, но треть — это уже слишком.
Вот в чем штука с этими банками. Едва засунешь деньги им в пасть, как тут же обнаруживаешь, что вокруг твоей головы сжались тигриные челюсти. Треть тебя там оказалась, половина или один только покрытый старческими пятнами череп — разницы нет.
Но если нельзя доверять банкам, то чему можно? Хлипкому дверному замку? Осторожно выпотрошенному матрасу? Месту под выдранной с крыши черепицей, проложенному листьями банановой пальмы? Нише, вырезанной в бамбуковой балке в лачуге среди трущоб, ловко выдолбленной полости под пухлые рулетики банкнот?
Хок Сен выскребает внутренность бамбука.
Комнату, в которой он живет, владелец называет квартирой. Отчасти так и есть: тут стены, а не занавески из кокосовых полимеров, и еще маленький задний дворик с уборной — общей на шесть хижин, как, впрочем, и сами стены. Для беженца-желтобилетника это не дом, а настоящий особняк, но даже здесь только и слышно, что одно недовольное брюзжание постояльцев.
Перегородки из везеролловской древесины, откровенно говоря — бессмысленный шик, тем более что не достают до пола, и из-под них торчат соседские джутовые сандалеты, да к тому же сочатся пропиткой, не дающей гнить во влажном тропическом воздухе. Единственная польза — прятать деньги в них удобнее, чем на дне дождевой бочки, завернув в три слоя собачьей шкуры, которая за полгода — по крайней мере Хок Сен на это очень рассчитывает — не промокла.
Он замирает.
В соседней комнате слышен шорох, однако не похоже, что кто-то обратил внимание на скребущие звуки. Хок Сен снова начинает вытачивать потайную нишу у стыка бамбуковой панели, тщательно собирая деревянное крошево — еще пойдет в дело. Всё зыбко — вот первый урок. Ян гуйдзы — заморские дьяволы — усвоили его в эпоху Свертывания; когда не стало нефти, им пришлось удирать на родину. Хок Сен осознал эту истину в Малакке. Всё зыбко, ничто не безопасно. Был богач — стал нищий. Был шумный китайский клан, весело и сыто пирующий свининой, жареным рисом и цыпленком по-хайнаньски во время новогодних праздников, а теперь — один тощий беженец-желтобилетник. Ничто не вечно. Хотя бы буддисты это хорошо понимают.
Безрадостно улыбнувшись, он продолжает осторожно скрести по черте, проведенной под потолком поперек панели, и сыпать мелкими прессованными опилками. Сейчас Хок Сен живет в роскоши: у него есть собственная москитная сетка в заплатах, небольшая горелка, в которой дважды в день можно разжигать зеленый метановый огонек, если, конечно, будет желание заплатить пи-лиену, местному старейшине, за нелегальную врезку краника в трубы, питающие городские фонари. А на заднем дворе — умопомрачительная роскошь — стоят его личные глиняные дождевые бочонки, которые никто никогда не украдет — соседи — люди честные, хотя и отчаянно бедные, и знают, что у всего должен быть предел, понимают, что даже самые нищие и самые бесшабашные знают, какие границы нельзя переходить, а потому бочки, забитые зеленой слизью комариных яиц, никуда не денутся, даже если самого Хок Сена убьют на пороге дома или какой-нибудь бандит — нак ленг вздумает изнасиловать соседскую жену.
Затаив дыхание и стараясь не шуметь, старик поддевает маленькую панель в бамбуковой распорке. Место он выбирал долго: здесь под темной черепичной крышей удобно выступают стропила — сплошные углы, стыки и ниши. Пока в трущобах просыпаются, недовольно бурчат и закуривают первую сигарету соседи, Хок Сен, обливаясь потом, устраивает тайник. Глупо хранить здесь столько денег. А если пожар? Если какой-нибудь дурак случайно опрокинет свечу и везеролл вспыхнет? Или бандиты возьмут его тут в осаду?
Старик бросает работу и протирает взмокший лоб.
«Совсем обезумел. Кто за мной придет? Зеленые повязки — по ту сторону границы, в Малайе, королевские войска их сюда не пустят. Пусть даже нападут, им еще через свой архипелаг пробираться — это несколько дней на пружинных поездах, и то если королевская армия не подорвет железную дорогу. Транспортом на угольной тяге — минимум сутки. Иначе только пешком, то есть не одну неделю. Масса времени. Так что бояться нечего».
Наконец дрожащими пальцами он снимает панель и запускает тощую руку в цилиндрическую, водонепроницаемую от природы полость. За долю секунды Хок Сен успевает подумать, что его ограбили, но тут же нащупывает бумагу и начинает один за другим выуживать рулоны банкнот.
В соседней комнате Сунан и Мали обсуждают идею одного родственника, который предлагает им тайком забрать с закрытого на карантин Ко Ангрита[79] и привезти контрабандой партию ананасов, зараженных цибискозом 11 шт 8. Быстрый заработок, если не побояться взять этот запрещенный продукт у компаний-калорийщиков.
Слушая их бормотание, Хок Сен засовывает баты в конверт, а конверт — за пазуху. Стены вокруг забиты бриллиантами, купюрами и нефритом, и все равно брать деньги ему поперек души, поперек запасливой натуры.
Он ставит панель на место, замазывает трещины смесью из опилок и слюны, отступает и придирчиво оглядывает бамбуковый столб: почти ничего не видно. Если не знать, что надо отсчитать четыре колена снизу, не догадаешься, куда смотреть и где искать.
У любого хранилища свои недостатки: банкам нельзя верить, тайники не защитишь, а комнату в трущобах могут ограбить, пока тебя нет дома. Старику нужно другое, безопасное место, где можно прятать опиум, камни и деньги. И себя — за это он готов заплатить сколько угодно.
Все преходяще — так говорит Будда. В молодости Хок Сену были безразличны и карма, и дхарма, но с возрастом он стал понимать религию своей бабки и горькую правду этой веры. Его удел — страдания, а привязанности — их источник. И все равно он не может заставить себя не копить, не готовиться к будущему и не беречь отчаянно свою жизнь, которая пошла совсем не так.
«За какие грехи мне такая судьба? Зачем я видел, как людей моего клана рубят окровавленными мачете, как горят мои фабрики и тонут корабли?»
Он закрывает глаза и гонит прочь дурные воспоминания. Сожалеть — тоже значит страдать.
Вздохнув, старик неуклюже встает, оглядывает комнату — все ли на месте, — толкает застревающую в грязи дверь, выходит в необычайно тесный проход между лачугами, который служит трущобам центральной улицей, и запирает дом полоской кожи — заматывает его простым узлом. В хижину залезали и будут залезать. На то и расчет: большой замок привлечет ненужное внимание, а нищенская веревочка вряд ли кого-нибудь соблазнит.
Путь из Яоварата[80] лежит сквозь тяжелые тени, мимо людей, сидящих на корточках вдоль дороги. Жар сухого сезона давит с такой силой, что едва возможно дышать; облегчения не приносит даже вид проступающей вдали дамбы Чао-Прайи, спасения от пекла нет нигде. В трущобах станет почти прохладно, если прорвет плотину и лачуги затопит, но до тех пор Хок Сен вынужден пробираться узкими закоулками, обливаясь потом и обтирая плечами отшлифованные жестяные стены.
Он перепрыгивает забитые дерьмом канавы, балансирует на перекинутых досках, обходит женщин, окутанных паром от котлов, где варится бобовая лапша из ю-текса и вонючая сушеная рыба. Редкие тележки-кухни, принадлежащие тем, кто подкупил белых кителей или пи-лиенов, густо коптят на всю округу удушливым дымом печек, в которых жгут навоз, и горелым перченым маслом.
Хок Сен кое-как обходит запертые на три замка велосипеды и ступает осторожно — одежда, мусор и кастрюли выпирают на дорогу из-под тряпичных стен. За перегородками кипит своя жизнь: кто-то кашляет, умирая от отека легких, женщина сетует на сына, который все время пьет рисовую водку лао-лао, маленькая девочка грозит поколотить брата. В брезентовых трущобах нет личной жизни, перегородки — не более чем учтивая видимость, но тут лучше, чем в загонах для желтобилетников, в небоскребах эпохи Экспансии; для старика жить здесь — настоящая роскошь, к тому же тут безопаснее, чем было в Малайе. Если не выдавать себя акцентом, все принимают за местного.
И все же Хок Сен скучает по Малайе. Пусть его семью считали чужаками, но был ведь там родовой дом с мраморными полами и залами с лаковыми колоннами, звонкие голоса детей, внуков и слуг, были цыпленок по-хайнаньски, лакса асам, копи и роти канай[81].
Он тоскует по своим кораблям, построенным на верфях «Мисимото», по их командам (разве не нанимал он темнокожих, и те даже служили капитанами?), что пересекали под парусом полмира, ходили в саму Европу с грузом чая, устойчивого к долгоносикам, а возвращались с дорогими коньяками, которых тут никто не видел со времен Экспансии. По вечерам Хок Сен вкусно ужинал в компании жен, и голова болела лишь о том, что сын не прилежен в занятиях, а дочь никак не найдет хорошего мужа.
Как же глуп был он тогда — воображал себя настоящим морским торговцем, совершенно при этом не умея предчувствовать перемены.
Из-под полога какой-то лачуги вылезает девочка — еще слишком маленькая, невинная, не разбирает, кто свой, кто чужой — это ей пока совсем не важно. На зависть старику, у которого ноет каждая кость, ребенка так и переполняют силы. Малышка смотрит на Хок Сена с улыбкой.
Такой могла бы быть и его дочь.
Стояла душная непроглядная ночь. Малайские джунгли наполнялись криками птиц и ритмичным стрекотанием насекомых. Впереди совсем близко плескали темные воды гавани. Вместе с последним, кто выжил из родни — четвертой дочерью, бесполезным, ненужным ребенком, — он сначала тихо сидел среди свай причала и покачивающихся лодок, а когда совсем стемнело, отвел ее к воде — туда, где волны били о берег, под черное небо, усыпанное золотыми точками звезд.
— Смотри, Ба. Золото, — прошептала она.
В другой жизни он ответил бы, что звезды — и в самом деле золотые крупинки, что все они принадлежат ей, потому что она китаянка, а если усердно трудиться, чтить предков и традиции, то непременно достигнешь процветания. И вот сейчас под Млечным Путем, под этим живым одеялом из густой золотой пыли, кажется, протяни руку, сожми кулак — и звезды потекут между пальцами.
Золото всюду, но его нельзя даже потрогать.
Между постукивавших друг о друга рыбацких лодок и пружинных суденышек он нашел весельную шлюпку, вывел на глубину и направил по течению в залив — черную крапинку среди переливов океанской глади.
Ночь, к несчастью, стояла ясная, зато безлунная. Он долго греб, пока вокруг не заплясала стайка морских карпов, выставив напоказ толстые белые животы — такими их сделали люди из его клана, чтобы накормить голодающую страну. Он вынул весла из воды, рыба окружила лодку; брюхо каждой сыто раздулось от крови и хрящей своих создателей.
Наконец шлюпка дошла до цели — стоявшего на якоре тримарана, где ночевала команда с корабля Хафиза. Он перелез на борт и неслышно зашагал вперед, разглядывая людей, которые мирно храпели, уверенные в том, что вера убережет их сон — живые и спокойные за себя, в отличие от него, человека, у которого не было абсолютно ничего.
Руки, плечи и спина по-стариковски ныли после долгой работы веслами, как у всякого человека, не привыкшего к физическому труду.
Он шагал очень тихо, всматривался в лица и думал, что уже слишком стар для бесцельной борьбы за выживание, однако все еще не способен ее бросить — хоть один человек из клана должен остаться, пусть даже это маленькая девочка, которая никогда ничего не сделает во имя предков. Небольшой фрагмент ДНК все-таки надо спасти.
Наконец он нашел того, кого искал, присел, осторожно коснулся человека, прикрыл ему рот ладонью и позвал:
— Старина!
— Эньцык[82] Тань? — Тот широко распахнул глаза и как был — лежа, полуодетый — протянул руку в приветственном жесте, но, сообразив, что обстоятельства изменились, отвел ее в сторону и обратился так, как раньше никогда не посмел бы: — Хок Сен? Вы еще живы?
Старик недовольно скривил губы.
— Мне и вот этому бесполезному отпрыску надо на север. Нужна твоя помощь.
Хафиз сел, сонно потер лицо, быстро оглядел спящих вокруг и прошептал:
— Если я тебя сдам, то неплохо заработаю. Глава «Трех удач»! Да я просто разбогатею.
— Ты и так не бедствовал, когда работал со мной.
— За одну твою голову дают больше, чем за все черепа китайцев, которые выставили на улицах Пинанга[83]. К тому же мне это ничем не грозит.
Хок Сен уже гневно раскрыл рот, но Хафиз знаком велел молчать, потом отвел на палубу — подальше, к леерам — и, почти прижав губы к его уху, сказал:
— Ты понимаешь, как я рискую? В семье завелись зеленые повязки. И кто — мои собственные сыновья! Здесь совсем небезопасно.
— Думаешь, я не знал?
Хафиз, глядя в сторону, проговорил:
— Ничем не могу помочь.
— Вот так ты отвечаешь на мою доброту? Разве я не пришел к тебе и Ране на свадьбу, не одарил вас щедро, не пировал в вашу честь десять дней? Разве я не дал Мохаммеду денег на вступительный взнос в колледж в Куала-Лумпуре?
— Вы еще много чего для меня сделали, и я вам многим обязан, — с поклоном ответил Хафиз. — Но все изменилось. Кругом зеленые повязки. Те, кто кричал «ура» желтой чуме, теперь дорого за это платят. А я за вашу голову смогу купить своей семье спокойствие. Простите, но это так. Даже не знаю, что меня сейчас останавливает.
— У меня есть бриллианты, есть нефрит.
Хафиз вздохнул и повернулся к Хок Сену широкой мускулистой спиной.
— Возьму камни — захочу забрать жизнь. Раз уж речь пошла о вознаграждении, то вы дороже любых денег. Так что не надо соблазнять богатствами.
— Вот как, значит…
Хафиз умоляюще посмотрел на Хок Сена и сказал:
— Завтра я скажу им, где стоит ваша «Утренняя звезда», отрекусь от прошлых дел, а если хватит ума, то вместе с кораблем сдам и вас. Все, кто сотрудничал с желтой чумой, сейчас под подозрением. Мы жирели на вашем китайском бизнесе, процветали на вашей щедрости, а теперь нас ненавидит вся Малайя. Страна стала совсем другой. Люди голодают — голодают и злятся, а нас зовут пиратами-калорийщиками, барыгами, желтыми собаками, и рот им не заткнешь. Вашу кровь уже пролили, а что с нами делать, еще не придумали. Не стану я ради вас рисковать семьей.
— Ты можешь пойти на север с нами. Поплывем вместе.
Хафиз вздохнул.
— Зеленые повязки уже прочесывают побережье, ищут беженцев. Всех, кого ловят, убивают. Свои сети они расставили добротно.
— Но мы же хитрые. Хитрее их. Проскользнем.
— Никак не проскользнем.
— Откуда ты знаешь?
Хафиз потупил взгляд.
— Сыновья рассказывали.
Хок Сен резко помрачнел и крепче сжал руку дочери.
— Простите. Мне теперь до самой смерти жить с этим позором, — проговорил Хафиз, потом резко развернулся, быстро ушел на камбуз и вскоре вынес оттуда несколько неиспорченных манго, папайю, мешок ю-текса и цибискозную дыню марки «ПурКалория». — Вот, держите. Мне очень жаль, что больше ничего не могу для вас сделать. Очень жаль. Но я тоже должен выживать. — С этими словами он проводил Хок Сена к борту.
Месяц спустя старик переходил границу — его предали контрабандисты-перевозчики, и теперь он в одиночку пробирался через джунгли, которые кишели паразитами.
К тому времени Хок Сен уже был наслышан об убийствах тех, кто раньше помогал китайцам: их сгоняли вместе и целыми толпами сбрасывали со скал в море в сильный прибой — кто-то разбивался о камни, кого-то расстреливали прямо в воде.
Теперь старик часто думает о Хафизе — погиб ли он, как остальные, или «Утренняя звезда» — последний парусник из флотилии «Трех удач», который отдал ему Хок Сен, — помог откупиться и спасти себя и семью. Или за него заступились сыновья. А может быть, они равнодушно смотрели, как отец платит за свои бесчисленные грехи.
— Дедушка! У вас все хорошо? — Маленькая девочка осторожно трогает Хок Сена за руку и смотрит широко раскрытыми темными глазами. — Если хотите пить, мама даст вам кипяченой воды.
Старик хочет что-то сказать, но только кивает и идет дальше. Речь выдаст в нем беженца. Лучше не выделяться. Лучше, если никто не будет знать, что он живет здесь благодаря странной прихоти белых кителей, Навозного царя и нескольким поддельным штампам в желтом билете. Лучше никому не доверять, даже самым дружелюбным. Сегодня эта девочка мило улыбнулась, а завтра камнем размозжит череп ребенку — вот правда жизни. Можно думать, что существуют верность, преданность, доброта, но они, как те дьявольские коты, очень быстро превращаются в пустоту.
Спустя десять минут он выходит из лабиринта кривых улочек к морской дамбе. Конструкцию, возведенную для спасения города Рамой XII, плотно облепили хибары. Чань-хохотун сидит возле тележки, с которой продают пищу, и ест джок; над кашей из ю-тексовского риса поднимается пар, в густом соусе плавают кусочки какого-то мяса. Прежде Чань-хохотун работал надсмотрщиком на плантации — полторы сотни человек под его началом подрезали кору на каучуковых деревьях и собирали латекс. Теперь организаторским талантам нашлось новое применение: он командует работягами, которых зовут разгружать мегадонтов, парусники и дирижабли, если вдруг тайцев не берут туда за лень, тупость и медлительность или если ему удается подкупить кого-нибудь из чиновников рангом повыше, чтобы накормить свою желтобилетную команду. Есть у него и другие занятия: доставлять с реки в башни Навозного царя опиум и ябу — метамфетаминовые таблетки с кофеином — или, наплевав на запрет министерства природы, тайком вывозить с Ко Ангрита агрогеновскую сою-про.
У него нет одного уха и четырех зубов, но это совсем не мешает ему улыбаться. Он сидит, по-идиотски скалясь во весь рот и выставляя напоказ дыры, а глаза беспрестанно следят за прохожими. Хок Сен занимает соседний стул, перед ним ставят такую же плошку горячего джока. Теперь они вдвоем едят ю-тексовскую кашу, пьют кофе — почти такой же хороший, как был когда-то на юге, — и глядят по сторонам: то на повариху, которая положила им рис, то на людей, сгорбившихся над тарелками за соседними столиками, то на велосипедистов, лавирующих в общем потоке. Оба — желтобилетники, быть все время настороже для них так же естественно, как для чеширов — ловить птиц.
— Готов? — спрашивает Чань-хохотун.
— Надо еще повременить. Твоих не должны заметить.
— Не бойся — мы теперь даже ходим почти как тайцы. — Чань довольно скалится дырками между зубов. — Совсем мы стали как местные.
— Собакотраха знаешь?
Чань-хохотун судорожно кивает — ему больше не до смеха.
— Сукрит меня тоже знает. Я останусь под дамбой, со стороны деревни, на глаза не попадусь. Смотрящими поставлю А Пина и Питера Сяо.
— Тогда ладно.
Хок Сен доедает джок и платит за обе их порции. Когда рядом Чань-хохотун со своими людьми, ему как-то спокойнее. Но все равно риск велик. В случае чего Чань будет слишком далеко и помочь не успеет, разве только отомстит когда-нибудь позже. Да и то, если подумать, не так уж много старик ему заплатил, чтобы рассчитывать на месть.
Чань-хохотун неспешной походкой исчезает за тряпичными лачугами. Хок Сен бредет сквозь раскаленный неподвижный воздух мимо хижин вверх по крутой ухабистой тропинке в сторону дамбы. Каждый шаг отдается в коленях болью. Наконец он выходит на вершину широкой насыпи, которая бережет город от океанских приливов.
Выйти из вони трущоб и почувствовать, как морской бриз прижимает к телу одежду, — это счастье. Солнце сияет на зеркальных волнах ярко-голубого океана. По дорожке, дыша свежим воздухом, гуляют люди. Поодаль, на краю насыпи огромной жабой сидит одна из угольных помп Рамы XII: на кожухе проступает знак рака-Коракота, из труб валит дым и пар.
Созданные гением короля насосы пускают свои хоботы глубоко под землю, выкачивают воду и не дают Бангкоку утонуть. Семь машин не прекращают работу даже в сухое время года. В сезон дождей, когда промокшие до костей люди плавают по улицам на лодках, радуясь, что муссоны пришли в положенное время и что дамба выдержала, включают все двенадцать помп, помеченных каждая своим знаком зодиака.
Хок Сен спускается по внешней стороне насыпи к докам. Крестьянин с заваленной кокосами плоскодонки протягивает ему зеленый орех со срезанной верхушкой — предлагает попить. Вдали из воды выступают вершины зданий Тонбури, бывшего округа Бангкока. По волнам снуют лодки и парусники, рыбацкие ялики тянут сети. Старик глубоко вдыхает пропитанный запахом рыбы и водорослей соленый воздух. Вот она — морская жизнь.
Мимо проходит японское судно: корпус из полимеров пальмового масла, парус — длинный и белый, как чаячье крыло. Гидрокрыла пока не видно, но в открытом море пружинная пушка вытолкнет все остальные паруса, и корабль подпрыгнет над водой, будто большая рыба.
Хок Сен вспоминает, как стоял на палубе своего первого судна, а оно летело по волнам словно «блинчик», пущенный ребенком; хохотал, когда нос врезался в буруны и брызги окатывали его с ног до головы. Он тогда сказал старшей жене: «Нет ничего невозможного, будущее принадлежит нам».
Старик садится у самой воды, допивает молоко и кивком подзывает беспризорника, который стоит неподалеку и наблюдает. «Смышленый вроде». Ему бывает приятно вознаградить того, кому хватает ума и терпения узнать, что произойдет дальше. Хок Сен отдает кокос мальчишке, тот благодарно кивает и убегает наверх, где сначала разбивает орех о куски бетона, а потом, сев на корточки, начинает выковыривать ракушкой нежную сочную мякоть и жадно есть.
Вскоре приходит Собакотрах. На самом деле его зовут Сукрит Камсинг, но желтобилетники редко произносят настоящее имя — за долгое время к нему скопилось слишком много злобы, — а потому с ненавистью и страхом все говорят «Собакотрах». Это коренастый, мускулистый, поднакопивший калорий человек. Он идеально подходит для своей работы, как мегадонт — для превращения еды в джоули. Руки по самые плечи покрыты бледными шрамами. С того места, где когда-то был нос, на Хок Сена глядят две темные вертикальные щели — с ними лицо больше напоминает свиное рыло.
Желтые билеты спорят: сам он запустил фаган, и похожий на цветную капусту нарост проник настолько глубоко, что врачам пришлось срезать все до костей, или это Навозный царь так его за что-то проучил?
Собакотрах садится рядом, темные глаза тяжело смотрят на Хок Сена.
— Эта твоя докторша Чан принесла мне письмо…
— Организуй мне встречу с твоим боссом.
Собакотрах отвечает с усмешкой:
— Я сломал ей пальцы и затрахал до смерти за то, что нарушила мой сон.
Хок Сен ничем не выдает эмоций. Может, Собакотрах врет, может, нет — тут не угадаешь, но проверяет — это точно; смотрит, дрогнет ли старик, станет ли торговаться. Возможно, доктора Чан больше нет. Тогда это еще один камень на весы его кармы.
— Думаю, твой босс благосклонно воспримет мое предложение.
Собакотрах рассеянно почесывает вокруг длинной ноздри.
— Тогда почему мы сидим здесь, а не у меня в офисе?
— Люблю просторы.
— У тебя тут что — люди везде стоят? Тоже желтобилетники? Думаешь, помогут?
Хок Сен только пожимает плечами и смотрит вдаль на корабли, на паруса, на этот большой манящий мир.
— Хочу предложить твоему шефу сделку. Золотое дно.
— Мне сначала расскажи.
— Нет. Только ему и только лично.
— Он не встречается с желтобилетниками. А может, просто взять да скормить тебя пла-красноперкам прямо тут? Как зеленые повязки когда-то на юге?
— Ты знаешь, кто я такой.
— Кем был — знаю, ты написал. — Он чешет вдоль ноздри-прорези и пристально разглядывает старика. — А здесь ты просто желтый билет.
Хок Сен молча протягивает ему полотняный мешочек, набитый деньгами. Собакотрах глядит на кошелек с подозрением и не берет.
— Это еще что?
— Подарок. Возьми и посмотри.
Тот явно заинтересован, но осторожничает. Хорошо, что он не из тех людей, которые, не раздумывая, суют руку в мешок, а вытаскивают скорпиона. Собакотрах развязывает тесемки и вытряхивает содержимое. На грязный, заваленный ракушками берег звонко сыплются деньги. Безносый ошеломленно смотрит на монеты, а старик старательно прячет улыбку.
— Передай Навозному царю: Тань Хок Сен, глава торговой компании «Три удачи», имеет к нему деловое предложение. Доставь сообщение — и будешь щедро вознагражден.
— Знаешь что — я, пожалуй, просто возьму деньги, а моим парням велю бить тебя до тех пор, пока не скажешь, где ты, китаец-параноик, спрятал все свои богатства, — с ухмылочкой говорит Собакотрах.
Хок Сен молчит, на лице — каменная маска.
— И про ребят Чаня-хохотуна, которые тут стоят, я знаю — за ним должок за неуважение.
Удивительное дело: старик нисколько не боится. Он живет в постоянном страхе перед всем подряд, но главные герои его ночных кошмаров — совсем не мордовороты пилиены вроде Собакотраха. Этот бизнесмен, а не белый китель, которого распирает патриотизм и желание вызвать к себе уважение. Все, что ни делает безносый, — все только ради денег. Они с Хок Сеном — две части одного экономического организма, пусть и далекие друг от друга, но по большому счету родные, как братья. Мысль об этом придает ему уверенности.
— Тут лишь вознаграждение за твои труды. А предлагаю я — всем нам — гораздо больше. — С этими словами он достает еще два предмета. Первый — письмо. — Отдашь своему хозяину. И не вскрывай. — Потом протягивает небольшую коробочку из бледно-желтого полимера пальмового масла, с выходящими сбоку универсальным валом и крепежными скобами.
Собакотрах крутит ее в руках и недовольно спрашивает:
— Пружина? Она-то еще зачем?
— Прочтет письмо — узнает, — с улыбкой бросает Хок Сен, встает и, не дожидаясь других вопросов, уходит. Впервые с тех пор, как зеленые повязки сожгли дотла его склады и пустили ко дну корабли, он ощущает силу и уверенность, чувствует себя мужчиной — даже шагает бодрее, забыв о хромоте.
Станут ли за ним следить люди Собакотраха, неясно, поэтому Хок Сен не торопится, зная, что и они, и парни Чаня-хохотуна где-то поблизости — приглядывают, незаметным оцеплением идут вокруг по переулкам, все глубже погружаясь в трущобы.
Наконец он видит широко улыбающегося Чаня.
— Тебя отпустили!
Старик протягивает ему деньги.
— Ты хорошо поработал. Хотя он и знал о твоих ребятах. — Потом вручает еще один рулончик банкнот. — Вот, откупись от него.
Чань-хохотун радостно смотрит на предложенное богатство.
— Тут в два раза больше, чем я должен. Даже Собакотрах зовет нас поработать, если не хочет рисковать сам и вывозить сою-про с Ко Ангрита.
— Бери, бери.
Чань-хохотун пожимает плечами и сует деньги в карман.
— Ну, спасибо за щедрость. Очень кстати, тем более что якорные площадки накрылись.
Хок Сен, уже готовый идти дальше, замирает и переспрашивает:
— Что ты сказал про якорные площадки?
— Их закрыли. Прошлой ночью белые кители устроили налет, и теперь там все опечатали.
— А опечатали-то зачем?
— Не знаю. Говорят, их спалили дотла и там теперь один пепел.
Хок Сен, больше ни о чем не спрашивая, срывается с места и бежит так быстро, как только позволяют старческие ноги, кляня себя последними словами за то, что был дураком, не держал нос по ветру, разрешил себе не просто выживать, а желать большего.
Всякий раз, когда он строит планы на будущее, что-то идет не так. Стоит чуть распрямить спину, как мир тут же наваливается всем своим весом и прижимает к земле.
На Тханон Сукхумвит он подбегает к газетчику, начинает нервно перебирать газеты, печатные листки, буклеты с удачными комбинациями для азартных игр и предсказаниями имен чемпионов по муай-тай.
Хок Сен рывком листает страницы и чем дальше смотрит, тем сильнее приходит в ярость.
Во всех до единой газетах он видит улыбающееся лицо Джайди Роджанасукчаи, неподкупного Бангкокского тигра.
7
— Смотри! Я теперь знаменитый!
Джайди пристраивает печатный листок со своей фотографией к лицу и ухмыляется Канье. Та не отвечает на улыбку, и он ставит газету назад на стойку, сплошь забитую его изображениями.
— Ну да, ну да, не очень похож. Наверное, журналисты подкупили кого-нибудь из отдела кадров. Тут я моложе, — грустно вздыхает Джайди.
Канья по-прежнему молчит, угрюмо уставившись на воды клонга. Целый день они ловили контрабандистов, перевозящих вверх по реке продукты «ПурКалории» и «Агрогена», мотались под парусом по всему устью, а Джайди так и не смог унять ликование по поводу своих фото в газетах.
Главной их добычей стал парусник, стоявший на якоре прямо у доков. Якобы индийское торговое судно, державшее курс на Бали, оказалось под завязку набитым ананасами, устойчивыми к цибискозу. До чего отрадно было слушать, как начпорта и капитан наперебой придумывали оправдания, пока белые кители засыпали груз щелоком, стерилизуя и делая его непригодным в пищу. Вся прибыль от контрабанды насмарку.
Джайди листает другие газеты, прикрепленные к стенду, и в «Бангкок морнинг пост» находит еще один свой снимок: он, тогда еще участник боев по муай-тай, хохочет после очередного поединка на Лумпини.
— Вот эта ребятам понравится.
Потом читает статью: министр Аккарат кипит от злости, а в министерстве торговли Джайди называют вандалом. Удивительно, что не предателем или террористом. Такая сдержанность только подчеркивает их бессилие.
Не сдержав улыбки, он показывает страницу Канье.
— А хорошо мы их зацепили.
Та по-прежнему и ухом не ведет.
Чтобы не замечать ее дурное настроение, нужна некоторая привычка. Поначалу он думал, что Канья просто глупа — это вечно бесстрастное выражение лица, это полное безразличие к шуткам. Казалось, у нее начисто отсутствует тот орган, который, как глаза на свет или нос на запахи, должен реагировать хотя бы на самый очевидный повод для санука.
— Пора назад в министерство, — говорит она и смотрит на снующие по клонгу суда — ищет новую цель.
Джайди отдает газетчику деньги. В этот момент мимо проплывает речное такси.
Канья делает знак рукой — судно подходит ближе. Маховое колесо протяжно гудит от накопленной энергии, кильватерные волны плещут о набережную. Половину корабля занимают огромные пружины. Богатые китайцы — чаочжоуские бизнесмены — теснятся на крытом носу, как утки, которых везут на забой.
Канья с Джайди запрыгивают на бортик снаружи пассажирской палубы. Девочка, которая продает билеты, берет у спустившегося следом человека тридцать батов, а двух белых кителей даже не замечает. Как и они — ее. Джайди, схватившись за леер, подставляет ветру лицо. Такси отчаливает и полным ходом идет в центр города, лавируя между весельными плоскодонками и лонгтейлами[84]. Мимо мелькают кварталы лавочек и ветхих домишек с развешенными на солнце яркими пятнами саронгов, пасинов и кофт, женщины окунают в бурую воду клонга длинные черные волосы.
Судно резко сбрасывает обороты. Канья вытягивает шею.
— В чем дело?
Прямо по курсу, перегородив почти весь канал, лежит дерево. Около единственного узкого прохода теснятся лодки.
— Бодхи[85]. — Джайди смотрит по сторонам, запоминая ориентиры. — Надо будет монахам сказать — кроме них, убирать его никто не станет и на дрова, чтобы не накликать беду, не возьмет, хотя топлива не хватает.
Их речное такси стоит, покачиваясь на волнах, среди целой флотилии суденышек, которые пытаются пролезть в узкую протоку между берегом и кроной священного дерева.
Джайди, нетерпеливо кашлянув, достает значок министерства и кричит:
— Дорогу, друзья! Государственное дело! Дорогу!
При виде символа власти и белоснежной формы рулевые торопливо отводят свои плоскодонки в сторону. Человек, ведущий такси, бросает на Джайди признательный взгляд, запускает пружины и направляет корабль прямо в гущу лодок.
Оказавшись у голых ветвей, пассажиры в знак почтения отвешивают рухнувшему стволу глубокие поклоны: складывают ладони и касаются ими лба — делают ваи.
Так же поступает и Джайди, потом протягивает руку — пальцы скользят по испещренной мелкими отверстиями коре; если ее снять, вскроется тончайшая сеть червоточин — причина, по которой дерево погибло. Бодхи, священное бо — под таким Будда достиг просветления. Люди не смогли спасти этот вид — как они ни старались, не выжил ни один сорт фикуса, бежевый жучок одолел все до единого. Когда ученые опустили руки, в ход пошли крайние, отчаянные методы — жертвоприношения и молитвы Пхра Себ Накхасатхиену, но все было тщетно.
Словно прочитав его мысли, Канья произносит негромко:
— Не сумели мы сберечь все растения.
— Мы даже одно сберечь не сумели. — Пальцы Джайди скользят по канальцам, оставленным бежевыми жучками. — На этих фарангах столько вины, а Аккарат так и рвется вести с ними дела.
— Только не с «Агрогеном».
Он кривит рот и убирает руку с упавшего дерева.
— С ними — нет, а с другими такими же — да. С генхакерами, с калорийщиками, даже с «ПурКалорией», когда с урожаем совсем плохо. Иначе зачем мы разрешаем им сидеть на Ко Ангрите? Затем, что могут понадобиться, будет к кому идти в случае чего, будет кого умолять дать нам риса, пшеницы и сои.
— У нас теперь есть свои генхакеры.
— Хвала дальновидности его королевского величества Рамы XII.
— И Чаопрайе[86] Ги Бу Сену.
— Чаопрайе… — Он морщится. — Как вообще можно давать злодеям такие достойные титулы?
Канья пожимает плечами и решает не трогать больную тему.
Вскоре бодхи остается позади, и они сходят на берег у моста Синакарин. Запах от палаток с едой заставляет Джайди свернуть в узенький переулок-сой.
— Сомчай говорит, тут есть тележка, где делают хороший сом там[87]. Из здоровой папайи. — Он зовет Канью за собой.
— Я не голодная.
— И поэтому всегда мрачная.
— Джайди… — начинает девушка, но передумывает.
Он замечает на ее лице беспокойство.
— В чем дело? Давай уж, договаривай.
— Неспокойно мне из-за якорных площадок.
— Брось.
Впереди вдоль стены тесным рядком выстроились столы и тележки с едой. На выскобленных до чистоты столешницах аккуратно стоят плошки с нам пла прик[88].
— Видишь — Сомчай не соврал. — Джайди, отыскав нужную тележку, сначала внимательно рассматривает фрукты и специи, а потом заказывает на себя и на Канью, которая ждет рядом, мрачная, как туча.
— Потерять двести тысяч бат — это слишком даже для Аккарата, — замечает она, пока Джайди просит положить в сом там побольше чили.
Тот, глядя, как повариха перемешивает стружку зеленой папайи со специями, кивает:
— Конечно. Я понятия не имел, какие там деньги крутятся.
На такую сумму можно устроить целую лабораторию генного взлома или послать с инспекцией на фермы Тонбури, где выращивают тиляпию[89], пять сотен белых кителей… Джайди отбрасывает эти мысли. Двести тысяч всего за одну облаву. Поразительно.
Временами он думает, будто понимает, как устроен мир — по крайней мере до тех пор, пока не приподнимет крышку над новой для себя частью божественного города и не обнаружит кучу разбегающихся тараканов там, где совершенно не ожидал их увидеть. Сюрприз так сюрприз.
Джайди подходит к следующей тележке. На подносах лежат ростки редстаровского бамбука, свинина, густо пересыпанная перчиками чили, и прожаренные до хруста змееголовы в кляре — их только сегодня выловили в Чао-Прайе. Он заказывает еще еды (на двоих), сато, приседает за свободный столик и смотрит, как им подают блюда.
Рабочий день окончен, Джайди раскачивается на бамбуковой табуретке, чувствует в животе тепло от рисового пива и не может без улыбки глядеть на суровое выражение лица своей подчиненной.
Канья, как всегда, мрачна; даже хорошая еда не влияет на ее настроение.
— Кун Пиромпакди жаловался на вас в главном управлении. Сказал, дойдет до генерала Прачи — забудете, как улыбаться.
— Напугал. — Джайди отправляет в рот несколько перчиков.
— Якорные площадки — вроде как его территория. Он их крышует и собирает там взятки.
— Сначала ты боишься Торговли, теперь Пиромпакди. Да этот старик от вида собственной тени вздрагивает. Прежде чем есть, жену заставляет пробовать пищу — думает, как бы его не заразили пузырчатой ржой. Взбодрись. Улыбайся больше, смейся хоть иногда. Вот, выпей. — Он подливает лейтенанту еще сато. — Когда-то наш край называли страной улыбок. — Джайди изображает, как это было. — А ты сидишь тут с таким кислым видом, будто целый день лимоны ела.
— Видимо, сейчас меньше поводов для радости, чем тогда.
— Может, и так. — Он ставит стакан на занозистую столешницу и смотрит на него задумчиво. — Наверное, все мы натворили ужасных дел в прошлой жизни, раз теперь все так. Других объяснений не нахожу.
— Мне иногда является дух бабушки — бродит вокруг чеди рядом с нашим домом, — вздохнув, начинает Канья. — И говорит, что не станет перерождаться, пока мы тут порядок не наведем.
— Еще один пхи из эпохи Свертывания? Как она тебя нашла — разве вы обе родом не из Исаана[90]?
— Да вот нашла. И очень мной недовольна.
— Тут я ее понимаю.
Джайди тоже встречал призраков — то на улице, то на деревьях. Пхи теперь повсюду — столько, что не сосчитать. Он видел, как они бродят по кладбищам, льнут к изъеденным стволам бо и глядят на него сердито.
Медиумы, как один, говорят: пхи просто с ума сходят от злости, потому что не могут переродиться — их уже скопилась огромная толпа, как на вокзале Хуалампхонг[91] в выходной день в ожидании поезда на море, но ждут реинкарнации тщетно: ни один не заслужил страданий этого мира. А Аджан Сутхеп и другие монахи вроде него считают, что это все ерунда. Сутхеп продает амулеты, которые отгоняют пхи, и знает: люди видят всего лишь голодных духов, а те появились оттого, что кто-то умер не своей смертью, съев овощи, зараженные пузырчатой ржой. Любой может прийти с пожертвованием либо к нему в храм, либо в храм Эраван[92] и сделать подношение Браме — заплатить местным танцорам, чтобы те исполнили свой ритуал[93], и купить себе надежду на то, что призраки, успокоившись, продолжат свой путь к воплощению. На такой исход тоже можно рассчитывать.
Все равно призраков кругом много — спроси любого. Каждый — жертва «Агрогена», «ПурКалории» и им подобных.
— По поводу слов твоей бабушки — не принимай на свой счет. Однажды в полнолуние я видел, как пхи толпились и возле министерства природы — несколько десятков сразу, — говорит Джайди и продолжает с грустной улыбкой: — Вряд ли тут можно что-то исправить. Я как подумаю, среди чего растут Ниват и Сурат… — Он обрывает себя, не желая открываться Канье больше, чем хотел бы. — Да ладно, мы дали отличный бой. Еще бы взять за жабры какого-нибудь начальника «Агрогена» или «ПурКалории», придушить или дать ему распробовать, что такое пузырчатая ржа АГ134, — вот это было бы большое дело. После такого можно умирать спокойно.
— Вы, наверное, тоже не переродитесь. Вы слишком хороший для такой адской жизни.
— Ели повезет — воплощусь в Де-Мойне и подорву их генхакерские лаборатории.
— Хорошо бы так.
Что-то в голосе Каньи настораживает Джайди.
— Что тебя беспокоит? Почему такая грустная? Я вот уверен, что мы появимся в каком-нибудь прекрасном месте. Оба — и ты, и я. Только подумай, сколько добра мы сотворили за одну прошлую ночь. Когда мы подожгли груз, я подумал, что эти таможенники-хийя вот-вот обделаются.
— Похоже, они никогда не встречали белых кителей, которых нельзя подкупить, — зло бросает Канья и этим тут же убивает все его хорошее настроение. Неудивительно, что в министерстве ее никто не любит.
— Да, так и есть. Берут все. Жизнь изменилась. Самого плохого люди уже не помнят и не боятся, что могут стать такими же, как раньше.
— А вы, связавшись с Торговлей, все глубже лезете кобре в пасть. После переворота двенадцатого декабря генерал Прача и министр Аккарат ходят кругами друг возле друга и только и делают, что ищут новый повод для драки. Их вражда никуда не делась. А вы еще сильнее разозлили Аккарата. Все теперь стало так шатко…
— Да, насчет своей выгоды я всегда был слишком джай рон. Чайя меня в этом тоже упрекает. Вот почему я и держу тебя рядом. Впрочем, об Аккарате не стоит беспокоиться — поплюет ядом и утихнет. Он, может, и недоволен, но у генерала Прачи слишком много сторонников в армии, для новой попытки переворота хватит. После того как умер премьер-министр Суравонг, у Аккарата ничего, кроме денег, не осталось, он в изоляции. У него никакой поддержки — ни мегадонтов, ни танков. Бумажный тигр. И это ему хороший урок.
— Он опасен.
Джайди бросает на Канью серьезный взгляд.
— Кобры тоже. И мегадонты. И цибискоз. Кругом вообще сплошные опасности. А Аккарат… — Он пожимает плечами: — Что сделано, то сделано. Ничего уже не изменишь. Так зачем переживать? Май пен рай[94]. Выбрось из головы.
— Все равно вам надо быть поосторожней.
— Думаешь о том, на якорной площадке, которого Сомчай заметил? Он тебя напугал?
— Нет.
— Надо же. А вот я напугался. — Джайди оценивающе смотрит на Канью — решает, сколько правды можно ей доверить. — У меня очень нехорошее предчувствие.
— Серьезно? — Девушка поражена. — Вы напугались одного несчастного человека?
— Ну, уж не так, чтобы убежать и спрятаться за юбку жены… Я видел его раньше.
— Вы не рассказывали.
— Да я и сам поначалу не был уверен. Похоже, он из Торговли. — Джайди ненадолго задумывается. — Видимо, на меня опять открыли охоту. Может, снова попробуют убить. Что скажешь?
— Не посмеют. Вас же поддержала ее величество.
Он гладит себя пальцем по смуглой шее вдоль старого белого шрама, оставленного выстрелом из пружинного ружья.
— Не посмеют даже после якорных площадок?
— Тогда я назначу вам телохранителя, — с неожиданной злостью говорит Канья.
Эта вспышка заставляет Джайди захохотать, но на душе становится теплее и спокойней.
— Ты хорошая девушка, но я буду дурак, если возьму охрану. Все же поймут, что мне страшно. Какой я после этого тигр? На вот, поешь. — Он кладет Канье на тарелку еще рыбы.
— Я наелась.
— Брось, все свои. Ешь.
— Наймите телохранителя. Очень прошу.
— А я доверю свою охрану тебе. Этого будет вполне достаточно.
Девушка вздрагивает. Джайди забавляет ее смущение, но он не подает вида.
«Ах, Канья. Каждому в жизни приходится делать выбор. Я свой сделал, но у тебя собственная камма».
Потом продолжает вслух:
— Поешь. Вон какая худющая.
Канья отодвигает тарелку.
— Что-то я не голодная в последние дни.
— Людям еды не хватает, а она «не голодная».
Девушка делает недовольное лицо и подцепляет ложкой ломтик рыбы.
Джайди откладывает вилку и мотает головой:
— И все-таки: в чем дело? Ты угрюмей, чем всегда. Такой вид, будто родного брата похоронила. Что случилось-то?
— Да ничего. Правда ничего. Просто есть не хочется.
— Докладывайте, лейтенант. Говорите все как есть. Это приказ. Вы хороший офицер, и я не могу смотреть, как вы маетесь. Мне не нравятся кислые лица моих людей, будь они хоть трижды родом из Исаана.
Пока девушка, скривив губы, подбирает нужные слова, Джайди задумывается, вел ли себя по отношению к ней когда-нибудь тактично. Вряд ли. Всегда напирал, легко приходил в ярость. А вот Канья, эта мрачная Канья — она, наоборот, всегда джай йен. Никакого санука, но непременно джай йен.
Джайди терпеливо ждет, надеясь наконец-то услышать историю ее жизни — как есть, со всеми горькими подробностями, но вместо этого, к его изумлению, девушка, страшно смущаясь, почти шепотом произносит:
— Кое-кто из наших жалуется, что вы мало принимаете добровольных пожертвований.
— Что?! — Он подпрыгивает на месте и таращит на нее глаза. — Мы так вообще не делаем. Мы — другие, и гордимся этим.
Канья торопливо кивает.
— Вас за это и любят — газеты, печатные листки… Люди тоже любят.
— Но?..
На ее лице возникает прежнее печальное выражение.
— Но вас больше не продвигают по службе, а тем, кто вам предан, нет пользы от такой компании. Люди падают духом.
— Зато результат-то какой! — Джайди хлопает по зажатому между ног мешку денег, конфискованных на паруснике. — К тому же они знают: в случае чего — всегда поможем. Средств более чем достаточно.
Канья, потупив глаза, бормочет:
— Кое-кто говорит, что вы оставляете деньги себе.
— Себе?! — Джайди потрясен. — Ты тоже так считаешь?
Она жалобно пожимает плечами.
— Конечно, нет.
— Как я мог на тебя подумать, — виновато улыбается Джайди. — Ты всегда была молодцом и отлично работала. — Его переполняет сострадание к этой девушке, которая когда — то, умирая с голода, пришла в команду и с тех пор боготворила своего начальника, его славу и во всем ему подражала.
— Я, как могу, пытаюсь развеять слухи, но… — Она снова безнадежно пожимает плечами. — Новички говорят: служить у капитана Джайди — все равно что завести у себя в желудке паразита — работаешь, работаешь, а с лица спадаешь все больше. Они хорошие ребята, только им стыдно ходить в старой форме, когда их приятели в новом, с иголочки. Остальные ездят на пружинных мотороллерах, а наши — вдвоем на одном велосипеде.
— Помню, белых кителей когда-то любили, — вздыхает Джайди.
— Все хотят есть.
Он вздыхает еще раз, достает сумку и толкает ее по столу прямо Канье в руки:
— Возьми. Раздели поровну и раздай каждому. Это — за вчерашние труды и за храбрость.
— Вы уверены?
Джайди прячет разочарование за улыбкой. Ему невероятно грустно, но он понимает, что так будет лучше всего.
— Почему нет? Ты ведь говоришь — они хорошие ребята. К тому же отлично постарались. Похоже, министерство торговли и фаранги немного дрогнули.
Канья склоняет голову в глубоком ваи — пальцы сжатых ладоней достают до лба.
— Ну-ка перестань! — Джайди доливает остатки сато ей в стакан. — Май пен рай. Даже не задумывайся. Ерунда. Мелочи. Завтра ждут новые сражения, и верные ребята нам пригодятся. Друзья не смогут одолеть всех этих агрогенов и пуркалорий на голодный желудок.
8
— Я потерял тридцать тысяч.
— Пятьдесят, — бурчит Отто.
— Где-то сто восемьдесят пять — сто восемьдесят шесть?.. — глядя в потолок, прикидывает Люси Нгуен.
— Четыреста. — Куаль Напье опускает стакан теплого сато. — Я потерял четыреста тысяч голубых бумажек из-за этого чертова Карлайлова дирижабля.
Вся компания, собравшаяся за низким столиком, потрясенно замолкает.
— Черт, — вздрагивает разморенная жарой и выпивкой Люси. — Что ж вы там хотели провезти — целый семенной фонд, устойчивый к цибискозу?
Пятеро собеседников — «Фаланга фарангов», как их придумала называть Люси, — сидят, развалившись, на террасе «Дрейка», созерцают добела раскаленный день — обычный день в сезон засухи — и напиваются. Тут же и Андерсон — слушает вполуха их сумбурные стенания и ломает голову над тайной нго. Рядом на полу лежит полная сумка фруктов. Задумчиво потягивая теплый виски «Кхмер», он чувствует, что разгадка рядом — хватило бы ума нащупать.
Нго. Невосприимчив к пузырчатой рже и цибискозу даже при прямом заражении, явно устойчив к японским долгоносикам со взломанными генами и к курчавости листьев[95], иначе вообще не смог бы вырасти. Безупречный продукт, источник генетического материала, отличного от того, какой взламывают «Агроген» и прочие компании-калорийщики.
Где-то в этой стране спрятан семенной банк — тысячи, а может, сотни тысяч бережно хранящихся зерен — сокровищница биологического многообразия. Бесконечные цепочки ДНК, каждая из которых может пойти в дело. Кладезь ответов на самые трудные вопросы выживания. Имей Де-Мойн доступ к этой золотой жиле, несколько поколений подряд мог бы добывать в ней генетические коды, противостоять новым мутациям мора, мог бы просто прожить немного дольше.
Андерсон смахивает с лица капли пота, раздраженно ерзая в кресле. Решение совсем близко. Сначала вернулись пасленовые, теперь нго. А еще Гиббонс свободно разгуливает по Юго-Восточной Азии (если бы не та пружинщица-нелегалка, он и понятия о нем не имел бы). Королевство хранит свои секреты необычайно хорошо. Если выяснить, где этот банк, можно даже устроить налет… Тем более что опыт Финляндии их кое-чему научил.
Снаружи террасы не шевелится ни одно хоть сколько-нибудь разумное существо. Дразнящие градинки пота сбегают по шее Люси и исчезают в ткани намокшей блузки. Сама она сетует на угольную войну с вьетнамцами: какие тут поиски нефрита, если военные палят по всему, что движется?! Бакенбарды Куаля всклокочены. Ни ветерка.
На улице в узких полосках тени, сбившись в кучки, ждут рикши: кости и суставы выпирают из-под туго натянутой кожи. Настоящие скелеты. В это время дня они берут клиентов крайне неохотно, да и то лишь за двойную плату.
Ветхое зданьице бара болезненным наростом лепится к внешней стене полуразваленного небоскреба времен Экспансии. На ступеньке террасы стоит намалеванная от руки вывеска «У сэра Френсиса Дрейка». На фоне царящей кругом разрухи она выглядит относительно новой, хотя та компания фарангов, которая выдумала это дурацкое название и поставила вывеску, желая обозначить территорию на понятном им языке, давно сгинула где-то на материке — то ли в джунглях, когда там пронеслась эпидемия очередной разновидности пузырчатой ржи, то ли среди замысловатой линии фронта войны за уголь и нефрит. А вывеска осталась — может, забавляет нынешнего владельца (тот и себе взял такое же прозвище), а может, ни у кого просто нет желания взять и написать на ней что-то новое. От жары и времени краска уже шелушится.
Несмотря на репутацию, место у «Дрейка» идеальное: на полпути между заводами и судоходными шлюзами. Обветшалый фасад смотрит прямо на отель «Виктория», поэтому «Фаланга фарангов» может напиваться и одновременно наблюдать за тем, не принесло ли на берега королевства какого-нибудь небезынтересного им иностранца.
Конечно, есть и другие закусочные, похуже — для моряков, которые прошли таможню, карантин и дезинфекцию, но именно сюда, где с одной стороны мощеной дороги хрустит белоснежными скатертями «Виктория», а с другой стоит бамбуковый трущобного вида «Дрейк», рано или поздно стекаются все приехавшие в Бангкок иностранцы.
— Так что же вы везли? — снова спрашивает Люси, желая разузнать о потерях Куаля.
Тот, подавшись вперед, шепотом, чтобы расшевелить собеседников, отвечает:
— Шафран. Из Индии.
Наступает короткая пауза.
— Стоило бы догадаться! Отличный груз для воздушных перевозок, — хохочет Кобб.
— Идеальный для дирижабля — такой легкий, что выходит выгоднее опиума. Тут еще не придумали, как взломать шафран, а политики с генералами так и жаждут увидеть его в блюдах на своем столе — это же такой шик и престиж. У меня было столько предзаказов. Я бы разбогател. Фантастически разбогател.
— А теперь банкрот?
— Может, и нет. Договариваюсь со страховщиками из «Шри Ганеши» — вдруг сколько-нибудь покроют. Хотя бы восемьдесят процентов. Но посчитай взятки при ввозе, посчитай долю таможенных агентов. — Куаль болезненно морщится. — Сплошное разорение. Но есть шанс, что сам останусь жив-здоров. В некотором смысле, конечно, повезло: груз находился на дирижабле, то есть страховка действует. Надо бы поднять тост за здоровье этого треклятого пилота, раз уж он догадался посадить корабль в море. Если бы ящики к тому времени были на земле и там их сожгли белые кители, груз бы сочли контрабандой, а я уже сидел бы на улице среди больных фаганом нищих и желтобилетников.
— Единственное, за что Карлайлу можно сказать спасибо. Если бы он не лез в политику, ничего бы не произошло, — хмуро замечает Отто.
— Тут наверняка не скажешь, — разводит руками Куаль.
— Еще как скажешь, — вставляет Люси. — Он половину времени жалуется на белых кителей, а половину — заискивает перед Аккаратом. То, что случилось, — всего лишь сообщение Карлайлу и министерству торговли от генерала Прачи. Мы для них — почтовые голуби.
— Почтовые голуби вымерли.
— А мы, думаешь, не вымрем? Да Прача с радостью кинет нас в тюрьму, если решит, что это станет хорошим намеком Аккарату. — Люси смотрит на Лэйка. — Ты весь день молчишь как рыба. Неужели ничего не потерял?
— Оборудование. Запчасти к конвейеру. Тысяч на сто пятьдесят. Секретарь до сих пор подсчитывает убытки, — отвечает он, отвлекаясь от своих мыслей, и, глядя на Куаля, добавляет: — Груз был уже на земле. Поэтому никакой нам страховки.
Воспоминания о разговоре с Хок Сеном еще свежи. Старик поначалу все отрицал, пенял на бестолковых сотрудников якорных площадок, потом наконец сознался, что груз пропал, а сам он еще раньше так и не сумел как следует дать взятку. Мерзкая была сцена, вплоть до истерики: с одной стороны — старик, напуганный потерей работы, с другой — Лэйк, который все сильнее вгоняет его в ужас, орет, оскорбляет, заставляет съеживаться от страха, играет на своем недовольстве. И все равно непонятно, усвоил Хок Сен этот урок или так и будет дальше хитрить. Андерсон недовольно кривит губы. Если бы с помощью этого старого мерзавца не освобождалось столько времени на более важные дела, его давно стоило бы отправить назад к остальным желтобилетникам.
— Я же говорила — плохое место для фабрики.
— Японцы-то работают.
— У них свои договоренности с дворцом.
— А китайцы из «Чаочжоу»? Тоже спокойно живут.
Люси корчит кислую мину.
— Они тут вон сколько поколений, сами уже почти как тайцы. Если хочешь сравнений, мы больше похожи на желтобилетников, чем чаочжоуские китайцы. Умный фаранг знает, что больших вложений сюда делать нельзя — слишком тут нестабильно. Репрессии или очередной переворот — и ты все потерял.
— Каждый тут играет теми картами, какие получил при раздаче. В любом случае место выбирал Йейтс.
— Я и ему говорила, что глупость сделал.
— Глупцом он не был, а вот идеалистом — точно. — Лэйк припоминает горящий взгляд Йейтса, когда тот вещал о новой глобальной экономике, потом допивает, смотрит по сторонам (хозяина бара нигде не видно), машет официантам, но они даже не смотрят в его сторону — все, кроме одного, который дремлет стоя.
— Не боишься, что тебя отстранят так же, как Йейтса? — спрашивает Люси.
— Отстранение — еще не самое худшее. Проклятая жара. — Он чешет обгорелый нос. — Нам, белым медведям, тут не место.
Смуглые Нгуен и Куаль смеются его шутке, Отто угрюмо кивает: его облупленный нос — верный признак неумения приспособиться к экваториальному солнцу.
Люси достает трубку и смахивает в сторону мух, чтобы расчистить место под курительные принадлежности и пару шариков опиума. Насекомые вперевалку отползают, но, очумев от жары, даже не пытаются взлететь. Снаружи у кладки башенной стены возле насоса с пресной водой играют дети. Люси, наполняя трубку, вздыхает:
— Господи, как бы я хотела вновь стать ребенком.
Все, похоже, утомились даже беседовать. Андерсон поднимает с пола сумку нго, счищает с одного шкурку, выколупывает косточку, бросает лохматую кожуру на стол и отправляет в рот полупрозрачную мякоть.
— Это что у тебя там? — тянет шею Отто.
Лэйк раздает каждому по плоду.
— Точно не знаю. Местные называют его «нго».
Люси откладывает трубку.
— Видела такие — весь рынок забит. Без пузырчатой ржавчины?
— Пока ни одного не встречал. Торговка сказала — не заражены. И свидетельства показала, — начинает Лэйк, а в ответ на циничные смешки добавляет: — Я дал им полежать неделю — и ничего. Они чище ю-текса.
Остальные пробуют фрукт. На лицах — изумление и улыбки. Тогда он выставляет все нго.
— Налетайте. Я уже порядочно съел.
Широко раскрытая сумка быстро пустеет, на столе растет гора шкурок.
— Напоминает личи, — с задумчивым видом произносит Куаль.
— Да? — навостряет уши Андерсон. — Никогда не слышал.
— Неудивительно. Я во время прошлой поездки в Индию пробовал напиток с похожим вкусом. Один торгпред из «ПурКалории» пригласил в ресторан в Калькутте — я тогда только начал раздумывать, а не привезти ли сюда шафран.
— Так ты полагаешь, это лича?
— Личи. Вполне возможно. Так они называли тот напиток. Не знаю только, из фруктов ли он был.
— Если это «ПурКалория» сделала, то непонятно, как он тут очутился. Почему здесь, а не на карантине на Ко Ангрите, пока министерство природы придумывает десять тысяч способов обложить его налогом? — Люси сплевывает косточку на ладонь, швыряет на дорогу, достает еще один плод. — На каждом углу вижу — стало быть, местный. А вот кто может нам подсказать… — Откинувшись на спинку, она кричит в полутьму бара: — Хагг! Ты там? Спишь?
Услышав это имя, остальные вздрагивают и подбираются, как дети при виде строгого родителя. Андерсон, ощутив холодок на затылке, бормочет:
— Зря ты его позвала.
— Думал, он уже умер, — недовольно бросает Отто.
— Избранных пузырчатая ржа не берет. Ты разве не знал?
Все, сдерживая смех, смотрят, как из темноты шаркающей походкой выходит Хагг: алое лицо усыпано капельками пота.
— Здравствуйте. — Он с торжественным видом оглядывает «Фалангу» и кивает Люси. — Значит, по-прежнему ведешь делишки с этими типами?
— А что делать? — Она кивает на стул. — Не стой. Выпей с нами, расскажи какую-нибудь из своих историй.
Пока он пододвигает к ней стул и тяжело опускается, Люси раскуривает опиум.
Андерсон смотрит на крепко сбитую, полную фигуру Хагга и уже не в первый раз думает: как так вышло, что у священников-грэммитов — у каждого из этой породы — непременно свисает живот?
Тот знаком просит подать виски, и, к всеобщему удивлению, сию же секунду перед ним вырастает официант.
— Льда нет.
— И правильно, никакого льда, — решительно мотает головой Хагг. — Зачем тратить впустую эти треклятые калории.
Первый стакан он выпивает залпом и тут же отправляет официанта за вторым.
— Хорошо вернуться в город. В сельской местности начинаешь скучать по удовольствиям цивилизации. — Хагг поднимает тост за здоровье всей компании и осушает стакан одним глотком.
— Далеко ли был? — спрашивает Люси, не выпуская трубку изо рта. Ее мимика постепенно теряет подвижность.
— На старой границе с Мьянмой, у перевала Трех пагод. — Хагг глядит на своих слушателей так, будто это они — виновники грехов, с которыми ему пришлось иметь дело. — Изучал распространение бежевого жучка.
— Я слышал, там небезопасно. Кто джаопор? — спрашивает Отто.
— Некто Чанаронг. С ним было просто — гораздо проще, чем с Навозным царем и мелкими городскими джаопорами. Не всех крестных отцов волнуют лишь прибыль и власть. — Тут Хагг значительно добавляет: — Тем из нас, кто не алчет угля, опиума или нефрита, бояться в королевстве нечего. Так или иначе, Пхра Критипонг пригласил меня посетить его монастырь — понаблюдать, как изменилось поведение бежевого жучка. — Он огорченно мотает головой: — Невообразимое разорение. Леса стоят без единого листика — сплошь одни лианы-кудзу. Верхнего яруса просто нет, всюду сухой бурелом.
— А на переработку пустить его можно? — оживляется Отто.
Люси бросает на него презрительный взгляд:
— Ты идиот? Там жучок. Кто такое купит?
— То есть монастырь позвал в гости грэммита? — спрашивает Андерсон.
— У Пхра Критипонга нет предрассудков насчет того, что учение Иисуса или теория ниш могут как-то угрожать его вере. У буддистов и грэмммитов много общего. Ной и мученик Пхра Себ прекрасно дополняют друг друга.
— Он бы заговорил совсем по-другому, если бы узнал, что делают грэммиты у себя на родине, — сдержав смешок, замечает Андерсон.
— Я никого не призываю жечь поля. Я ученый, — обиженно говорит Хагг.
— Не хотел тебя оскорбить. — Лэйк протягивает ему нго: — Вот — это может быть интересно. Недавно стали продавать на рынке.
— На каком? — Священник разглядывает фрукт изумленно и очень внимательно.
— На всех подряд, — вставляет Люси.
— Появились, пока ты уезжал. Попробуй — на вкус очень ничего.
— Поразительно.
— Знаешь, что это? — спрашивает Отто.
Андерсон делает вид, будто занят нго, но не пропускает ни единого слова. Сам он не стал бы расспрашивать грэммита напрямую, поэтому хочет, чтобы всё сделали за него.
— Куаль решил — это личи, — сообщает Люси. — Разве нет?
— Нет, точно не личи. В старых книгах что-то похожее называлось «рамбутан». — Хагг задумчиво вертит плод в руках. — Хотя, если не ошибаюсь, это родственные виды.
— Рамбутан? — Андерсон старательно изображает непринужденность. — Забавное слово. А тайцы говорят «нго».
Хагг съедает фрукт, вынимает изо рта мокрую от слюны крупную черную косточку и внимательно ее изучает.
— Интересно, он сможет расти и плодоносить?
— Посади в горшок — и узнаешь.
— Если его вывели не компании-калорийщики, то сможет, — резко произносит священник. — Тайцы если взламывают растения, то стерильными их не делают.
— Ну вот уж вряд ли калорийщики занимались тропическими фруктами, — весело замечает Андерсон.
— А как же ананасы?
— Точно, совсем забыл. — Чуть помешкав, он спрашивает: — Откуда ты вообще столько знаешь о фруктах?
— Изучал биосистемы и экологию в Новом алабамском.
— А, тот самый грэммитский университет? Я думал, вас там учили только поля поджигать.
Остальные так и обмирают, разинув рты, но Хагг лишь бросает на Андерсона суровый взгляд.
— Не надо меня поддевать, я не из таких. Наша цель — возродить рай, тут понадобятся знания, накопленные за века. Прежде чем приехать сюда, я целый год только и делал, что изучал экосистемы Юго-Восточной Азии эпохи, которая была перед Свертыванием. — Он тянет руку за еще одним нго. — Вот калорийщики взбеленятся, когда о нем узнают.
Люси тоже берет фрукт.
— А может, забить ими целый корабль да отправить за океан? Поиграем с калорийщиками в их же игру. Могу поспорить, за нго будут выкладывать кругленькие суммы. Как-никак новый вкус. Сможем продавать как роскошь.
— Сначала придется убеждать всех, что в нго нет пузырчатой ржавчины — красная шкурка будет очень настораживать, — мотает головой Отто.
— Не стоит идти таким путем, — согласно кивает Хагг.
— Калорийщики шлют семена и продукты куда вздумается, по всему миру. Если им можно, почему нам нельзя?
— Потому что это противоречит теории ниш, — спокойно отвечает Хагг. — Они уже застолбили за собой место в аду. Вам тоже такое надо?
— Не смеши, пожалуйста, — говорит Андерсон. — Чем тебе не угодил дух предпринимательства? Люси предлагает хорошее дело. Хочешь, на контейнерах будет твое лицо. Он с ухмылкой изображает знак грэммитского благословения. — Напишем, например, «одобрено Святой церковью». Безопасно, как соя-про. Что скажешь?
— Богомерзкая идея, не желаю мараться. Где пища выросла — там ей и место. Нельзя гонять продукты по всему миру ради прибыли. Мы это уже проходили. Чем все кончилось? Катастрофой.
— Снова эта теория ниш. — Андерсон снимает шкурку с очередного нго. — Должна же быть в грэммитской вере ниша и для денег. Кардиналы-то у вас не худенькие.
— Теория истинна, даже если паства сбилась с пути. — Хагг резко встает. — Благодарю за компанию. — Он бросает на Андерсона неодобрительный взгляд, но, прежде чем уйти, прихватывает еще один фрукт.
Все вздыхают с облегчением.
— Господи, Люси, зачем так было делать? — начинает Отто. — У меня от него мороз по коже. Я из «Компакта» ушел, лишь бы грэммиты над душой не стояли, а ты его — к нам за стол.
Куаль угрюмо кивает.
— Еще один, говорят, сейчас в объединенном посольстве.
— Да их кругом, как тараканов, — машет рукой Люси. — Киньте мне фрукт.
Компания продолжает пир. Андерсон глядит на них и думает, подбросят ли ему эти объездившие полмира существа иные идеи о происхождении нго. Впрочем, рамбутан — уже неплохая догадка. Несмотря на плохие вести о водорослевых резервуарах и питательных культурах, день налаживается. Рамбутан. Стоит подсказать это слово исследователям из Де-Мойна, дать направление поискам корней таинственного биологического объекта. В старых записях должны быть упоминания этого фрукта. Надо будет порыться в книгах и…
— Смотрите, кто пришел, — вполголоса говорит Куаль.
Все поворачивают головы и видят, как по лестнице поднимается Ричард Карлайл в безупречно отглаженном льняном костюме. Он входит в тень, снимает шляпу и начинает себя обмахивать.
— Вот черт. Ненавижу его, — бормочет Люси, раскуривает очередную трубку и делает глубокую затяжку.
— Чего он такой довольный? — спрашивает Отто.
— Бес его знает. Будто и не терял целый дирижабль.
Карлайл не спешит выходить из тени, оглядывает посетителей, каждому кивает.
— Жарковато сегодня, — говорит он всем сразу.
Отто, багровея, не сводит с Карлайла испепеляющего взгляда.
— Если бы не его игры в политику, сейчас я был бы богат.
— Не преувеличивай, — успокаивает Андерсон и съедает еще один нго. — Люси, дай ему затянуться, а то устроит дебош, и сэр Френсис выкинет нас всех на солнцепек.
Люси уже плохо соображает, но тянет руку примерно куда попросили. Андерсон перехватывает трубку, отдает Отто, встает и говорит, показывая пустой стакан:
— Кому-нибудь принести выпить?
Все в ответ лишь мотают головой.
К бару с легкой улыбочкой подходит Карлайл.
— Беднягу Отто решили отрубить?
— Опиум у Люси могучий. Не то что драться, он ходить-то вряд ли сейчас сможет.
— Вот адский наркотик.
— …плюс выпивка, — говорит Андерсон, салютуя стаканом, потом заглядывает за стойку. — Где этот чертов сэр Френсис?
— Я думал, ты как раз пришел это выяснить.
— Похоже, нет. Много потерял?
— Потерял.
— В самом деле? А по виду и не скажешь. — Он показывает на Фалангу. — Там пыхтят и ноют — мол, только и делаешь, что лезешь в политику да подлизываешься к Аккарату с министерством торговли. И тут ты — сияешь улыбкой. Просто настоящий таец.
Тот лишь пожимает плечами. Из задней комнаты, элегантно одетый, с аккуратно уложенными волосами, выходит сэр Френсис. Карлайл заказывает виски, Андерсон тоже протягивает свой пустой стакан.
— Льда нет, — говорит сэр Френсис. — Погонщики хотят больше денег за то, что качают насос.
— Ну так заплати.
Хозяин бара берет у Андерсона бокал и мотает головой.
— Когда тебя держат за яйца, а ты споришь, делают еще больнее. К тому же в отличие от вас, фарангов, я не могу подкупить министерство природы и подключиться к угольной электросети. — Он достает бутылку «Кхмера» и наливает идеально выверенную порцию. Андерсон думает, правду ли рассказывают об этом человеке.
Отто, который сейчас несвязно бурчит нечто вроде «кхреновы диришапли», как-то уверял, что сэр Френсис — бывший чаопрайя, высокопоставленный королевский помощник, которого интригами выжили из дворца. Эта версия сулит немалые выгоды, как, впрочем, и остальные: одни говорят, что он некогда служил Навозному царю, другие — что был кхмерским принцем, но бежал из страны после того, как Тайское королевство захватило весь Восток. Все соглашаются в одном: сэр Френсис в свое время занимал высокое положение — иначе как объяснить его презрительное отношение к клиентам.
— Деньги вперед, — говорит он, выставляя стаканы.
— Брось, — смеется Карлайл. — Ты же знаешь, с кредитом у нас полный порядок.
— Вы немало потеряли на якорных площадках, все уже в курсе. Деньги вперед.
Оба принимаются отсчитывать монеты.
— Я думал, у нас хорошие отношения, — вздыхает Андерсон.
— Это политика, — улыбается сэр Френсис. — Сегодня ты здесь, а завтра тебя смыло, как полиэтиленовые пакеты с пляжей, когда закончилась Экспансия. На каждом углу висят печатные листки, которые предлагают сделать капитана Джайди чаопрайей и королевским советником. Если так случится, вам, фарангам… — он изображает выстрел из пистолета, — конец. Радиостанции генерала Прачи величают Джайди героем и тигром, студенческие организации требуют закрыть министерство торговли и передать его дела белым кителям — оно потеряло лицо. Сейчас Торговля без фарангов, как фаранги без блох — одного без другого не бывает.
— Очень любезно.
— От вас и в самом деле пахнет.
— Да от кого ж не пахнет, когда такое пекло, — хмурит брови Карлайл.
Андерсон обрывает их перепалку:
— В министерстве, надо думать, сейчас переполох — так потерять лицо.
Он отхлебывает теплое виски и морщится — до приезда в королевство ему нравился алкоголь комнатной температуры.
Сэр Френсис сбрасывает монеты в кассу одну за другой.
— Министр Аккарат, конечно, вида не подает, но японцы уже хотят компенсаций, а с белых кителей деньги требовать бесполезно. Поэтому Аккарат либо сам заплатит за то, что натворил Бангкокский тигр, либо еще и перед японцами лицо потеряет.
— Думаете, японцы теперь уйдут?
На лице сэра Френсиса возникает презрительная мина.
— Они как компании-калорийщики — все время ищут лазейки в королевство. Никогда не уйдут.
С этими словами он оставляет их и шагает в дальнюю часть бара.
Андерсон достает нго и предлагает Карлайлу. Тот берет фрукт и внимательно его разглядывает.
— Это еще что за дрянь?
— Нго.
— На таракана похож. — Его передергивает. — Ах ты, поганец экспериментатор. Знаешь что — забери-ка его назад. — Он отдает плод и тщательно вытирает руки о штаны.
— Страшно? — подначивает Андерсон.
— Моя жена тоже любила есть все новое. С ума сходила по незнакомым вкусам. Удержать себя не могла, чтобы не попробовать неизвестную пищу. Посмотрю я, как ты через неделю будешь кровью харкать.
Они садятся на барные стулья и смотрят, как за пеленой раскаленного пыльного воздуха белеет отель «Виктория». Ниже у развалин высотки женщина стирает что-то в тазу, рядом моется вторая — тщательно натирает себя под саронгом, мокрая ткань липнет к телу. В грязи играют голые дети — скачут по последним островкам столетнего асфальта времен Экспансии. В дальнем конце улицы встает дамба, которая сдерживает океанскую мощь.
— Много потерял? — наконец спрашивает Карлайл.
— Достаточно. Весьма признателен.
Карлайл не обращает внимания на упрек, допивает и просит сэра Френсиса повторить.
— Льда нет совсем или дело в том, что нас, по-твоему, завтра уже не будет?
— Вот завтра меня и спросите.
— А если приду, лед найдется?
Хозяин бара ухмыляется.
— Зависит от того, сколько ты платишь погонщикам мулов и мегадонтов за разгрузку. Все только и говорят о том, как разбогатеют, сжигая калории ради фарангов. Вот потому у сэра Френсиса и нет льда.
— Не будет нас — останешься без клиентов, и даже горы льда не помогут.
— Как скажете, — пожимает плечами сэр Френсис и уходит.
Карлайл сердито глядит ему вслед.
— Профсоюзы погонщиков, белые кители, сэр Френсис… Куда ни поверни, везде стоят с протянутой рукой.
— Особенности бизнеса. И все-таки ты, когда пришел, сиял так, будто вообще ничего не потерял.
Карлайл поднимает стакан с виски.
— Да просто приятно было на вас посмотреть. Сидели тут на террасе с таким видом, словно у каждого от цибискоза сдохла любимая собака. Пусть убытки, зато никто не упек нас в душегубку в Клонг Прем. Нет причины не радоваться. — Он наклоняет голову поближе. — Это еще не конец истории. О нет! У Аккарата в рукаве припрятана пара тузов.
— Будешь давить на белых кителей — жди отпора, они такие, — предупреждает Андерсон. — Вы с Аккаратом наделали много шума своими идеями насчет изменения пошлин и налогов на загрязнение. И даже на пружинщиков. А теперь я от своего помощника слышу то же, что и от сэра Френсиса: газеты называют нашего друга Джайди Тигром королевы, хвалу ему поют.
— От какого помощника? От того паучищи, параноика-желтобилетника, которого ты допускаешь к себе в офис? — Карлайл смеется. — Вот все вы такие — мыслите Свертыванием, сидите, брюзжите, воображаете, а я меняю правила игры.
— Не я потерял дирижабль.
— Особенности бизнеса.
— Пятая часть флота — многовато, чтобы списывать на особенности.
Карлайл недовольно кривит губы, склоняет голову еще ближе к Андерсону и тихо говорит:
— Послушай. Этот налет — не то, чем кажется на первый взгляд. Кое-кто ждал, когда белые кители зайдут слишком далеко. — Он делает паузу, давая собеседнику время переварить его слова. — Кое-кто из нас даже немного поспособствовал. Я только что лично беседовал с Аккаратом, и будь уверен — вся ситуация вот-вот начнет играть нам на руку.
Андерсон уже готов рассмеяться, но Карлайл предостерегающе поднимает палец.
— Давай, хохочи. Но еще до того, как я закончу это дело, ты в задницу будешь меня целовать, благодарить за новые пошлины, и все мы станем подсчитывать прибыль от компенсаций.
— Белые кители не платят. Никогда. Сожгли они ферму или конфисковали груз — просто не платят.
Карлайл пожимает плечами и внимательно смотрит куда-то в сторону залитой солнцем террасы.
— Муссоны идут.
— Вряд ли. — Андерсон скептически оглядывает раскаленные добела окрестности. — Они и так опаздывают уже на два месяца.
— О, тут будь спокоен — придут. Если не в этом месяце, то в следующем.
— И?..
— Министерство природы заказало новое оборудование взамен старого. Для насосов на плотине. Оборудование жизненно важное. Для всех семи насосов. — Он многозначительно умолкает. — А теперь угадай, где оно.
— Открой же мне эту тайну.
— На том берегу Индийского океана. — На лице Карлайла внезапно вспыхивает хищная акулья улыбка. — В Калькутте. В одном ангаре, которым — так уж вышло — владею я.
У Андерсона перехватывает дыхание. Он быстро смотрит по сторонам — нет ли кого поблизости.
— Ах ты, идиот поганый. Ты это всерьез?
Теперь становятся понятны и дерзость, и самоуверенность Карлайла. Он, как лихой пират, всегда лез в рискованные предприятия. Правда, разобраться, когда говорит правду, а когда хвастает, непросто: например, скажет, что шепчется с Аккаратом, а на самом деле только беседует с его секретарями. Обычно все это — болтовня. Но теперь…
На лице Карлайла гуляет нехорошая улыбка. Андерсон уже раскрывает рот и тут же с досадой отводит взгляд, заметив сэра Френсиса. Тот ставит перед ним новую порцию виски. Как только хозяин бара уходит, Андерсон, у которого желание выпить начисто пропало, склоняется к Карлайлу и спрашивает:
— Хочешь взять город в заложники?
— Белые кители, похоже, забыли, что им не обойтись без иностранцев. Сейчас — самый разгар новой Экспансии, все переплетено, будто нити в паутине, а они мыслят как какое-нибудь министерство времен Свертывания — слишком долго не замечают своей зависимости от фарангов. Белые кители — пешки. Не понимают, кто ими управляет, не видят, что им нас не остановить.
Он залпом выпивает виски, морщится и со стуком опускает бокал.
— Этому мерзавцу Джайди цветы надо отправить — идеально сработал. Представь — половина угольных насосов города вдруг перестает работать… Ведь есть своя прелесть в этих тайцах — очень чуткий народ. Даже запугивать не надо — все сами поймут и все сделают как надо.
— Рисково.
— А что не рисково? — Карлайл подбадривает Андерсона циничной улыбкой. — Может, умрем завтра от новой версии пузырчатой ржи, может, станем самыми богатыми людьми в королевстве. Это игра. Тайцы всегда идут ва-банк. Значит, и мы так должны.
— Вот приставлю к твоей голове пружинный пистолет да обменяю ее на насосы.
— Браво! Настоящий боевой дух! — хохочет Карлайл. — Мыслишь, как истинный таец. Только тут я тоже подстраховался.
— И кто страхует? Министерство торговли? Брось, у Аккарата силенок не хватит тебя защитить.
— Бери выше. На его стороне генералы.
— Да ты пьян. Друзья генерала Прачи руководят всеми подразделениями. Он не раздавил Аккарата, а белые кители до сих пор не правят страной только потому, что в прошлый раз за министра вступился прежний король.
— Времена уже не те. Людей очень злят и белые кители, и взятки Прачи. Народ хочет перемен.
— На революцию намекаешь?
— Какая ж это революция, если ее хочет дворец? — Карлайл сам берет из бара бутылку виски, переворачивает кверху дном, наливает себе остатки — всего полпорции — и, вопросительно глядя на Андерсона, замечает: — Вижу, заинтересовался. — Потом показывает на его бокал. — Допивать будешь?
— Насколько все серьезно?
— Хочешь поучаствовать?
— А почему предлагаешь?
— Если очень интересно… — Карлайл пожимает плечами. — Когда Йейтс запустил завод, то профсоюзу мегадонтов за джоули стал платить втройне и вообще сорил деньгами. Трудно было не заметить такое щедрое финансирование.
Он кивает на прежнюю компанию эмигрантов, которые вяло поигрывают в покер и ждут, когда спадет жара, чтобы пойти по делам, по шлюхам или дальше коротать день в безделье.
— Все остальные — дети, малышня во взрослой одежде, а ты — не такой.
— Думаешь, мы богаты?
— Брось этот спектакль. Не забывай — твой груз летел на моих дирижаблях. — Карлайл смотрит многозначительно. — Я видел, откуда он пришел в Калькутту.
— Ну и что? — Андерсон изображает полную невозмутимость.
— Поразительно много вещей из Де-Мойна.
— Видишь во мне ценного партнера потому, что мои инвесторы — со Среднего Запада? Разве у остальных они живут в бедных странах? А вдруг это богатая вдова решила поэкспериментировать с пружинами? Ты придаешь слишком много значения мелочам.
— Неужели? — Карлайл обводит взглядом бар и придвигается поближе. — А люди-то о тебе говорят.
— Правда?
— Болтают — любознателен до семян. — Он многозначительно смотрит на лежащую между ними кожуру нго. — Все мы теперь немного следим за генными делами, но только ты платишь за информацию, только ты задаешь вопросы о белых кителях и генхакерах.
— Разговаривал с Райли, — холодно улыбнувшись, замечает Андерсон.
Карлайл кивает.
— Если тебя это утешит, беседа далась непросто. Он не хотел о тебе рассказывать. Совсем не хотел.
— Райли стоило бы сначала три раза подумать.
— Без меня ему не достать омолаживающих препаратов. У нас свои поставщики в Японии. Ты же не предлагал старику десять лет легкой жизни.
— Все ясно, — вымучивает улыбку Андерсон, хотя сам кипит от злости. Теперь надо разбираться с Райли, а возможно, и с Карлайлом. Он раздраженно смотрит на нго. Размяк. Всех — даже грэммитов — буквально носом ткнул в предмет своего интереса. Как же легко дать слабину и раскрыть себя больше, чем следует. А потом однажды в баре получить вот такую оплеуху.
— Много не прошу — только кое с кем переговорить, кое-что обсудить. — Карлайл замолкает, его карие глаза ловят на лице собеседника хоть малейший намек на согласие. — Мне все равно, на какую компанию ты работаешь. Если я верно понял твой интерес, то наши цели довольно близки.
Андерсон задумчиво постукивает пальцами по барной стойке. Если Карлайл вдруг исчезнет, кто-нибудь обратит внимание? Можно будет свалить все на излишнее рвение белых кителей…
— Думаешь, тебе подвернулась удачная возможность? — спрашивает он.
— Тайцы постоянно меняют правительство силой. На этом месте не было бы «Виктории», если бы во время переворота двенадцатого декабря премьер-министр Суравонг не лишился головы и своего дворца. Местная история — сплошь смена власти.
— Меня немного беспокоит, что ты обсуждаешь планы с кем-то еще. И видимо, много с кем.
— Да с кем тут обсуждать? — Карлайл кивает на «Фалангу фарангов». — Эти — пустое место, о них даже мысли не возникало. А вот твоя команда… — Он ненадолго замолкает, подбирая нужные слова, потом, чуть подавшись вперед, продолжает: — У Аккарата есть опыт в таких делах. Белые кители заработали себе много врагов, и не только среди фарангов. Нашему замыслу нужен лишь толчок. — Карлайл отпивает виски, оценивающе причмокивает и опускает стакан. — В случае успеха последствия будут весьма благоприятными. — Он смотрит Андерсону прямо в глаза. — Весьма благоприятными и для тебя, и для твоих друзей из «Мидвеста».
— А твоя-то выгода в чем?
— В торговле, само собой. Если тайцы выйдут из этой своей бессмысленной глухой обороны, моя компания станет расти, я устрою хороший бизнес. Сомневаюсь, что твоим нравится бестолково сидеть на Ко Ангрите и вымаливать возможность продать королевству пару тонн ю-текса или сои-про в неурожайный год. Вместо жизни в вечном карантине вы получите свободную торговлю. Разве это не интересно? И мне прибыль.
Андерсон смотрит на Карлайла и думает, насколько тому можно доверять. Уже два года, как они вместе выпивают, время от времени ходят в бордели, безо всяких бумаг заключают договоры о перевозке грузов, но при этом о Карлайле ему почти ничего не известно. От тоненького досье в головном офисе тоже мало толка.
Он глубоко задумывается. Где-то здесь ждет банк семян, а с послушным правительством…
— Кто из генералов на твоей стороне?
Карлайл хохочет в ответ:
— Расскажу — и ты подумаешь, что я идиот, который не умеет хранить секреты.
Болтун, решает Андерсон. Теперь надо его устранить — быстро, без шума, пока все прикрытие не пошло прахом.
— Любопытное предложение. Думаю, нам не помешает еще раз встретиться и обсудить общие цели.
Тот уже открывает рот, затем, внимательно взглянув на собеседника, передумывает и весело мотает головой:
— Э нет. Ты мне не веришь. Что же, понимаю. Тогда подожди немного. Ближайшие два дня очень тебя удивят. А там поговорим. — Внимательно посмотрев на Андерсона, он прибавляет: — Место встречи я выберу сам. — И допивает виски.
— Чего ждать? Что может измениться за два дня?
Карлайл водружает шляпу на голову и, улыбнувшись, отвечает:
— Всё, дорогой мой фаранг. Всё.
9
Эмико открывает глаза и потягивается. Стоит послеполуденный зной. В ее раскаленной как печь каморке почти невозможно дышать.
Есть на свете место для пружинщиков. Эта неотвязная мысль заставляет жить дальше.
Эмико кладет ладонь на везеролловские доски, отделяющие ее нишу для сна от точно такой же сверху, гладит спилы сучков, вспоминает, когда в последний раз чувствовала похожую радость, думает о Японии, о роскоши, завещанной ей Гендо-самой: о квартире с системой климат-контроля, которая во влажные летние дни гоняет по комнатам прохладный ветерок, о светящихся рыбках-данганах, которые переливались и меняли цвет, как хамелеоны, но только от скорости — медленные сверкали голубым, быстрые — красным. Ей нравилось постукивать по аквариуму и глядеть на алые вспышки в темной воде — на блеск лучших созданий из рода пружинщиков.
Эмико тоже когда-то блистала. Сделанная на совесть и прекрасно обученная, она могла составить компанию в постели, быть секретарем, переводчиком, парой внимательных глаз и выполняла волю хозяина так безупречно, что тот берег ее, как некую священную птицу, и выпускал на волю к чистым небесам. Он уважал девушку безмерно.
На нее смотрят похожие на глаза спилы сучков — единственное украшение перегородки, которая разве только не дает мусору из верхней клетушки завалить ее нишу. Тошнотворный смрад льняного масла, которым пропитано дерево, заполняет пышущую жаром каморку. В Японии такие материалы использовать в жилищах не разрешалось, но тут, в трущобах, всем на это плевать.
Легкие жжет, Эмико дышит часто и неглубоко, слушает, как храпят и сопят тела в соседних отсеках. Сверху — тишина. Пуэнтая, похоже, нет, иначе бы он давно ее избил или трахнул — редкий день проходит без издевательств. Может, сосед умер — в прошлый раз наросты фагана на его шее были уже довольно большими.
Извиваясь, она выскальзывает из ниши, встает в полный рост в крохотном пространстве возле двери, снова потягивается, выуживает до хрупкости истертую, пожелтевшую от времени пластиковую бутылку, судорожными глотками пьет горячую, как кровь, воду и мечтает о нескольких кубиках льда.
Два пролета вверх, разбитая дверь на крышу — и Эмико ныряет в горячие потоки солнечного света. Пекло невыносимое, но все равно здесь прохладнее, чем в клетушке.
Морской ветер шелестит развешенными кругом пасинами и брюками. Закатные лучи играют на шпилях чеди и храмов-ватов, сверкает вода клонгов и Чао-Прайи, по зеркально-красной глади скользят пружинные плоскодонки и парусные тримараны.
Север тонет в желтоватой дымке навозных костров и мареве влажного воздуха. Где-то там, если верить бледному изукрашенному шрамами фарангу, живут пружинщики. Где-то там, по ту сторону войны за уголь, нефрит и опиум, девушку ждет ее родное потерянное племя. Она никогда не считалась японкой — только пружинщицей. Теперь ей надо найти дорогу к своему настоящему клану.
Эмико некоторое время жадно глядит на север, потом идет к ведру, которое приготовила прошлой ночью. Воды на верхних этажах нет — в трубах слишком слабый напор, а идти к общественным насосам девушка не рискует, поэтому каждую ночь лезет на крышу с полным ведром и оставляет его там до вечера.
Эмико моется совершенно одна под открытым небом в компании заходящего солнца. Настоящий ритуал очищения — водой и кусочком мыла. Сидя на корточках, она черпает теплую влагу. Детально продуманное действо, где каждое движение отточено, как в танце дзё-но-май, которым в театре но начинают пьесы. Церемониал бедняков.
Первый ковш — на голову. Вода течет по лицу, сбегает по груди, туловищу, бедрам и уходит в горячий бетон. Второй — намокают волосы, струйки льются по спине, обтекают ягодицы. Третий — капельки ртутью скользят по коже. Затем она намыливает себя с ног до головы, оттирает грязь и обиды прошлой ночи до тех пор, пока все тело не исчезает под бледным нарядом пены. И снова ведро и ковшик — Эмико обливает себя так же осторожно, как в самом начале.
Вода смывает грязь, мыло и даже отчасти стыд, хотя и за тысячу лет ей не вернуть прежней чистоты; но девушка слишком утомлена и к тому же давно свыклась с несмываемыми следами. Пот, алкоголь, липкую соль семени и разврата — их еще можно оттереть, и этого ей довольно, а на большее не хватает сил. Жар и усталость — вечные жар и усталость.
Закончив мыться, Эмико радостно замечает, что осталось еще немного воды. Она зачерпывает полный ковш и жадно пьет, а потом в порыве безрассудной расточительности поднимает ведро кверху дном и, ликуя, выливает все на себя. На мгновение, когда вода уже коснулась кожи, но еще не успела обрушиться на пол, Эмико ощущает себя чистой.
Выйдя на улицу, она спешит спрятаться в потоке прохожих. Сенсей Мидзуми учила особой походке, которая подчеркивает красоту дерганых движений. Однако девушка осторожничает, не дает волю ни выучке, ни естеству. Если шагать в пасине и не размахивать руками, никто даже не обратит внимания.
На тротуарах возле ножных швейных машин сидят женщины и ждут вечернего наплыва клиентов. Продавцы закусок выкладывают остатки товара аккуратными кучками, готовясь встретить последнюю волну покупателей. Владельцы забегаловок, которые обслуживают ночной рынок, выставляют на улицы бамбуковые табуретки и столики — совершают ритуал, обозначающий конец дня и возвращение тропического города к жизни.
Эмико заставляет себя не глазеть по сторонам, хотя давно не выбиралась на рискованные дневные прогулки. Райли, раздобыв девушке место в ночлежке, строго наказал: выходить только в темное время суток, сторониться освещенных мест и не сворачивать с дороги — только из дома в клуб и так же обратно, отклонения грозят гибелью. Постоянно держать ее в Плоенчите он не мог — даже на проституток, сутенеров и наркоманов там имелись квоты, — поэтому поселил в трущобах, где и взятки были не так велики, и жильцы не столь придирчивы к соседству зловонных свалок.
Она шагает в плотном потоке пешеходов и чувствует, как по спине бежит неприятный холодок. Днем людям не до странных существ вроде нее, все слишком заняты своими заботами и не замечают странности чьих-то движений. А вот ночью, в неверном зеленоватом свете газовых фонарей, внимательных глаз меньше, но они ничем не заняты, затуманены ябой или лао-лао и выискивают, кем бы заняться.
Торговка, которая продает одобренную министерством природы соломку из папайи, бросает на девушку подозрительный взгляд. Эмико, стараясь не паниковать, шагает своей обычной неестественной походкой дальше и убеждает себя, что скорее похожа на экстравагантного человека, чем на результат генетического преступления. Ее сердце гулко стучит.
«Не спеши. Иди медленнее. Время есть — не так много, как хотелось бы, но задать несколько вопросов успеешь. Спокойствие. Терпение. Не выдай себя. Не перегрейся».
Вспотели ладони — единственная часть тела, которой бывает прохладно, поэтому она растопыривает пальцы наподобие веера — так немного легче, — потом подходит к общественной колонке, плещет на себя водой, жадно пьет и радуется, что бактерии и паразиты Новым людям почти не страшны: их тела — неподходящая среда. Хоть какая-то польза.
Обычный человек просто купил бы на вокзале Хуалампонг билет на пружинный поезд, доехал до самых пустошей Чиангмая[96], а там — пешком в глушь. Но Эмико придется хитрить — дороги патрулируют, каждая ведущая на северо-восток и к Меконгу тропинка от столицы до фронта кишит военными. Новые люди привлекают внимание, тем более что их боевые модификации служат во вьетнамской армии.
Впрочем, есть другой путь. Еще служа у Гендо-самы, она узнала: в королевстве грузы часто перевозят по реке.
Эмико сворачивает на Тханон Монгкут к докам и плотине, но тут же встает как вкопанная: белые кители. Вжавшись в стену, она замирает — не шевелясь вполне сойдет за человека. Даже не взглянув, эти двое проходят мимо, и у нее тут же возникает большое желание удрать назад в башню — там все кители подкуплены, а вот местные… Подумать страшно.
Наконец она подходит к новенькому кварталу гайдзинских складов и фабрик, взбирается на дамбу и смотрит на океан. Кругом кипит работа: докеры и кули разгружают парусники, махуты ставят в одну упряжку по несколько мегадонтов, те везут платформы товаров из трюмов на сушу, а оттуда в огромные фургоны на резиновых колесах, которые переправят все в пакгаузы. Воспоминания о прошлой жизни так и мозолят ей глаза.
На горизонте грязным пятном проступает карантинный Ко Ангрит, где среди залежей калорий гайдзины — продавцы и управляющие сельхозкомпаниями — сидят и терпеливо ждут неурожая или эпидемии мора — тогда они смогут сломать торговые барьеры королевства. Гендо-сама как-то возил ее на этот плавучий остров, построенный из бамбуковых плотов. Эмико помнит, как стояла на плавно качавшихся платформах среди складов и переводила его речь, пока он уверенно перепродавал авансом иностранцам мореходные технологии, которые ускорят перевозку патентованной сои-про.
Вздохнув, девушка проныривает под увешанными тряпочками сайсинами — священные веревки бегут вдоль всей дамбы и исчезают вдали. По утрам монахи — каждый раз из нового храма — благословляют нити, которые добавляют материальной преграде, сдерживающей напор жадного моря, крепости духовного свойства.
Прежде, когда добытые Гендо-самой бумаги позволяли ей безнаказанно гулять по всему городу, она ходила на ежегодную церемонию освящения плотины, насосов и соединяющего их сайсина. С первыми каплями муссонных дождей ее досточтимое величество Дитя-королева тянула рычаг, и божественные угольные помпы, взревев, оживали. Эмико разглядывала эту девочку, чья тонкая фигурка таяла на фоне огромных машин, созданных ее предками. Потом ко всем двенадцати насосам, расставленным вокруг города, монахи, напевая, тянули новый сайсин — из храма Священного столпа, из самой души Крунг Тхепа. А в конце все молились за долголетие своего хрупкого обиталища.
Сейчас сухой сезон, и нити пообтрепались, а помпы по большей части замолкли. Плавучие доки, баржи, плоскодонки мягко покачиваются на алой закатной воде.
Эмико идет вниз, в самую суету, разглядывает лица, выбирает кого-нибудь подобрей, потом, не желая себя выдать, замирает и, наконец решившись, спрашивает одного из рабочих:
— Катхор кха. Скажите, пожалуйста, кун, где можно купить билеты на паром? На север.
Тот — весь в пыли и поту — уточняет, дружелюбно улыбнувшись:
— Далеко на север-то?
Не зная, близко ли этот город от того места, о котором рассказывал гайдзин, она говорит наугад:
— До Пхитсанулока.
— У-у… Туда ничего не ходит. Даже за Аютию сейчас редко поднимаются — вода низко. Некоторые дальше тянут лодки мулами, вот и все, пожалуй. Ну, разве еще пара пружинных плоскодонок. Война тем более… Если надо на север — дороги пока сухие.
Скрывая разочарование, Эмико благодарит рабочего осторожным кивком.
По воде не выйдет. Либо посуху, либо никак. На реке еще получилось бы себя остудить, а вот на земле… Она представляет долгий путь под обжигающим тропическим солнцем. Может, стоит подождать сезона дождей. Придет муссон — станет прохладнее, поднимется вода.
Эмико шагает обратно через плотину, через трущобы, где живут семьи докеров и моряки, которые прошли карантин и получили увольнительную на берег.
Значит, по земле. Даже мечтать о бегстве было глупо. Если бы удалось сесть в пружинный поезд… но и тут нужны особые разрешения — десятки, чтобы просто войти в вагон. С другой стороны, можно всучить взятку или пролезть незаметно… Какая разница — все дороги ведут к Райли. Придется с ним поговорить, поумолять этого старого ворона о том, что ему совсем не интересно.
Когда она проходит мимо человека с татуировкой дракона на животе и мяча для такро[97] на плече, тот таращит глаза и произносит:
— Дергунчик…
Эмико не сбавляет шаг и не поворачивает голову, но ей страшно.
— Дергунчик, — говорит незнакомец еще раз и идет за девушкой.
Оглянувшись, она видит явно недоброе лицо и с ужасом замечает, что у человека нет руки. Тот тычет ей обрубком в плечо, Эмико отпрыгивает и выдает себя рваным движением. Незнакомец ухмыляется и выставляет напоказ черные от бетеля зубы.
Она сворачивает в сой, надеясь, что о ней быстро забудут.
— Дергунчик!
Девушка ныряет в извилистый проулок и ускоряет шаг. Ладони потеют, тело нагревается, она дышит часто, избавляясь от излишков тепла. Однорукий не отстает — ничего больше не говорит, но шаги уже близко. Еще поворот — из-под ног в разные стороны прыскают переливчатые чеширы. Если бы и она так могла — стать одного цвета со стеной, и пусть этот человек пробежит мимо.
— Эй, пружинщица, ты куда? Я только посмотреть хочу.
Служи Эмико до сих пор у Гендо-самы, не стала бы убегать, а заговорила смело, зная, что защищена консульскими документами с печатью «импорт» и разрешением от владельца, пригрозила бы именем хозяина. Пусть была тогда чьей-то вещью, зато охраняемой. Могла даже пойти в полицию или к белым кителям. Паспорт и нужные штемпели делали ее не преступлением против природы и теории ниш, а дорогой игрушкой.
Проулок вот-вот выведет на большую улицу с гайдзинскими складами и торговыми офисами, но однорукий успевает схватить Эмико за руку. Ей жарко еще и от страха. Она с надеждой смотрит наружу, но видит только лачуги, полотнища ткани и нескольких иностранцев, которые ничем не помогут: грэммиты — последние, кого она хотела бы видеть.
Незнакомец тянет девушку назад.
— И куда это пружинщица собралась?
Его глаза злобно поблескивают. Он что-то жует. Это яба, палочка амфетамина. Кули едят такие, когда хотят работать дольше, а для этого сжигают калории, которых у них нет. Однорукий хватает Эмико за запястье и тащит от большой улицы — подальше от посторонних глаз. Бежать девушка не может — перегрелась. Да и некуда.
— Встань к стене. Не так. — Он толкает ее. — Не смотри на меня.
— Прошу вас…
В здоровой руке незнакомца блестит нож.
— Заткнись. Стой смирно.
Вопреки всем прочим инстинктам она повинуется командному голосу и шепчет:
— Пожалуйста, отпустите.
— Я сражался с такими, как ты. Там, в джунглях, на севере. Этих пружинщиков было полно — сплошь солдаты-дергунчики.
— Я не такая модель, не военная.
— Такая же, японская. Я из-за вас руку потерял. И кучу друзей. — Он тычет обрубком ей в щеку, потом обхватывает за шею, разворачивает, жарко дышит в затылок, прикладывает нож к яремной вене и делает небольшой надрез.
— Пожалуйста, отпустите. Я сделаю все, что скажете. — Эмико прижимается к его промежности.
— Думаешь, стану марать себя? — Он больно ударяет ее о стену, девушка вскрикивает. — Испачкаюсь об тебя, животное? — Потом, подумав, говорит: — Вставай на колени.
На большой улице рикши стучат колесами о мостовую, люди громко спрашивают, почем пеньковый канат или когда начало матча по муай-тай на Лумпини. Однорукий снова обхватывает шею Эмико и кончиком ножа нащупывает вену.
— Все мои друзья погибли в джунглях. И все — из-за вас, японских пружинщиков.
Она негромко повторяет:
— Я не такая.
— Ну конечно, не такая! — хохочет однорукий. — Тоже тварь, но другая. Новый демон — как те, которых держат на верфях за рекой. Наш народ голодает, а вы крадете весь рис.
Нож плотно приставлен к горлу. Убьет. Точно убьет. Он — сгусток ненависти, она — кучка отбросов. Он зол, опьянен наркотиком и опасен, она — беззащитна. Тут не помог бы даже Гендо-сама.
Лезвие вжимается в гортань.
«Вот так и умрешь? Тебя для этого создали — истечь кровью, как свинья на бойне?»
В ней вспыхивает противоядие отчаянию — ярость.
«Даже не попробуешь спастись? Это ученые сделали тебя такой дурой, что и мысли не возникнет вступить в драку за свою жизнь?»
Эмико закрывает глаза, молится бодхисаттве Мидзуко Дзидзо[98], а потом, для верности, духу чеширов бакэнэко[99], делает глубокий вдох и что есть силы бьет по ножу. Лезвие оставляет на шее жгучий надрез.
— Араи ва?! — вопит однорукий.
Девушка отталкивает его, подныривает под занесенным ножом и, не оглядываясь, бежит к выходу из проулка. Человек хрипит и тяжело падает на землю. Она выскакивает на большую улицу, не думая о том, что выдаст себя или перегреется и погибнет. Главное — уйти подальше от этого демона, перегореть, но не сдохнуть, как безвольное животное.
Вперед — мимо гор фруктов, через бухты веревок. Самоубийственное и бесполезное бегство, но она ничего не может с собой поделать. Эмико толкает гайдзина, который торгуется за мешок местного ю-тексовского риса, тот отскакивает и возмущенно вопит.
Все вокруг будто замедлилось — прохожие не идут, а ползут. Она ловко проскакивает под бамбуковыми строительными лесами. Бежать до странного легко. Люди шагают так, словно увязли в меду. Эмико смотрит назад: ее преследователь сильно отстал. Удивительно, как вообще можно было его бояться. Глядя на этот заторможенный мир, она начинает хохотать…
…и налетает на строителя. Оба падают на землю.
— Араи ва! Смотри, куда идешь! — кричит рабочий.
Девушка с трудом встает на колени, чувствует, как онемели от ссадин ладони, и хочет бежать дальше, но все перед ней вдруг делается шатким и туманным. Она оседает, потом, как пьяная, поднимает себя снова и ощущает внутри страшный жар. Земля уходит из-под ног, но Эмико стоит, держась за выжженную солнцем стену, и слушает ругань строителя — яростную и бессмысленную. Наваливается раскаленный мрак. Она начинает перегорать.
В толпе среди велосипедов и запряженных мулами телег мелькает лицо гайдзина. Девушка мотает головой, разгоняя тьму, делает неуверенный шаг вперед (уже сходит с ума или так над ней шутит бакэнэко?), хватает строителя за плечо, и, не замечая, как тот вскрикивает и вырывается, рыщет глазами, хочет убедить себя, что это была лишь галлюцинация, рожденная ее закипающим мозгом.
И снова гайдзин — тот самый, со шрамом, весь бледный, который тогда у Райли посоветовал ей идти на север. Рикша возникает на мгновение и тут же исчезает за спиной мегадонта. И опять он — теперь на другой стороне улицы, смотрит прямо на Эмико. Тот самый.
— Держи! Не пускай дергунчика!
Однорукий размахивает ножом и лезет через леса, но до чего же медленно — медленнее, чем можно было представить. Девушка ломает голову: может, он с войны такой пришел? Но нет — шагает ровно, не хромает. Просто все замедлилось — люди, повозки — и стало странным, неторопливым, почти нереальным.
Эмико позволяет рабочему тащить ее за собой и продолжает разглядывать толпу — а вдруг привиделось?
Вон там! Гайдзин! Она вырывается, резко выскакивает на улицу, собрав силы на последний рывок, проскакивает под мегадонтом, едва не налетает на огромную ногу, потом, очутившись на другой стороне, бежит за рикшей и, словно нищенка, тянет к гайдзину руки.
Тот смотрит холодно, совершенно бесстрастно. У Эмико отказывают ноги, она хватается за повозку, хотя понимает: ее, жалкую пружинщицу, сейчас же отпихнут. Глупо было даже мечтать о том, что бледный иностранец разглядит в ней такого же человека, женщину, а не груду биохлама.
Внезапно гайдзин хватает девушку за руку, тащит к себе в рикшу, а тайцу за рулем кричит ехать быстрее — сразу на трех языках.
— Ган куи чи че, куай куай куай!
Тут на повозку, которая медленно набирает ход, бросается однорукий и с размаху бьет Эмико ножом в плечо. Она отстраненно наблюдает за тем, как брызжет на сиденье кровь, как замирают в солнечных лучах рубиновые капельки. Опять взлетает нож. Ей бы поднять руку, защитить себя, вступить в схватку, но сил уже нет — от утомления и перегрева она едва может пошевелиться.
Нападающий кричит и бьет снова. Нож парит вниз — неторопливо, словно сквозь застывший на холоде мед — медленно и очень далеко. Лезвие вспарывает плоть. Усталость. Горячий туман. Сознание тает. Еще удар.
Внезапно между ними возникает гайдзин с блестящим пружинным пистолетом наперевес. Она чуть удивленно замечает, что этот человек носит оружие, но его схватку с наркоманом воспринимает как что-то совсем незначительное, отстраненное… тонущее во тьме. Жар поглощает Эмико целиком.
10
Пружинщица никак не защищается — только вскрикивает с каждым новым ударом и чуть заметно вздрагивает.
— Баи! Куай куай куай! — командует Андерсон возчику Лао Гу и отпихивает бандита. Рикша прибавляет ход. Однорукий неловко тычет в него ножом и снова с размаху бьет девушку. Она уже никак не реагирует. Брызжет кровь. Андерсон выхватывает из-под одежды пистолет и наставляет в лицо нападающему. Тот ахает, спрыгивает с повозки, бежит прочь и, пока вслед за ним поворачивают дуло и думают, всадить или нет диск в голову, скрывается за телегой, которую тянет мегадонт.
— Вот черт! — Андерсон вертит головой — в самом ли деле нападавший отстал, — потом говорит притихшей на сиденье девушке: — Все, ты в безопасности.
Та лежит неподвижно, с закрытыми глазами, часто дышит. Торчат куски распоротой одежды. Когда он прикладывает ладонь к ее раскрасневшемуся лбу — кожа так и пылает, — девушка вздрагивает, чуть приоткрывает веки, смотрит потухшим взглядом и шепчет:
— Помогите.
Она умирает. Плохо продуманное тело после пробежки сгорает изнутри. Разве можно было делать живое существо таким ущербным? Андерсон разрывает на ней верхнюю одежду, давая доступ воздуху, и кричит Лао Гу через плечо:
— Гони к дамбе! — Заметив непонимающий взгляд, он машет рукой в сторону плотины: — Шуи! К воде! Нам! К океану, чтоб тебя! Быстро! Куай куай куай!
Лао Гу судорожно кивает, привстает на педалях и ведет рикшу сквозь плотный поток — разгоняет криками людей, осыпает проклятиями лезущих под колеса пешеходов и запряженных в повозки животных. Андерсон обмахивает девушку шляпой.
У дамбы он взваливает ее на плечо и несет вверх по криво сложенной лестнице мимо каменных хранителей-нагов[100], чьи длинные тела вьются вдоль ступеней, а лица глядят бесстрастно. Пот заливает глаза, раскаленное тело пружинщицы обжигает кожу.
На вершине алое солнце, омывающее далекие силуэты затонувшего Тонбури, бьет прямо в лицо, горячие лучи жалят не меньше, чем неподвижная ноша. Подойдя к краю набережной, Андерсон швыряет девушку в море. Его самого окатывает солеными брызгами.
Она камнем уходит вниз. «Идиот. Вот идиот!» Андерсон тут же прыгает следом, хватает обмякшую руку, тянет на воздух и, стараясь больше не выпускать, держит лицо пружинщицы над волнами. Кожа девушки по-прежнему пышет жаром — кажется, вода вокруг вот-вот закипит. Черные волосы сетью разметались по поверхности, тело висит безвольно.
Рядом топчется Лао Гу. Андерсон подзывает его поближе:
— На-ка, держи.
Тот мешкает.
— Да держи, чтоб тебя. Жуа та.
Пока китаец неохотно просовывает руки под мышки пружинщице, Андерсон щупает пульс — жива ли, не сварился ли мозг — вдруг уже стала овощем?
Но сердце стучит. Стучит стремительно, как у колибри, — у крупных существ так не бывает. Тогда он склоняет голову и слушает дыхание.
Девушка резко открывает глаза, вздрагивает всем телом, Андерсон подскакивает, Лао Гу от неожиданности разжимает пальцы, и она снова уходит под воду.
— Стой! — Андерсон ныряет вслед.
Пружинщица всплывает, кашляет, молотит руками и ногами, цепко хватает своего спасителя, и тот тянет ее на берег. Одежда липнет к ее телу как водоросли, черные волосы отливают шелковистым блеском. Девушка смотрит Андерсону прямо в глаза и вдруг ощущает блаженство — кожа вновь стала прохладной.
— Зачем вы мне помогли?
Настала ночь. В темноте шипят газовые светильники, от пляшущих язычков метана по улицам бегут зеленоватые потусторонние тени. Капельки влаги поблескивают на стенах, камнях мостовой и на коже людей, которые теснятся вокруг свечей ночных рынков.
— Зачем?
Андерсон только пожимает плечами, радуясь, что его лицо в темноте не видно. Он и сам не знает зачем. Если однорукий расскажет о фаранге и пружинщице, пойдут разговоры, потом придут белые кители. Глупо было рисковать, учитывая, как он уже засветился. Описать его проще простого, произошло все неподалеку от «Сэра Френсиса», ну а дальше жди совсем уж неудобных вопросов.
Тут он осаживает себя. Параноик не хуже Хок Сена. Тот накленг точно употребил ябу и ни к каким кителям не пойдет — ляжет на дно и станет зализывать раны.
Все равно, глупо поступил.
Когда пружинщица отключилась, Андерсон решил, что она вот-вот умрет, и втайне порадовался — не придется жалеть, что узнал ее в толпе и вопреки всему, чему учили, пересек их линии жизни.
Жуткая краснота спала, огненный жар тоже. Девушка придерживает на себе распоротую одежду — сохраняет остатки скромности, но этим лишь придает себе, существу, которым владеют, еще более жалкий вид.
— Так зачем?
— Да просто помог.
— Пружинщикам никто не помогает. Вы глупец, — тусклым голосом замечает она и откидывает с лица мокрую прядь невообразимым рваным движением, выдающим ее генетически измененную натуру. Под разорванной блузкой соблазнительно близко поблескивает шелковистая кожа. Интересно, каково с ней?
Девушка перехватывает взгляд.
— Хотите?
— Нет. — Андерсон, смутившись, отводит глаза. — Не обязательно.
— Я не стану сопротивляться.
Эта готовность вдруг вызывает в нем неприязнь. В другой раз и при других обстоятельствах он бы сам рванул к новым ощущениям, но ее жалкое предположение отвращает.
— Спасибо, не нужно, — вымучив улыбку, говорит Андерсон.
Девушка сдержанно кивает и снова смотрит во влажную ночь на зеленые огоньки фонарей. Трудно понять, что она думает о его поступке — благодарна, удивлена или вообще безразлична. И хотя в страшные минуты преследования и в момент избавления маска наверняка слетала с ее лица, сейчас мыслей пружинщицы совершенно не разобрать.
— Тебя отвезти куда-нибудь?
— Может, к Райли. Кто еще меня к себе пустит?
— А люди до него? Ты же не всегда была… — Он не может подобрать необидного слова, а сказать «игрушкой» не поворачивается язык.
Быстро посмотрев на Андерсона, девушка снова глядит на проплывающий мимо город. Газовые фонари расплескивают на дорогу тусклые лужицы фосфорно-зеленого света, между которыми лежат ущелья мрака. Луч ненадолго выхватывает лицо пружинщицы — задумчивое и блестящее от влажного воздуха, но оно тут же исчезает в темноте.
— Нет, не всегда. Я… — она подбирает нужные слова, — жила по-другому, — и снова замолкает. — Работала на «Мисимото». У меня был… владелец в компании. Мной владели. Ген… хозяин как иностранный бизнесмен получил временное разрешение привезти меня в королевство на девяносто дней. Но из-за дружбы с Японией бумагу, по согласию властей, позволялось продлить. Я работала личным секретарем — сразу и переводчик, и администратор, и… компаньон. — В темноте чувствуется, как она пожимает плечами. — Но только для Нового человека билет на дирижабль в Японию очень дорогой — такой же, как для вас, обычных людей. Мой владелец решил, что дешевле будет оставить секретаря в Бангкоке и купить в Осаке нового, когда вернется.
— Иисусе и Ной ветхозаветный!
— Меня рассчитали прямо на якорной площадке, а потом он уехал. Поднялся в воздух и улетел.
— И теперь ты у Райли?
— Таец никогда не возьмет Нового человека секретарем или переводчиком. В Японии такое сплошь и рядом — детей рождается мало, работы много. А тут… Рынок калорий под контролем, люди злы на ю-текс, все берегут свой рис. А Райли нет до этого дела. Райли, он… рисковый.
Рикша въезжает в облако жирного пахучего пара — рядом жарят рыбу. Ночной рынок: люди кучками сидят вокруг свечей и, склонившись над плошками, едят лапшу, лаап[101] и осьминогов на палочках. Андерсон сдерживает желание поднять над повозкой крышу и опустить занавеску, чтобы никто не заметил пружинщицу. Под сковородками-воками ярко вспыхивает огонь, в нем проскакивают зеленоватые искры метана, за который министерство природы берет налог. В темноте на смуглой коже посетителей едва заметно поблескивает пот. Под ногами шныряют чеширы — ждут объедков и ловят возможность что-нибудь стащить.
Перед рикшей мелькает красный кошачий силуэт, Лао Гу резко выкручивает руль и бормочет проклятье на родном языке. Эмико хлопает в ладоши и негромко смеется. Китаец бросает на нее сердитый взгляд.
— Любишь чеширов? — спрашивает Андерсон.
— А вы — нет?
— Дома отстреливать не успеваем. Даже грэммиты платят за их шкурки — единственное, за что им можно сказать «спасибо».
— Да, пожалуй, — задумчиво тянет Эмико. — Эти кошки хорошо приспособлены, даже слишком — ни одной птице не уйти. А если бы первыми сделали Новых людей?..
На ее лице мелькает то ли угроза, то ли грусть.
— Ну и что, по-твоему, тогда было бы?
Она избегает взгляда Андерсона и смотрит на животных, снующих под столами.
— Генхакеры слишком многому научились на чеширах.
Больше Эмико не говорит ни слова, но и без них понятно, о чем она думает: если бы Новых людей создали первыми — до того, как генхакеры разобрались, что к чему, — девушка не была бы стерильной, подчеркнуто механические движения ее бы не выдавали. Возможно, ее сделали бы не хуже тех боевых пружинщиков, что сейчас воюют во Вьетнаме — смертельно опасных и бесстрашных. Если бы не чеширы, такие, как Эмико, вытеснили бы менее совершенных людей. Однако она — такой же генетический тупик, как соя-про или пшеница «Тотал Нутриент».
Еще один мерцающий кошачий силуэт тенью проскакивает через темную улицу — подношение высоких технологий памяти Льюиса Кэрролла. Два-три перелета на дирижабле, несколько рейсов под парусом — и целых классов животных, неспособных противостоять невидимому врагу, как не бывало.
— Мы бы поняли свою ошибку.
— Конечно. Но возможно, слишком поздно. — Тут она резко меняет тему и, показывая на темные силуэты ступ, спрашивает: — Как вам нравятся местные храмы?
Андерсону интересно: она ушла от разговора, потому что не хочет ссоры, или ей страшно лишиться в споре своих иллюзий?
— Куда лучше грэммитских построек у меня на родине, — говорит он, разглядывая чеди и бот[102].
— Грэммиты… — Эмико брезгливо морщится. — У них на уме только природа, теория ниш, да Ноев ковчег — хотя потоп уже давно произошел.
Андерсон вспоминает Хагга — как тот пыхтел и сокрушался по поводу бежевого жучка.
— Будь их воля, мы бы все сидели по своим континентам.
— По-моему, это невозможно. Человек любит исследовать, занимать новые ниши.
В лунном свете тускло поблескивает золотой орнамент храма. Мир и в самом деле стал меньше. Сначала дирижабль, потом парусник — и вот Андерсон уже трясется в повозке по темным улицам города на другой стороне планеты. Уму непостижимо. Пару поколений назад сообщения не было даже между центром и пригородами, построенными в Экспансию. Дед рассказывал, как люди делали вылазки в опустевшие районы и собирали добро по огромным кварталам, заброшенным в эпоху нефтяного Свертывания. Путь в десять миль тогда считался великим путешествием, а теперь…
В начале улицы возникает несколько человек в форме.
Эмико бледнеет и тянет руки к Андерсону:
— Обнимите меня.
Он пробует стряхнуть девушку, но та держит крепко и сжимает пальцы еще сильнее, когда замечает, что белые кители остановились и смотрят. Андерсон сдерживает порыв скинуть ее с рикши и бежать — это было бы большой ошибкой.
— Я сейчас нарушаю карантин и для них — не лучше японского долгоносика. Увидят мои движения — все поймут и отправят на удобрения. — Она льнет теснее и глядит умоляюще: — Простите меня. Обнимите.
Внезапно поддавшись жалости, он обхватывает девушку, будто защищая — насколько калорийщик может защитить нелегальный японский хлам. Когда министерские, ухмыляясь, окликают их, Андерсон радостно кивает в ответ, хотя по коже у него бегают мурашки. Кители продолжают разглядывать парочку. Один что-то говорит второму и болтает висящей на поясе дубинкой. Эмико с застывшей на лице улыбкой вздрагивает. Андерсон крепче прижимает девушку к себе.
«Не просите взятку. Только не в этот раз, только не сейчас».
Рикша проезжает мимо, и патрульные остаются позади. Слышно, как они хохочут — то ли по поводу фаранга, который обнимает девушку, то ли по совсем другой причине — уже не важно. Главное — Эмико снова в безопасности.
Чуть отпрянув и дрожа от испуга, она шепчет:
— Спасибо. Не подумала — и выглянула. Вот глупая. — Потом смахивает с лица волосы, глядит на быстро исчезающих вдали кителей, сжимает кулаки, бормочет: — Глупая девчонка. Ты кто — чешир, который взял да исчез? — И совсем сердито, будто желая получше втолковать себе, повторяет: — Глупая, глупая, глупая.
Андерсон глядит на девушку, остолбенев: она создана вовсе не для этого душного полузвериного мира. Рано или поздно город ее обязательно съест.
Эмико замечает его реакцию и, грустно улыбнувшись, говорит:
— Думаю, ничто не вечно.
— Да, — отвечает он сдавленно.
Оба молча смотрят друг на друга. Ее блузка вновь раскрылась — видно шею и ложбинку между грудей. Эмико глядит на него серьезно и не спешит поправлять одежду. Специально? Подталкивает? Или такова ее натура — соблазнять? Должно быть, она не может ничего с собой поделать, если эти инстинкты заложены в ее ДНК, как в чеширов — талант к ловле птиц. Андерсон неуверенно придвигается ближе.
Она не возражает. Наоборот, отвечает тем же. Очень мягкие губы. Его пальцы скользят по бедру девушки, распахивают блузку и ныряют внутрь. Эмико с легким вздохом, приоткрыв рот навстречу, льнет к нему — искренне или уступая? Может ли вообще отказать? — прижимается грудью, гладит, руки бегут вниз. Андерсон дрожит — трепещет, как шестнадцатилетний мальчишка. Неужели генетики научили это одурманивающее тело поражать феромонами?
Забыв обо всем — о городе, о Лао Гу, — он притягивает Эмико к себе, осторожно обхватывает грудь и ощущает под пальцами безупречную плоть.
От прикосновения сердце пружинщицы начинает колотиться как бешеное.
11
Чаочжоуских китайцев Джайди в некотором смысле уважает: у них большие, хорошо организованные фабрики, за несколько поколений они пустили корни в королевстве, истово чтят ее величество Дитя-королеву и совершенно не похожи на своих жалких собратьев-беженцев, которые хлынули сюда, на его родину, из Малайи в надежде на поддержку после того, как сами отвернулись от собственных земляков. Последним бы половину расчетливости чаочжоуских — давным-давно приняли бы ислам и нашли место в местном пестром обществе.
Вместо этого китайцы из Малакки, Пинанга и с Западного Берега надменно держались особняком и думали, что прилив фундаментализма их не тронет, а теперь пришли в королевство с протянутой рукой к родне из Чаочжоу, так как спастись своими силами ума не хватило.
Там, где малайским недостает сообразительности, чао-чжоуские не теряются. Они уже почти тайцы: говорят по — тайски, берут тайские имена. Пусть когда-то в роду у них и водились китайцы, но сейчас они — верноподданные граждане этой страны, а такое, если подумать, скажешь не о всяком тайце, а уж тем более об Аккарате и его выводке в министерстве торговли.
Поэтому Джайди даже немного сочувствует чаочжоускому заводчику, который расхаживает перед ним в белом балахоне, свободных хлопковых штанах и сандалиях по цеху и возмущается тем, что его фабрику закрыли из-за какого-то превышения нормы угля, хотя он платил каждому белому кителю. А значит, Джайди не имеет права — совершенно никакого права — останавливать его предприятие.
Слышать в свой адрес «черепашье яйцо» Джайди даже лестно, хотя и весьма неприятно — для китайцев это страшное оскорбление. Все же он спокойно выслушивает яростную тираду. Немного погорячиться — так по-китайски. Позволяют себе эмоции, как тайцы никогда бы не посмели.
Тем не менее этот человек ему симпатичен.
Но к тому, кто сыплет оскорблениями и постоянно тычет ему пальцем в грудь, испытывать симпатию Джайди долго не может, а потому уже восседает на груди бизнесмена, пережимает горло дубинкой и объясняет тонкости этикета по отношению к белым кителям.
— Похоже, вы приняли меня за очередного министерского служаку, — замечает он.
Тот хрипит, вырывается, но тщетно. Внимательно глядя на предпринимателя, Джайди поясняет:
— Вы, конечно, понимаете — лимиты на уголь введены из-за того, что город стоит ниже уровня моря. Вы свою углеродную норму превысили еще несколько месяцев назад.
— Гхрхха.
Поразмыслив над таким ответом, Джайди грустно качает головой:
— Нет, мы не можем позволить фабрике продолжать работу. Рама XII повелел, и на том же стоит ее величество Дитя-королева: мы не оставим Крунг Тхеп даже под напором наступающего океана, не сбежим из Города божественных воплощений, как те трусы из Аютии от бирманцев. Вода — не вражеские солдаты, стоит пустить — уже не прогонишь. — Он смотрит на вспотевшего китайца и прибавляет: — Вот поэтому каждый должен делать все, что от него зависит. Если не хотим пустить захватчика в свой город, то надо бороться плечом к плечу. Вы согласны?
— Гххрххгхх…
— Хорошо. Рад, что мы нашли общий язык.
Рядом кто-то вежливо покашливает.
Джайди, скрывая недовольство, поднимает голову и видит юного рядового в новенькой форме. Тот отвешивает почтительный ваи — пальцами сложенных ладоней до лба, — замирает ненадолго и говорит:
— Кун Джайди, мне крайне жаль прерывать вас.
— В чем дело?
— Чао кун генерал Прача изволит просить вас к себе.
— Я занят. Похоже, наш друг наконец согласен вести разговор в приемлемом тоне и с холодным сердцем.
— Я обязан сообщить вам… мне велели передать…
— Ну же!
— …чтобы вы тащили ваш… ваш, простите меня, «тщеславный зад», простите еще раз, в министерство. Немедленно и даже быстрее. — Мальчишка вздрагивает от собственных слов. — Если нет велосипеда, велели взять мой.
— Вон что. Тогда ладно. — Джайди слезает с заводчика и говорит Канье: — Лейтенант, разберешься тут?
Та в замешательстве.
— Что-то случилось?
— Думаю, Прача созрел на меня поорать.
— Пойти с вами? Этот червяк подождет, — кивает она на китайца.
Ее беспокойство веселит Джайди.
— Обо мне не волнуйся, заканчивай тут. Если нас отправят в ссылку на юг охранять лагеря желтобилетников до самой пенсии, я тебе сообщу.
Расхрабрившийся китаец бросает ему вслед:
— Ты у меня еще попляшешь, хийя!
Последнее, что слышит Джайди, выходя из цеха в компании рядового, — удар дубинкой и визг заводчика.
Снаружи печет солнце. Он и без того вспотел, трудясь над китайцем, поэтому отходит в тень кокосовой пальмы и ждет, пока рядовой подкатит велосипед.
Мальчишка смотрит на взмокшее лицо Джайди озабоченно.
— Хотите передохнуть?
— Ха, да ты что. Насчет меня не переживай — просто годы уже не те. Еще хийя попался не слишком покладистый, а я уже не тот боец, что раньше. Но в прохладный сезон так бы не вспотел.
— Вы во многих боях победили.
— В некоторых да. И тренировался еще не в такое пекло.
— За вас бы все лейтенант сделала. Вам-то зачем так себя утруждать?
Джайди смахивает со лба пот.
— И что тогда скажут мои парни? Что я лентяй.
— Такого о вас никто и подумать не посмеет!
— Вот станешь капитаном — тогда поймешь, — снисходительно отвечает Джайди. — Люди тебе верны, только если показываешь им пример. Я никогда не заставлю своих обмахивать меня веером или крутить вентилятор, как эти хийя в министерстве торговли. Пусть командую я, но все мы — братья. Получишь капитана, обещай, что будешь делать так же.
Глаза мальчишки сияют, он снова делает ваи.
— Да, кун. Обязательно. Спасибо!
— Вот и молодец. — Джайди садится на велосипед. — Лейтенант Канья закончит и отвезет тебя на нашем тандеме.
Днем в засушливый сезон в самое пекло на дорогу выезжают в основном сумасшедшие и те, кому очень надо. Зато под арками и в укрытых тентами переулках раскинулись рынки, заваленные овощами и кухонной утварью.
Проезжая Тханон На Пхралан, Джайди отпускает руль, делает ваи в сторону Священного столпа и молится за невредимость души Бангкока. Здесь Рама XII заявил, что народ не бросит город под напором наступающего океана. От монашеских распевов во спасение Крунг Тхепа на душе делается спокойно. Он трижды поднимает ладони ко лбу. Море людей вокруг делает то же самое.
Четверть часа спустя впереди возникает министерство природы — покатые крыши из красной черепицы выглядывают над зарослями бамбука, тиковых и дождевых деревьев. Вся в разводах от ливней и в бахроме из мха и папоротников вокруг высокая белая стена, стоят охранные статуи гаруд и сингхов[103].
Однажды Джайди видел этот комплекс с высоты — его, одного из немногих, в облет на дирижабле взял с собой Чайанучит. Еще в ту пору, когда тот руководил министерством, когда власть белых кителей была непререкаемой, когда по королевству со страшной скоростью катился мор и никто не знал, выживет ли хоть что-нибудь.
Чайанучит помнил (а сказать о себе такое могли немногие), как начиналась та эпидемия. Джайди, тогда еще совсем молодому призывнику, повезло — он попал в министерство курьером.
Чайанучит понимал, что стоит на кону и как надо действовать. Если требовалось перекрыть границы, вывести из игры какое-нибудь министерство или сровнять с землей Пхукет и Чиангмай[104] — он не колебался; когда зараза моментально охватила джунгли на севере, жег их беспощадно и безостановочно. И вот однажды Джайди получил благословение подняться с этим человеком в воздух на дирижабле его королевского величества.
Тогда главной заботой было очистить королевство. Но едва «Агроген», «ПурКалория» и прочие, требуя невообразимых денег, стали присылать невосприимчивые к мору семена, местные генхакеры-патриоты, глядя, как одни за другими сдаются бирманцы, вьетнамцы и кхмеры, взялись ломать ДНК растений, созданных компаниями-калорийщиками, стараясь накормить страну. «Агроген» и им подобные за посягательство на интеллектуальную собственность пригрозили ввести эмбарго, но Тайское королевство держалось, выживало вопреки всему. Остальные ломались под напором калорийщиков, а тайцы стояли.
— Эмбарго! — смеялся Чайанучит. — Именно то, что надо! Никаких связей с ними иметь не желаем.
И встала еще одна стена — к той, что возникла, когда кончилось топливо, и к той, что возвели, обороняясь от гражданской войны и голодных беженцев; последняя преграда угрозам внешнего мира.
Кипучая жизнь министерства природы потрясла юного новобранца Джайди. Белые кители, борясь с тысячами напастей, безостановочно сновали между штаб-квартирой и местами происшествий. Так остро неотложность дел не ощущалась ни в одном другом министерстве. Эпидемии никого не ждали. Единственный долгоносик в каком-нибудь отдаленном районе — и за считанные часы, промчавшись через всю страну на пружинном поезде, белые кители оказывались в центре событий.
Всякий раз у министерства возникали новые обязанности. Мор стал лишь очередным бедствием. Сперва королевству угрожал подъем моря — пришлось строить плотины и дамбы; потом из-за недосмотра за контрактами на энергию и загрязнение и за квотами на выбросы кители стали сами раздавать лицензии на производство метана; затем занялись рыболовством — следили за уровнем токсинов в этом последнем источнике калорий для всего королевства (счастье, что мысли фарангов крутились только вокруг суши и потому рыбным запасам они вредили походя). И наконец, нагрянули человеческие болезни, вирусы и бактерии: H7V9, цибискоз-111b, с и d, фаган, а еще морские моллюски, которые, заразившись, мутировали и легко перебирались на землю, а еще пузырчатая ржа… Заботам не было края.
Джайди проезжает мимо торговки и, хотя очень спешит, покупает банан. Новый сорт, из министерского отдела срочных разработок: скороспелый, стойкий к клещам-макмакам, чьи яйца заражают цветы быстрее, чем те успеют раскрыться. Ведя велосипед за руль, он жадно проглатывает банан и, думая, что неплохо бы нормально перекусить, оставляет шкурку возле дождевого дерева.
Все живое производит отходы. Жизнь — вообще сплошные затраты, риск и вечный вопрос, куда девать мусор, поэтому министерство оказалось в самом ее центре. Оно постоянно следит, правильно ли и насколько безопасно простые люди выбрасывают ненужное, а еще разбирается с жадными и недальновидными — с теми, кто хочет быстрой наживы, пусть даже ценой чьей-то жизни.
Символ министерства природы — глаз черепахи, который означает прозорливость, понимание того, что быстро и дешево не бывает и что у всего есть скрытая цена. Остальные зовут их министерством черепах? Пусть. Чаочжоуские китайцы обзывают черепашьими яйцами за то, что не дают выпускать столько пружинных мотороллеров, сколько хочется? Пусть. Фаранги шутят над черепахами за медлительность? Пускай шутят. Королевство выжило благодаря министерству, и Джайди благоговеет перед его былыми победами.
Но когда у ворот он слезает с велосипеда, какой-то человек бросает сердитый взгляд, а незнакомая женщина отступает. Даже тут, а может, и внутри здания, люди, которых он защищает, сторонятся его.
Хмурясь, Джайди проходит мимо охраны.
Жизнь в министерстве бурлит по-прежнему, но совсем не так, как в первые годы. На стенах грибок и трещины от прорастающих лиан, к ним привалилось дерево бо — гниющий символ поражения. Оно лежит так уже десять лет, и его никто не замечает, как и остальные признаки умирания. Здесь царит атмосфера разрухи, джунгли пытаются захватить свои прежние земли. Если не убрать лианы, министерство скоро в них утонет. Раньше все было иначе: кители считались героями, люди вставали перед ними на колени и, словно перед монахами, трижды делали кхраб до земли, а белые формы внушали уважение и восхищение. Теперь же, когда Джайди проходит мимо, люди вздрагивают. Вздрагивают и убегают.
«Я для них — хулиган», — с грустью думает Джайди.
Всего лишь хулиган, шагающий среди буйволов, который как ни старается вести стадо лаской, всякий раз прибегает к кнуту, к страху. Все министерство такое — по крайней мере те, кто осознает опасность, те, кто верит в то, что должны беречь ярко-белую линию, ограждающую от беды.
«Хулиган».
Вздохнув, он ставит велосипед перед административным зданием: тому отчаянно необходима побелка, но на нее не хватает денег. Джайди размышляет: министерство пришло в упадок оттого, что переоценило свои возможности, или из-за невероятных успехов? Люди совсем потеряли страх перед внешним миром. Торговле каждый год увеличивают бюджет, а им, «природе», урезают.
Он устраивается возле генеральского кабинета. Проходящие мимо белые кители старательно не обращают на него внимания. Джайди ожидает приема у самого Прачи и даже чувствует некоторую гордость: нечасто его вызывают к высокому начальству. В кои-то веки он совершил настоящий поступок.
Нерешительно подходит молодой человек. Кланяется.
— Кун Джайди?..
Тот кивает, и на лице юноши возникает счастливая улыбка. Он коротко острижен, брови едва проступают — недавно из монастыря.
— Кун, как я рад, что это вы! — Новобранец робко протягивает карточку, расписанную в старосукхотайском стиле. На ней поединок: молодой боец с окровавленным лицом сбивает противника на ринг. Черты прорисованы схематично, но Джайди с радостью узнает рисунок.
— Где взял?
— Я был там, кун. Тогда, в деревне. Еще во-от таким… — Показывает себе по пояс и смущенно смеется. — А то и меньше. Посмотрел тогда и захотел стать таким же. Дитхакар вас мощно сбил — кровь кругом, думал, уже не встанете. Думал, не сладите — он крупнее, вон какие мышцы… — Юноша замолкает.
— Помню. Хороший был бой.
— О да, кун, потрясающий! Я решил — тоже стану бойцом.
— Похоже, не стал.
Тот смущенно трет ежик своих волос.
— Ну да… Жесткое это дело, оказалось… но… Подпишете? Вот, карточку. Отцу подарю — он любит про ваши бои рассказывать.
— Дитхакар, помнится, не самый хитрый соперник. Но сильный, конечно. Все бы поединки были такие понятные.
Тут его обрывают.
— Капитан Джайди. Вы закончили встречу с поклонниками?
Юноша торопливо делает ваи и исчезает. Джайди глядит ему вслед и думает, что еще не вся молодежь потеряна. Может… Он оборачивается к генералу.
— Да просто мальчишка подошел.
Прача смотрит на Джайди строго, и тот, ухмыльнувшись, прибавляет:
— Не виноват я, что был хорошим бойцом. Министерство же меня тогда и спонсировало. Надо думать, заработали неплохие деньги и благодаря мне завербовали немало ребят, кун генерал, сэр.
— Брось ты мне «генералить». Сто лет уж друг друга знаем. Заходи.
— Есть, сэр.
Прача делает недовольную мину и показывает на кабинет:
— Марш!
Генерал закрывает дверь и идет к своему месту за большим рабочим столом красного дерева. Под потолком большого кабинета гоняют воздух механические вентиляторы. Ставни приоткрыты так, что пропускают свет, но не прямые лучи. В щели видны запущенные деревья. На стене — картины и фотографии. На одной — министерские кадеты, выпускной курс Прачи. Рядом — Чайанучит, создатель современного министерства. На третьей — ее королевское величество Дитя-королева на троне — такая крохотная и до жути беззащитная. В углу — небольшой алтарь в честь Будды, Пхра Канета и Себа Накхасатхиена, заставленный палочками благовоний и бархатцами.
Джайди делает ваи в сторону алтаря и садится на ротанговый стул ровно напротив Прачи.
— Откуда выпускное фото?
— Что? — оглядывается генерал. — А, это. Какие же мы были молодые! Нашел у матери в вещах. Надо же — столько лет прятала в шкафу. Такая сентиментальная — никогда бы не подумал.
— Приятно посмотреть на этот снимок.
— На якорных площадках ты зашел слишком далеко.
На столе в потоках воздуха от вентиляторов шелестят страницами разбросанные газеты: «Тай Рат», «Ком Чад Лык», «Пхучаткан Рай Ван». На первых полосах многих портрет Джайди.
— Пресса считает иначе.
Прача хмурит брови и спихивает газеты в корзину на переработку.
— Еще бы им не любить героев — так тираж больше. Не верь тем, кто называет тебя тигром за борьбу с фарангами. В фарангах наше будущее.
— Он бы с тобой не согласился. — Джайди кивает на портрет Чайанучита, который висит под фотографией королевы.
— Другие времена настали, друг мой. На тебя идет охота.
— Ты меня сдашь?
— Нет, — со вздохом отвечает Прача. — Мы слишком давно знакомы. Я знаю, ты — боец. И еще у тебя горячее сердце. — Заметив, что Джайди уже готов возразить, он предупреждающе поднимает руку. — Доброе, как и твое имя, но горячее — джайрон. Тебе бы лишь с кем-нибудь схлестнуться. — И добавляет недовольно: — Если поприжму тебя — взбрыкнешь. Накажу — то же самое.
— Тогда дай мне делать свое дело. От моей непредсказуемости министерству одна польза.
— Твои поступки многих злят. И не только фарангов. Не они одни теперь используют перевозку дирижаблями. У нас и за границей есть свои интересы. Наши, тайские интересы.
Глядя на стол, Джайди говорит:
— Не знал, что министерство проверяет грузы только когда это кому-то удобно.
— Я же с тобой по-хорошему. У меня горящих дел — по горло: пузырчатая ржа, жучки, угольная война, шпионы из министерства торговли, желтобилетники, парниковые квоты, вспышки фагана… А тут еще ты.
— Ну и кто это?
— В смысле?
— Кого я так разозлил, что ты наложил в штаны и просишь меня бросить борьбу? Торговля? Да, кто-то из их министерства держит тебя за яйца.
Немного помолчав, генерал говорит:
— Я не знаю, кто именно. И тебе лучше не знать — не с кем будет войну устраивать. — Тут он протягивает фотокарточку и смотрит на Джайди так, что тот не может отвести взгляд. — А вот это я нашел утром под дверью. Здесь, в своем собственном кабинете. В министерстве. Понимаешь? Они даже сюда проникли.
Джайди переворачивает фотографию.
Ниват и Сурат — хорошие мальчишки. Одному — четыре, другому — шесть. Маленькие мужчины. Уже бойцы. Ниват как-то пришел домой с разбитым носом и горящими глазами, сказал — дрался с честью и был жутко побит, но теперь станет тренироваться и в другой раз поколотит того хийю.
Чайя ужасно недовольна, говорит — Джайди забивает им голову несбыточными мечтами. Сурат хвостом ходит за Ниватом, подбадривает, говорит, что того не победить, что он — тигр, лучший из лучших, что будет править Крунг Тхепом и прославит всю семью. Себя Сурат называет тренером и учит Нивата в следующий раз бить сильнее. А Ниват не боится драк, вообще ничего не боится. Ему четыре года.
В такие моменты у Джайди щемит сердце. На ринге ему только раз было страшно, а на работе — постоянно. Страх — часть его жизни, часть жизни министерства. Что, если не страх, заставило закрыть границы, сжечь несколько городов, а однажды забить пятьдесят тысяч кур, пересыпать щелоком и похоронить под слоем обеззараженной земли? Когда в Тонбури разразилась та эпидемия, Джайди с парнями из всей защиты носили одни тоненькие масочки из рисовой бумаги и сами закапывали птиц в общем могильнике, а рядом, будто пхи, кружил страх: как вирус смог забраться так далеко и так стремительно? Пойдет ли дальше, пойдет ли еще быстрее? Убьет ли он их? Команду тогда отправили на карантин, месяц они сидели и ждали смерти, и единственным их спутником был страх. Джайди работает на министерство, которое не может устоять перед каждой угрозой. Ему всегда страшно.
Не борьбы он боится, не смерти, а ожидания и неопределенности. Поэтому и щемит сердце от мысли о том, что Ниват не подозревает о подстерегающих его опасностях. А те — повсюду. Многое можно победить только ожиданием, но Джайди предпочитает действовать. Он надевал на удачу амулет с Себом, освященный в Белом храме[105] самим Аджаном Нопадоном, и шел вперед. С дубинкой наперевес врезался в толпу и, орудуя одной рукой, подавлял мятеж в Качанабури[106].
И все же настоящие битвы — это битвы терпения: в одной, кашляя легкими, от цибискоза умирали мать с отцом; в другой руки его сестры и сестры Чайи распухали и трескались от кустистых опухолей фагана — к тому времени министерство еще не выкрало у китайцев генетическую карту вируса и не создало хоть какое-то лекарство. Каждый день они молились Будде, учили себя непривязанности, надеялись, что их родные переродятся в лучшем мире, чем тот, что превращал их пальцы в толстые сучья и пожирал суставы изнутри. Молились и ждали.
Сердце щемит от того, что Ниват не знает страха, а Сурат ему потакает, от того, что Джайди не находит сил вмешаться и проклинает себя за это. Почему отец должен разбить веру ребенка в свою несокрушимость? Он не желает себе такой роли.
Напротив, когда дети устраивают с ним шуточную потасовку, рычит:
— Рррр! Вы — дети тигра! Свирепые! Стррашно свирепые!
Сыновья хохочут, возятся, он позволяет им победить, показывает приемы, которые выучил, когда выступал на ринге, — такие должен знать каждый, кому предстоят драки на улицах, где нет правил и где даже чемпион узнает много нового. Джайди делится с ними тем единственным, чем хорошо владеет сам, — навыками боя. А подготовить их к той, другой битве — битве терпения — невозможно.
Так он думает, переворачивая фотографию.
Сердце обмирает и тут же камнем падает куда-то вниз — словно летит в глубокий колодец, тянет за собой все, что есть внутри, и оставляет Джайди абсолютно опустошенным.
Чайя.
Глаза завязаны, на щеке синяк, руки за спиной, колени стянуты веревкой, сжалась у стены, на которой наспех чем-то бурым — видимо, кровью — накорябано: «Министерству природы с уважением». На ней тот самый голубой пасин, в котором еще утром готовила ему генг кью ван[107] и, смеясь, провожала на работу.
Джайди, окаменев, смотрит на фотографию.
Сыновья — бойцы, но с такими методами не знакомы. Он и сам не знает, как вести подобные войны — с безликим врагом, который хватает за горло, цепляет челюсть приемом «когти демона», шепчет «будет больно», но остается невидимым, и ты не понимаешь, кто на самом деле твой враг.
Поначалу связки отказывают, но он кое-как хрипло выдавливает:
— Жива?
— Неизвестно, — вздыхает Прача.
— Кто это сделал?
— Не знаю.
— А должен!
— Знали бы — уже сидела бы тут, рядом с тобой! — Генерал яростно трет виски и, сверкнув на Джайди глазами, добавляет: — У нас на тебя куча жалоб! Отовсюду! Так как тут поймешь кто? Кто угодно!
Накатывает новая волна страха.
— А сыновья? — Джайди вскакивает. — Я должен…
— Сядь! — Прача тянется через стол и хватает его за руку. — Мы послали за ними в школу. Отправили твоих парней — тех, которые слушают только тебя. Кроме них, доверять некому. С детьми все в порядке, их уже везут сюда. А теперь остынь и все обдумай. В твоих интересах действовать тихо. Никаких поспешных решений. Чайю надо вернуть целой и невредимой. Поднимем шум — кое-кто потеряет лицо, и тогда нам ее привезут по частям.
Джайди бросает взгляд на фотографию, встает и начинает расхаживать по кабинету.
— Это Торговля. — Он припоминает ночь на якорных площадках и человека, который сначала издалека — как бы случайно, чуть презрительно — наблюдал за белыми кителями, потом сплюнул кровавой струйкой бетеля и пропал в темноте. — Точно Торговля.
— Или фаранги, или Навозный царь — ему никогда не нравилось, что ты не идешь на договорные бои. Или еще кто из крестных отцов и джаопоров, чью контрабанду ты перехватил.
— До такого никто из них бы не докатился. Это точно Торговля. Был там…
— Хватит! — Прача изо всех сил ударяет ладонью по столу. — Любой бы с удовольствием докатился! Ты очень быстро нажил себе кучу врагов. Ко мне из-за тебя даже из дворца приходил один чаопрайя. Поэтому похитить мог кто угодно.
— Думаешь, я сам виноват?
— Сейчас уже нет смысла кого-то виноватить, — вздыхает генерал. — Ты зарабатывал врагов, а я тебе не мешал. Он берет Джайди за руки. — Надо, чтобы ты публично извинился — пусть будут довольны.
— Ни за что.
— Ни за что? — Прача грустно усмехается. — Спрячь-ка эту свою дурацкую гордость. — Потом показывает на фотографию Чайи и говорит презрительно: — Что, по-твоему, они сделают дальше? Мы с такими хийя не сталкивались с самой Экспансии. Для них главное — деньги, богатство. Сейчас ее можно спасти. А вот если ты не угомонишься — точно убьют. Это звери. Итак, ты публично попросишь прощения за якорные площадки, потом тебя разжалуют и переведут — скорее всего на юг, будешь работать в лагерях желтобилетников. — Он снова вздыхает и, глядя на фотографию, прибавляет: — И если действовать очень-очень тонко, и если нам невероятно повезет — есть шанс, что вернем ее. Не надо на меня так смотреть. Будь это поединок на ринге — поставил бы на тебя все свои деньги. Но в этом бою другие правила. — Прача почти умоляет: — Пожалуйста, сделай, как я сказал. Прогнись под этим ветром.
12
Откуда Хок Сену было знать, что эти, тамади, якорные площадки закроют? Что Бангкокский тигр пустит по ветру все его взятки?
Старик вздрагивает, вспоминая разговор с мистером Лэйком, — как пришлось пресмыкаться перед бледнотелым монстром, словно перед божеством каким, раболепствовать, пока тот гневался и кричал, швыряя ему в лицо газеты с портретами Джайди Роджанасукчаи, этого человека-проклятья, этого тайского демона.
— Кун… — хотел возразить Хок Сен, но мистер Лэйк и слушать не стал.
— Ты говорил, что все устроено! Скажи-ка, почему бы мне тебя не уволить?
Старик вжал голову в плечи, уговаривая себя не устраивать спор и объяснить все спокойно.
— Кун, не только вы потеряли груз. Это из-за «Карлайла и сыновей». Господин Карлайл слишком близок к министру торговли Аккарату и постоянно дразнит белых кителей, оскорбляет их…
— Не уходи от вопроса! Водорослевые ванны должны были пройти таможню еще на той неделе. Сам сказал мне, что раздал взятки. А теперь оказывается, что деньги-то придержал. Не Карлайл тут виноват, а ты. Ты!
— Кун, это все Бангкокский тигр. Он — настоящее бедствие, землетрясение, цунами. Откуда я мог знать…
— До чего мне надоело твое вранье! Думаешь, раз я — фаранг, то тупой? Думаешь, не вижу, как ты колдуешь над бухгалтерскими книгами? Как хитришь, лжешь, вынюхиваешь…
— Я не лгу…
— Мне плевать на твои объяснения и отговорки. Ты мне дерьмо в уши льешь! Меня не волнует, что ты там говоришь, думаешь и предполагаешь. Меня волнует только результат. Чтобы через неделю на конвейере была надежность в сорок процентов, или убирайся назад в башни к своим желтобилетникам. Вот такие у тебя варианты. Даю месяц, а потом выпинываю под зад и беру другого управляющего.
— Кун…
— Ты меня хорошо понял?
Хок Сен понуро опустил голову, радуясь, что это существо не видит его лица.
— Хорошо, Лэйк-сяншен. Все будет, как вы сказали.
Заморский демон вышел из конторы, не дослушав. Старик был так этим оскорблен, что уже собирался плеснуть на сейфы кислотой, забрать оттуда все документы, и только дойдя до них, кое-как унял ярость.
Случись на фабрике вредительство, укради кто-нибудь бумаги — на него подумали бы в первую очередь. Раз он намерен хорошо устроиться в королевстве, марать свое имя ему больше нельзя. Белым кителям не надо особого повода, чтобы лишить желтобилетника последних прав и вышвырнуть нищего китайца вон из страны прямо в руки фундаменталистов. Терпение. Продержаться на этом, тамади, заводе еще один день.
Поэтому Хок Сен берется за дело: гоняет рабочих, дает добро на дорогой ремонт, подмазывает кого надо — в ход идут даже запасы личных, когда-то ловко присвоенных им денег; лишь бы мистер Лэйк не начал требовать большего, лишь бы этот заморский, тамади, демон не стер его в порошок. Трудяги испытывают конвейер, драят старые детали и разыскивают по городу тиковый ствол для главного вала.
Через Чаня-хохотуна он пообещал награду каждому желтобилетнику, кто раздобудет в руинах, оставшихся с эпохи Экспансии, материалы, если те помогут восстановить фабрику раньше, чем придут муссоны и по реке сюда сплавят дерево для оси.
Хок Сен страшно нервничает: его замысел должен был вот-вот осуществиться, а теперь все зависит от конвейера, который никогда толком не работал, и от людей, которые ничего не умеют. Он уже готов пойти на шантаж и рассказать этому, тамади, демону, что — спасибо Лао Гу — в курсе его неофициальной жизни, что знает обо всех визитах в библиотеки, старые дома. И о необычайном интересе к семенам растений.
Но самое странное и поразительное — Лао Гу летел к нему с этой новостью сломя голову — это пружинщица. Нелегальный генетический хлам. Девушка, к которой мистер Лэйк привязался как наркоман и сохнет по ней. Которая, по словами рикши, бывает у него в постели, причем постоянно.
Потрясающе. Отвратительно.
И весьма кстати.
Но это оружие станет последним доводом, если мистер Лэйк и в самом деле решит его выгнать. Пусть Лао Гу и дальше подслушивает, высматривает и вынюхивает — ради этого Хок Сен и пристроил его на работу. Не стоит лишать себя козырей в порыве злости. Поэтому старик, чувствуя, что не просто потерял лицо, но и позволил втоптать его в грязь, все же скачет перед заморским демоном как клоунская обезьянка.
Скорчив кислую мину, он шагает по фабрике за Китом — снова где-то что-то произошло. Проблемы. Вечно возникают проблемы.
В цехе шумно — идет ремонт. Половину главного привода выдрали из-под пола и уже установили обратно. У дальней стены девять монахов-буддистов монотонно поют, обматывают все подряд священной веревкой-сайсином, молят заполонивших фабрику пхи позволить ей работать хорошо; те — по большей части духи умерших в эпоху Свертывания — ужасно злы на тайцев, которые работают на фарангов. Глядя на монахов, Хок Сен делает недовольное лицо, подсчитывая затраты.
— Что на этот раз? — спрашивает он, протискиваясь мимо вырубного пресса и ныряя под конвейер.
— Вот смотрите, кун.
В теплом сыром воздухе висит густой солоноватый смрад водорослей. Кит показывает на ряд из трех дюжин открытых ванн: вода в них покрыта густой зеленой пеной, работница собирает ее сетью, размазывает по большому, в человеческий рост, сушильному ситу и поднимает на веревках под потолок к сотням таких же.
— В резервуарах загрязнение.
— Правда? — Хок Сен, скрывая отвращение, разглядывает ванны. — И в чем же проблема?
В самых чистых баках слой пены — пушистой, ярко-зеленой — не меньше шести дюймов, от нее идет чувственный аромат морской воды, жизни; по полупрозрачным стенкам бегут струйки воды и, испарившись, оставляют на полу соляные разводы в форме цветов. Поток еще годных водорослей стекает по дренажному каналу к ржавым стальным решеткам и исчезает в темноте.
ДНК свиньи и чего-то еще… и ДНК льна, припоминает старик. Мистер Йейтс был уверен, что все дело во льне — именно он придавал нужные свойства пене. А Хок Сену всегда нравились свиные протеины — свиньи приносят удачу, значит, ее будут приносить и водоросли. Тем не менее ничего хорошего из этого не вышло.
Нервно улыбаясь, Кит показывает резервуары, где пленки вырабатывается меньше, цвет у нее не тот, и запах — рыбный, или, скорее, креветочный, а не свежесоленый, как положено.
— Баньят говорил, эти ванны нельзя использовать — надо подождать новых.
Хок Сен мотает головой и, раздраженно посмеиваясь, отвечает:
— Не будет новых. Пока Бангкокский тигр сжигает все, что привозят на якорные площадки, — не будет. Надо работать с этими.
— Но они заражены, болезнь может перекинуться на остальные.
— Ты уверен?
— Баньят говорил…
— Баньята раздавил мегадонт. А если мы не запустим производство скоро, фаранг выкинет нас на улицу.
— Но…
— Думаешь, на твое место не хотят еще пятьдесят тайцев или тысяча желтых билетов?
Кит тут же замолкает. Хок Сен сурово кивает.
— Чтоб все заработало.
— Если белые кители придут с проверкой — найдут загрязнение. — Кит смазывает с бортика ванны серую накипь. — Вот это неправильно, пленка должна быть гораздо ярче, пениться должна.
Хок Сен глядит на резервуар, скривив рот.
— Не запустим — все пойдем попрошайничать на улицу.
Он хочет сказать что-то еще, но тут вбегает Маи.
— Кун! Вас там спрашивают!
— Насчет нового вала? — недовольно откликается старик. — Может, кто-то срубил в храме столб и принес сюда?
Маи, пораженная таким богохульством, замирает, разинув рот, но Хок Сену все равно, что она там думает.
— Если нет, то мне некогда. — И снова говорит Киту: — А если сначала просушить ванны и отмыть как следует?
— Конечно, можно попробовать, кун… Но Баньят говорил, надо начинать с нуля, когда придут новые питательные культуры, иначе придется использовать старые, из этих самых резервуаров, и проблемы пойдут по новой.
— А просеять их можно? Отфильтровать как-нибудь?
— Полностью очистить ни ванны, ни культуры нельзя — позже они опять начнут распространять заражение на все остальные.
— Позже? Позже, говоришь? — сердито переспрашивает Хок Сен. — Да наплевать на твое «позже», меня волнует только ближайший месяц. Не наступит никакое «позже», если фабрика не заработает. Ты будешь ковыряться в куриных кишках в Тонбури и молить богов, как бы не подхватить грипп, а меня отправят в башни к желтобилетникам. Ты о завтрашнем дне не думай. Ты думай о том, что мистер Лэйк уже сегодня может выкинуть нас на улицу. Включи воображение, найди способ заставить эти, тамади, водоросли выдавать правильную пену.
Хок Сен в который раз проклинает работу с тайцами — нет в них китайского духа предпринимательства, который заставляет браться за дело всерьез.
— Кун?..
Маи — она еще не ушла — вздрагивает под его сердитым взглядом.
— Говорят, это ваш последний шанс.
— Последний шанс? Покажи-ка мне этого хийю.
Отшвырнув занавески на выходе из зала очистки, Хок Сен выскакивает в главный цех, где мегадонты налегают на вороты (снова деньги, которых и так нет), тут же замирает и начинает оттирать с пальцев следы пены, ощущая себя испуганным болваном.
Прямо посреди фабрики, будто зараженный цибискозом в карнавальной толпе, стоит Собакотрах и глядит на лязгающие контрольные механизмы — их проверяют рабочие. Рядом Ма-Лошадиная Морда и Костлявый. Все трое держатся очень уверенно — и приятели-головорезы, и сам безносый, поросший фаганом жестокий Собакотрах, который не испытывает ни жалости к остальным желтым билетам, ни страха перед полицией.
Чистое везение, что мистер Лэйк сидит у себя и листает книги, что малышка Маи пошла не к заморскому демону, а к нему, Хок Сену. Девушка быстро шагает вперед, увлекая старика навстречу будущему.
Он кивком показывает Собакотраху отойти с места, которое хорошо видно из смотровых окон, но тот, словно издеваясь, топчется и продолжает разглядывать громыхающий конвейер и бредущих по кругу мегадонтов.
— Внушает, — говорит Собакотрах. — Значит, тут делают эти легендарные пружины?
Хок Сен жестами и мимикой показывает ему, что надо бы уйти с фабрики.
— Нам не стоит беседовать тут.
Бандит и ухом не ведет — разглядывает конторские помещения и смотровые окна.
— А сидишь ты вон там, наверху, да?
— Долго не просижу, если кое-какой фаранг тебя заметит. — Старик выдавливает вежливую улыбку. — Прошу, нам лучше выйти наружу. Иначе возникнут ненужные вопросы.
Еще несколько долгих секунд Собакотрах не двигается, смотрит в сторону офиса. У Хок Сена возникает неприятное чувство, будто тот видит сквозь стены большой железный сейф, набитый бесценными секретами.
— Пожалуйста, пойдем, — бормочет старик. — Рабочим и так хватит поводов для сплетен.
Кивнув своим, бандит резво шагает к выходу. Хок Сен, скрывая облегчение, спешит следом.
— Тебя хотят видеть, — бросает Собакотрах и показывает на ворота фабрики.
Навозный царь. Наконец-то. Старик оглядывается на смотровые окна — если уйти, мистер Лэйк будет очень зол.
— Конечно, только бумаги приберу. — Он машет рукой в сторону конторы.
— Пошли. Он никого не ждет. Сейчас или никогда.
Старик мечется, на пути к выходу подзывает Маи и шепчет:
— Скажешь куну Андерсону, что я не вернусь… что придумал, где взять новый вал. Прямо так и передай — новый вал.
Маи кивает и уже уходит, но Хок Сен хватает ее и подтаскивает поближе.
— Говори медленно, простыми словами. Если он не поймет, то вышвырнет меня на улицу. Вылечу я — вылетишь и ты. Запомни.
— Маи пен рай. Расскажу так, что он будет доволен вашими трудами, — с улыбкой отвечает девушка и убегает обратно на фабрику.
Собакотрах, глядя через плечо, весело замечает:
— Я думал, ты только у желтых билетов король, а у тебя на побегушках еще и симпатичные тайские девчонки. Недурно.
Хок Сен кривит рот.
— Король желтобилетников — не то звание, к которому стоит стремиться.
— Как и Навозный царь. Имена многое скрывают. — Бандит оценивающе смотрит на здание. — Никогда не бывал на фабрике фарангов. Впечатляет. Большие деньги вложены.
— Да, да, фаранги обожают тратить.
Он затылком чувствует на себе взгляды рабочих, думает, сколько из них знают, кто такой Собакотрах, и в кои-то веки радуется, что на фабрике мало китайцев — те вмиг бы поняли, с кем их начальник имеет дело. Хок Сен чувствует, что так им манипулируют, но не дает воли раздражению — понимает, что его хотят выбить из седла. На переговорах без этого никуда.
«Ты Тань Хок Сен, глава «Нового Тримарана». Не поддавайся на дешевые трюки».
Этой вселяющей уверенность мантры хватает только до ворот.
Хохотнув, Собакотрах открывает перед остолбеневшим Хок Сеном дверцу.
— Что, машин никогда не видел?
Старик подавляет желание влепить ему пощечину за наглость и дурость.
— Идиот. Ты можешь понять, как сильно меня подставляешь? Что скажут люди вот об этом безумстве, которое стоит прямо перед фабрикой?
Он залезает внутрь, за ним — довольный Собакотрах и остальные бандиты. Костлявый командует водителю, мотор, громыхнув, оживает, и машина трогает с места.
— Угольный дизель? — против воли шепотом спрашивает Хок Сен.
— Босс постоянно имеет дело с углем… Не такое уж для него и безумство.
— Но цена… — Старик пораженно замолкает. Разгонять стальное чудовище — это же страшные деньги, невероятные пустые расходы. Явное свидетельство о монополии, которой владеет Навозный царь. Даже в самые тучные годы в Малайе Хок Сен и думать не стал бы о такой сумасшедшей вещи.
Внутри жарко, но он дрожит. В машине чувствуется древняя мощь, тяжесть, основательность — чем не настоящий танк? Словно заперт в сейфе «Спринглайфа», отрезан от всего мира. Накатывает клаустрофобия.
Собакотрах с ухмылкой наблюдает, как Хок Сен превозмогает страх.
— Надеюсь, ты не зря потратишь его время.
Старик смотрит бандиту прямо в глаза.
— А ты был бы рад моей неудаче.
— Верно. По мне, таких, как ты, надо выбрасывать за границу — и помирайте там.
Машина набирает ход — Хок Сена вжимает в кожаное кресло.
За окнами мелькает совсем чужой теперь Крунг Тхеп: смуглые от солнца люди, серые от пыли упряжные животные, группы велосипедистов, похожие на стайки рыб. Все оборачиваются, показывают пальцами, раскрывают рты. Но голосов не слышно.
Умопомрачительная скорость.
У дверей башни стоят толпы желтобилетников. Малайские китайцы — мужчины и женщины — придают себе уверенный вид и ждут подработки, шансы на которую тают с каждой минутой в жарком послеполуденном воздухе. И все же они бодрятся, выставляют напоказ костлявые конечности — мол, есть в мышцах калории, только скажи, куда применить.
Когда подъезжает машина, люди вытягивают шеи; двери открывают, и все друг за другом падают на колени, исполняя унизительный кхраб — троекратный поклон хозяину, дающему кров, единственному человеку в Крунг Тхепе, кто по своей воле несет груз забот об этих людях, бережет их от красных малайских мачете и черных дубинок тайцев. Хок Сен смотрит на согнутые спины, думает, знает ли хоть кого-то, и тут же с удивлением осознает, что он — не один из них, припавших к земле в знак почтения.
Собакотрах уводит его в темное нутро башни. Под ногами шныряют крысы, сверху доносится запах потных тел, тесно забивших помещения, у двух разверстых шахт безносый приподнимает крышку на потускневшем латунном рупоре и что-то властно рявкает.
Они ждут, глядя друг на друга: бандит — скучая, старик — тщательно пряча тревогу. Наконец сверху, лязгая металлом о камень и треща механизмами, показывается лифт.
Собакотрах отворяет дверь и входит внутрь. Стоящая внутри женщина, прежде чем закрыть за ним створки, отпускает тормоз и командует в рупор. Бандит с ухмылкой бросает Хок Сену:
— Жди здесь, желтобилетник, — и быстро исчезает в темноте.
Минуту спустя в соседней, технической шахте сверху съезжают люди, которые служат противовесом главному лифту, протискиваются наружу и всей толпой бегут к лестнице. Один из них, заметив старика, принимает его за просителя.
— Нет тут работы, нас у него и без того полно.
— Да, да, конечно, — бормочет в ответ Хок Сен, но того уже и след простыл — только из пролета слышны щелчки сандалий, которые несут рабочих под самую крышу, откуда они скоро снова съедут вниз.
Здесь, у лифтов, залитый солнцем день сжался до светлого прямоугольного проема, в котором плотной толпой неприкаянно стоят беженцы и глядят на дорогу. Еще несколько желтобилетников бродят по холлу. Плачут дети, тонкие голоски скачут между горячих бетонных стен. Где-то наверху ритмично кряхтят — трахаются прямо в коридоре, как животные, у всех на виду. Об уединении здесь давно забыли. До чего же это ему знакомо. Поразительно, но и он когда-то жил в этом самом здании, в тесноте этого самого загона.
Время идет. Собакотраху уже пора бы быть здесь. Может, Навозный царь передумал? Краем глаза Хок Сен замечает какое-то шевеление и вздрагивает. Но кругом только тени.
Иногда ему грезится, что зеленые повязки превратились в чеширов — умеют незаметно исчезать и могут так же возникнуть в самый неожиданный момент, когда он, например, принимает душ, обедает или сидит в отхожем месте; придут, выпотрошат и выставят его голову на улицу для острастки другим, как когда-то головы Нефритового Цветка или старшей сестры главной жены. Или его сыновей…
В шахте скрежещет. Через мгновение возникает Собакотрах — рычаги двигает сам, лифтерши уже нет.
— Не убежал? Это хорошо.
— Чего мне тут бояться?
— Ну да. Ты же сам отсюда, так ведь? — Бандит глядит на него оценивающе, потом выходит, делает знак рукой куда-то в темноту, довольно замечает, как Хок Сен вздрагивает — тот чуть не взвизгивает, когда видит, что из ниоткуда, из теней вдруг возникают охранники — и командует: — Обыскать.
Хок Сена обхлопывают по бокам, ощупывают ноги, тычут в пах, потом Собакотрах зовет его в лифт, прикидывает их общий вес и отдает приказ в рупор.
Высоко под крышей стучит клеть-противовес — в нее залезают рабочие, и кабина идет вверх сквозь этажи ада. Чем дальше, тем жарче. В самом центре здания, ничем не прикрытого от палящего тропического солнца, настоящее пекло.
Хок Сен вспоминает, как спал здесь на лестничных пролетах, как тяжело ему дышалось среди вонючих тел других беженцев, как желудок прилипал к позвоночнику и — внезапно — свои ладони в горячей свежей крови желтобилетника, тянущего к нему руки, молящего помочь, хотя это он, Хок Сен, полоснул его по горлу острием разбитой бутылки из-под виски.
Старик гонит жуткий образ прочь.
«Ты умирал с голоду. Что еще оставалось?»
Но так просто себя не убедить.
Лифт идет выше. Воздух делается прохладнее, легкий ветерок доносит аромат гибискуса и цитрусовых.
Мимо проплывает открытая галерея: аккуратные садики, широкие балконы с лаймовыми деревцами по краям. Хок Сен представляет, сколько воды нужно поднять на такую верхотуру, сколько извести калорий и что это за человек, у которого есть такие возможности, — страшно и вместе с тем восхитительно. Он уже близко. Совсем близко.
Наконец крыша. Вокруг расстилается залитый солнцем город: золотые шпили Большого дворца, где восседает Дитя — королева и властвует Сомдет Чаопрайя, рядом на холме чеди храма Монгкута[108] — единственное место, которое не исчезнет под водой, если прорвет плотину; обветшалые небоскребы эпохи Экспансии. А вокруг — море.
— Неплохой вид. Да, желтый билет?
Соленый ветер чуть шелестит тентом, растянутым над широкой крышей. В тени в ротанговом кресле раскинулся Навозный царь. Таких толстяков Хок Сен не видал с самой Малайи — был там человек, который один на всю страну торговал незараженными ржой дурианами. Может, этот и не дотягивает до А Дена, продавца сладостей в Пенанге, но все равно толст невероятно, учитывая, в какой нужде живут все остальные.
Старик подходит медленно, потом делает чрезвычайно почтительный ваи — подбородок в грудь, руки почти над головой.
— У тебя, говорят, ко мне дело?
Хок Сен только кивает — перехватило дыхание. Толстяк терпеливо ждет. Ему подносят сладкий холодный кофе, он делает глоток и спрашивает:
— Пить хочешь?
Старику хватает ума отрицательно помотать головой. Навозный царь только пожимает плечами и делает еще глоток. Ждет. Четверо слуг в белом торопливо ставят перед ним накрытый скатертью стол. Толстяк кивает Хок Сену:
— Подходи, не церемонься. Ешь, пей.
Подают стул. Навозный царь предлагает гостю широкую жареную лапшу из ю-текса, салат с крабом и зеленой папайей, потом лааб му, гэнг гай[109]. И еще тарелку с ломтиками папайи и приготовленный на пару ю-текс.
— Не бойся. Курица новейшей генной версии, а папайя только с ветки. С моих восточных плантаций. За последние два сезона — ни следа пузырчатой ржи.
— Но как…
— Замечаем болезнь — сжигаем само дерево и все соседние. А еще раздвинули санитарную зону до пяти километров. Плюс стерилизация ультрафиолетом — вполне хватает.
— М-м…
Толстяк показывает на лежащую на столе пружину:
— Гигаджоуль?
Хок Сен кивает.
— Продаешь?
Старик мотает головой.
— Продаю то, как их делают.
— И, по-твоему, я куплю?
Скрывая волнение, Хок Сен пожимает плечами. Такие переговоры ему всегда давались легко — чувствовал себя как рыба в воде. Но раньше не мешало отчаяние.
— Не ты, так кто-нибудь другой.
Навозный царь кивает, допивает из чашки, ему подливают еще.
— А ко мне зачем пришел?
— Ты богатый.
Толстяк хохочет, чуть не расплескивая кофе — живот ходит ходуном, все тело так и трясется. Слуги, замерев, следят за каждым движением. Наконец успокоившись, он вытирает рот и мотает головой.
— Честный ответ, — говорит он и тут же серьезнеет. — А еще я опасный.
Хок Сен, поборов страх, начинает прямо:
— Когда все остальное королевство нас отвергло, ты дал нам убежище. Даже свои, тайские китайцы, были не так великодушны. Ее величество своей милостью позволила нам въехать в королевство, но приютил-то нас ты.
— Все равно эти башни никому больше не нужны.
— Ты один проявил сострадание. Вся страна — сплошь добропорядочные буддисты, но только ты дал нам кров, а не выгнал прочь за кордон. Если бы не ты — я бы уже не жил.
Навозный царь ненадолго задерживает на нем взгляд.
— Мои советчики полагали, что я делаю глупость. Что мне это выйдет неприятностями с белыми кителями и ссорой с генералом Прачой. А может, и моим газовым делам навредит.
— Только ты с твоей влиятельностью мог пойти на такой риск.
— И чего же ты просишь за это маленькое чудо техники?
Хок Сен делает ход.
— Корабль.
Брови толстяка ползут наверх.
— Не деньги? Не нефрит и не опиум?
— Корабль. Скоростной парусник. От «Мисимото». Официально зарегистрированный, с разрешением возить грузы в королевство и по Южно-Китайскому морю. — Тут он делает маленькую паузу и прибавляет: — И твое покровительство.
— Хм… Хитрый желтый билет, — усмехается Навозный царь. — Я-то думал, ты и в самом деле мне благодарен.
— Ты единственный, чьи связи позволят получить такие разрешения и права.
— Единственный, кто может поставить желтобилетника не вне закона, хочешь сказать? Единственный, кто убедит белых кителей разрешить желтобилетнику стать царем морей?
Хок Сен пропускает это мимо ушей.
— Твои предприятия освещают город. У тебя невероятный авторитет.
Внезапно Навозный царь решает встать из кресла.
— Да. Верно. Так и есть.
Он ковыляет через всю крышу к самому краю террасы, замирает, сложив руки за спиной, обозревает город и говорит:
— Да. Думаю, есть еще рычаги, за которые я могу потянуть. Министры сделают как надо. — Тут он оборачивается к Хок Сену. — Много просишь.
— Предлагаю еще больше.
— А если еще кому-то продашь?
— Мне целый флот ни к чему. Хватит и одного корабля.
— Тань Хок Сен желает возродить свою морскую империю в Тайском королевстве, — провозглашает толстяк и тут же резко спрашивает: — А вдруг ты уже продал?
— Могу только поклясться, что нет.
— Предками? Духами твоей семьи, которые рыщут по Малайе?
Хок Сен нервно переступает с ноги на ногу.
— Да.
— Покажи, как оно работает.
Старик удивленно поднимает брови.
— Разве еще не начали заводить?
— Так покажи сам.
— Опасаетесь западни? Думаете — бомба с лезвиями? Ну нет, я не в игры пришел играть, а за делом. — Он смотрит по сторонам. — Не могли бы вы позвать закрутчика? Давайте вместе поглядим, сколько джоулей он туда зарядит. Закрутите и сами все увидите. Но только очень осторожно — она не такая эластичная, как обычные пружины, — у нее свой скручивающий момент. Ронять нельзя. — Хок Сен машет молодому слуге. — Эй ты, ставь в мотальный станок, посмотрим, сколько джоулей сможешь в нее впихнуть.
Тот нерешительно смотрит на Навозного царя, получает добро и устанавливает коробочку с пружиной в похожее на велосипед устройство.
В деревьях шелестит легкий морской ветерок.
Тут Хок Сена снова охватывает беспокойство. Баньят заверил его, что это хорошая пружина, прошедшая контроль, а не из тех, которые всегда ломаются, едва начинаешь заводить; сказал, из какой именно кучи брать. Но теперь, когда слуга уже готов налечь на педали, его гложут сомнения: если он ошибся, если ошибся Баньят — а тот погиб под ногой обезумевшего мегадонта и подтвердить — в последний раз — не успел… Правда, Хок Сен и так был уверен… И все же…
Началось. Старик замирает. У слуги на лбу проступают капельки пота. Чувствуя необычное сопротивление, он удивленно смотрит на Навозного царя и его гостя и переключает скорость. Педали вертятся — сперва медленно, потом быстрее. Нажимая на них все сильнее, юноша постоянно подстраивает передачу — заряжает и заряжает пружину энергией.
Толстяк задумчиво произносит:
— Я знал человека, который работал на твоей фабрике — несколько лет назад. Он так богатствами не разбрасывался, своих собратьев желтобилетников так не обхаживал. — И, помолчав немного, продолжает: — Я, конечно, понимаю, что его ради часов убили белые кители — избили и обчистили прямо на улице за то, что вышел в комендантский час.
Хок Сен только пожимает плечами, а сам гонит от себя воспоминания о человеке, который кровавым мешком лежит на мостовой, умирает и просит помочь.
Навозный царь глядит на него многозначительно.
— И вот теперь ты работаешь на ту же компанию. Не похоже это на случайное совпадение.
Старик молчит.
— Собакотраху стоило бы быть поосмотрительней. Опасный ты человек.
Хок Сен решительно мотает головой.
— Я лишь хочу вернуть себе то, что когда-то имел.
А слуга по-прежнему крутит педали, заправляет джоули, втискивает в маленькую коробочку все больше и больше энергии. Навозный царь старается не показывать удивление, но смотрит, широко раскрыв глаза: любая другая пружина того же размера давно бы перестала заводиться. Велостанок протяжно скрипит.
— Этот всю ночь будет ее накручивать. Тут нужен мегадонт.
— Как так выходит?
— Новая смазка — позволяет сворачивать металл гораздо туже, причем тот не переклинивает и не лопается.
— Потрясающе…
— Если скручивать более подходящей силой — с помощью мегадонта или мула, — переход калорий в джоули выйдет почти стопроцентный.
Навозный царь глядит, как слуга вращает педали, и улыбается.
— Проверим мы твою пружину. Если отдает энергию так же хорошо, как принимает, — будет тебе корабль. Неси чертежи с документами. Вот с такими люблю иметь дело. — Он приказывает подать выпивку. — За нового партнера!
У Хок Сена будто гора с плеч падает. В первый раз за долгое время, прошедшее с тех пор, как в переулке его руки залила кровь, как тот человек просил, но не получил пощады, старик чувствует вкус спиртного, и ему это приятно.
13
Джайди вспоминает, как впервые увидел Чайю. Он только что закончил бой, один из своих первых, с кем именно — уже позабыл, но как сходит с ринга, как его поздравляют, говорят, что в движениях превзошел самого Най Каном Тома[110], и сейчас представляет очень ясно. Тем вечером они с друзьями выпили лао-лао и высыпали на улицу — хохотали, гоняли мяч для сепак такро, куролесили, наслаждались победой и жизнью.
Тогда-то и повстречалась ему Чайя: она закрывала ставнями фасад родительского магазинчика, где продавались бархатцы и недавно восстановленный жасмин для храмовых церемоний. Он улыбнулся ей. Девушка посмотрела на пьяную компанию с неприязнью, однако Джайди пронзило острое чувство, будто они были знакомы в прошлой жизни и наконец встретили друг друга — свою любовь и судьбу.
Он смотрел на нее ошеломленно, и друзья это заметили — и Суттипонг, и Джайпорн, и остальные. Все приятели умерли во время эпидемии лилового гребешка — рванули сжигать деревни, где вспыхнула болезнь, и погибли. Но Джайди помнит их самих, и как шутили над его глупо-влюбленным взглядом. А Чайя окатила молодого бойца презрением и прогнала.
Девушки к нему так и липли: одним нравилась его спортивная популярность, другим — белая форма. Одна Чайя при встрече посмотрела холодно и отвернулась.
Джайди месяц собирался с духом, потом, приодевшись, пришел, купил цветов для храма, взял сдачу и незаметно исчез. Неделю за неделей заглядывал в магазинчик, всякий раз говорил с ней чуть дольше, налаживал контакт и поначалу думал: Чайя понимает, что так пьяный болван заглаживает свою вину. Но потом стало ясно: она не узнала в нем наглеца с улицы, да и вовсе забыла тот случай.
Джайди никогда не напоминал об их первой встрече, даже когда поженились. Было бы унизительно признаться и рассказать, что человек, которого она любит, и тот пьяный идиот — одно лицо.
А теперь ему предстоит совершить даже худший поступок — упасть в глазах своих сыновей. Ниват и Сурат с серьезным видом наблюдают, как отец, надев белую форму, встает перед ними на колени.
— Что бы вы ни увидели сегодня, позора в этом нет.
Дети все так же серьезно кивают, хотя не понимают ни слова. «Принуждение», «безысходность» — в их возрасте такого еще не знают. Джайди прижимает малышей к себе и выходит под ослепительное солнце.
В глазах Каньи, которая ждет его в велорикше, сострадание, хотя из вежливости прямо она ничего не скажет.
Едут молча. Впереди возникает министерский комплекс: у ворот сгрудились повозки, слуги ждут хозяев. Значит, свидетели уже начали прибывать.
Они проезжают ворота и останавливаются у храма. В вате Пхра Себа, который построили в честь мученика во имя разнообразия форм жизни, белые кители дают клятвы, проходят посвящение в защитники королевства, получают первые звания. Именно здесь…
Джайди так и подскакивает от злости: по ступеням храма бродят целые стада фарангов. Иностранцы на территории министерства! Торговцы, фабриканты, японцы — обгоревшие на солнце, потные зловонные существа — облепили самое священное место.
— Джай йен йен, — негромко говорит Канья. — Так велел Аккарат, это часть сделки.
Джайди и так не в силах скрыть отвращение, а тут еще и Аккарат стоит рядом с Сомдетом Чаопрайей и что-то ему говорит — похоже, рассказывает анекдот. Эти двое сошлись слишком близко. Генерал Прача с бесстрастным видом оглядывает толпу с вершины лестницы, вокруг него в храм шагают братья и сестры, с которыми Джайди работал и сражался бок о бок. Тут же Пиромпакди: на лице довольная улыбка — счастлив, что отомстит за свои убытки.
Их приезд замечают, всюду слышен шепот.
— Джай йен йен, — напоминает Канья, прежде чем выйти из рикши.
Джайди под конвоем отводят в храм.
Золотые статуи Будды и Пхра Себа безмятежно взирают на собравшихся. На стенных панелях — сцены падения Старого Таиланда: фаранги выпускают чуму, тенета пищевой западни охватывают землю, животные и растения гибнут, его королевское величество Рама XII созывает жалкие остатки войск, которые с флангов прикрывает Хануман[111] и его воины-обезьяны; Крут, Киримукха[112] и армия полулюдей-полудемонов отражают наступление океана и волну эпидемий. Разглядывая картины, Джайди вспоминает, какую гордость испытывал в день своего посвящения.
Снимать в министерстве нельзя, поэтому кругом с карандашами на изготовку столпились газетные писаки. Джайди снимает обувь и входит внутрь, за ним — двое прислужников; эти шакалы только не визжат от восторга в предвкушении суда над своим злейшим врагом. Сомдет Чаопрайя садится на колени возле Аккарата.
Джайди глядит на защитника королевы и думает: как прежнего короля, божественного по своей природе человека, смогли обмануть и назначить на эту должность Сомдета Чаопрайю, ведь он почти сплошное зло? От мысли о том, что рядом с Дитя-королевой находится записной злодей, у Джайди мурашки бегут по коже и…
Тут у него екает сердце: возле Аккарата сидит тот самый незнакомец с якорных площадок — надменный острый взгляд, вытянутое крысиное лицо.
— Холодное сердце, — напоминает Канья и ведет его дальше. — Ради Чайи.
Джайди берет себя в руки и, склонив голову поближе к помощнице, говорит:
— Это он ее похитил. Тот, с аэродрома. Вон, рядом с Аккаратом!
Канья быстро пробегает глазами по лицам.
— Даже если так, мы все равно должны сделать то, за чем пришли. Вариантов нет.
— Ты правда так считаешь?
Она покорно кивает:
— К сожалению. Хотела бы я…
— Не беспокойся. — Джайди незаметно показывает на Аккарата и незнакомца с якорных площадок. — Главное — помни: эти двое ради власти пойдут на что угодно. Усвоила?
— Да.
— Клянешься Пхра Себом?
Канья, немного возмутившись, отвечает кивком:
— Да. Прямо сейчас не могу, но считайте, что уже трижды поклонилась. — Она отходит. В ее глазах будто стоят слезы.
В толпе шикают: Сомдет Чаопрайя выступает вперед — наблюдать за вынесением приговора. Четверо монахов начинают петь. По более радостному поводу — в честь свадьбы или закладки первого камня какого-нибудь здания — их было бы семь или девять, но эти обслуживают акт унижения.
Затем к собравшимся выходят министр Аккарат и генерал Прача. В дыму звучит монотонное пение на пали[113], которое напоминает, что все в мире преходяще, что даже Пхра Себ, переполненный состраданием к гибнущей природе и отчаянием, понял эту неизбежную быстротечность жизни.
Монахи смолкают. Сомдет Чаопрайя подзывает Аккарата и Прачу предстать перед ним и склониться в глубоком кхрабе. С каменным лицом он смотрит, как двое заклятых врагов выказывают почтение королевской власти — единственному, что у них есть общего.
Высокий, упитанный Сомдет Чаопрайя нависает над ними как башня и смотрит сурово. О его привычках и пороках постоянно ходят слухи, но именно его назначили защитником ее величества вплоть до коронации. Он вовсе не член королевской семьи, да и быть им не может, но Джайди не по себе от того, что Дитя-королева живет под влиянием этого человека. Если бы ее жизнь не так зависела от него, можно было бы…
Подходят Аккарат с Прачой. Джайди гонит почти богохульную мысль и делает кхраб перед министром. Газетчики начинают неистово чиркать карандашами по бумаге. Аккарат довольно улыбается, а Джайди еле сдерживает кулаки.
«Ничего, придет и мое время», — думает он и осторожно встает с колен.
— Неплохо, капитан. Я почти поверил в твое раскаяние, — говорит ему министр, наклонившись поближе.
Джайди с каменным лицом смотрит на зрителей и писак, у него сжимается сердце: дети, их привели посмотреть на унижение отца.
— Я превысил свои полномочия, — говорит он генералу Праче, который холодно смотрит на него с края помоста. — Я опорочил имя своего начальника и само министерство природы, хотя всю жизнь оно было мне родным домом. Мне стыдно за то, что я использовал данную им власть в своих корыстных целях, что вводил в заблуждение коллег и руководителей, что попрал мораль. — Ниват и Сурат, которых держит за руки бабушка, мать Чайи, не сводят с него глаз. — Я умоляю простить меня и дать мне возможность исправиться.
Генерал Прача идет к нему решительным шагом. Джайди снова в знак покорности падает на колени, но тот проходит мимо, едва не задев ногой его голову, и громко объявляет:
— Независимым следственно-судебным комитетом установлено: капитан Джайди виновен во взяточничестве, коррупции и злоупотреблении властью. — Тут генерал бросает на Джайди быстрый взгляд. — Принято решение о том, что капитан более не может нести службу в рядах министерства. В искупление содеянного он будет на девять лет отправлен в монастырь и лишен имущества. Министерство возьмет его детей на попечительство, но лишит их отцовской фамилии. — И, глядя на Джайди, прибавляет: — Если Будда смилостивится, со временем ты поймешь, что всему виной твои собственные гордыня и алчность. А не поймешь в этой жизни — надеюсь, получишь шанс стать лучше в следующей. — С этими словами Прача отходит в сторону, оставляя Джайди лежать ниц.
— Мы принимаем извинения министерства природы за ошибки генерала и надеемся в дальнейшем улучшить наши отношения. Особенно теперь, когда эту змею лишили яда, — говорит Аккарат.
Сомдет Чаопрайя знаком велит главам двух самых могущественных министерств засвидетельствовать друг другу почтение. По толпе пролетает вздох, и люди спешат на улицу рассказать всем об увиденном.
Джайди по-прежнему стоит на коленях, и только когда Сомдет Чаопрайя уходит, его поднимают двое монахов — серьезные лица, бритые головы, потрепанные и выцветшие шафрановые одежды. Они указывают, куда идти. Теперь он один из них — на целых девять лет лишь за то, что поступил как надо.
Подходит Аккарат.
— Итак, кун Джайди, похоже, ты наконец осознал пределы, за которые не стоило заходить. Не слушал, когда тебя предупреждали, а жаль — все могло бы обойтись.
Джайди через силу делает ваи и цедит сквозь зубы:
— Вы получили что хотели. Теперь отпустите Чайю.
— Какая жалость: даже не знаю, о чем ты.
Джайди пытается понять по глазам, лжет он или нет, но ответа не находит.
«Так кто же мой враг? Ты или нет? Ее уже убили или пока держат как безымянного арестанта где-нибудь в тюрьме у твоих приятелей? Живая она? Мертвая?»
Отбросив размышления, Джайди предупреждает:
— Верните ее, или я вас выслежу и загрызу, как мангуст — кобру.
— Поосторожнее с угрозами. Будет жаль, если еще что-нибудь потеряешь, — совершенно спокойно отвечает Аккарат и бросает взгляд на Нивата и Сурата.
Джайди холодеет.
— Только попробуй тронуть детей.
— Каких детей? — смеется министр. — Нет у тебя больше никаких детей. У тебя вообще больше ничего нет. Просто счастье, что генерал Прача — твой друг. Я бы на его месте отправил их на улицу рыться в зараженных отходах. Вот это был бы тебе хороший урок.
14
Избиение Бангкокского тигра стоило, конечно, обставить посерьезней. Говоря откровенно, если не считать списка участников, эта церемония мало отличалась от прочих малопонятных тайских религиозных или светских мероприятий. Как-то слишком быстро его разжаловали.
Двадцати минут не прошло с тех пор, как Андерсона ввели в министерский храм, и вот он уже молча наблюдает за хваленым Джайди Роджанасукчаи, который то и дело покорно делает кхраб в сторону министра торговли Аккарата. Золотые статуи Будды и Себа Накхасатхиена тускло поблескивают, созерцая торжественное действо. На лицах участников ни тени эмоций, даже Аккарат обходится без торжествующей улыбки. Еще несколько минут — и монахи прекращают бубнить, а зрители встают и уходят. Вот и все.
Теперь, стоя снаружи бота у храма Пхра Себа, Андерсон ждет, когда его наконец вывезут из комплекса. Умопомрачительное количество проверок и личных досмотров при входе на территорию министерства заставило его вообразить, что он наверняка раздобудет немного ценной информации. Например, о том, где тайцы прячут свой драгоценный банк семян. Глупо, конечно, но после четвертого обыска он почти уверился — сейчас войдет и тут же встретит самого Гиббонса, который, гордо, словно ребенка, прижимает к груди свежесконструированный нго.
На самом же деле его провезли в рикше вдоль оцепления, состоявшего из мрачных белых кителей, высадили прямо у ступеней храма, заставили снять обувь, досконально ощупали и вместе с другими свидетелями запустили внутрь.
Сквозь густые заросли деревьев вокруг храма территорию министерства не разглядеть. Даже как бы случайные, устроенные «Агрогеном» пролеты дирижаблей дали ему больше сведений, чем это упорное стояние в самом центре комплекса.
— Вижу, тебе вернули обувь.
Не спеша подходит ухмыляющийся Карлайл.
— Их так осматривали — думал, отправят в карантин.
— Тут просто не любят запах фарангов. — Он достает сигарету себе, предлагает Андерсону, и они закуривают под пристальными взглядами охранников. — Как церемония? Понравилась?
— На мой взгляд, могли бы устроить целое представление.
— А им не надо. Все и так понимают, что к чему, — генерал Прача потерял лицо. В какой-то момент мне даже показалось, что эта их статуя Пхра Себа треснет от стыда пополам. Королевство меняется — по всему видно.
Андерсон припоминает здания, которые заметил краем глаза по дороге к храму: все обветшалые, в сырых пятнах, в лианах. Если поражение Бангкокского тигра недостаточный довод, то поваленные деревья и неопрятные газоны — это верный признак.
— Должно быть, ты горд своим успехом.
Карлайл затягивается сигаретой и медленно выпускает струйку дыма.
— Скажем так: этим этапом я доволен.
— Вот на них ты произвел впечатление. — Андерсон кивает в сторону «Фаланги фарангов». Ее члены, похоже, уже начали пропивать полученную компенсацию: Люси подбивает Отто спеть тихоокеанский гимн прямо перед угрюмыми вооруженными кителями. Отто замечает Карлайла, шатаясь, подходит и дышит перегаром лао-лао.
— Ты пьян? — спрашивает Карлайл.
— Абсолютно. — На лице у торговца гуляет хмельная улыбка. — Пришлось все выпить у ворот. Эти стервецы не дали пронести бутылки, чтоб отпраздновать. И еще у Люси опиум забрали. — Он хлопает Карлайла по плечу. — А ты был прав, старый подонок, так прав, что правее некуда. Посмотри на физиономии этих чертей в кителях — будто горькой тыквы объелись. — Отто, пьяно улыбаясь, шарит в поисках Карлайловой ладони — хочет пожать. — Как им утерли нос — посмотреть приятно. Вот вам «добровольные пожертвования»! Ты хороший человек, Карлайл. Ты хороший человек. Спасибо тебе. Если б не ты — я б не разбогател, а теперь!.. — Он радостно хохочет, отыскивает наконец его руку, жмет и повторяет: — Хороший человек. Хороший.
Тут Люси зовет его обратно в очередь:
— Эй ты, пьянь несчастная, рикша ждет!
Отто, шатаясь, уходит и под неодобрительными взглядами белых кителей пытается не без посторонней помощи влезть в повозку. С вершины храмовой лестницы за сценой наблюдает женщина в офицерской форме.
— О чем, по-твоему, она думает? — спрашивает Андерсон. — Смотрит на пьяных фарангов, топчущих ее землю, и что, интересно, видит?
Карлайл делает затяжку и не спеша выпускает струйку дыма.
— Зарю новой эпохи.
— Назад в будущее, — бормочет себе под нос Андерсон.
— Что?
— Ничего особенного. Йейтс так говорил. Сейчас минимум усилий дает максимум эффекта. Мир уменьшается.
Люси с Отто, кое-как забравшись в рикшу, катят по дорожке, последний громко благословляет всех подряд достопочтенных белых кителей, которые помогли ему разбогатеть, выплатив компенсации. Карлайл смотрит на Андерсона и одним движением брови задает вопрос. Андерсон, затягиваясь сигаретой, прикидывает, какие именно возможности ему предлагают.
— Я хочу личной встречи с Аккаратом.
— Какое наивное детское хотение, — фыркает Карлайл.
— Дети в такие игры не играют.
— Думаешь, так легко возьмешь его в оборот, сделаешь мальчиком на побегушках? Тут тебе не Индия.
— Скорее Бирма, — серьезно говорит Андерсон и тут же усмехается, заметив, что Карлайл ошарашен таким ответом. — Спокойно, разорение стран больше не в наших интересах, а вот свободная торговля — другое дело. Не сомневаюсь, что мы найдем с ним хотя бы общие цели. Но сперва мне нужна эта встреча.
— Какой осторожный. — Карлайл бросает и затаптывает сигарету. — А я уж начал думать, что ты любишь риск.
— Ну нет, приключения мне ни к чему. Может, вон тем алкоголикам и надо… — Тут он замолкает, раскрыв рот.
В толпе стоит Эмико. Среди обступивших Аккарата японских бизнесменов и политиков, которые о чем-то беседуют и улыбаются, он краем глаза улавливает знакомые рваные движения.
— Боже мой! — ахает Карлайл. — Это что — пружинщица? Пружинщица в министерстве?
У Андерсона слова застревают в горле.
Нет, ошибся. Не Эмико. Те же жесты, но не она. Эта — в дорогой одежде, на шее поблескивает золото, лицо немного другое. Девушка поднимает руку и механически-неестественно заправляет за ухо локон черных шелковистых волос.
Андерсон выдыхает.
Пружинщица какое-то время с милой улыбкой встречает каждое слово Аккарата, а потом представляет ему своего хозяина, в котором Андерсон узнает человека с фотографий, сделанных разведкой, главного управляющего компании «Мисимото». Он что-то говорит девушке, и та, поклонившись, спешит к рикшам чуть нелепой, но изящной походкой.
Эта очень похожа на Эмико: такие же нарочитые продуманные движения. Андерсон вздыхает. Все в ней напоминает ту, другую, отчаявшуюся, одинокую и беззащитную девушку, которая лежит в его постели, жадно выспрашивает о деревне своих собратьев («Какие они? Кто еще с ними живет? У них правда нет хозяев?») и так хочет надеяться. До чего они разные — Эмико и эта ухоженная пружинщица, которая грациозно скользит мимо чиновников и белых кителей.
— Вряд ли ее пустили в храм, — произносит наконец Андерсон. — До такого бы они не дошли. Думаю, оставили ждать снаружи.
— Да, но взбесились-то уж точно. — Карлайл вытягивает шею, разглядывая японскую делегацию. — А знаешь, у Райли тоже есть такая — выступает в шоу уродцев у него в дальнем зале.
— Надо же, не знал, — сдавленно замечает Андерсон.
— Точно говорю. Трахает все, что движется. Советую посмотреть — вот где дичь настоящая, — негромко усмехаясь, говорит Карлайл. — О, гляди — ее заметили. Похоже, королевский защитник в шоке.
Сомдет Чаопрайя пялится на пружинщицу ошалело, как корова, которую ударили по голове перед тем, как забить.
Андерсон хмурит брови и, к своему удивлению, тоже переживает.
— Ну нет, не станет он статусом рисковать. По крайней мере из-за пружинщицы.
— Как знать — репутация-то у него не безупречная. Говорят, очень любит развлечения. При прежнем короле он был не такой, как-то держал себя в руках, а теперь… — Карлайл замолкает и, кивнув в сторону девушки, замечает: — Не удивлюсь, если японцы скоро сделают ему такой вот подарочек от чистого сердца. Сомдету Чаопрайе не отказывают.
— Взятка.
— Как и всегда. Но эта окупится. Говорят, он уже заправляет почти всеми делами во дворце, прибрал к рукам большую власть. Дружба с ним — хорошая страховка на время следующего переворота. Вот смотри: на первый взгляд все тихо-спокойно, но под ковром идет большая драка. Мир между Прачой и Аккаратом ненадолго — они точат зуб друг на друга с самого двенадцатого декабря, — говорит Карлайл и, помолчав, добавляет: — Если надавим где надо — то поможем решить исход дела.
— Это дорого встанет.
— Ну, твоим-то вряд ли. Немного золота и нефрита, чуток опиума. — И добавляет тише: — По вашим меркам, так вообще дешево.
— Хватит торговаться. Будет мне встреча с Аккаратом или нет?
Карлайл хлопает Андерсона по спине и хохочет:
— Обожаю работать с фарангами — вы по крайней мере такие прямолинейные! Не переживай — все уже устроено. — Он шагает к японцам и окликает Аккарата. Министр пристально смотрит на Андерсона — тот делает ваи — и, как подобает людям его ранга, отвечает на приветствие едва заметным кивком.
За воротами министерства Андерсон окликает Лао Гу и уже хочет ехать обратно на фабрику, как с разных сторон к нему подходят двое тайцев, берут под локти и куда-то ведут.
— Сюда, пожалуйста, кун.
На мгновение он решает, что схвачен белыми кителями, но тут замечает дизель-угольный лимузин. Пока его сажают в машину, Андерсон, борясь с паранойей, думает: «Хотели бы убить — выбрали бы время поудачней».
Дверь с треском закрывают, и он замечает, что напротив него сидит и сияет улыбкой сам министр торговли Аккарат.
— Спасибо, что составили мне компанию.
Андерсон оглядывает салон: прикидывает, сможет ли сбежать или водитель запер все замки. Худшее в любой работе — разоблачение, когда внезапно обнаруживаешь, что всем вокруг известно о тебе слишком многое. Вспомнить хотя бы Финляндию — как Питерс и Лей отчаянно брыкались, вися в петле над толпой.
— Кун Ричард рассказал, что у вас есть некое предложение, — подсказывает Аккарат.
— Думаю, мы с вами имеем общие интересы, — медлит Андерсон.
— Нет, — решительно мотает головой министр. — Последние пятьсот лет ваш народ пытался уничтожить мой, и ничего общего у нас быть не может.
Осторожно улыбаясь, Андерсон замечает:
— На некоторые вещи мы, естественно, смотрим по-разному.
Машина трогается.
— Речь не о точке зрения. С тех самых пор как первые миссионеры сошли на наш берег, вы стремились нас уничтожить. В эпоху Экспансии хотели прибрать все, что только можно, пообрубали королевству руки и ноги, и только мудрость правителей спасла нас от худшего, а вы все никак не отступались. Глобальная экономика — это ваше божество — оставила стране неимоверно узкую специализацию, а когда настало Свертывание, бросила умирать с голода. — Тут он многозначительно смотрит на Андерсона и продолжает: — А потом вы наслали пищевые эпидемии и лишили нас почти всего риса.
— Не знал, что министр торговли — сторонник теории заговора.
— Так кого вы представляете? «Агроген»? «ПурКалорию»? «Тотал Нутриент Холдингз»?
Андерсон разводит руками.
— Насколько я понимаю, вы заинтересованы в создании более прочного правительства. Мне есть что предложить — если, конечно, сможем договориться.
— Чего вы хотите?
Андерсон, глядя министру прямо в глаза, говорит:
— Доступ к банку семян.
Аккарат вздрагивает.
— Это исключено.
Машина сворачивает и, набирая ход, едет по улице Рамы XII. Кортеж расчищает дорогу, за окнами бежит размытый скоростью Бангкок. Андерсон успокаивающе поднимает руку.
— Нам не нужен весь банк — только образцы.
— Банк семян дает нам независимость от таких, как вы. Когда случилась эпидемия пузырчатой ржавчины, когда долгоносики со взломанными генами заполонили планету, он уберег нас от еще худших бед, но даже тогда люди умирали миллионами. Вам сдались Индия, Бирма и Вьетнам — мы держались. А теперь просите отдать наше главное оружие? — Аккарат смеется. — Я, может, и хочу увидеть, как генералу Праче сбреют волосы и брови и с позором отправят его в лесной монастырь, но на моем месте он сказал бы то же самое: ни один фаранг не должен трогать сердце нашей страны. Отнимите руку, отнимите ногу, но голову, а тем более сердце трогать не смейте.
— Нам нужен генетический материал. Многие наши ресурсы истощены, а вирусы продолжают мутировать. Если надо — поделимся результатами исследований. И даже прибылью.
— Думаю, то же самое вы предлагали и финнам.
Андерсон подается вперед.
— То, что произошло в Финляндии, — трагедия, и не только для нас. Если миру по-прежнему нужна пища, надо идти впереди цибискоза и японских долгоносиков. Это единственный способ выжить.
— То есть сперва вы загнали мир в ярмо своими патентованными злаками и семенами, с удовольствием его поработили и вдруг поняли, что тянете всех нас в ад.
— Да, так говорят грэммиты. А на деле жучки и пузырчатая ржавчина никого не ждут. Только у нас хватит научных ресурсов вылезти из этого кошмара, и мы надеемся найти ключ к выходу в вашем банке семян.
— А если не найдете?
— Тогда какая разница, кто командует королевством — придет новая мутация цибискоза, и кашлять кровью будет каждый.
— Все равно это исключено. Банк — под контролем министерства природы.
— Мне казалось, мы обсуждаем возможность смены руководства.
Аккарат хмурит бровь.
— Значит, вам нужны образцы? Даете нам оружие, оборудование, средства, а взамен — только их?
— Да. И еще кое-что. Точнее, кое-кого. Гиббонса. — Андерсон внимательно следит за реакцией министра.
— Гиббонс? — пожимает плечами тот. — Не слышал о таком.
— Фаранг, один из наших. Хотим вернуть — покушался на чужую интеллектуальную собственность.
— А вам это наверняка очень не понравилось? — смеется Аккарат. — Любопытно встретить одного из вас вот так, вживую. Мы, конечно, постоянно обсуждаем тех калорийщиков, которые затаились на Ко Ангрите как пхи красу[114] и замышляют, как бы подмять под себя королевство, но вы… — Он внимательно разглядывает Андерсона. — Я бы мог приказать швырнуть вас под ноги мегадонту или разорвать на части и бросить зверям и птицам. Никто бы даже не пикнул. Были времена, когда от одного слуха о том, что где-то ходит калорийщик, народ устраивал бунты. И вот вы — сидите тут и не очень волнуетесь.
— Времена изменились.
— Совсем не так сильно, как вы полагаете. Так вы храбрец или глупец?
— Могу задать тот же вопрос. Не многие решились бы так сильно пнуть белых кителей и уйти невредимыми.
Аккарат улыбается.
— Предложи вы мне деньги и оборудование на прошлой неделе, я был бы весьма признателен, но теперь, в свете нынешних обстоятельств и недавней победы, я лишь приму ваше предложение к сведению. — Он стучит в стекло водителю, приказывая съехать к обочине. — Вам повезло, что я в прекрасном настроении. В другой раз я велел бы разорвать калорийщика в кровавые клочья — вот тогда день бы задался. — Аккарат показывает Андерсону на дверь. — Я обдумаю ваши слова.
15
У Новых людей есть свой дом.
Мысль о нем посещает Эмико каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Она вспоминает, как убежденно гайдзин Андерсон рассказывал ей, что это место и в самом деле существует. Тогда, в темноте, коснувшись ее, он посмотрел очень серьезно и сказал: «Это правда».
Теперь Эмико каждый вечер подолгу разглядывает Райли, пытаясь представить, что именно ему известно, собирается с духом расспросить об увиденном там, на севере, и о том, как туда попасть. Трижды она едва не задает свой вопрос, но каждый раз не смеет. Вернувшись к себе, утомленная издевательствами Канники, она погружается в грезы о месте, где, ничего не боясь, без хозяев и начальников живут Новые люди.
А еще она вспоминает занятия по кайдзену[115] и сенсея Мидзуми, которая поучала сидящих перед ней в кимоно юных Новых людей.
— Что вы такое?
— Мы — Новые люди.
— Что для вас честь?
— Наша честь — служение.
— Кого вы почитаете?
— Мы почитаем хозяина.
Сенсей ловко обращалась с хлыстом, умела напугать до дрожи в коленях и жила на свете уже сто лет. Кожа Мидзуми, ранней модели Новых людей, почти не состарилась. Скольких она уже воспитала, пропустила через свой класс? Вечно на посту, готовая дать совет, страшная в гневе, но карающая справедливо. Сенсей, ее беспрестанные наставления и вера в то, что хорошая служба хозяину — путь к совершенству.
Мидзуми рассказала им о бодхисаттве Мидзуко Дзидзо, который сострадает даже Новым людям, о том, кто укроет их у себя в рукаве после смерти, вырвет из ада существования в теле созданной генетиками куклы и поместит в цикл истинной жизни. Служба — вот их истинная обязанность и почесть, а награда — обличье настоящего человека — ждет в будущем. Щедрые дары готовит им служба.
Как же Эмико возненавидела Мидзуми, когда ее бросил Гендо-сама.
Но она ожила, когда появился новый хозяин — мудрец, проводник в иную жизнь, тот, кто даст ей больше, чем мог дать прежний владелец.
«Или этот тоже предатель и лжец?»
Девушка гонит от себя недостойную Нового человека мысль. Так думает другая Эмико — низменная часть натуры, похожая на чешира, который, презирая отведенное ему место, оккупирует все, что может, и думает лишь о пище.
Сенсей Мидзуми объясняла: два начала живут в Новом человеке. Одно — дурное, им управляют животные инстинкты, пришедшие с генами, многократно разобранными и пересобранными, пока Новых людей создавали такими, какие они есть теперь. Уравновешивает его второе, культурное «я», знающее, когда животный позыв восстает против правил; то, которое понимает свое место в общественной иерархии и ценит дар жизни, полученной от хозяина. Тьма и свет, инь и ян, две стороны монеты, две части души. Сенсей Мидзуми учила их владеть обеими, готовила к почетному служению.
Если честно, Эмико не любит Гендо-саму за то, что он, человек безвольный, относился к ней плохо. А если совсем откровенно, то и она не отдавалась службе целиком — вот в чем печальная и постыдная правда, которую Эмико должна принять, несмотря на то, что дальше намерена жить без опеки любящего хозяина. Но вдруг этот странный гайдзин… вдруг… Нет, пусть сейчас ее животная недоверчивость помолчит — Эмико хочет помечтать.
Она выскальзывает из ночлежки в вечернюю прохладу. По-карнавальному горят зеленые огни фонарей, и вспыхивает пламя в сковородках-воках, где готовят лапшу. Фермеры, продав дневной товар, возвращаются к себе на дальние поля, а по дороге заходят перекусить незамысловатой пищей. Эмико бродит по ночному рынку, сторонясь белых кителей, и выбирает себе на ужин жареного кальмара в остром соусе.
В сумерках среди тусклых свечей на нее не обратят внимания. Пасин скрывает угловатые шаги, осторожнее надо быть только с руками, да и то, если двигаться медленно и прижать их к телу, странность примут за изысканные манеры.
У торговок — матери и дочери — она берет падсию[116] с жареным ю-тексом на тарелке из сложенного пальмового листа. Под сковородой с лапшой горит голубой огонь — такой метан запрещен, но раздобыть его можно. Эмико садится за импровизированную стойку и начинает быстро уплетать обжигающе острую еду. Посетители смотрят косо: одни кривят рты, но и только, другие к ней уже привыкли, остальным и своих забот хватает — связываться с белыми кителями и пружинщицей желания у них нет. Есть в этом неожиданное преимущество, думает она — кителей так не любят, что без крайней нужды звать не станут. Она ест лапшу и размышляет над словами гайдзина.
«У Новых людей есть свой дом».
Эмико пробует представить целую деревню, где у каждого гладкая кожа и все двигаются как куклы-марионетки. Мечта!
Тут она вдруг понимает, что испытывает к ним и нечто совсем иное.
Страх? Нет. Отвращение? Не совсем. Скорее, легкую неприязнь: такие же, как она, взяли и бросили свои обязанности, живут промеж себя, и нет среди них ни одного достойного, вроде Гендо-самы. Целая деревня Новых людей, которые никому не служат.
С другой стороны — что ей самой дало служение? Сплошных райли и канник?
И все-таки, если представить целое племя Новых людей, зажатых в джунглях: каково это будет — обнимать восьмифутового работягу? А вдруг такой станет ее любовником? Или чудище со щупальцами, одно из тех, что работают на фабриках Гендо-самы, — десятирукое, как индийский бог, изо рта слюни, и думает только о еде и о том, куда сложить конечности. Как вообще такие создания пробрались на север и почему они осели именно в джунглях?
Эмико заглушает неприязнь: хуже, чем с Канникой, все равно не будет. Ее приучили не любить Новых людей, хотя она сама — одна из них. Если подумать, любой Новый человек окажется лучше, чем вчерашний клиент, который сперва трахнул, а уходя, оплевал ее. Лечь с гладкокожим собратом не противней.
Но как они существуют в этой деревне? Питаются тараканами, муравьями и листьями, которые не доели бежевые жучки?
«Вот Райли умеет выживать. А ты?»
Четырехдюймовыми палочками марки «Ред Стар» Эмико возит по тарелке лапшу. Каково это — никому не служить? Хватит ли смелости? Голова кругом от таких мыслей. Что без хозяина делать — фермершей стать и опиум выращивать? Курить серебряную трубку и чернить зубы, как женщины из тех странных племен на северных холмах? Она улыбается про себя — даже представить такое трудно.
Задумавшись, Эмико чуть не попадает в беду. Ее спасает чистая случайность: человек за столиком напротив вдруг смотрит испуганно и тут же склоняет голову к тарелке с лапшой. Заметив это, она замирает.
Ночной рынок погружается в тишину.
Через секунду за спиной, как голодные духи, вырастают люди в белых формах, что-то отрывисто по-птичьи приказывают торговке, и та бежит их обслуживать. Эмико трепещет от страха, с губы свисает полоска лапши, тонкая рука подрагивает от напряжения. Опустить бы палочки на стол, да нельзя — движение выдаст, поэтому она сидит не шевелясь и слушает, как позади нависают, разговаривают и ждут еды белые кители.
— …в этот раз зашел слишком далеко. Я сам слышал, как Пиромпакди вопил на все здание. Подать, говорит, мне голову этого Джайди на тарелке, совсем, мол, обнаглел.
— А ведь по пять тысяч дал своим парням за ту операцию. Каждому.
— И что им теперь с того? С ним покончено.
— Как-никак пять тысяч. Понятно, почему Пиромпакди на яд исходил — потерял-то, может, полмиллиона.
— А Джайди взял да вломился, как мегадонт. Старикан-то, наверное, думал, что капитан, как бык Торапи[117], все ждет своего часа, а потом убьет.
— Теперь-то нет.
Эмико толкают, и она вздрагивает. Вот и конец — сейчас уронит палочки, и все тут же разглядят в ней пружинщицу. Толпились рядом, приваливались по-мужски самоуверенно, один даже — будто случайно, в давке — тронул за шею, но внимания не обращали, а теперь невидимость спадет, и она предстанет перед ними как есть — Новый человек с просроченным разрешением на импорт и уже негодными документами. Тут ее и отправят в переработку, быстро покрошат, как навоз или целлюлозу, и все из-за предательских движений, которые выдают не хуже, чем если бы на ней выделениями светляков было написано «пружинщица».
— Не думал я, что когда-нибудь увижу, как он стоит перед Аккаратом на коленях. Нехорошо это. Мы все лицо потеряли.
Они замолкают. Потом один замечает:
— А что это, тетушка, цвет у газа какой?
Та тревожно улыбается, дочь — тоже.
— Как же — мы на прошлой неделе министерству пожертвование сделали.
Эмико с трудом сдерживает дрожь — говорящий поглаживает ее по шее.
— Выходит, нам соврали.
Улыбка торговки вянет.
— А может, меня память уж подводит.
— Тогда надо бы твои счета проверить.
— Уж вы не утруждайтесь, я сейчас мигом дочку пошлю. Пока ходит — угощайтесь, вот, рыбой. Платят-то, наверное, мало, на еду не хватает. — Она берет с решетки и протягивает им двух жареных тиляпий.
— Ну, спасибо, тетушка. Проголодался я. — Завернув угощение в банановые листья, белые кители уходят. Эти двое шагают по ночному рынку, словно не ведая, какой ужас сеют вокруг.
Торговка перестает улыбаться, сует дочери в руки несколько батов и командует:
— Иди в полицейский участок и отдай деньги сержанту Сирипону, но только ему. И чтоб эти больше не приходили.
Место на шее, к которому только что прикасались, горит. Все висело на волоске, на страшно тонком волоске. Удивительно, как Эмико вдруг забывает, что за ней идет охота, как обманывается и считает себя почти человеком. Она быстро доедает лапшу. Откладывать больше нельзя — пора поговорить с Райли.
— Я хочу уехать отсюда.
Райли, не слезая с барного стула, поворачивает к ней голову. Он удивлен, но весел.
— Правда? У тебя что же — новый хозяин?
Одна за другой приходят девушки — болтают, шутят, кланяются домику духов, некоторые делают подношения, надеясь, что встретят щедрого покупателя или богатого клиента.
— Нет. Но я хочу на север. В деревню к Новым людям.
— Это кто тебе о ней рассказал?
— Так она есть?
По лицу старика видно, что есть. Сердце Эмико начинает стучать чаще. Значит, правда.
— Все-таки существует, — говорит она уже уверенней.
Райли смотрит на нее, прищурив глаз.
— Может быть. — Он велит бармену Дэнгу налить еще. — Но хочу тебя предупредить — там в джунглях несладко. Если неурожай — едят насекомых. Охотиться не на кого, разве на птиц. Весь скот погиб от пузырчатой ржи и японских долгоносиков. Тебе надо все время быть поближе к воде, а то произойдет перегрев. Там страшно тяжело жить. Хочешь уехать — так найди себе нового хозяина.
— Меня сегодня белые кители чуть не поймали. Останусь — точно погибну.
— Я им плачу — ловить тебя не должны.
— Да нет, я ходила на ночной рынок…
— Какого черта ты там делала? Хочешь есть — ешь здесь!
— Простите, Райли-сан, но я должна уйти. У вас есть связи, а мне нужно разрешение на дорогу, на проход через КПП.
Приносят выпивку. Райли делает глоток. На высоком стуле он похож на ворона — сама смерть и тлен; сидит и следит за своими шлюхами, которые готовят себя к ночной работе. Он смотрит на Эмико, почти не скрывая отвращения, будто на кусок собачьего дерьма, прилипшего к подошве, потом отпивает из стакана и говорит:
— На север ехать тяжело. Ужасно дорого.
— Я заработаю.
Райли молчит. Бармен, закончив натирать стойку, подзывает помощника, и они вдвоем достают ящик со льдом от производителя роскоши «Джай йен, нам йен». Холодное сердце, холодная вода.
Райли протягивает стакан, Дэнг со звоном опускает туда пару кубиков. Эмико смотрит, как стремительно тает только что вынутый из ящика лед, как бармен подливает старику воды. Она вся пылает изнутри. В открытые окна клуба не задувает ни ветерка. Здание еще не успело остыть — от стен и пола так и пышет жаром, желтобилетники — закрутчики вентиляторных пружин пока не приходили.
Эмико, изнывая от перегрева, смотрит, как пьет Райли, и жалеет, что не умеет потеть.
— Кун. Прошу вас. Простите. Пожалуйста… дайте попить холодного.
Старик делает еще один глоток и наблюдает за приходящими девушками.
— Содержать пружинщицу — чертовски дорого.
Она рассчитывает разжалобить его смущенной улыбкой. Наконец Райли раздраженно бросает Дэнгу:
— Ну, налей.
Бармен подает бокал ледяной воды. Эмико заставляет себя не набрасываться — сначала прикладывает к лицу, к шее, чуть не стонет от удовольствия, потом отпивает, снова прижимает к себе и держит, как бесценный талисман.
— Спасибо.
— С чего бы мне помогать тебе с отъездом?
— Я умру, если останусь в городе.
— Невыгодно это все — и нанимать тебя было невыгодно, и тем более давать теперь взятки за твой проезд.
— Пожалуйста, я сделаю все, что захотите. Я заплачу, правда заплачу. Можете мной попользоваться.
— Вот еще! У меня настоящие есть, — с усмешкой говорит он и тут же серьезнеет. — Штука в том, что тебе нечего предложить — все заработанное тут же тратишь на питье. А взятки? А лед на тебя? Будь я не такой добрый, вышвырнул бы вон, и пускай белые кители тебя в компост покрошат. Прибыли никакой.
— Прошу вас.
— Не беси меня. Иди готовься к работе. Чтоб, когда придут клиенты, уже сняла уличную одежду.
Распознав властный и беспрекословный тон, Эмико машинально делает ваи и спешит выполнить приказ, но через секунду одергивает себя. «Ты не собачка и не служанка. Эта служба завела тебя в Город божественных воплощений и бросила среди демонов. Будешь вести себя как прислуга — сдохнешь как собака».
Она встает прямо.
— Простите меня, но я должна уехать на север. Сколько это стоит? Я заработаю.
Райли вскакивает.
— Ты — как проклятый чешир, который до последнего копается в падали!
Эмико вздрагивает — хоть он и старый, но все еще гайдзин, рожденный и выросший до эпохи Свертывания. Она опасливо пятится от высокой и грозной фигуры.
— Вот так-то. Помни свое место, — с угрюмой ухмылкой говорит Райли. — Ладно. Поедешь на свой север. Но только когда я разрешу. И не раньше, чем заработаешь на взятки кителям — от первого до последнего бата.
— Это много?
Старик багровеет.
— Ты столько за все время не принесла!
Она отпрыгивает назад, но Райли успевает схватить ее за руку, притягивает к себе и рычит пропитым голосом:
— Когда-то и кому-то ты была полезной, и я понимаю, почему пружинщицы вроде тебя забывают, как себя вести. Но давай-ка без иллюзий. Ты — моя собственность.
Он хватает костлявыми пальцами ее сосок и выкручивает. Эмико охает, у нее подгибаются ноги.
— Ты принадлежишь мне до последнего волоска, — шипит Райли, не сводя с нее светло-серых змеиных глаз. — Захочу — завтра тебя покрошат в компост, и всем будет наплевать. В Японии, может, и ценят пружинщиков, но здесь вы — мусор. — Он снова сжимает пальцы. Эмико судорожно втягивает воздух, пытаясь устоять. — Ты — моя собственность. Не забывай.
Ухмыльнувшись, старик отпускает девушку. Та чуть не падает, но успевает ухватиться рукой за барную стойку. Райли снова берет стакан.
— Я скажу, когда ты заработаешь достаточно. Но тебе надо будет вкалывать. Никаких больше капризов. Клиент захотел — сделала так, чтобы он был доволен, пришел снова и был приятно удивлен. Хочешь на север — лезь вон из кожи.
Он допивает залпом, бьет стаканом о стол и требует повторить.
— А теперь хватить ныть и марш зарабатывать.
16
Раннее утро. Хок Сен сидит в офисе «Спринглайфа» и мрачно глядит на сейф. Ему бы сейчас забивать гроссбух выдуманными цифрами и успеть все сделать до прихода мистера Лэйка, но мысли заняты железным шкафом, который, будто издеваясь, неподвижно стоит в дыму бесполезных ритуальных воскурений.
После того случая на якорных площадках сейф постоянно заперт, заморский дьявол вечно висит у старика над душой, допекает счетами, вечно что-то выпытывает. А Навозный царь ждет. Хок Сен встречался с ним еще дважды — пока не торопит, но явно теряет терпение и, похоже, хочет взять дело в свои руки. Шансы на успех тают.
Хок Сен упрятывает в столбцы гроссбуха деньги, которые заработал сам от покупки временного вала. А может, просто обчистить сейф? Рискнуть, хоть его и станут подозревать? На фабрике есть инструменты, которые прожгут сталь за несколько часов. Может, так будет лучше, чем дожидаться, когда крестный отец всех крестных отцов сам все устроит? Хок Сен прикидывает варианты и понимает — в любом случае рискует так, что оторопь берет. Если сейф найдут вскрытым, объявлениями о розыске старого китайца увешают все столбы, а быть врагом заморских демонов сейчас крайне опасно. Власть Аккарата растет, а с ним и влияние фарангов — что ни день, то новости об очередном унижении белых кителей. Вот на днях Бангкокского тигра постригли в монахи и лишили семьи и собственности.
А если мистера Лэйка просто устранить? Нож под ребра в переулке — и готово? Проще некуда, да и недорого: Чань-хохотун с удовольствием все сделает за пятнадцать батов, и заморский демон больше не помеха.
Он вздрагивает от стука в дверь и торопливо прячет свежезаполненный гроссбух под столом.
— Войдите.
На пороге возникает Маи, тощая девчонка со сборочной линии, и делает ваи. Хок Сен успокоено выдыхает.
— Кун, у нас там загвоздка.
— И в чем же дело? — спрашивает он, оттирая чернила с пальцев.
Мельком оглядывая помещение, Маи говорит:
— Лучше, если вы сами посмотрите.
Хок Сен чувствует, что она явно напугана, и от этого ему делается не по себе. Совсем еще девочка. Старик ей слегка покровительствовал, даже выдал небольшую премию за то, что ползала по узким туннелям в подполе, когда чинили главный привод фабрики. И все-таки нечто в ее поведении заставляет вспомнить тех малайцев, которые однажды восстали против его народа. Тогда рабочие Хок Сена, прежде благодарные и покорные, вдруг перестали смотреть в глаза хозяину, а ему не хватило проницательности увидеть грядущие перемены и понять, что дни малайских китайцев сочтены и даже его — человека высокого положения, который не жалел денег на благотворительность, а детям своих рабочих помогал будто своим, — хотят обезглавить и выбросить в сточную канаву.
И вот теперь Маи — она явно что-то скрывает. Значит, такой способ выбрали прийти по его душу — хитрость? Сделали наживкой вроде бы безобидную девочку? Стало быть, такой финал у истории желтобилетников? Интересно, кто за этим стоит: Навозный царь? Хок Сен, напустив на себя безразличный вид, садится поудобнее.
— Если есть что сказать — говори здесь.
Ее неуверенность еще больше выдает страх.
— А фаранг тут?
Часы на стене показывают шесть.
— Будет только через час или два — рано не приходит.
— Пожалуйста, пойдемте.
Хок Сен встает. Какая милая девочка. Естественно — прислали симпатичную, невинную. Он делает вид, будто почесывает спину, а сам незаметно достает из-под рубашки нож и шагает навстречу.
Подойдя почти вплотную, старик хватает девушку за волосы, притягивает к себе и прижимает лезвие к ее шее.
— Кто тебя прислал? Навозный царь? Белые кители? Кто?
Маи судорожно открывает рот, хочет вырваться, но не может — иначе порежет горло.
— Никто!
— За дурака меня держишь? — Хок Сен прижимает нож так сильно, что надрезает ей кожу. — Кто?
— Никто, клянусь! — Девушку трясет от страха, но старик не выпускает.
— Есть что сказать? Может, какая-та тайна, которую мне нельзя знать? Говори!
Ей больно от врезавшегося в горло лезвия.
— Нет! Кун! Клянусь! Никаких тайн! Только… Только…
— Что «только»?
Она повисает у него на руке и шепчет:
— Белые кители… Если узнают…
— Я не белый китель.
— Кит. Кит и Шримуанг — они болеют, они оба болеют. Пожалуйста… Я не знаю, что делать. Я не хочу потерять работу. Как мне быть? Прошу вас, не говорите фарангу, а то он закроет фабрику — это любой знает. Моей семье нужны деньги… Пожалуйста… — Маи всхлипывает, обмякает, забыв о ноже, держится за Хок Сена и умоляет его, будто своего спасителя.
Поморщившись, он прячет оружие и вдруг ощущает себя древним стариком. Вот так-то — жить в вечном страхе: начинаешь подозревать тринадцатилетних девчонок, думать, что та, кто тебе почти как дочь, замыслила тебя убить. Ему гадко, он не может посмотреть Маи в глаза.
— Надо было сразу сказать, — ворчит Хок Сен и засовывает нож за пояс. — Дура. Нельзя о таком молчать. Давай, показывай своих приятелей.
Девочка старательно утирает слезы. Она уже не держит зла — быстро подстраивается под обстоятельства, как любой, кто молод. Беда миновала, и теперь Маи покорно ведет старика за собой.
Приходят первые рабочие. В огромное помещение сквозь распахнутые ворота бьет солнце. В воздухе кружит пыль и частицы сухого навоза. Девочка шагает прямиком в разрезочный цех через зал очистки, распинывая кучки светлого порошка — отходы производства.
От водорослей, сохнущих на сетках под потолком, исходит тяжелый морской запах. Маи ведет Хок Сена мимо вырубного пресса и пролезает под конвейером, по другую сторону которого тянется ряд резервуаров, полных соленой воды и живых организмов. Впрочем, больше половины явно не в порядке: слой водорослей едва скрывает поверхность, хотя за ночь должен был вырасти дюймов до четырех.
— Вот, — шепотом говорит Маи, показывая на лежащих у стены Кита и Шримуанга. Они смотрят на Хок Сена мутными глазами. Старик осторожно присаживается на корточки, стараясь их случайно не задеть.
— Питались вместе?
— Вряд ли. Вроде не друзья.
— Цибискоз?.. Пузырчатая ржа?.. Да нет же, старый я глупец — крови на губах нет, значит, что-то другое.
Кит стонет, пробует встать. Хок Сен, отпрянув, невольно подносит руки к своей рубашке, хочет их вытереть.
— А этот чем занимается? — спрашивает он, показывая на Шримуанга, который выглядит еще хуже Кита.
— М-м… Вроде подкормкой — сыпал в водоросли рыбную муку.
Хок Сен так и обмирает от ее слов: два заразных тела лежат прямо у баков, которые он сам едва заставил нормально работать — из кожи вон лез, лишь бы порадовать мистера Андерсона. Неужели это совпадение? Теперь он смотрит на помещение совсем иначе, со страхом: излишки воды из баков собираются в лужи вдоль ржавых стоков, и в них тоже растут водоросли, питаясь просыпанным на пол кормом. Если в одном из резервуаров болезнь, то ее разносчики сейчас повсюду.
Хок Сен инстинктивно отряхивает ладони, но тут же замирает от мысли еще более ужасной: на руках остался серый порошок из комнаты очистки — он раздвигал занавески, когда шел сюда. Зараза везде. Под потолком темнеют этажи сушильных сеток, по которым размазана черная масса водорослевой пены. Рядом с его ногой падает капля, и тут старик осознает звук, какой прежде, когда фабрика была забита людьми, никогда не слышал. Утренняя тишина наполнена тихим перестуком дождя, падающего с этих сеток.
Он вскакивает, стараясь придушить приступ паники.
«Не глупи. Откуда ты знаешь, что это именно водоросли? У смерти много лиц. Тут может быть любой другой вирус».
Кит дышит часто и тяжело, с хрипами, грудь ходит ходуном.
— Думаете, пандемия? Всеобщая эпидемия? — спрашивает Маи.
— Не смей такое вслух говорить! — шикает на нее Хок Сен. — Демонов хочешь накликать? Белых кителей? Если хоть кто-нибудь узнает, фабрику прикроют и мы будем голодать как желтобилетники.
— Но…
В главном цехе слышны голоса.
— Ну-ка тихо!
Он лихорадочно обдумывает положение. Если белые кители устроят расследование, это будет катастрофа, повод мистеру Лэйку закрыть фабрику и уволить старика, отправить его обратно в башни — голодать и умирать; умирать, подойдя так близко к цели.
Слышно, как ревут мегадонты, как рабочие громко приветствуют друг друга, шире открывают ворота, как кто-то, проверяя готовность, с грохотом запускает маховики.
— Что нам делать? — спрашивает Маи.
Хок Сен оглядывает пустующий пока зал. Кругом только баки и механизмы.
— Только ты знаешь, что они болеют?
Она кивает:
— Да, увидела, когда пришла.
— Точно? По дороге ко мне никому не говорила? Никого тут больше не было? Может, кто-то увидел их и решил поскорей уйти?
— Я одна пришла. Меня с самой окраины один фермер подвез — на лодке по клонгам. Я всегда так рано.
Хок Сен переводит взгляд с двоих больных на девушку. Сейчас тут четверо. Четыре. Он хмурится: несчастливое это число — четыре. Четверка. Смерть. Лучше бы три или два…
Или один.
Идеальное количество людей, если надо сохранить тайну. Он машинально нащупывает нож и смотрит на Маи. Дрянное это дело, но четверка еще хуже.
Ее длинные черные волосы стянуты на макушке в аккуратный узел (рядом с механизмами по-другому нельзя), открытая шея, доверчивые глаза. Хок Сен снова смотрит на лежащие тела и размышляет над зловещим числом. Четыре, четыре, четыре… Лучше бы один. Один — самый хороший вариант. Вздохнув, он принимает решение.
— Иди-ка сюда.
Маи медлит. Хок Сен хмурится и жестом подзывает ее ближе.
— Тебе еще нужна работа?
Она робко кивает.
— Тогда подойди. Вот этих двоих надо в больницу, понимаешь? Здесь мы им не поможем. А то, что больные лежат прямо у резервуаров с водорослями, — плохо уже для нас с тобой, если, конечно, мы по-прежнему хотим тут работать. Поэтому хватай их и веди к боковой двери. Не к воротам, а к боковой, я тебя там встречу. Пойдешь под конвейером, по техническому проходу. К боковой. Запомнила?
Она неуверенно кивает.
Хок Сен показывает на больных и, подгоняя девушку, хлопает в ладоши.
— Быстро, быстро! Если надо, волоки их. Скоро придут люди. Один-то человек толком не умеет хранить тайну, а нас тут аж четверо. Пусть этот секрет будем знать только мы двое — все лучше, чем четверо.
«Четыре. Смерть».
Маи испуганно, сквозь зубы втягивает воздух, потом присаживается и решительно обхватывает Кита. Хок Сен смотрит, все ли она правильно делает, и выходит.
В главном цеху рабочие еще только завтракают, весело болтая. Никто не спешит. Тайцы ленивы. Китайцы-желтобилетники давно бы уже трудились — и давно бы испортили старику всю конспирацию. В кои-то веки Хок Сен рад, что работает с тайцами. Но времени все равно мало. Он подходит к боковой двери.
Узкий, зажатый фабричными стенами переулок пуст. Старик, прихрамывая, выбегает на улицу Пхошри, забитую ларьками с едой. Над кастрюлями с лапшой стоит пар, кругом бегают оборванные дети. Сквозь прогал в толпе он замечает рикшу.
— Вей! Самло! Самло! Постой!
Но повозка уже слишком далеко.
Хок Сен ковыляет на середину перекрестка, глядит по сторонам и машет другому рикше. Водитель смотрит, нет ли поблизости конкурентов, и лениво подкатывает — точнее, съезжает, пользуясь уклоном дороги.
— Быстрей! Куай йидиань, сучий ты сын!
Тот пропускает оскорбление мимо ушей и так же неторопливо останавливается.
— Вы звали меня, кун?
Старик влезает в повозку и машет в сторону переулка.
— Поспешишь — будут тебе пассажиры.
Водитель, кряхтя, заруливает в узкий проезд. Протяжно поскрипывает цепь. Хок Сен скрипит зубами от злости и поторапливает:
— В два раза больше заплачу, только быстрее!
Тот начинает давить на педали чуть сильнее, и все равно повозка ползет не быстрее мегадонта. Впереди возникает Маи. Старик испуганно думает, не сглупила ли она, не вытащила ли тела раньше времени, но Кита нигде не видно. Только когда рикша подъезжает ближе, девушка вытаскивает наружу безвольное тело первого работяги.
Водитель смотрит подозрительно, но, прежде чем успевает возразить, Хок Сен хватает его за плечо, цедит сквозь зубы: «Втрое заплачу», — и запихивает Кита на сиденье. Маи исчезает за дверью.
— А что это с ним? — спрашивает водитель.
— Напился. Он и еще его друг. Начальник увидит — уволит.
— Как-то не похож на пьяного.
— Похож.
— Нет. У него как будто…
Хок Сен бросает на него грозный взгляд:
— Белые кители схватят тебя точно так же, как и меня. Он в твоей повозке и дышит прямо на тебя.
Водитель испуганно пятится. Старик, не сводя с него глаз, кивает:
— Вот так-то. Поэтому рассуждать тут нечего. Я сказал — пьяные. Когда приедешь, заплачу втрое.
Маи вытаскивает второго, они складывают его рядом с первым, ее Хок Сен тоже сажает в повозку и говорит:
— Вези в больницы. Но в разные. Ясно?
Она судорожно кивает.
— Вот и молодец. Соображаешь. — Старик отходит. — Поехали. Быстро! Жми!
Водитель трогает и теперь давит на педали куда старательней. Головы троих пассажиров и человека за рулем подпрыгивают в такт кочкам. Хок Сен хмуро глядит им вслед: опять четверо. Что за проклятое число. Он упрятывает свою паранойю подальше и размышляет о том, как у него, старика, который шарахается от каждой тени, в эти дни вообще выходит продумывать каждый следующий шаг.
А не лучше, если Маи, Кит и Шримуанг будут кормить красноперых рыб в мутных водах Чао-Прайи? Не станет ли ему спокойней, если их отрубленные руки и ноги обглодает стая быстрых карпов?
Четыре. Смерть.
Ему делается дурно при мысли о том, что больные находились совсем рядом. Он машинально вытирает ладони о штаны. Надо бы вымыть себя как следует хлорным отбеливателем — вдруг поможет. Рикша с зараженным грузом исчезает за поворотом. Хок Сен идет обратно на фабрику, где рабочие громко приветствуют друг друга и для проверки запускают на холостом ходу дребезжащие машины.
«Лишь бы случайное совпадение. Лишь бы обошло конвейер стороной».
17
Сколько уже ночей без сна — одна? Десять? Десять тысяч? Джайди сбился со счета. На небе луна — не сомкнуть глаз, солнце — накатывает дрема; их вечное движение отсчитывает дни и перечеркивает надежды. Череда бесполезных жертвоприношений и даров богам. Предсказатели пророчат, генералы заверяют: завтра, ну, через три дня уж точно. Есть сведения, что наказание смягчат, еще поговаривают о том, где она может быть.
Терпение.
Джай йен. Холодное сердце.
Все без толку.
В газетах — унизительные извинения, осуждение — все писано собственной рукой. Новые выдуманные признания в алчности и коррупции. Долг в двести тысяч бат, которые негде взять. В печатных листках — гневные передовицы, рассказы врагов о том, как он тратил краденые деньги на шлюх, на личный запас ю-тексовского риса, упрятанного подальше от чужих глаз. Бангкокский тигр — всего лишь очередной продажный белый китель.
Назначили штрафы, отобрали последнее. Сожгли дом: теща выла, сыновья — уже без фамилии — молча глядели на этот погребальный костер.
Отбывать наказание сослали подальше — в монастырь к Пхра Критипонгу, в леса, уничтоженные бежевым жучком, в пустошь, куда из Бирмы все время приходят новые эпидемии пузырчатой ржи; изгнали в дикий край размышлять над своей даммой. Сбрили брови, голова — как колено. Если повезет вернуться, до конца жизни отправят на юг охранять лагеря желтобилетников — самая позорная работа для рядовых белых кителей.
И ни намека о Чайе.
Жива? Погибла? Ее похитила Торговля или кто-то еще? Какой-нибудь джаопор, взбешенный его дерзким поступком? Или министерство природы? Или Пиромпакди, злой на Джайди за неуважение к протоколу? Ее хотели только украсть или убить тоже? Может, уже убили при попытке сбежать, или она до сих пор сидит в душной бетонной коробке с той фотографии где-нибудь в заброшенной башне и ждет, когда ее спасет муж? Вдруг ее тело уже обглодали чеширы в глухом переулке или карпы-боддхи версии 2.3, этот успех министерских ученых? Только вопросы и никаких ответов. Он кричит в колодец, где глохнут все звуки.
И вот Джайди сидит в совершенно пустом монашеском кути[118] посреди храмового комплекса Ват Бовоннивет и ждет решения Пхра Критипонга — возьмет ли тот его в свой монастырь на перевоспитание. На бывшем капитане белые одежды послушника, оранжевых ему не дадут никогда — он не монах, он отбывает наказание.
Джайди разглядывает поросшие мхом и плесенью бурые пятна на стенах. На одной нарисовано дерево бо, а под ним ищущий просветления Будда.
Все в мире — страдание.
Бо. Оно тоже ушло в историю. Министерство искусственно сохранило несколько штук — тех, что не рассыпались в труху под напором бежевых жучков. Эти насекомые полностью проедают узловатый ствол одного священного дерева, а потом роем перелетают на другое, третье…
Все приходит и уходит. Даже бо.
Джайди ощупывает бледные, изогнутые полумесяцем полоски над глазами, где раньше росли брови, — до сих пор не привык к отсутствию волос. Все меняется. Он рассматривает Будду и дерево бо.
«Я спал. Спал всю жизнь и ничего не понимал».
Но теперь от вида священного дерева в нем словно что-то встает ото сна.
Ничто не вечно. Кути — это клетка, клетка — это тюрьма. Джайди сидит в тюрьме, а те, кто забрал Чайю, сейчас живут всласть — пьют, веселятся, тискают шлюх. Все непостоянно — вот главное в учении Будды. Карьера, работа, жена, дерево — все может исчезнуть, все может стать иным. Изменение — единственная истина.
Джайди проводит пальцем по чешуйкам высохшей краски и думает, рисовал ли художник с живого дерева, повезло ли ему застать их, или переписывал с фотографии, делал копию копии.
Интересно, вспомнят ли через тысячу лет о том, что росло когда-то дерево бо? Будут ли знать праправнуки Нивата и Сурата и о других видах смоковницы, которых тоже больше нет? Поверят ли, что кроме одного сорта тика и банановой пальмы, выведенной генхакерами «ПурКалории», существовали тысячи других деревьев?
«Поймут ли, что нам не хватило ума и быстроты реакции спасти все, а потому приходилось выбирать?»
По улицам Бангкока ходят священники-грэммиты, проповедуют Библию и рассказывают истории о спасении: о том, как бодхисаттва Ной собрал на огромном бамбуковом плоту осколки гибнущего мира — всех животных, деревья и цветы, о том, как водил их по морю и искал сушу. Только где теперь бодхисаттва Ной? Остался лишь Пхра Себ, который скорбит об утратах, но немногое может изменить, да глиняные будды в министерстве природы, что сдерживают наступающую воду благодаря одной лишь удаче.
Силуэт бо теряет очертания. Джайди смотрит на застывшего в медитации Будду сквозь слезы. Кто мог вообразить, что компании-калорийщики уничтожат все фиговые деревья, а с ними погибнет и бо? Единственное, что свято фарангам, — деньги. Он смахивает влагу с лица. Неразумно думать, будто может быть что-то вечное. Как знать — вдруг буддизм тоже когда-нибудь исчезнет?
Джайди встает, подбирает белые одежды и делает ваи в сторону обветшалого образа Будды, который сидит под исчезающим бо.
Снаружи ярко светит луна. Редкие метановые фонари едва выхватывают из темноты дорожку, ведущую под переделанными генетиками тиковыми деревьями к монастырским воротам. Глупо пытаться ухватить то, что нельзя вернуть. Все когда-то умирает. Чайю он уже потерял. Это и есть перемены.
Ворота никто не охраняет. Все уверены, что бывший капитан будет покорно стенать и молить, хвататься за любую надежду вернуть жену, что позволит себя сломить. Джайди даже не уверен, есть ли кому-то дело до его судьбы. Он свою службу сослужил — подвел генерала Прачу под удар, заставил все министерство природы потерять лицо; есть Джайди, нет ли его — какая теперь разница?
Он шагает по полупустым ночным улицам Города божественных воплощений на юг, к реке, к Большому дворцу, навстречу огням, к дамбе, которая бережет Бангкок от наводнения, этого проклятья фарангов.
Впереди мерцают скаты храма Священного столпа, образы Будды проступают в отблесках горящих ароматических свечей. Здесь Рама XII провозгласил, что Крунг Тхеп не будет покинут, не падет перед фарангами и их приспешниками подобно Аютии, которая сдалась бирманцам столетия назад.
Под пение девятисот девяносто девяти монахов в шафрановых одеяниях король объявил, что город будет спасен, а защищать его отныне станет министерство природы — возведет могучие дамбы и водохранилища, которые уберегут людей от потопов в сезон муссонов и от штормовых волн. Крунг Тхеп выстоит.
Джайди шагает и слушает монахов, чьи монотонные, никогда не умолкающие молитвы призывают мир духов на помощь Бангкоку. Было время, и он по дороге на работу падал ниц на холодный мрамор перед главным столпом, просил поддержки у короля, духов и всех неведомых сил, что населяли город. Столп, как волшебный талисман, вселял в него веру.
А теперь он идет мимо, даже не поворачивая к храму головы.
Все преходяще.
Джайди шагает дальше, к людным кварталам вдоль клонга Чароен. Тихо плещут волны. В этот поздний час уже никто не мутит темную воду шестом.
Впереди на одной из затянутых сеткой веранд мерцает свеча. Он подкрадывается ближе.
— Канья!
Его бывший лейтенант смотрит изумленно, тут же прячет эмоции, но Джайди успевает заметить потрясение: она видит обритого, безбрового, уже забытого человека, который улыбается как сумасшедший, стоя перед ее домом. Капитан, которому даже весело от мысли о том, какое зрелище он собой представляет, снимает сандалии, привидением поднимается по ступеням, открывает сетчатую дверь и входит внутрь.
— Думала, вас уже услали в леса.
Джайди подбирает полы одежды, садится рядом и устремляет взгляд на зловонные воды клонга. В жидком лунном серебре блестит отражение мангового дерева.
— Монастырь, который согласился бы замарать себя присутствием такого, как я, еще надо поискать. Даже Пхра Критипонг не спешит брать врага министерства торговли.
— Сейчас только и разговоров что о растущей власти Торговли, — хмуро замечает Канья. — Аккарат вон уже в открытую говорит о ввозе пружинщиков.
— Вот так да… Фаранги — понятно, но Аккарат…
— При всем моем уважении к королеве, пружинщики бунты не устраивают. — Она вонзает палец в мангостан и снимает багровую, но в темноте будто черную, жесткую шкурку. — Торапи примерят лапу к следу отца.
— Все меняется, — пожимает плечами Джайди.
— Как вообще можно противостоять силе денег? Это же их главное оружие. Когда люди видят, как к их берегам подступает океан богатства, они тут же забывают своих начальников и обязательства. Мы не с подступающей водой воюем, а с деньгами.
— Деньги — привлекательная штука.
Она хмурит брови.
— Только не для вас. Вы и без кути всегда жили как монах.
— Может, поэтому из меня плохой послушник.
— Кстати, вам разве не надо сейчас быть в кути?
— Не мой размах.
Канья смотрит на него настороженно.
— То есть вас не отдадут в монахи?
— Какой из меня монах? Я боец. Сидеть в келье и медитировать толку нет, хотя я сам чуть в это не поверил. После того как украли Чайю, все в голове перемешалось.
— Ее обязательно вернут.
Джайди грустно смотрит на свою бывшую подопечную, удивляясь ее внезапной надежде и уверенности. Почему она, человек, который почти никогда не улыбается и всюду видит печаль, искренне считает, что именно теперь — вот редчайший случай — все будет хорошо?
— Не вернут.
— Вернут!
— Всегда думал, что ты пессимистка.
На ее лице отражается страдание.
— Как вы только не показали им, что сдались. Лицо потеряли окончательно. Должны отпустить!
— Не отпустят. Думаю, и дня не прошло, как ее убили. Я и верил-то до последнего только потому, что любил ее безумно.
— Убили? Откуда вам знать? Вдруг еще держат?
— Как ты верно заметила, лицо я потерял окончательно. Если бы они этого и добивались, уже отпустили бы ее. Значит, хотят чего-то другого. — Джайди задумчиво смотрит на водную гладь клонга. — Сделай мне одолжение.
— Что угодно.
— Дай мне пружинный пистолет.
— Кун… — У Каньи глаза лезут на лоб.
— Не бойся, верну. Со мной идти не надо. Мне бы только хорошее оружие.
— Я…
— Да не бойся же, со мной все будет нормально. К тому же зачем рушить еще и твою жизнь?
— Хотите свести счеты с министерством торговли.
— Аккарат должен понять, что у Тигра еще есть клыки.
— Вы даже не знаете, Торговля ли ее забрала.
— А кто же? Я много себе наделал врагов, но настоящий по большому счету только один. Вот — я, а вот — Торговля, и никак иначе. А меня еще убеждали, что все не так.
— Я с вами пойду.
— Нет. Ты, лейтенант, остаешься присматривать за Ниватом и Суратом. О большем не прошу.
— Пожалуйста, не делайте этого. Я буду умолять Прачу, пойду к…
Он обрывает Канью, пока та не наговорила безобразных вещей. Когда-то Джайди позволял лейтенанту терять перед ним лицо, а потом изливать целое море извинений. Но то время прошло.
— Мне больше ничего не нужно, я всем доволен. Отправлюсь в Торговлю и заставлю их заплатить сполна. Такова камма. Значит, не судьба мне вечно быть с Чайей. Или ей — со мной. Но раз уж мы держимся своей даммы, то еще можем кое-что сделать. Понимаешь, Канья, у нас у всех есть обязанности и перед теми, кто выше нас, и перед теми, кто ниже. Я прожил много жизней: сперва мальчишка, потом чемпион по боксу, потом отец, белый китель. — Ухмыльнувшись, он смотрит на свое одеяние послушника. — Теперь вот монах. Так что не переживай за меня. Прежде чем совсем махну рукой на эту жизнь и отправлюсь навстречу Чайе, пройду еще несколько дорог. — Тут Джайди добавляет со сталью в голосе: — Есть у меня еще дела, и пока их не закончу — не остановлюсь.
В глазах Каньи читается боль.
— Вам нельзя одному.
— Конечно. Со мной будет Сомчай.
Торговля — министерство, которое чувствует себя безнаказанным, — с легкостью выставляет Джайди на посмешище, крадет его жену и оставляет в его душе дыру размером с дуриан.
«Чайя».
Он пристально рассматривает ослепительно освещенное здание и чувствует себя дикарем, вышедшим из леса, или шаманом, наблюдающим за шествием боевых мегадонтов. На мгновение уверенность покидает его.
«Домой бы, мальчишек повидать».
И все же Джайди здесь, стоит на границе света и тени перед сияющим зданием министерства торговли, где жгут уголь так, будто эпоха Свертывания и не наступала, будто нет плотин, которым надо сдерживать океан.
Там, внутри, скрывается и вынашивает новые планы тот самый человек, что следил за капитаном когда-то давно на якорных площадках; тот, что сплюнул красным от бетеля и неторопливо ушел с таким видом, словно Джайди — не более чем таракан, которого надо раздавить; тот, что наблюдал за позором капитана, сидя возле Аккарата. Он приведет к Чайе. Он — ответ на все вопросы. Ответ, спрятанный там, за ярко освещенными окнами.
Джайди отходит обратно в темноту. На нем и на Сомчае темная, чтобы оставаться незаметными, и удобная, без опознавательных знаков одежда. Сомчай — один из его лучших парней: ловкий, опасный в драке и бесшумный, к тому же умело вскрывает замки и тоже имеет на министерство зуб.
Напарник с крайне серьезным видом рассматривает строение. На лице то же выражение, какое обычно бывает у Каньи. Эта серьезность со временем оставляет отпечаток в каждом кителе — видимо, от работы. Джайди думает, что на самом деле тайцы вряд ли вечно ходят с улыбками, как о них говорят. Всякий раз, слыша смех сыновей, кажется — это в лесу расцвели чудесные орхидеи.
— Дешевая показуха, — говорит Сомчай, глядя на здание.
— Да. Помню их еще мелким подотделом сельхозведомства, а теперь — поди ж ты.
— Сразу понятно, сколько вам лет. Торговля всегда была большим министерством.
— Нет. Это был крохотный департамент — так, недоразумение. — Джайди машет в сторону отверстий хай-тековской конвекционной системы вентиляции, тентов и галерей недавно возведенного комплекса. — Будто опять хотят построить новый мир.
Словно в насмешку над его словами на балюстраду запрыгивают два чешира и начинают себя вылизывать — то исчезают, то возникают вновь и совершенно не боятся, что их увидят. Джайди достает пружинный пистолет и наводит прицел.
— Вот он — главный подарок этого министерства. Ему бы чеширов на герб.
— Не стреляйте.
— Почему? На карму никак не повлияет. Души-то у них нет.
— Кровью они истекают, как все другие животные.
— Бежевые жучки тоже, раз на то пошло.
Сомчай в ответ только чуть склоняет голову. Джайди с недовольным видом засовывает оружие обратно в кобуру. Незачем зря заряды тратить. Еще будет на кого.
— Я служил в отряде, который травил чеширов, — наконец говорит Сомчай.
— Ну, вот теперь и про твой возраст стало ясно.
— У меня тогда была семья.
— Не знал.
— Цибискоз-118Аа. Скоротечный.
— Помню, скверная разновидность. Мой отец от нее умер.
— Да. Очень по ним скучаю. Надеюсь, с новым воплощением им повезло.
— Конечно, повезло.
— Тут можно только надеяться, — пожимает плечами Сомчай. — Я и монахом-то стал ради них. Целый год читал молитвы, подношения делал… Только надеяться. — Он бросает взгляд на воющих чеширов и продолжает: — Тысячи вот таких я уничтожил, тысячи. За всю жизнь убил шестерых человек — и ни секунды не жалел, а на них каждый раз рука еле поднималась. — Сомчай ненадолго замолкает и почесывает за ухом купированный нарост фагана. — Я вот думаю иногда: цибискоз — кармическое наказание моей семье за тех чеширов.
— Ну нет. Это же неестественные создания.
— Размножаются, едят, живут, дышат. — Тут Сомчай добавляет, чуть улыбнувшись: — А если погладить, то мурлычут.
— Ффуу…
— Да, да, я сам пробовал. Чеширы такие же настоящие, как вы или я.
— Пустые оболочки, души в них нет.
— А вдруг даже самые жуткие из этих японских чудовищ хоть как-то, да живые? Боюсь, не переродились ли Нои, Чарт, Мали и Прем в телах пружинщиков. Не все же заслужили стать пхи тогда, в эпоху Свертывания, — вдруг некоторые из нас становятся пружинщиками и всю жизнь вкалывают и вкалывают у японцев на фабриках? Людей же сейчас гораздо меньше, чем раньше, так куда, значит, подевались все души? А если они там, в пружинщиках?
Джайди неприятен ход мыслей напарника, но вида он не подает.
— Такого просто не может быть.
— Все равно даже подумать теперь не могу об охоте на чеширов.
— Тогда предлагаю охоту на людей.
Едва в здании через дорогу открывают дверь и наружу выходит министерский работник, Джайди срывается с места. Человек, присев у стойки с велосипедами, начинает снимать с колеса замок. Бывший капитан выхватывает дубинку. Министерский поднимает глаза, видит над собой замахнувшегося незнакомца, ахает, успевает вскинуть навстречу руку, Джайди ударом отбрасывает ее в сторону и, оказавшись совсем рядом, бьет дубинкой прямо по голове.
Подбегает Сомчай.
— Для старика вы уж больно проворны.
— Хватай за ноги, — ухмыляется Джайди.
Они волокут тело через дорогу в темноту между двух метановых фонарей. Джайди обшаривает карманы служащего и с торжествующим видом вытаскивает звякнувшие ключи, потом быстро связывает пленнику руки, заматывает глаза и вставляет в рот кляп. Переливаясь пятнами цвета теней, камня и глины, подкрадываются чеширы.
— Они его съедят?
— Тебе-то что? Ты же не дал мне их убить.
Сомчай задумчиво замолкает. Джайди заканчивает с веревками и зовет напарника за собой. Они перебегают дорогу, осторожно подходят к двери, легко поворачивают ключ в замке и входят внутрь.
Глядя на яркий электрический свет, Джайди перебарывает в себе желание найти рубильник и погрузить все министерство во тьму.
— Как же глупо работать ночью и жечь ради этого горы угля.
— Тот, кого мы ищем, сейчас тоже может быть здесь.
— Только если ему крупно не везет, — говорит Джайди, в душе соглашаясь с напарником, и думает, сможет ли — да и найдет ли повод — себя сдержать, когда встретит убийцу Чайи.
Они шагают по освещенным коридорам с видом начальников, редкие встречные не обращают на них внимания, некоторым Джайди быстро с важным видом кивает; наконец останавливаются у стеклянных дверей архива.
— Стекло, — замечает Сомчай.
— Хочешь сперва попробовать? — спрашивает Джайди, уже доставший дубинку.
Ослепительный свет заливает коридор. Напарник достает инструменты и прощупывает замочную скважину. Когда бывшему капитану надоедает долгая возня, он достает дубинку и командует:
— Ладно, брось. Посторонись-ка.
Звонкое эхо разлетается между стен и быстро гаснет. Как ни странно, на звук никто не прибегает. Зайдя внутрь, они начинают обшаривать ящики. Вскоре Джайди обнаруживает личные дела и надолго с головой уходит в бумаги: перебирает, ищет, рассматривает мутные фотографии, откладывает вроде бы знакомые в отдельную кипу.
— Он меня точно знает — глаз тогда не сводил.
— Еще бы! Вы всем известны.
— Думаешь, он пришел на якорные площадки за чем-то конкретным? Или просто с обычной инспекцией?
— …или министерство хотело заполучить груз Карлайла, а может, какого-то другого дирижабля из тех, которые отказались от посадки, а потом рухнули в оккупированной Ланне[119]. Тут не угадаешь.
— Вот! Вот он!
— У того лицо вроде было поуже. Точно он?
— Точно.
Сомчай, хмурясь, разглядывает дело через плечо Джайди.
— Мелкий чиновник, пешка, ничего не решает.
— Нет, власть у него есть. Я хорошо помню, как он на меня смотрел тогда, на церемонии разжалования. И адрес не указан, просто Крунг Тхеп.
В коридоре слышны шаги. В проеме у разбитых дверей возникают двое с пружинными пистолетами наперевес.
— Стоять!
Джайди, состроив недовольную мину, быстро прячет за спиной папку.
— Да? Что случилось?
Охранники входят и осматривают помещение.
— Кто такие?
— А ты говоришь «всем известен», — бросает Джайди напарнику.
Тот пожимает плечами:
— Не все же любят муай-тай.
— Играют-то все. Эти наверняка на меня ставили.
Охранники приближаются, командуют встать на колени, обходят сзади, готовясь связать. Джайди бьет локтем наотмашь, хватает одного за рубашку на животе и, извернувшись, ударяет коленом в лоб. Второй спускает курок — из ствола вылетает очередь лезвий, Сомчай хватает его за горло, он роняет пистолет, падает и хрипит через разбитую трахею.
Джайди хватает первого, еще живого охранника, притягивает к себе и сует в лицо фотографию:
— Знаешь его?
Тот мотает головой, широко раскрыв глаза, и тянет руку к пистолету. Капитан отпинывает оружие и бьет ногой по ребрам.
— Рассказывай все, что знаешь! Он из ваших, из аккаратовских.
— Нет!
Джайди ударяет его коленом в лицо — тот воет, брызжет кровь — и садится рядом.
— Говори, или ты — следующий.
Оба смотрят на охранника, хрипящего разбитым горлом.
— Говори.
— В этом нет необходимости.
В проеме — он. Тот, кого с такой жадностью разыскивал бывший капитан.
В архив вбегают вооруженные люди. Джайди выхватывает пистолет, в руку тут же вонзаются лезвия, льется кровь, он разжимает пальцы, хочет выпрыгнуть в окно, его берут в оборот, швыряют на мокрый мраморный пол, кругом летают кулаки, вдали слышен вопль Сомчая. Руки заламывают за спину и сцепляют ротанговыми удавками.
— Наложите жгут, не хочу, чтобы он истек кровью, — командует незнакомец с якорных площадок.
Джайди смотрит, как на предплечье, из которого так и хлещет, кладут повязку. У него кружится голова — то ли от потери крови, то ли от бешеного желания убить врага. Его ставят на ноги. Подводят Сомчая: разбитый нос, залитые красным зубы, заплывший глаз. Позади на полу лежат двое мертвых охранников.
Незнакомец внимательно осматривает пленников, Джайди отвечает дерзким взглядом.
— Капитан, по-моему, вам сейчас положено монашествовать.
Тот кое-как пожимает плечами.
— Кути попалась слишком мрачная. Решил здесь отбывать срок.
— Это можно устроить, — отвечает человек, чуть улыбнувшись, и кивает своим людям. — Отвести наверх.
Их выталкивают из архива и тащат по коридору к лифту, настоящему электрическому лифту со сценами из Рамаяны[120] на стенах, со светящимися кнопками: каждая в форме пасти демона, а по краям — пышногрудые женщины с со-дуангами и чакхе[121]. Двери закрывают.
— Как тебя зовут? — спрашивает Джайди незнакомца.
— Это не важно.
— Ты же подручный Аккарата.
Тот молчит.
Лифт замирает, их выводят на крышу, за которой — пятнадцать этажей пустоты. Джайди с Сомчаем подталкивают к парапету.
— Стойте там, на краю, чтобы вас было видно.
Под дулами пружинных пистолетов они подходят к самой кромке и глядят вниз на тусклые огоньки метановых фонарей.
Значит, вот каково это — стоять в шаге от смерти. Джайди оценивает высоту, смотрит на далекую улицу, на ожидающее его пространство.
— Что ты сделал с Чайей? — спрашивает он незнакомца.
— Так вот почему ты пришел, — с ухмылкой говорит тот. — Потому что тебе ее немедленно не вернули.
В душе Джайди вспыхивает надежда — а вдруг он ошибался?
— Со мной делайте что хотите, а ее отпустите.
Человек отчего-то мешкает с ответом. Оттого, что чувствует за собой вину? По лицу не разобрать — слишком далеко стоит. Так, значит, Чайя в самом деле мертва?
— Отпустите ее, и все. А со мной поступайте как знаете.
Незнакомец по-прежнему молчит.
Джайди думает, стоило ли ему в какой-то момент поступить иначе. Являться сюда — большая наглость, даже если он и считал Чайю потерянной для себя. К тому же этот человек никак не обнадежил и не раздразнил намеком о ее судьбе. Неужели Джайди сглупил?
— Так жива она или нет?
— Неизвестность — это плохо, да? — с ухмылкой спрашивает незнакомец.
— Отпустите ее.
— Ничего личного в этом не было. Имелся бы другой способ… — Незнакомец разводит руками.
Значит, мертва. Теперь Джайди уверен. И ее похищение — часть какого-то плана. Зря дал Праче убедить себя в том, что ее спасут. Стоило тут же нанести ответный удар, собрать всех своих и отомстить, проучить Торговлю как следует.
— Извини, что втянул тебя, — говорит он Сомчаю.
— Вы всегда были Тигром, такая уж у вас натура. Я знал, на что иду.
— Но умирать здесь…
— Умрем — переродитесь в чешира, — улыбается напарник.
У Джайди от такого ответа вырывается булькающий смешок. До чего приятный звук. Такой приятный, что сдерживать его невозможно. Хохот заполняет капитана до краев. Даже охранники начинают фыркать. А от вида теперь веселой физиономии Сомчая приступ смеха накатывает с удвоенной силой.
За спиной слышны шаги.
— Что за праздник? На удивление радостные нам попались воры.
Едва переводя дух, Джайди отвечает:
— Ошибка вышла, мы не воры, мы тут работаем.
— Это вряд ли. Повернись.
Министр торговли. Сам Аккарат во плоти. А рядом с ним… Все веселье вылетает из Джайди одним махом, как водород из пробитого дирижабля. Он так и обмирает: телохранители, «Черные пантеры», элитное королевское подразделение, знак расположения дворца. В министерстве природы никого так не охраняют, даже самого генерала Прачу.
Аккарат отмечает его потрясение чуть заметной улыбкой и начинает внимательно разглядывать пленников. Но Джайди это безразлично — он смотрит на того незнакомца, того незаметного человека, того самого, который… И тут все встает на свои места.
— Так ты не из Торговли. Ты служишь дворцу.
Тот лишь пожимает плечами.
— Что — сразу подрастерял храбрость, капитан Джайди? — любопытствует Аккарат.
— Я же говорил — вы знаменитость, — бормочет Сомчай.
У Джайди снова возникает желание рассмеяться, хотя от того, как все оказалось на самом деле, ему совсем не до веселья.
— За вами в самом деле стоит дворец?
— Министерство торговли набирает силу, а Сомдет Чаопрайя предпочитает иметь надежных партнеров.
Джайди оценивает расстояние до Аккарата. Слишком далеко.
— Даже удивительно, как такой хийя расхрабрился сам сделать грязную работу.
— Это событие нельзя пропустить. Ты нам как кость в горле — причем дорогая кость.
— Значит, лично хотите столкнуть нас вниз? — дразнит его капитан. — Испачкаешь свою камму нашей смертью, грязный хийя? Или вот их заставишь марать руки — пускай в другой жизни станут тараканами и их раздавят десять тысяч раз, прежде чем они заслужат воплощение получше? Пускай станут хладнокровными убийцами ради твоей прибыли?
Телохранители начинают беспокойно переглядываться.
— Тараканом как раз станешь ты, — недовольно отвечает Аккарат.
— Тогда чего ждешь? Докажи, что мужик. Подойди да забери жизнь беззащитных.
Министр мешкает.
— Что — только на словах храбрец?
— Вот теперь ты зашел слишком далеко, белый китель. Слишком.
Министр бросает взгляд на пленника и идет вперед.
Джайди подскакивает на месте, делает разворот и с маху бьет врага коленом в ребра. Охранники вскрикивают. Он прыгает снова — движется плавно, как когда-то на ринге, будто никогда не покидал Лумпини, будто и теперь слышит рев поставивших на него болельщиков, — и одним ударом ломает министру ногу. Отвыкшие от тренировок суставы взрываются болью, но даже со связанными за спиной руками капитан работает коленями достойно своего чемпионского звания. Бьет снова — министр хрипит и, шатаясь, отходит к краю здания.
Джайди делает замах, готовясь столкнуть врага в пустоту, но тут его спину что-то пронзает. Он спотыкается, видит перед собой облако из капелек крови, чувствует, как диски-лезвия прорезают насквозь его тело, теряет ритм, падает навстречу парапету, успевает заметить, что Черные пантеры оттаскивают начальника в сторону, бьет снова, надеясь победить последним ударом, слышит вой новой порции лезвий, присвист пружин в пистолетах, выплевывающих диски прямо в его спину, ощущает глубокую жгучую боль. Джайди налетает на край здания, падает на колени, пробует встать, но его оглушает пронзительный высокий звук, теперь уже сплошной визг пружин — стреляют все, кто может.
Аккарат стирает с лица кровь. Сомчай ведет бой с двумя телохранителями.
Джайди больше не управляет собственными ногами. Он даже не чувствует толчка, которым его сбрасывают с крыши.
Он думал, что будет падать дольше.
18
Слухи летят со скоростью пожара в мертвых лесах Исаана. Бангкокский тигр убит. Министерство торговли с каждым днем все могущественнее. Хок Сен нутром чует, как в городе растет напряжение. С лица торговца газетами пропала улыбка, пара патрульных кителей хмуро рассматривают каждого прохожего, продавцы овощей стали воровато озираться.
Тигр убит и, говорят, с позором, хотя никто не знает, как все было. Его в самом деле лишили мужского достоинства? Действительно выставили его голову перед министерством природы для острастки другим белым кителям?
Хок Сена охватывает огромное желание просто забрать деньги и сбежать, но документы в сейфе держат его словно на привязи. Такого мощного и тайного бурления в стране он не ощущал с самого Казуса.
Старик встает, подходит к ставням, выглядывает наружу, шагает обратно к компьютеру, через минуту встает снова, идет к наблюдательному окну, выходящему в цех, смотрит, как работают тайцы. Воздух словно наполнен электричеством. Буря грянет. Хлынут потоки, ударят приливные волны.
Всюду опасность — и в городе, и на фабрике. Посреди рабочего дня снова пришла Маи с понурым видом: заболел еще один рабочий, на этот раз Сукумвит; отвезли в больницу — уже третью по счету. А там, среди машин, притаилась зараза.
При мысли о зреющей в резервуарах эпидемии у Хок Сена мурашки бегут по спине. Там, где трое, будет больше, если только не сообщить куда следует. Но тогда белые кители сожгут фабрику дотла, а секрет пружин улетит вместе с мистером Лэйком за моря и пиши пропало.
В дверь стучат.
— Лаи.
Робко входит Маи — напуганная, растерянная, черные волосы растрепаны, темные глаза обшаривают помещение — нет ли фаранга.
— Ушел обедать. Отвезла Вияду?
— Да. В больнице меня не заметили.
— Уже хорошо.
Девушка кланяется и смотрит умоляюще.
— В чем дело?
— Там… там белые кители, много, на всех перекрестках по дороге в госпиталь.
— Тебя останавливали? Расспрашивали?
— Нет, но их очень много, больше, чем всегда. И они очень сердитые.
— Это все из-за Тигра и из-за Торговли. Им не до нас. О нас они вообще не знают.
Маи кивает, но как-то с сомнением, и не уходит.
— Мне здесь непросто работать. Опасно стало… Еще болезни эти… Мне очень жаль, но если я умру… — Она окончательно сбивается. — Простите меня.
— Конечно, конечно. Мало хорошего, если ты заболеешь. — Хок Сен сочувственно кивает, но про себя думает, что вряд ли ей будет спокойнее где-нибудь в другом месте. По ночам его будят кошмары, в которых он все еще в башнях-трущобах среди других желтобилетников, но потом с облегчением вспоминает, что уже вырвался оттуда. В высотках свои эпидемии, а главный убийца — нищета. Хок Сен пробует найти равновесие между страхом перед неизвестной болезнью и уверенностью от того, что у него есть работа.
Хотя нет никакой уверенности. Из-за такого же самообмана, из-за нежелания понять, что корабль тонет и покинуть его надо, пока дышишь свободно, он слишком поздно оставил Малайю. Маи хватает мудрости распознать это, а он слеп.
— Да, конечно. Тебе стоит уйти. Ты еще молода, ты — тайка, с тобой еще много чего произойдет. — Он вымучивает улыбку. — Много хорошего.
Девушка медлит.
— Чего же ты ждешь?
— Мне бы последнюю зарплату.
— Разумеется. — Хок Сен распахивает небольшой сейф с наличными и вытаскивает красных бумажек сколько ухватила рука. В порыве безрассудной, самому непонятной щедрости отдает ей всю кучу. — Вот, бери.
Маи ошарашенно делает ваи.
— Спасибо, кун. Спасибо.
— Ерунда. Прибереги их. И неси осторожнее.
В цеху кто-то кричит, следом — еще несколько голосов. Хок Сена охватывает паника. Конвейер встает, и только потом звучат сигналы к остановке.
Он выглядывает за дверь. Внизу Плои машет рукой в сторону ворот. Рабочие бросают места и бегут к выходу. Хок Сен вытягивает шею, силясь разглядеть причину беспорядков.
— Что там?
— Непонятно. — Потом он подбегает к окну, широко распахивает ставни и охает: по широкой улице рядами маршируют белые кители.
— Идут сюда? — спрашивает Маи.
Хок Сен молча переводит взгляд на сейф. «Когда так мало времени…» Нет, глупить больше нельзя: прождал в Малайе, но второй раз ту же ошибку не повторит. Он выгребает все деньги и сует их в сумку.
— Они из-за тех больных пришли, да?
— Это не важно. Иди за мной.
Хок Сен подходит к одному из окон и открывает ставни, за которыми тянется залитая ослепительным солнцем крыша фабрики.
Маи удивленно смотрит на раскаленную черепицу.
— Что это?
— Отходной путь. Желтые билеты всегда готовы к худшему. — Он подсаживает девушку и добавляет с усмешкой: — Все мы параноики.
19
— Ты пояснил Аккарату, что предложение будет действовать недолго? — спрашивает Андерсон.
— Ты еще и недоволен? Радуйся, что он не велел привязать тебя к мегадонтам и порвать на части. — Карлайл подчеркивает свои слова, приподняв бокал с теплым рисовым пивом.
— Ему прямо в руки идут такие ресурсы, мы же взамен просим совсем немного — по историческим меркам вообще пустяк.
— Он и так всем доволен. Зачем ему вы, если перед ним уже белые кители стелятся? У него столько власти было только до переворота двенадцатого декабря.
Андерсон сердит. Он берет пиво, но тут же ставит обратно — этого теплого пойла больше не хочется, от духоты и выпитого сато в голове и так туман. Похоже, сэр Френсис намерен отвадить фарангов от своего заведения — то не держит обещания, то «простите, сегодня льда нет». Вокруг бара сидят несколько клиентов — таких же ошалелых от жары, как и сам Андерсон.
— Зря ты не принял мое предложение сразу, — замечает Карлайл. — Сейчас бы так не маялся.
— Тогда это было предложение хвастуна, который только что потерял целый дирижабль.
— Настолько большой дирижабль, что всей картины за ним не разглядеть?
Он пропускает насмешку мимо ушей. Досадно, что Аккарат отверг помощь так легко, но главная проблема в другом: сейчас Андерсон едва может сосредоточиться на работе — все его мысли и все его время посвящены Эмико. Каждый вечер он разыскивает ее в Плоенчите, уводит прочь от других клиентов и осыпает деньгами. Несмотря на жадность Райли, компания пружинщицы обходится дешево. Через несколько часов сядет солнце, и она снова дерганой походкой выйдет на сцену. В первый раз увидев Андерсона на своем выступлении, Эмико перехватила его взгляд и не отпускала, умоляла спасти от того, что должно было случиться.
— Я не владею своим телом, — ответила она бесцветным голосом, когда Андерсон спросил о происходившем на сцене. — Я не контролирую то, что должна делать по воле конструкторов, мной будто бы изнутри управляют их пальцы, как марионеткой, понимаете? — Ее кулаки сами собой сжимались и разжимались, но слова звучали невыразительно. — Меня создали покорной — во всех смыслах покорной. — И тут же, очаровательно улыбнувшись, обвила его руками, будто и не жаловалась всего секунду назад.
Эмико — животное, послушная собачка. Однако если говорить с ней осторожно, не приказывать и не подходить слишком близко, возникает совсем другая пружинщица — существо редкое и драгоценное, как живое дерево бо. Сквозь частую сеть продуманно составленных ДНК прорывается душа.
Андерсон размышляет, испытывал бы он большее возмущение, если бы на сцене издевались над настоящим человеком. До чего странно — быть с искусственным существом, с тем, кого создавали и обучали только с одной целью — служить. Эмико признает, что ее душа воюет с телом, что и сама не знает, какая часть натуры — ее собственная, а какая встроена генетически; не знает, идет ли это стремление служить от ДНК собаки и не она ли заставляет быть верной людям, беспрекословно соглашаясь с их превосходством? А может, все дело в годах муштры, о которых Эмико ему как-то рассказывала?
Ритмичный стук сотен шагов по дороге прерывает его размышления. Карлайл, встрепенувшись, вытягивает шею посмотреть, что происходит. Андерсон поворачивает голову и чуть не опрокидывает бокал с пивом.
Всю улицу заполонили белые кители. Пешеходы, рикши и тележки с едой отчаянно жмутся к каменным оградам и стенам фабрик, освобождая путь отрядам министерства природы. Всюду, насколько хватает глаз, ряды пружинных ружей, черных дубинок и ослепительно белых форм — дракон, неумолимо ползущий к своей цели, суровый лик никогда и никем не завоеванной нации.
— Иисусе и Ной ветхозаветный, — бормочет Карлайл.
— Многовато их.
Будто по сигналу от строя отделяются двое, входят в бар и с плохо скрытым отвращением разглядывают отупевших от жары и выпивки фарангов.
Всегда апатичный сэр Френсис вылетает им навстречу и отвешивает глубокий ваи.
Андерсон глазами показывает Карлайлу на дверь.
— Нам не пора?
Тот мрачно кивает.
— Только не так явно.
— Теперь уж как выйдет. Думаешь, тебя ищут?
— Вообще-то я рассчитывал, что пришли за тобой, — напряженно отвечает Карлайл.
Сэр Френсис, переговорив с кителями, обращается к своим клиентам:
— Прошу прощения! Мы закрыты. Все закрыто. Вы должны немедленно покинуть бар.
Компаньоны, пошатываясь, встают.
— Зря я столько выпил, — замечает Карлайл.
Вместе с другими посетителями они бредут на улицу и замирают на выходе, ошалело щурясь на яркое солнце и на колонны белых кителей. Гул шагов сотрясает воздух, скачет между стен, грозит бедой.
Андерсон говорит Карлайлу прямо в ухо:
— Это же не из-за какой-нибудь провокации Аккарата? Может, что-то вроде того случая с твоим дирижаблем?
Карлайл молчит, но выражение его лица красноречивее любых слов. Сотни кителей маршируют по улице, прибывают все новые и вливаются в эту бесконечную белую реку.
— Похоже, вызвали отряды из провинций — в городе столько никогда не было.
— Это пожарные отряды министерства. Их отправляют на вспышки цибискоза или птичьего гриппа. — Карлайл хочет указать на что-то пальцем, но быстро опускает руку, не желая привлекать к себе внимание. — Видишь нашивки? Тигр и факел. Фактически отряд смертников. Это у них Бангкокский тигр начинал.
Андерсон кивает с мрачным видом. Одно дело — жаловаться на кителей, шутить над их тупостью и жадностью до взяток, и совсем другое — смотреть на боевой строй сияющих форм. Под их ногами дрожит земля, встают клубы пыли, эхо шагов скачет между стен. Его охватывает нестерпимое желание бежать прочь. Они — хищники, а он — жертва. Интересно, Питерс и Лей тогда в Финляндии наблюдали хотя бы такие признаки наступающих бед?
— Пистолет есть?
— От него больше неприятностей, чем пользы, — отвечает Карлайл.
— Рикши нет, — замечает Андерсон, поискав глазами Лао Гу.
— Вот чертовы желтобилетники, — негромко хохотнув, говорит Карлайл. — Вечно держат нос по ветру. Поспорить готов — все до единого уже попрятались.
Андерсон тянет компаньона за локоть.
— Пойдем. Попробуем не привлекать к себе внимания.
— И куда же?
— Свои носы по ветру ставить. Поглядим, что происходит.
Он ведет Карлайла по боковой улице к главному судоходному клонгу, который выходит к морю, и почти сразу дорогу им преграждает патруль — белые кители, взмахнув пружинными ружьями, приказывают развернуться.
— Похоже, оцепляют весь район — и плотины, и фабрики.
— Карантин?
— Они без масок, значит, не жечь пришли.
— Тогда что — опять переворот, как двенадцатого декабря?
— Если по твоему плану, то рановато. — Андерсон бросает быстрый взгляд на компаньона, который рассматривает белых кителей.
— Или генерал Прача решил атаковать нас первым.
Андерсон тянет Карлайла в противоположную сторону:
— Пойдем ко мне на фабрику. Может, Хок Сен что-нибудь знает.
Вдоль всей улицы люди в форме энергично выпроваживают торговцев из магазинов, приказывают запирать двери. Последние продавцы устанавливают деревянные щиты на витрины, опечатывают замки на фасадах. Мимо марширует еще один отряд.
Они подходят к зданию «Спринглайфа» в тот самый момент, когда из ворот выводят мегадонтов. Андерсон хватает за руку махута, чье огромное животное, остановленное ударом хлыста, нетерпеливо фыркает и перебирает ногами, пока его обтекает группа рабочих с конвейера.
— Где Хок Сен? Босс, желтый билет?
Погонщик в ответ только мотает головой. Поток людей не прекращается.
— Белые кители приходили?
Тот что-то лопочет, но слишком быстро.
— Говорит, они хотят отомстить и вернуть себе лицо, — переводит Карлайл, потом решительно отводит компаньона в сторону.
С фабрики «Чаочжоу» по другую сторону дороги тоже эвакуируют рабочих. Все магазинчики позакрывались, двери заперты, тележки с едой попрятали по соседним домам или в спешке развезли кто куда, из окон под потолком зданий выглядывают редкие тайцы, по улице спешат лишь встревоженные рабочие да маршируют белые кители. Последние сотрудники «Спринглайфа» выбегают наружу, даже не глядя на Лэйка и его спутника.
— Чем дальше, тем хуже, — угрюмо замечает Карлайл. Даже под загаром заметно, что он бледен.
Мимо длинной змеей марширует очередная колонна по шесть человек.
От вида наглухо закрытых магазинов у Андерсона сосет под ложечкой — все будто ждут тайфуна.
— Давай поступим, как местные. Пойдем-ка внутрь. — Он берется за тяжелую стальную створку и тянет. — Подсоби.
Вдвоем они закрывают ворота, опускают засовы, потом Андерсон с грохотом устанавливает замок и, привалившись к горячему железу, тяжело выдыхает.
— Так что — мы теперь в безопасности? Или, наоборот, попали в западню? — спрашивает Карлайл, оглядывая запоры.
— Раз мы не в Клонг Преме, то давай считать, что пока один — ноль в нашу пользу.
Однако в этой игре слишком много переменных, и Андерсону неспокойно. На память приходит восстание грэммитов в Миссури: сперва чувствовалась напряженность, люди шептались понемногу, а потом вдруг начали жечь поля, хотя такого никто и предположить не мог — ни один разведчик даже не подозревал, какие втайне кипели страсти.
История кончилась тем, что он сидел на крыше зернохранилища, кашлял от дыма — пламя стеной шло по полям «Хайгро», — беспрестанно палил по бунтовщикам из отобранного у нерасторопной охраны пружинного ружья и все думал, отчего никто не заметил приближения катастрофы. Тогда они потеряли предприятие из-за собственной слепоты, теперь происходит все то же самое: сперва взрыв, а потом изумленное понимание того, что мир устроен совсем не так, как казалось.
Прача сделал первый ход в игре, где на кону — абсолютная власть. Аккарат решил все усложнить, или просто стряслась очередная эпидемия — не угадаешь. Глядя на марширующих кителей, Андерсон почти ощущает запах горящих полей «Хайгро».
— Пойдем, разыщем Хок Сена. Если кто и в курсе дел, так это он.
В офисах на втором этаже пусто. Над благовониями ровно струятся серые ниточки дыма, от легкого ветерка заводных вентиляторов шелестят страницами брошенные прямо на столе бумаги.
Карлайл негромко, но злорадно смеется:
— Что — и помощник пропал?
— Похоже на то.
Дверца сейфа с деньгами открыта. Пропали по меньшей мере тридцать тысяч батов.
— Черт! Скотина. Ограбил.
— Смотри-ка. — Карлайл распахивает ставень, сразу за которым — длинная черепичная крыша фабрики.
— То-то он вечно проверял запоры на этом окне. Думал, боится, как бы кто не влез.
— Наоборот — сам вылез, — ухмыляясь, говорит Карлайл. — Тебе надо было уволить его при первой возможности.
На улице внизу стихли все звуки, кроме стука ботинок по мостовой.
— Можешь похвалить его при случае за предусмотрительность.
— Знаешь, как тайцы говорят? «Видишь, как бежит желтобилетник, — посторонись. За ним будет мегадонт».
Андерсон в последний раз обводит взглядом контору и шагает к окну.
— Давай посмотрим, куда пошел мой помощник.
— Ты серьезно?
— Раз Хок Сен не жаждал встречи с кителями, то и нам не стоит. К тому же у него определенно был план. — Он взбирается на подоконник, вылезает на залитую солнцем кровлю, встает, трясет ладонями — черепица раскалилась, как сковорода, — часто и тяжело дышит горячим воздухом. За крышей встает здание фабрики «Чаочжоу». Андерсон делает несколько шагов вперед, потом говорит через плечо: — Думаю, туда он и пошел.
Из окна выбирается Карлайл — лицо в поту, рубашка намокла. Компаньоны идут по красноватой черепице сквозь обжигающий воздух. Сразу за крышей провал — переулок, изгибом выходящий на Тханон Пхошри. С противоположной стены свисает лестница.
— Чтоб меня.
Они смотрят на отделяющие их от земли три этажа.
— Этот твой старый китаец вот так взял да перепрыгнул?
— Похоже. А потом слез по лестнице. — Андерсон вытягивает шею, глядя вниз. — Падать далеко. — Он угрюмо кривит рот, удивляясь изобретательности Хок Сена. — Хитрый мерзавец.
— Приличный прыжок.
— Да уж. Если Хок Сен…
…и не успевает договорить. Мимо проносится Карлайл, перепрыгивает проулок, тяжело падает на крышу соседнего здания, перелетает через голову, но тут же встает и уже через секунду радостно машет рукой.
Андерсон, ругнувшись, прыгает следом. От жесткого приземления лязгают зубы. Он поднимается на ноги, видит, что компаньон уже перелез через край крыши на лестницу, прихрамывая, идет за ним, а когда слезает на мостовую, Карлайл уже изучает местность.
— В эту сторону — на Тханон Пхошри, к нашим друзьям. Делать там нечего.
— Хок Сен — параноик и наверняка подготовил себе путь отступления заранее, причем вряд ли по главным улицам. — Андерсон делает несколько шагов в противоположном направлении и почти сразу обнаруживает лаз между двумя фабричными стенами.
— Неплохо, — уважительно кивает Карлайл.
Метров сто, обдирая плечи, они протискиваются по узенькому проходу, находят в конце обитую ржавым железом дверь, открывают — из-за кучи белья на них смотрит пожилая прачка. Компаньоны стоят посреди внутреннего дворика, сплошь увешанного выстиранной одеждой, во влажном воздухе играет радуга.
Старушка показывает им, куда идти, и через несколько секунд они оказываются в крохотном сой — тот вскоре переходит в череду извилистых проулков между из невесть чего сделанных хибар, где живут кули, которые работают на плотинах и возят туда грузы с городских фабрик. И снова цепь мелких улочек: рабочие над тарелками с лапшой и жареной рыбой, лачуги из везеролла, пропахший потом душный полумрак под налезающими друг на друга крышами. Едкий перечный дым вызывает кашель и заставляет их прикрывать рты.
— Вообще не понимаю, где мы. Куда нас занесло? — ворчит Карлайл.
— Да разве важно?
Пот заливает Андерсону глаза, весь выпитый алкоголь уже выветрился. Компаньоны прокладывают себе путь мимо придавленных жарой собак, восседающих на горах мусора чеширов, через бесконечные сумеречные переулки, по узким тротуарчикам — сплошь повороты и углы — в обход велосипедов, куч металла и кокосового пластика.
Впереди прогал. Их заливает слепящее солнце. Андерсон полной грудью вдыхает сравнительно свежий воздух — пугающая теснота наконец позади. Улица небольшая, но по ней уже едут повозки.
— Знакомое место, — говорит Карлайл. — Тут где-то должен быть продавец кофе, к которому захаживает один мой работник.
— По крайней мере нет белых кителей.
— Мне надо в «Викторию» — у них в сейфе мои деньги.
— Напомни, сколько за твою голову дают?..
— Н-да, ты прав, наверное. Тогда нужно хотя бы связаться с Аккаратом — узнать, что происходит, решить, как поступать дальше.
— Хок Сен и Лао Гу исчезли. Давай-ка мы тоже заляжем на дно. Можно взять рикшу до клонга Сукумвит, а оттуда на лодке до меня — так мы обойдем стороной фабрики с торговыми кварталами и будем подальше от этих чертовых кителей.
Они подзывают возчика и, не торгуясь, залезают на сиденье.
Вдали от министерских войск Андерсону становится спокойно и даже несколько неудобно за прежний страх: скорее всего кители шли по своим делам и не стали бы его трогать, не пришлось бы устраивать беготню по крышам. Скорее всего… нет, предполагать нельзя — слишком мало он знает. Вот Хок Сен не стал ждать — взял деньги и был таков. Андерсон вспоминает его тщательно продуманный отходной путь, прыжок с крыши на крышу, и не может сдержать смех.
— Что смешного?
— Да Хок Сен — все ведь продумал, все заранее устроил. Едва началось — р-раз — и в окно.
— Не знал, что у тебя в штате есть ниндзя на пенсии, — ухмыляется Карлайл.
— Я и сам…
Все повозки вдруг сбавляют ход. Впереди маячит белое пятно. Андерсон привстает, стараясь разглядеть получше.
— Вот черт.
Дорогу перегородили кители.
Карлайл тоже выглядывает вперед.
— КПП?
— Похоже, оцепили не только фабрики, — говорит Андерсон и смотрит назад, но все отходы уже перекрыты быстро растущей толпой прохожих и велосипедистов.
— Рванем? — предлагает компаньон.
Возчик в соседней рикше привстает на педалях, смотрит на затор, садится и начинает раздраженно жать кнопку звонка. Водитель Андерсона поступает так же.
— Все вроде спокойны.
Вдоль улицы у горок пахучих дурианов, корзин сорго и бурлящих рыбой ведер, не проявляя никакого беспокойства, торгуются покупатели и продавцы.
— Думаешь, наврем им чего-нибудь, и нас пропустят? — спрашивает Карлайл.
— Черт его знает. Все же интересно — может, это Прача решил мышцами поиграть?
— Да нет же — генералу ядовитые зубы повыдергивали.
— Как-то непохоже.
Андерсон вытягивает шею, стараясь хотя бы краем глаза рассмотреть, что происходит впереди. Какой-то таец — коричнево-красный загар, на пальцах золото, — размахивая руками, спорит с белыми кителями. Слов не разобрать — подъезжают все новые велосипедисты и тоже начинают трезвонить; они не испуганы — просто раздражены, для них это очередной дорожный затор. Мелодичное дребезжание заглушает остальные звуки.
— Вот черт, — негромко комментирует Карлайл.
Спорщика стаскивают с седла — в воздухе, сверкнув золотым кольцом, мелькает его рука и тут же исчезает за белыми спинами, а вслед за ней ныряют и взмывают обратно, уже блестя кровью, черные дубинки.
Человек пронзительно, по-собачьи скулит. Звонки тут же стихают. Примолкнувшая улица поворачивает головы в одну сторону. В наступившей тишине хорошо слышны прерывистые мольбы спорщика и дыхание, движение сотен тел. Люди дружно и испуганно вздрагивают, как стадо, в которое пробрался хищник, начинают опасливо смотреть по сторонам.
Глухие удары все не прекращаются.
Наконец вскрики стихают. Белые кители распрямляют спины. Один велит толпе ехать дальше — деловитым нетерпеливым жестом, будто люди собрались поглазеть на цветы или на карнавал. Велосипедисты неуверенно давят на педали. Улица постепенно приходит в движение.
— О Господи! — садясь, выдыхает Андерсон.
Их возчик привстает, и рикша трогает с места. На лице Карлайла застыла тревога, глаза бегают из стороны в сторону.
— Последний шанс удрать.
Андерсон, не отрываясь, смотрит на кителей.
— Побежим — заметят.
— Мы фаранги, твою мать! Нас и так заметят!
Толпа пешеходов и велосипедистов ползет вперед, просачиваясь через пропускной пункт и обтекая место расправы.
Вокруг тела стоят шестеро кителей. Андерсон смотрит, не сводя глаз: из головы мертвеца струится кровь, в красных ручейках уже жужжат мухи, целиком заныривая в калорийное пиршество. Вокруг, припав к земле, беспокойно бродит тень чешира — к густому озерцу не пускает частокол ног в белых брюках. Обшлага у военных все в бурых точечках — в следах поглощенной кинетической энергии.
Карлайл нервно кашляет. Один из оцепления поворачивает голову на звук, встречается глазами с Андерсоном. Они очень долго смотрят друг на друга. В глазах тайца — неприкрытая ненависть. Наконец китель с вызовом вскидывает бровь и хлопает себя по ноге дубинкой — на штанине остается кровавый отпечаток; бьет еще раз и резким кивком приказывает Андерсону смотреть в другую сторону.
20
Смерть — лишь очередной этап, переход к другой жизни.
Когда Канья думает об этом достаточно долго, то почти верит, что когда-нибудь смирится с такой мыслью. Однако сейчас истина в другом: Джайди мертв, его больше нигде не встретить, и какое бы воплощение он ни заслужил себе этой жизнью, какие бы молитвы ни читала Канья, какие бы подношения ни делала, Джайди уже не будет. Джайди, его жену не вернуть, а его отважные сыновья поймут, что все в мире — утраты и страдания.
Страдания. Боль — единственная истина. И все же юным надо иногда чувствовать радость и доброту, пусть даже желание беречь ребенка от бед привязывает родителей к колесу жизни. Детей надо баловать.
Так думает Канья, пока едет по городу на велосипеде к зданиям министерства и тому месту, где поселили потомков капитана. Детей надо баловать.
Всюду на улицах белые патрули. Тысячи ее сослуживцев берут в окружение драгоценные камни в короне Торговли и едва сдерживают захлестнувший их министерство гнев.
Низвержение Тигра, убийство отца, поругание святого.
Белым кителям больно так, словно они опять потеряли Себа Накхасатхиена. Министерство природы скорбит — значит, город будет скорбеть заодно с ним, а если план генерала Прачи сработает, то Аккарат и его ведомство тоже прольют слезы. На сей раз министерство торговли зашло слишком далеко. Даже Пиромпакди говорит, что за такое оскорбление кто-то должен ответить.
У въезда в комплекс она показывает пропуск и катит дальше мимо тиковых и банановых деревьев по выложенным кирпичом дорожкам к жилому сектору. У Джайди всегда был скромный дом — под стать ему самому, но теперь остатки его семьи ютятся в совсем жалком месте. Жестокий финал истории великого человека, который заслуживал лучшего, чем заплесневелый бетонный барак.
Дом одиночки Каньи всегда был больше жилища Джайди. Она прислоняет велосипед к стене и окидывает взглядом казарму. Одно из заброшенных министерством зданий: у входа несколько кустов, сломанные качели, неподалеку заросшее поле для такро — в это время дня оно пустует, и сетка неподвижно висит в жарком воздухе.
Канья стоит у обветшалого дома и смотрит на играющих во дворе детей. Сурата и Нивата среди них нет — видимо, оба внутри. Может, готовят погребальную урну или ушли приглашать монахов, которые станут петь и помогут их отцу благополучно воплотиться в другом теле.
Она тяжело вздыхает. Нелегкая ей выпала задача, ох, нелегкая.
«Почему я? Ну почему? Зачем я должна была служить у бодхисаттвы? Почему не кто-то другой?»
Канья всегда подозревала, что он знал о ее больших требованиях и к себе, и к другим, но всегда был собой — непогрешимым, безупречным, выполнял работу, потому что верил в нее, — совсем не таким, как его циничная, сердитая помощница; совсем не таким, как остальные, служившие в надежде на хорошую зарплату и на то, что какая — нибудь юная торговка непременно обратит внимание на белую форму и на человека, имеющего власть прикрыть ее маленький бизнес.
Джайди сражался, как тигр, а умер, как вор: ему отрезали руки и ноги, потом выпотрошили, кинули на съеденье псам, чеширам и воронам — почти ничего не осталось. Окровавленную голову с членом во рту прислали в министерство. Это было объявлением войны, только никто не знал, с кем воевать, хотя все и подозревали Торговлю. Одна Канья, его лейтенант, могла бы открыть тайну последнего похода капитана, но решила молчать, и теперь ей страшно стыдно.
С гулко стучащим сердцем она идет вверх по лестнице. Зачем этот треклятый достопочтеннейший Джайди полез в министерство торговли, почему не внял предупреждениям? Как теперь смотреть в глаза его сыновьям? Надо обязательно сказать им, что отец был хорошим бойцом и имел чистые помыслы. «А теперь мне еще и забирать его вещи. Спасибо вам большое, капитан. Они все-таки принадлежат министерству».
Канья стучит в дверь и отходит на пару ступеней вниз — дает время приготовиться. Ей открывает один из мальчиков, вроде бы Сурат, делает глубокий ваи и кричит в дом:
— Это старшая сестра Канья.
Вскоре на порог выходит старушка с заплаканными глазами — теща капитана, — на поклон гостьи отвечает еще более уважительным поклоном и приглашает войти.
— Простите, что беспокою.
— Ну что вы.
Мальчики с серьезным видом наблюдают за Каньей. В прихожей все неловко замирают. Наконец старушка спрашивает:
— Вы ведь за вещами пришли?
Ответить не поворачивается язык — сил хватает лишь на кивок. Лейтенанта отводят в спальню — беспорядок без слов говорит о царящем в доме горе. Мальчики смотрят, как их бабушка указывает на втиснутый в самый угол комнаты стол, где стоит коробка с вещами капитана и бумаги, которые он изучал.
— Больше ничего? — спрашивает Канья.
Старушка слабо пожимает плечами.
— Все, что он взял, когда сжигали дом. Я ничего не трогала. Оставил все тут и ушел в ват.
— Кха, конечно. Простите меня. — Лейтенант прячет смущение за улыбкой.
— За что они с ним так? Неужели им было мало?
— Я не знаю…
— Вы их найдете? Отомстите?
Канья мешкает — на нее глядят Ниват с Суратом. От их прежней игривости не осталось и следа. У них вообще ничего не осталось. Наконец она делает ваи и отвечает:
— Я найду их. Клянусь. Даже если на это уйдет вся жизнь.
— Обязательно забирать его вещи?
— Знаете, так положено. Мне следовало прийти раньше, но… — Она беспомощно замолкает. — Мы надеялись, что все образуется и его примут обратно. Если там какие-то личные вещи, я их верну, но оборудование надо забрать.
— Понимаю, оно ценное.
Кивнув и присев на колени, Канья берет забитую под верх коробку из везеролла. В полном беспорядке плотной кучей свалены документы, конверты, приборы, обойма лезвий для пружинного пистолета, дубинка, пластичные наручники, папки с документами.
Она представляет, как капитан складывал вещи: Чайи уже нет, остальное вот-вот отнимут — тут не до аккуратности. Среди прочего находит фотографию — кадет Джайди рядом с кадетом Прачой, оба молодые и самонадеянные — и задумчиво ставит ее на стол.
Старушка уже ушла, а мальчики еще тут, смотрят воронами. Она протягивает им фотографию. Помешкав, Ниват берет снимок и показывает брату.
Канья быстро просматривает остальное — все, похоже, имущество министерства — и чувствует смутное облегчение: не надо будет приходить сюда во второй раз. Тут ее внимание привлекает деревянная коробочка. Внутри поблескивают чемпионские медали за победы на ринге. Она тоже отдает их притихшим мальчикам, которые тут же склоняют головы над знаками отцовских побед, а сама начинает перелистывать бумаги.
— Тут вот еще, — говорит Ниват и показывает конверт. — Это тоже нам?
— В медалях лежало? — спрашивает она, не отрываясь от большой коробки. — А что там?
— Фотографии.
— Дайте-ка сюда, — заинтересовавшись, командует Канья.
Все это похоже на материалы о тех, кого Джайди в чем-то подозревал. Много Аккарата. Фаранги — тоже много, их хищно-радостные лица бледными призраками окружают министра; ничего не подозревающий Аккарат тоже улыбается — явно рад такой компании. Она перебирает снимки. Незнакомые люди — снова фаранги, скорее всего торговцы. Вот толстяк, отъевшийся на заморских калориях, — какой-нибудь представитель «ПурКалории» или «Агрогена» с Ко Ангрита — жаждет наладить связи в едва открывшем границы государстве, в министерстве, чья власть день ото дня сильнее. А это Карлайл — тот, что потерял дирижабль. Канья чуть кривит губы в улыбке — вот уж кому было досадно. Она смотрит на следующую фотографию и ахает.
— Что? Что там? — любопытствует Ниват.
— Нет, ничего. — Слова даются с трудом.
На снимке сама Канья — выпивает с Аккаратом на его прогулочном судне; кадр сделан длиннофокусным объективом — детали размыты, но лица видны.
«Джайди знал».
Она очень долго смотрит на фото, напоминая себе, что надо дышать; смотрит и размышляет о камме, о долге. Сыновья капитана молча глядят на нее, а лейтенант думает о своем командире, который никогда не упоминал этот снимок, о том, что известно людям его ранга, о чем молчал он сам и о том, что иные тайны стоят дороже человеческой жизни. Хорошо все взвесив, Канья кладет снимок в карман, а остальное засовывает обратно в конверт.
— Там какая-то подсказка?
Она медленно кивает, мальчики тоже, и больше ни о чем не спрашивают. Хорошие парнишки.
Потом Канья обыскивает комнату, на случай, если пропустила что-нибудь важное, ничего больше не находит и берет забитую приборами и документами коробку — тяжелую, но не тяжелее той фотографии, которая, словно кобра, затаилась в нагрудном кармане.
Выйдя на улицу, она заставляет себя сделать глубокий вдох, и смрад собственного бесчестья щиплет ей нос. Оглянуться и на прощанье посмотреть на мальчиков не хватает духа. Эти сироты платят за несгибаемую храбрость своего отца, страдают оттого, что Джайди нашел равного по силам соперника. Вместо сбора дани на улицах и ночных рынках капитан избрал себе настоящего врага — безжалостного и непреклонного.
«Я пыталась вас предупредить. Не надо было туда идти. Я пыталась», — думает Канья, стоя с закрытыми глазами.
Укрепив коробку в корзине велосипеда, она катит по комплексу и к тому времени, когда подъезжает к главному зданию, успевает взять себя в руки.
Под банановым деревом стоит Прача и курит сигарету «Золотой лист». К своему удивлению, Канья спокойно смотрит ему в глаза и, подойдя поближе, делает ваи. Тот отвечает на приветствие легким наклоном головы.
— Привезла его вещи?
Она кивает.
— Видела его сыновей?
Снова кивок.
Генерал мрачнеет.
— Помочились посреди нашего дома, оставили его тело у нас на пороге. Хоть это и невозможно, забрались в само министерство и швырнули вызов нам прямо в лицо. — Прача стискивает сигарету зубами. — Теперь ты главная, капитан Канья. Люди Джайди в твоем подчинении. Пора дать бой, как он того всегда хотел. Пролей кровь министерства торговли, капитан. Верни нам лицо.
21
Стоя у самой кромки на вершине полуразваленной башни, Эмико смотрит на север.
Она ничего не может с собой поделать — приходит сюда каждый день с тех пор, как Райли подтвердил, что деревня пружинщиков существует, с тех пор как Андерсон-сама только упомянул о ней. Даже в постели с Андерсоном или у него дома — тот иногда оставляет девушку у себя и платит столько, сколько ей не заработать в баре за несколько дней, — Эмико думает только о месте, где нет клиентов и хозяев.
Север.
Она глубоко втягивает воздух и чувствует запах моря, горящего навоза и аромат ползучих орхидей. Там, внизу, волны широкой дельты Чао-Прайи плещут о стены дамб и плотин. Вдали проступает плавучий район Тонбури: шаткие бамбуковые плоты, дома на сваях. Из воды среди останков затонувшего города выступает пранг Храма зари[122].
Север.
Из задумчивости ее выводят крики снизу. Спустя мгновение мозг начинает отделять слова от шума, а еще через секунду переключает языковой режим с японского на тайский. Звуки становятся словами, слова — воплями.
— Всем спокойно!
— Май ао! Нет! Нет-нет-нет!..
— Лечь! Мап лон дияо ни! Лицом вниз!
— Пожалуйста, не надо! Нет-нет-нет!..
— Лежать!
Эмико, склонив голову, внимает перебранке. У нее хороший слух — еще один дар создателей наряду с гладкой кожей и собачьим стремлением служить.
Снова крики. Топот. Треск. По спине пробегает холодок. На девушке только брюки в обтяжку и едва прикрывающий грудь купальник. Остальное — уличное — она приготовила и оставила внизу.
Кричат уже громче. Кто-то страшно вопит — от боли, дикой первобытной боли.
Белые кители. Облава. Накатывает волна адреналина. Нужно успеть уйти с крыши. Эмико подбегает к лестнице и замирает, услышав топот на нижних пролетах.
— Отделение три. Все чисто!
— Фланги?
— Все спокойно!
Она захлопывает дверь, прислоняется к ней спиной, понимает, что попала в ловушку — кители уже на лестнице, — и бежит искать другой выход.
— Проверить крышу!
Эмико замирает на самом краю. В тридцати футах ниже выступает ближайший балкон — часть пентхауса (когда — то жилье в башне считалось роскошным). От вида крохотного пятачка кружится голова: под ним огромная пустота до самой дороги, по которой идут люди размером не больше жучков.
Порыв ветра толкает к самому краю. Эмико взмахивает руками, едва не падает — будто духи воздуха хотят ее убить, — снова смотрит на балкон — нет, невозможно — и бежит обратно, выискивая по пути, чем бы заклинить дверь. Кругом только обломки кирпичей, черепицы, да сохнущее на веревках белье и больше ни… Тут Эмико замечает черенок старой швабры, хватает его, с силой упирает в раму. Петли так проржавели, что дверь прогибается. Черенок из везеролла крепче железа. Морщась, она нажимает еще сильнее.
Надо искать другой вариант — пометавшись, как ополоумевшая крыса, девушка уже закипает изнутри. Жирный красный шар солнца ползет к горизонту, по разбитой крыше протянулись длинные тени, среди которых она кружит в панике. Тут ее взгляд падает на белье: а если спуститься по веревке? Эмико пробует порвать одну — та слишком крепкая, к тому же хорошо привязана, — дергает еще раз…
За спиной от удара вздрагивает дверь. Кто-то, ругнувшись, кричит:
— Открывай!
Снова сильный удар. Распорка пока держит.
Ни с того ни с сего в голове всплывают слова Гендо-самы, говорящего Эмико: «Ты совершенна. Ты идеальна. Ты восхитительна». Вспомнив слова старого мерзавца, она, оскалившись, дергает веревку сильнее, вкладывая в рывок ненависть к этому змею, который любил ее, а потом взял и просто вышвырнул. Веревка режет пальцы, но не поддается. Гендо-сама. Предатель. Вот так она и умрет — идеальная, но обратного билета почему-то недостойная.
«Я сгораю».
Идеальная.
Еще один глухой удар — и дверь трещит. Эмико бросает веревку и снова начинает отчаянно искать другой вариант спасения. Кругом только камни да воздух, будто она в горах, на большой высоте. На идеальной высоте.
Из проема летят куски разбитой петли, дверь немного отходит от косяка. Оглянувшись в последний раз, девушка бежит к краю здания в надежде все-таки найти там какой-нибудь спуск и резко замирает, размахивая руками перед бездной. Только ветер — ни ухватиться, ни слезть. Она опять смотрит на веревки: а если…
Дверь слетает с петель. Из проема с пружинными пистолетами наперевес выскакивают двое белых кителей, застывают на мгновение, замечают Эмико и уже на бегу кричат:
— Эй ты! Иди сюда!
Она смотрит вниз: люди на улице не больше точек, балкон размером с почтовый конверт.
— Стоять! Йут дияо ни!
Кители мчат к ней со всех ног, уже оставили позади полкрыши, но при этом движутся поразительно медленно — не быстрее, чем течет мед в холодный день.
Эмико глядит на них озадаченно: до чего неторопливый бег, словно вокруг не воздух, а рисовая каша, каждый жест будто растянут. С ними то же, что и с тем человеком, который хотел ее зарезать тогда, на улице, — все происходит на невероятно, немыслимо низкой скорости.
Идеальная. Улыбнувшись, она делает шаг на выступ крыши.
Кители раскрывают рты, хотят что-то крикнуть, поднимают и наводят пистолеты. Эмико смотрит прямо в узкую щель дула. Мелькает мысль: а вдруг замедлилась именно она? И вдруг то же произошло и с силой тяжести?
Порывы ветра влекут ее прыгнуть, духи воздуха толкают, накидывают на лицо сеть черных волос. Девушка отбрасывает их в сторону, с умиротворенной улыбкой смотрит на преследователей — те все бегут, все целят — и делает шаг назад. Глаза кителей лезут на лоб, пистолеты вспыхивают красным, из стволов вылетают диски. «Один, второй, третий, — считает Эмико, — четвертый, пятый…»
Гравитация рывком утягивает ее вниз. Диски-лезвия и люди исчезают. Она с силой ударяется о балкон, колени бьют в подбородок, лодыжку сильно выкручивает. Скрипит металл. Ее отбрасывает к ограде, которая от толчка вылетает наружу, Эмико падает следом, но успевает схватить рукой обломок медных перил и повисает над бездной.
Пространство соблазняет свободным падением, подталкивает порывами горячего ветра. Тяжело дыша, девушка подтягивает себя вверх по накренившемуся балкону. Ее трясет, болят ушибленные места, но руки и ноги действуют — кости целы. «Идеальна». Эмико забрасывает ногу и ползет в безопасное место. Скрежещет металл старинных креплений. Она вся горит и хочет только одного — лечь и соскользнуть с шаткого выступа в пустоту.
Наверху кричат. Белые кители выглядывают с крыши, наводят пружинные пистолеты. Диски летят вниз серебряным дождем, рикошетом выбивают искры, взрезают ее кожу. Страх придает сил. Эмико бросает себя на стеклянные двери. «Идеальна». Искры осколков вспарывают ладони. В облаке острого крошева она вваливается в чье-то жилище и бежит, превращаясь в размытое пятно в глазах изумленных людей — неимоверно медленных, словно замерзших.
Распахнув с лету очередную дверь, Эмико выскакивает в коридор, видит белые кители и мчит прямо сквозь толпу, слыша растянутые удивленные возгласы, к лестнице. Вниз, вниз, вниз по ступеням, оставляя преследователей и их крики позади, далеко наверху.
Ее кровь превратилась в жидкий огонь, пролеты пышут жаром. Перед глазами плывет. Споткнувшись, она приваливается к стене — даже горячий бетон холоднее ее кожи — и, оступаясь, бежит вперед. Слышен звук погони — возгласы и топот ботинок.
Вниз по спирали, сквозь кучки жильцов, распихивая перепуганных облавой людей. В голове от перегрева каша бредовых мыслей.
Крохотные капельки пота выступают через бессмысленно мелкие поры, но в горячем влажном воздухе чувства прохлады они не приносят. Девушка еще никогда не ощущала на себе влагу — только вечную сухость…
Она задевает кого-то, и человек отскакивает, испуганный жаром ее кожи. Эмико пылает. В толпе не скрыться: конечности мелькают, как у мультяшных персонажей в детских блокнотах, которые надо перелистывать веером, — стремительно, но так угловато, что люди не сводят глаз.
Протиснувшись в дверь, ведущую с лестницы, она выбегает в коридор и прислоняется к стене. В теле такое пекло, что почти невозможно разлепить глаза.
«Я прыгнула. Прыгнула».
Адреналиновый шок, смесь ужаса и амфетаминовой эйфории. Ее трясет — характерная дрожь пружинщиков. Все внутри закипает, накатывает слабость. Прижавшись к стене, она впитывает прохладу камня.
«Воды. Льда».
Сдерживая дыхание, Эмико пробует расслышать, где сейчас преследователи, но в голове шум и туман. Далеко ли уже убежала? Сколько пролетов осталось позади?
«Продолжай идти. Вперед!» — приказывает она себе и тут же падает.
Пол холодный. Воздух, вырываясь из легких, царапает горло. Ее топ разорван, на руках и плечах кровавые ссадины от стекла. Эмико вытягивает руки, растопыривает пальцы и прижимает ладони к камню — хочет впитать прохладу. Глаза закрываются.
«Вставай!»
Но сил уж нет. Еще одна попытка заставить сердце стучать тише, расслышать погоню, но трудно даже дышать. Ей так жарко, а пол такой холодный.
Девушку хватают — кто-то вскрикивает, — бросают, хватают снова. Кругом белые кители. Ее тащат вниз по лестнице, бьют, снова орут, но она благодарна этим людям, потому что знает — скоро окажется на улице посреди вечерней прохлады.
Их слова пролетают мимо ушей, Эмико ничего не понимает; все вокруг — лишь неясные звуки и жаркая головокружительная темнота. Говорят не по-японски, значит, дикари, никто из них не идеален, как…
Внезапный поток воды заставляет ее закашляться, еще один заливает рот и нос.
Девушку трясут, бьют, что-то кричат в лицо, спрашивают, требуют ответов, потом хватают за волосы и суют лицом в ведро с водой — хотят покарать, утопить, убить, а у нее в голове лишь одно: «Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо». Ученые сделали ее идеальной: еще минута — и пружинщица, которую сейчас бьют и оскорбляют, остынет.
22
Белые кители повсюду: проверяют документы, патрулируют ночные рынки, конфискуют метан. Дорога через город заняла у Хок Сена несколько часов. По слухам, всех малайских китайцев поместили в башни к желтобилетникам и вот-вот отправят кораблями на юг, обратно за границу на милость зеленых повязок. Осторожно пробираясь тесными переулочками домой к драгоценностям и банкнотам, он жадно ловит каждый негромкий разговор, а вперед на разведку отправляет Маи — ее местный говор не вызовет подозрений.
Уже темнеет, а до цели по-прежнему далеко. Украденные из «Спринглайфа» деньги лежат в сумке тяжелым грузом. Ему то кажется, что Маи сдаст его кителям в обмен на часть награбленного, то он видит в ней свою дочь, которую надо защитить от грядущей беды.
«С ума схожу — надо же спутать глупую тайскую девчонку с собственным ребенком».
И все же Хок Сен доверяет этому хрупкому подростку, чьи родители были фермерами-рыбаками, и надеется, что Маи, которая оставалась ему преданной даже когда он начал терять влияние на фабрике, не предаст и теперь, когда его преследуют.
Стало совсем темно.
— Почему вы боитесь? — спрашивает Маи.
Старик пожимает плечами: ей не понять — слишком уж мала, — насколько запутанная сложилась ситуация. Для нее это пусть и жуткая, но всего лишь игра.
— В Малайе, когда смуглые люди напали на желтых, происходило то же самое — все мгновенно переменилось. Откуда ни возьмись — религиозные фанатики: на головах зеленые повязки, в руках мачете… Так что осторожность совсем не помешает.
Он выглядывает из укрытия и тут же ныряет обратно: неподалеку белый китель клеит на стену очередную фотографию в черной рамке. Бангкокский тигр. Джайди Роджанасукчаи, который сперва пал так стремительно, а теперь так же быстро, как птица, становится святым. Хок Сен хмурит брови — вот она, политика.
Человек уходит, и старик снова выглядывает на улицу. Вечерняя, пусть и относительная прохлада понемногу выманивает людей из домов. Во влажном полумраке горожане идут кто за покупками, кто ужинать к любимой тележке с сом тамом. В свете официально разрешенных метановых фонарей белые формы отливают зеленым. Эти ходят группами, как шакалы в поисках раненой дичи. Перед домами и магазинчиками стоят небольшие алтари в честь Джайди: фотографии обрамлены бархатцами, горят свечи — знаки сплоченности, мольба людей защитить их от ярости кителей.
По национальному радио — обвинительные речи. Генерал Прача, старательно избегая имен, говорит, что королевство необходимо защитить от тех, кто жаждет его краха; в заведенных вручную приемниках голос будто жестяной. Продавцы, домохозяйки, нищие, дети — смуглая кожа празднично мерцает в зеленоватых отсветах. То тут, то там среди шелеста пасинов и бряцанья упряжи в руках одетых в красное с золотом погонщиков мегадонтов светлыми пятнами ходят белые кители — глядят сурово и ищут любой повод сорвать злость.
— Проверь-ка, безопасно ли там, — подталкивает Хок Сен девушку.
Маи возвращается минуту спустя, взмахом руки зовет за собой, и они снова прокладывают себе путь сквозь толпу, которая выдает присутствие кителей тишиной: смех влюбленных парочек стихает, дети перестают бегать, лица смотрят в землю.
Идут по ночному рынку. Кругом свечи, сковороды с лапшой, тени чеширов.
Впереди кричат. Маи мчит вперед на разведку, тут же прибегает назад и тянет старика за собой.
— Кун, идемте скорее, пока они отвлеклись.
Группа белых кителей стоит возле своей жертвы: у тележки, схватившись за разбитое колено, лежит старая женщина, дочь пробует поднять ее на ноги. В зеленоватом метановом свете среди лужиц острого соуса, ростков фасоли и лайма блестят, как бриллианты, осколки стеклянных поддонов, где хранились продукты.
— Давай-ка, тетушка, показывай — у тебя тут должны быть еще деньги. Думала, сможешь нас подкупить, а сама жжешь топливо, за которое налоги не платила, — говорят кители, ковыряясь дубинками в завалах.
— За что? Что мы вам сделали?! — кричит дочь торговки.
Один из мужчин смотрит на нее презрительно.
— За то, что принимали нас как должное, — говорит он, снова бьет старуху по колену — та воет, дочь прикрывает голову руками, — и командует своим: — Их газовый баллон — к остальным. Нам еще три улицы обходить. — Потом оборачивается, обводит взглядом притихшую толпу. Хок Сен обмирает.
«Стой спокойно. Без паники. Главное — молчать, тогда не заметит».
— Все видели? А теперь расскажите своим друзьям. Мы вам не псы, которых надо кормить объедками. Мы тигры. Бойтесь! — усмехнувшись, говорит белый китель и взмахивает дубинкой. Люди бегут врассыпную, а с ними и Хок Сен с Маи.
В соседнем квартале старик прислоняется к стене и тяжело дышит. Город стал сплошным кошмаром, опасность теперь — за каждым углом. Неподалеку похрипывает приемник. Передают новости: доки и фабрики закрыты, проход в прибрежные районы только по пропускам.
У старика по спине пробегают мурашки: история повторяется, снова вокруг встают стены, а он застрял в городе, как крыса в западне. Хок Сен усилием воли гасит приступ паники. Пока ничего неожиданного, хотя есть и непредвиденные обстоятельства. Сейчас первым делом — дойти до дома.
«Бангкок не Малайя. В этот раз ты готов».
Вскоре возникает знакомый запах трущоб, уже видны хибары Яоварата. Старик с девушкой шагают по узким переулочкам мимо людей, которые Хок Сена не знают. Он снова душит в себе наплыв страха: если кители припугнули здешних крестных отцов, то тут тоже стало опасно. Потом открывает непослушную дверь в свою лачугу и приглашает Маи войти.
— Ты хорошо поработала. — Хок Сен запускает руку в сумку и вытаскивает большой комок краденых купюр. — Захочешь получить еще — приходи завтра.
Девушка ошеломленно глядит на богатство, которое ей отдают с такой легкостью.
По уму, стоило бы ее удавить — так точно не станет нападать ради остальных денег. Хок Сен отгоняет эту мысль. Все-таки Маи проявила преданность, а доверять хоть кому-то надо. К тому же она тайка — теперь, когда шкура желтобилетника и чешира стоят одинаково, это полезная компания.
Девушка сует деньги в карман.
— Дорогу отсюда сама найдешь?
— Я ж не желтобилетница, мне-то чего бояться, — замечает она с ухмылкой.
Хок Сен отвечает ей улыбкой, а сам думает: когда жгут поле, где зерна, а где мякина никто уже не разбирает.
23
— Проклятый Прача! Проклятые кители!
Карлайл — грязный и небритый — бьет кулаком по балконным перилам. Он уже неделю не может попасть к себе в «Викторию»: в район фарангов никого не пускают. Его одежда в тропическом климате быстро поистрепалась.
— Якорные площадки закрыты, шлюзы — тоже, на причалы нельзя. Чертовы белые кители. — Он заходит обратно в комнату и наливает себе выпить.
Его раздражение только веселит Андерсона.
— Говорил я не дразнить кобру.
— Да не дразнил я! Это кого-то в министерстве торговли осенило, вот и устроили бардак. Чертов Джайди! — бесится Карлайл. — Могли бы и сообразить, что выйдет боком.
— Думаешь, Аккарат?
— Он не такой дурак.
— Это не важно. — Андерсон приветственно поднимает стакан с теплым виски. — Уже неделя, как все закрыто, а белые кители, похоже, только входят во вкус.
— Вот только не делай такое довольное лицо, — шипит Карлайл. — У тебя ведь тоже неприятности.
— Откровенно говоря, я не очень переживаю. От фабрики был свой толк, теперь его нет. — Андерсон отпивает виски и продолжает, чуть подавшись вперед: — Сейчас я хочу знать: Аккарат в самом деле так хорошо подготовился, как ты говорил? — Он кивает в сторону города. — Потому что ему, похоже, не хватает сил.
— Ты находишь это смешным?
— Я нахожу, что если он сейчас в изоляции, друзья ему не помешают. Я хочу, чтобы ты снова с ним связался и предложил нашу чистосердечную поддержку.
— У тебя уже другое предложение? Не то, после которого он хотел бросить тебя под мегадонтов?
— Предложение то же. Как и вознаграждение. — Андерсон делает еще глоток. — Только в этот раз Аккарат, надеюсь, будет готов выслушать доводы.
Карлайл хмуро глядит на зеленый метановый огонек.
— У меня что ни день, то новые убытки.
— А как же твой козырь — насосы на плотинах?
— Перестань меня поддразнивать. Этих мерзавцев даже не запугаешь — они просто не принимают переговорщиков.
Ухмыльнувшись, Андерсон говорит:
— Как-то неохота ждать, пока придут муссоны и белые кители сообразят, что к чему. Устрой мне встречу с Аккаратом. Предложим ему все, что захочет.
— Думаешь, вот так просто сплавал на Ко Ангрит и привез оттуда революцию? И кто ее устроит — пара клерков да капитанов? Может, еще кучка младших торговых представителей, которые только и делают, что пьют и ждут, когда наступит голод и королевство снимет все эмбарго? Напугал.
— Если мы и придем, то из Бирмы, причем так, что никто не заметит, пока не будет слишком поздно. — Андерсон долго и пристально смотрит на Карлайла. Наконец тот отводит взгляд и спрашивает:
— Значит, те же условия? Никаких изменений?
— Да. Доступ к банку семян и человек по фамилии Гиббонс. Больше ничего.
— А взамен?
— Что захочет: деньги на взятки, золото, бриллианты, нефрит… Ударные войска.
— Ого. Так ты не шутил насчет Бирмы.
Рукой, в которой держит стакан, Андерсон указывает в сторону темного окна.
— Мое прикрытие пошло прахом. Либо я это признаю и двигаюсь дальше, либо, поджав хвост, бегу в Де-Мойн. Буду честен: «Агроген» всегда идет ва-банк — с тех самых пор, как ее основали Винсент Ху и Читра Д’Алесса. Так что неприятных историй мы не боимся.
— Вроде тех, что были в Финляндии?
— Надеюсь, в этот раз расходы окупятся лучше.
— Ну дела… Хорошо, устрою встречу. Но и обо мне потом не забудь.
— «Агроген» всегда помнит о друзьях.
Андерсон провожает гостя к выходу, закрывает за ним дверь и размышляет о том, как же сильно меняют человека внезапные трудности. Всегда нахальный и самоуверенный Карлайл растерян: понял, что на фоне других сейчас выделяется так, словно у него синяя кожа, осознал, что в любой момент кители могут согнать всех фарангов в лагеря или просто убить, и никому до этого не будет дела. Вся его вера в себя внезапно оказалась отброшена, как ненужная защитная маска.
Андерсон выходит на балкон и смотрит в ночь — в сторону далекого океана, Ко Ангрита и тех сил, что терпеливо выжидают своего часа на границе королевства.
Еще немного — и пора.
24
Пока белые кители громят и карают, Канья пьет кофе в магазинчике, где подают лапшу. Немногочисленные посетители угрюмо притихли в углу — слушают бой по муай-тай по приемнику с ручным заводом. Не обращая на них внимания, она сидит на скамейке для клиентов одна — устроиться рядом никто не смеет.
Раньше кто-то, может, и рискнул бы составить ей компанию, но теперь, когда кители показали зубы, таких нет. Команда Каньи ушла вперед — рыщут, как шакалы, в поисках добычи, избавляются от прошлого, рвут прежние связи, начинают все с нуля.
Хозяин лавочки склонил голову над горячими мисками с лапшой; с подбородка течет пот, в капельках на лице отражаются голубые язычки запрещенного метана. Торговец наверняка проклинает тот день, когда купил этот газ на черном рынке.
Звук кипящих в воке сен-ми для супа временами перекрывает жестяное потрескивание приемника и приглушенные вопли со стадиона Лумпини.
Канья потягивает кофе и, мрачно ухмыляясь, смотрит на прячущих глаза слушателей. Силу они понимают. Пока министерство было добрым, не обращали внимания, даже посмеивались, но едва кители начали размахивать дубинками и поигрывать смертоносными пружинными пистолетами, вести себя стали совсем иначе.
Сколько она уже разгромила нелегальных горелок — вроде этой, вроде тех, какими пользуются в бедных лавочках с лапшой и кофе, когда не могут заплатить за разрешенный, облагаемый налогом метан? Наверное, сотни. Газ слишком дорог, дать взятку дешевле. Правда, на черном рынке нет тех добавок, которые придают пламени безопасный зеленый оттенок, но таков риск, и на него шли охотно.
«До чего просто было нас подкупить!»
Канья прикуривает от огня, грозящего неприятностями хозяину лавки; тот не мешает и делает вид, что ее здесь вообще нет. Удобно обоим: она будто бы не белый китель, заметивший запрещенную горелку, а он вовсе не желтобилетник, которого за это могут кинуть на верную смерть в душную башню к своим собратьям.
Капитан задумчиво делает затяжку. Этот человек страха не показывает, но его чувства и без того ясны. Канья вспоминает тот день, когда в ее деревню пришли белые кители: засыпали теткины пруды с рыбой щелоком и солью, забили кур, свалили в кучу и спалили.
«Тебе, желтый билет, везет. Нам кители ничего не оставили. Факелы в руки и — жгли, жгли, жгли. С тобой обошлись лучше».
Бледные, покрытые копотью лица, защитные маски, глаза как у демонов — до сих пор страшно. Явились ночью, без предупреждения. Соседи и двоюродные сестры Каньи голыми выскочили на улицу и с воплями побежали прочь от факелов. Позади в темноте вспыхивали дома на сваях, бамбук и пальмы трепетали в оранжевом пламени, как живые. Пепел обжигал кожу, вызывал кашель, многих рвало. На ее тогда тонких детских ручонках огненные хлопья оставляли ожоги — светлые пятна шрамов видны до сих пор. Канья с сестрами, сбившись в кучку, с ужасом смотрели, как министерство природы ровняет их деревню с землей. Ее сердце тогда наполнилось ненавистью к белым кителям.
А теперь она сама ведет своих бойцов на такое же задание. Джайди оценил бы юмор ситуации.
Вдали слышны испуганные крики, вопли взлетают к небу, как густой черный дым от крестьянских лачуг. Канья втягивает носом воздух. В некотором смысле ностальгия — запах тот же. Она курит и думает, не перестарались ли там парни. Огонь в трущобах, построенных из везеролла, — не шутка. Масло, которым пропитана древесина, не дает ей гнить, но в жару вспыхивает очень легко. Канья выпускает клуб дыма. Впрочем, сейчас с этим ничего не поделаешь. Может, просто подожгли нелегальную свалку. Она отпивает кофе и смотрит на синяк у официанта на щеке.
Будь воля министерства природы, все эти желтобилетники давно бы отправились обратно за границу. Пусть у малайцев голова болит. Беженцы — проблема их суверенного государства, а вовсе не королевства. Если бы не милосердие и сострадание ее величества Дитя-королевы… Канье ее не понять.
Она обнюхивает сигарету — хороший это табак, «Золотой лист», лучший в королевстве, работа местных генных инженеров, — достает еще одну из упаковки (целлофан из проса), прикуривает от голубого пламени, потом протягивает чашку за новой порцией сладкого кофе. Официант — желтобилетник — сама вежливость. Из трескучего приемника доносятся радостные вопли болельщиков. Посетители, плотно обступившие динамик, тоже ликуют, на мгновение забыв о белом кителе.
Шаги за спиной не слышны, каждый попадает точно в возгласы, но подошедшего выдает выражение лица официанта. Не оборачиваясь, Канья подзывает его жестом.
— Либо убей меня, либо сядь рядом.
Усмехнувшись, тот садится.
На Наронге свободная черная рубашка с высоким воротником и серые брюки. Вид опрятный, как у клерка, вот только глаза слишком беспокойны, а тело, наоборот, слишком расслаблено. Его самоуверенность и надменность плохо сочетаются с такой скромной одеждой. Есть люди, которым не скрыть своего могущества, как бы они ни старались, потому его и заметили тогда на якорных площадках. Канья, подавив в себе вспышку гнева, молча ждет.
— Нравится шелк? — Наронг показывает на рубашку. Японская. У них там до сих пор есть шелковичные черви.
Она пожимает плечами.
— Мне в вас вообще ничего не нравится.
— Да брось. Посмотри на себя — стала капитаном, а на лице тоска. — Он жестом велит официанту-желтобилетнику подать кофе.
Густая коричневая жидкость наполняет стакан. Перед Каньей ставят блюдо с супом, и она начинает вылавливать из куриного бульона среди сорго и рыбных шариков ю-тексовскую лапшу.
Наронг сперва терпеливо выжидает, потом говорит:
— По-моему, ты просила о встрече.
— Это вы убили Чайю?
Он вздрагивает.
— Тебе всегда не хватало такта. Столько лет прожила в городе, столько мы тебе денег дали, а ведь могла бы до сих пор разводить рыбу в Меконге.
Канья бросает на собеседника холодный взгляд. Признаться честно — он ее пугает, но показывать этого нельзя.
По радио снова радостно кричат.
— Вы такой же, как Прача. Все вы мне отвратительны.
— Та беззащитная девчонка, которую мы позвали в Бангкок, так не думала. Ты так не думала, пока мы годами поддерживали твою тетю до ее последнего дня. И когда дали тебе шанс нанести удар по генералу Праче и белым кителям — тоже.
— Всему есть пределы. Чайя была ни при чем.
Наронг, замерев по-паучьи, смотрит на нее, а потом говорит:
— Джайди зашел слишком далеко. А ведь ты его предупреждала. Осторожней — сама-то не лезь в пасть кобре.
Канья хочет что-то сказать, передумывает, снова открывает рот и, старательно сдерживаясь, спрашивает:
— Со мной поступите, как с Джайди?
— Вот сколько мы уже знакомы? — улыбается Наронг. — Сколько лет я забочусь о твоей семье? Ты нам как дочь любимая. Ни за что не стал бы тебя обижать. Мы же не такие, как Прача. — Он протягивает ей пухлый конверт и ненадолго замолкает. — Скажи, как уход Тигра повлиял на ваше ведомство?
— А разве не ясно? — Она кивает в сторону доносящегося с улицы шума. — Генерал в ярости. Джайди был ему как брат.
— Говорят, он хочет напасть на само министерство торговли. Может, даже сжечь его.
— Само собой, хочет. Если бы не Торговля, проблем у нас было бы в два раза меньше.
Конверт все еще лежит между ними. Конверт, хотя вполне могло бы быть и сердце Джайди. Проценты, набежавшие на давний вклад в месть.
«Прости, Джайди. Я пыталась тебя предупредить».
Наронг наблюдает за тем, как она перекладывает деньги в сумку на поясе. У этого человека даже улыбка хищная. Его волосы гладко зачесаны назад. Сидит совершенно неподвижно и вселяет совершенный же страх.
«Вот с какой породой ты разве только не породнилась», — вдруг звучит у нее в голове.
Канья вздрагивает — словно это Джайди сказал; та же интонация, та же жесткая насмешка — осуждение, но шуткой. Санук никогда его не оставлял.
«Я не такая, как вы».
И снова, будто с ухмылкой: «Знаю-знаю».
«Раз знали, почему просто меня не убили?»
Ответа нет.
Из трескучего приемника все еще звучит матч по муай-тай. Чароен и Сакда — интересная встреча, но то ли мастерство первого резко выросло, то ли второму заплатили за проигрыш. Канья в этот раз ошиблась. Бой покупной — даже отсюда заметно. Видимо, Навозный царь решил проявить интерес к рингу. Она делает недовольное лицо.
— Неудачный бой? — спрашивает Наронг.
— Всегда не на тех ставлю.
— Вот почему полезно получать нужную информацию как можно раньше, — смеется он и протягивает ей обрывок листка.
Список имен.
— Это все друзья Прачи. Даже генералы есть. Он опекает их, как кобра — Будду.
— И представь, как они удивятся, когда генерал пойдет против них, начнет нападать, портить жизнь, даст понять, что игры кончились, что теперь министерству не важно, кто нарушает закон. Никаких больше родственников, друзей и договоров по-приятельски. Все увидят, как министерство природы встает с колен.
— Хотите рассорить Прачу и его союзников, настроить их друг против друга?
Ее собеседник только молча пожимает плечами. Канья доедает лапшу и, понимая, что больше указаний не будет, встает.
— Мне пора. Мои ребята не должны заметить нас вместе.
Наронг кивком отпускает ее. Под разочарованное гудение людей у приемника — Сакда спасовал перед невесть откуда взявшимся боевым духом Чароена — она выходит из лавочки.
На углу в зеленоватом свете метанового фонаря Канья поправляет форму и замечает на кителе пятно — след сегодняшнего погрома. Морщась от омерзения, она пробует его оттереть, потом достает листок, полученный от Наронга, и заучивает имена.
Все эти мужчины и женщины — ближайшие друзья Прачи, которым теперь придется не легче, чем желтобилетникам в башнях, не легче, чем жителям той деревушки на северо-востоке, которых генерал бросил на голодную смерть, когда сжег их дома.
Непростое дело, но в кои-то веки справедливое.
Она сминает бумажку.
«Вот так мир и устроен: глаз за глаз, пока все не умрем и чеширы не сбегутся пить нашу кровь».
Канья размышляет о том, действительно ли раньше жилось лучше, на самом ли деле был золотой век нефти и техники, когда решение одной проблемы не порождало другую. Она проклинает тех, прежних фарангов — калорийщиков с их неуемными лабораториями и тщательно сконструированными сортами растений, которые должны были накормить весь мир, с их новыми версиями животных, что стали бы работать куда эффективней, потребляя меньше калорий; проклинает все эти агрогены и пуркалории, которые обещали дать человечеству пищу, но всякий раз находили повод отложить изобилие.
«Простите меня, Джайди. Простите меня за то, что я сделала с вами и вашей семьей. Я никак не хотела вам навредить. Знай я, чего будет стоить борьба с жадностью Прачи, и не подумала бы переезжать в Крунг Тхеп».
И она, вместо того чтобы идти к своей команде, шагает в храм. Небольшое окрестное святилище: несколько монахов несут службу да мальчик с бабушкой сидят перед сверкающей статуей Будды. Больше никого. Канья покупает у ворот немного благовоний, входит внутрь, поджигает их, опускается на колени, потом, держа дымящиеся палочки у лба, трижды поднимает их в знак почтения Трех драгоценностей[123] — Будды, даммы, санги — и молится.
Сколько зла она уже сотворила? Сколько дурных поступков надо искупить, исправляя камму? Кого было важнее чтить: Аккарата, обещавшего восстановить равновесие сил, или Джайди, ее приемного отца?
Когда в твою деревню приходит человек и предлагает тебе пропитание, жизнь в городе, деньги на лечение кашля твоей тети и на виски дяде и при этом даже не требует взамен твое тело — чего еще желать? Есть ли лучший способ купить твою преданность? Каждому нужен покровитель.
«Да встретятся вам в новой жизни друзья надежнее, чем в прежней, верный боец. Простите меня, Джайди. Быть мне миллион лет призраком за свои проступки. Да родитесь вы в месте лучшем, чем это».
Она встает, делает ваи в сторону Будды, выходит из храма и, стоя на ступенях, смотрит на звезды. Канья думает, отчего камма так страшно повернула ее жизнь, и закрывает глаза, сдерживая слезы.
Вдали с треском вспыхивает здание. В том районе сейчас больше сотни ее человек — дают всем понять, что с законом шутки плохи, что закон, вроде бы безвредный на бумаге, — очень неприятная вещь, когда от него нельзя откупиться взяткой. Люди об этом уже позабыли.
Внезапно накатывает усталость. Канья отводит взгляд от места, где идет расправа. Хватит с нее на сегодня крови и копоти, парни сами знают свое дело. К тому же дом совсем близко.
— Капитан Канья!
В дом льется тусклый утренний свет. Она приоткрывает глаза и спросонья не сразу вспоминает последние дни и то, кем теперь стала.
— Капитан! — зовут в затянутое сеткой окно.
Канья встает с постели и подходит к двери.
— Кто там? В чем дело?
— Вас требуют в министерство.
Она приоткрывает дверь, берет у молодого посыльного письмо, снимает печать и читает.
— Надо же — из карантинного управления.
Юноша кивает:
— Это была добровольная обязанность, которую капитан Джайди… — Тут он прикусывает язык. — Генерал Прача просил всех, кто с ним работал…
— Да, понятно.
Она вспоминает истории о первых эпидемиях цибискоза, и у нее мурашки пробегают по спине. Джайди рассказывал, как он вместе со своей командой боролся с заразой: сердце уходило в пятки, и все гадали, кто из них умрет еще до конца недели. Рассказывал, как, страшно боясь подцепить болезнь, но не покладая рук, жгли целые деревни — дома, ваты, статуи Будды, как монахи пели молитвы среди пламени и призывали на помощь духов, а на земле лежали люди, которые захлебывались жидкостью, вытекавшей из разорванных легких. Карантинное управление. Канья дочитывает до конца и коротко кивает посыльному:
— Хорошо.
— Ответ будет?
— Нет, мне все ясно. — Она осторожно, будто скорпиона, кладет конверт на стол.
Юноша отдает честь и сбегает по ступеням к велосипеду. Канья, задумавшись, медленно прикрывает дверь. Письмо сулит ужас. Видимо, это ее камма, ее расплата.
Вскоре капитан уже вовсю крутит педали, направляясь в министерство. Мимо бегут зеленые улицы, мосты над каналами и широкие проспекты, построенные когда-то в расчете на пять полос бензиновых машин, а теперь свободно вмещающие стада мегадонтов.
Перед карантинным управлением ее заставляют пройти еще одну проверку, после чего наконец разрешают доступ в комплекс.
Вентиляторы в компьютерах и кондиционерах гудят, не умолкая ни на секунду. Здание будто дрожит от сжигаемой в его недрах энергии: больше трех четвертей положенной ведомству нормы угля уходит на мозг карантинного управления, который занят предсказанием генетических изменений, требующих вмешательства министерства.
За стеклянными стенами помигивают зеленые и красные индикаторы серверов, которые, сжигая энергию, тем самым и топят, и спасают Крунг Тхеп. Канья идет по коридорам вдоль кабинетов, где за огромными яркими экранами сидят ученые и исследуют генетические модели. Ей кажется, что от того количества угля, которое сгорает ради одного только этого здания, даже воздух тут насыщен энергией.
Карантинное управление возникло лишь после долгой серии операций и неожиданных союзов, которые позволили королевству освоить нужные технологии. Были фаранги, за большие деньги доставленные в страну, были иностранные специалисты, что, словно вирусом, заражали остальных своими знаниями, идеями преступного взлома генов, умениями, которые помогали тайцам выживать и противостоять эпидемиям.
Кто-то из тех людей стали такими же народными героями, как Аджан Ча, Чарт Корбджитти[124] и Себ Накхасатхиен, кто-то — боддхи, духами-хранителями королевства.
В углу внутреннего двора стоит домик духов, внутри две маленькие статуэтки: учитель Лалджи[125], похожий на щуплого иссохшего аскета-саддху, и святая Сара, покровительница «Агрогена», — неразлучные боддхисатвы, мужское и женское начала, разбойник и взломщица генов, вор и созидательница; возле них — несколько палочек-благовоний, блюдце с едой и неизменный венок бархатцев. Когда бушуют эпидемии, здесь ученые беспрестанно читают молитвы, надеясь найти верное решение.
«Даже молимся фарангам. Их лекарством лечим их же заразу», — думает Канья.
«Подбирай любое орудие, какое найдешь, и пользуйся им, — говорил как-то Джайди, растолковывая, почему они имели дела даже с худшими из худших, зачем подкупали, выкрадывали и поддерживали чудовищ вроде Ги Бу Сена. — Мачете все равно, кто им размахивает. Возьми нож и режь им, возьми фаранга, и пусть он тебе служит, а обернется против тебя, переплавь — будет кусок металла про запас».
«Подбирай любое оружие». Капитан всегда был практичен.
Однако это унизительно. Они разыскивают и вымаливают у иностранцев знания, словно чеширы, роются в отбросах ради выживания. «Мидвест компакт» — кладезь информации. Стоит где-то на свете появиться талантливому генетику, как его немедленно — угрозами, силой и деньгами — заманивают работать в Де-Мойн или в Чанша[126] к другим таким же светлым умам. Противостоят компаниям-калорийщикам — «ПурКалории», «Агрогену» и «Редстару» — только самые храбрые, но что может предложить им королевство, если даже самые мощные его компьютеры на несколько поколений отстали от заграничных?
Канья гонит прочь подобные мысли.
«Но ведь мы живем. Сколько стран погибло, а мы — нет. В Малайе — резня, Цзюлун[127] — под водой, Китай развален на части, Вьетнам разорен, Бирма умирает от голода, Американская империя исчезла, Европейский союз рассыпался на мелкие куски, а мы стоим, мы даже растем. Хвала Будде за его милосердие и за благоразумие королевы, дозволяющей применять эти пугающие заморские знания, без которых мы были бы беззащитны».
На последнем пропускном пункте документы проверяют еще раз, затем Канью проводят в электрический лифт, куда из-за перепада давления ее втягивает с потоком воздуха. Раздвижные двери закрываются, и она падает в глубь земли, будто в ад, представляя голодных духов, обитающих в этом страшном месте, призраков мертвых, которые отдали себя в жертву, лишь бы не дать демонам выйти наружу. От страха по коже бегут мурашки.
Вниз.
Вниз.
Лифт замирает.
Белый коридор — переходный шлюз — снять одежду — душ с хлоркой — на выход.
Какой-то мальчик выдает спецодежду, находит имя Каньи в списке, говорит, что повторную дезинфекцию проходить не надо, и ведет ее дальше.
У здешних ученых загнанный вид живущих в осаде — они знают, что лишь несколько стен отделяют их от всех ужасов апокалипсиса, готовых вырваться на волю. От мысли об этом у Каньи желудок сводит судорогой. Вот в чем крылась сила Джайди — тот верил в свои прошлые и будущие жизни. А она? Она еще дюжину воплощений будет умирать от цибискоза, прежде чем ей позволят двигаться дальше. Камма.
— Ты бы подумала об этом, прежде чем сдавать меня, — говорит Джайди.
Споткнувшись, она глядит назад, видит капитана в двух шагах от себя, ахает, вжимается спиной в стену и стоит, не в силах даже вдохнуть. Джайди внимательно смотрит на нее, чуть склонив голову. Задушит прямо тут, отомстит предателю?
Ее проводник замирает и спрашивает:
— Вам плохо?
Джайди нигде нет.
Сердце бешено стучит, пот льет градом. Если бы она побывала в чуть более опасной зоне, решила бы, что подхватила смертельную бактерию или вирус, и сама попросила бы отправить себя в карантин и больше не выпускать.
— Я… — выдавливает Канья, вспоминая кровь на ступенях у офиса генерала Прачи и аккуратно упакованную страшную посылку с ошметками тела Джайди.
— Позвать врача?
Капитан преследует ее, это был его пхи. Она через силу вдыхает, потом выдыхает и берет себя в руки.
— Все в порядке. Идем дальше.
Вскоре провожатый указывает на одну из дверей. Канья входит. Оторвавшись от монитора, ее легкой улыбкой встречает Ратана.
У всех компьютеров здесь большие экраны — некоторые не выпускают уже лет пятьдесят, и хотя каждый съедает энергии больше, чем пять новых, работу свою выполняют исправно, а потому их тщательно оберегают. Даже стоять возле таких жутковато — столько электричества они сжигают. Канья так и видит, как в ответ на подобное расточительство все ближе подступает океан.
— Спасибо, что пришла, — говорит Ратана.
— По-другому и быть не могло.
И ни слова о прежних свиданиях, ни намека на общее пошедшее вразнос прошлое. Канья не могла больше играть роль возлюбленной той[128], кого рано или поздно предала бы, — это было бы слишком лицемерно даже для нее. А Ратана все так же прекрасна. Канья вспоминает, как ночью в Лой Кратонг[129] они ходили на лодке по Чао-Прайе, смеялись и смотрели на плывущие мимо бумажные кораблики со свечами; вспоминает ее нежные объятия, плеск волн и огоньки на водной глади вокруг них — тысячи молитв и загаданных желаний.
Ратана подзывает ее к экрану посмотреть на фотографии и замечает капитанские нашивки на белом воротничке.
— Мне очень жаль Джайди. Он был… хороший.
Канья хмурится и гонит прочь воспоминание о пхи, только что встреченном в коридоре.
— Лучше, чем просто хороший. Что это? — Канья смотрит на снимки каких-то тел.
— Двое мужчин. Из двух разных больниц.
— И?..
— В их организмах побывало что-то очень нехорошее. Похоже на разновидность пузырчатой ржи.
— Ну и?.. Съели что-то зараженное, умерли — и что?
— Не-ет, она паразитировала у них внутри, плодилась, но в млекопитающих-то ржа жить не может. Я такого еще не видела.
Канья листает больничные записи.
— Кто такие?
— Неизвестно.
— Семья не посещала? Кто-то видел, как их привезли? Сами что-то говорили?
— Один при поступлении был в бреду, второй уже умирал.
— Уверена, что это были не зараженные фрукты?
Та лишь разводит руками. От жизни под землей у нее бледная и гладкая кожа. Канья, хоть и смуглая, как крестьянка, обгорелая на суровом солнце за время бесконечных патрульных обходов, ни за что не согласилась бы работать здесь, во тьме. Ратана очень смелая, сомнений нет. Канья пробует представить, какие темные силы в душе девушки вынудили ее погрузиться в эту преисподнюю. Пока они были вместе, Ратана ни словом не обмолвилась о своем прошлом, о лишениях. Но без них не бывает, как не бывает моря без пены на волнах и камней под водой. Камни есть всегда.
— Нет, конечно, не уверена. По крайней мере не на сто процентов.
— А на пятьдесят?
Ратана нервно пожимает плечами и вновь берет в руки бумаги.
— Знаешь же, что я не могу просто взять да заявить такое. Но вирус тут другой, у белков измененная структура. Ткани разрушены иначе, чем при обычной пузырчатой рже, но тесты показывают, что это известные разновидности: агрогеновская AG134.s и TN249.x.d «Тотал Нутриента», которые очень похожи. — Она умолкает.
— И?..
— Только нашли мы их в легких.
— Значит, цибискоз.
— Да нет же — пузырчатая ржа. Понимаешь теперь?
— И нам ничего не известно об этих людях, так? Может, они были за границей и приплыли на паруснике? Ездили в Бирму, в Южный Китай? Вдруг жили в одной деревне?
— Об их истории вообще ничего не известно. Есть только общая болезнь. Была у нас когда-то база данных по всем жителям — ДНК, члены семьи, место работы и проживания, — но ее отключили, передали ресурс упреждающим исследованиям. В любом случае база не помогла бы — в ней сейчас почти никто не отмечается.
— То есть у нас ничего нет. А еще случаи были?
— Ни одного.
— Имеешь в виду — пока ни одного?
— Откуда мне знать? Мы и об этих-то узнали только потому, что кругом стали гайки заворачивать. Больницы сейчас нам о каждом чихе сообщают — лояльность показывают. Все равно случайность — и отчет, и то, что я его заметила в куче других. Нужна помощь Ги Бу Сена.
Канья вздрагивает.
— Джайди умер. Ги Бу Сен теперь не станет помогать.
— Иногда он проявляет интерес к чему-то, кроме своих занятий, а этим его можно увлечь. Ведь ты однажды видела, как Джайди его уговаривал. Вдруг и у тебя получится? — с надеждой в голосе спрашивает Ратана.
— Сомневаюсь.
— Вот, посмотри. — Она перебирает больничные записи. — Тут явные признаки сконструированного вируса. Изменения в ДНК не похожи на естественные. С чего бы пузырчатой рже вдруг самой перейти с растений на животных? Не с чего, да и непросто это. Гляди: различия выделены. Мы как будто видим ее будущее, какой она станет через десять тысяч жизненных циклов. Настоящая головоломка. И очень нехорошая.
— Если ты права, нам всем конец. Надо доложить генералу Праче и дворцу.
— Постой. — Ратана хватает ее за рукав и смотрит умоляюще. — А вдруг я ошибаюсь?
— Не ошибаешься.
— Я не знаю, может ли она перескакивать на людей, и если да, то насколько легко. Спроси Ги Бу Сена — он сможет дать ответ.
— Ладно, попробую, — недовольно соглашается Канья. — А ты пока предупреди госпитали и уличные больницы — пусть отслеживают похожие симптомы, составь им список. Сейчас и без того на всех нажимают, поэтому подозрений из-за лишнего отчета не возникнет — подумают: просто держим их в тонусе. Так хоть что-то новое узнаем.
— Если я права, начнутся бунты.
— Хорошо бы только бунты. — Канья, чувствуя себя немного дурно, идет к двери. — Закончишь тесты, соберешь все данные — отнесу их этому твоему демону. — Ее передергивает. — Пусть посмотрит. Будут тебе доказательства.
— Канья!
Та молча оборачивается.
— Мне очень жаль Джайди. Вы же были близки.
— Он был тигром, — хмуро говорит Канья и оставляет Ратану одну в ее преисподней. Целый комплекс работает над спасением королевства, день и ночь жжет киловатты энергии, а толка — ноль.
25
Андерсон-сама приходит без предупреждения, садится рядом на барный стул, заказывает себе виски, ей — воду со льдом, не улыбается, даже не смотрит, но девушку все равно переполняет признательность.
Несколько дней она скрывалась в баре, ждала, когда за ней придут белые кители и отправят на переработку в компост. Последнее время Эмико только и делает, что молча терпит, дает умопомрачительные взятки, а теперь, глядя на Райли, понимает: вряд ли отпустит — слишком много в нее вложил.
Но вдруг приходит Андерсон-сама, и ей становится спокойно, как когда-то с Гендо-самой. Она понимает, что ее научили так реагировать, но ничего не может с собой поделать и, улыбаясь, разглядывает освещенные лампой со светляками гайдзинские черты — такие странные среди моря тайских и нескольких японских лиц, осведомленных о ее существовании.
Как уже повелось, не обращая на Эмико внимания, Андерсон-сама идет к Райли, и она понимает: после выступления проведет ночь в безопасном месте, впервые с начала рейдов не будет в страхе ждать белых кителей.
Однако в этот раз Райли является к ней тут же.
— Похоже, ты нашла верный подход. Фаранг хочет выкупить тебя сегодня пораньше.
— А выступление?
— Не нужно, он заплатил.
С большим облегчением Эмико бежит сменить одежду и вскоре уже мчится вниз по ступеням. Райли устроил так, что кители приходят в определенное время, поэтому в Плоенчите ей сейчас спокойно. Тем не менее она осторожничает: до того как все утряслось, прошло три рейда, и не один собственник был избит, прежде чем нашел общий язык с министерством, — но только не Райли, который, похоже, обладает сверхъестественной способностью понимать работу бюрократов и военных и улаживать с ними отношения.
Андерсон ждет на улице в пропахшей табаком и виски рикше. Отросшая за день щетина придает лицу суровый вид. Она кладет голову ему на плечо.
— Я ждала.
— Прости, что так долго. Не все сейчас гладко.
— Я скучала по тебе, — говорит Эмико и, к своему удивлению, понимает, что это правда.
Они не спеша едут по ночным улицам. Мимо сумрачными громадами неторопливо бредут мегадонты, вспыхивают силуэты чеширов, горят свечи, спят целые семьи; рикша проезжает мимо группы белых кителей, но те не обращают внимания — заняты очередной овощной лавкой. Над дорогой мерцают зеленые огоньки газовых фонарей.
Андерсон-сама кивает в сторону патруля.
— У тебя все в порядке? Эти приходят?
— Поначалу было трудно, сейчас уже проще.
Во время первых рейдов царила паника. Кители врывались внезапно, взлетали по лестницам, устраивали облавы на «мам», перекрывали незаконные газовые рожки. Верещали трансвеститы-ледибои, хозяева помещений бросались искать деньги, пытались откупиться, но налетчики взяток не брали, пускали в ход дубинки. Эмико жалась за спины девушек, стояла, как статуя, а кители ходили по бару, выискивали нарушения и грозили бить всех, пока не заплатят. Ни капли снисхождения — лишь ярость от гибели Тигра и большое желание проучить всех, кто когда-то смеялся над министерством.
Эмико едва не обмочилась от ужаса — думала, Канника вот-вот вытолкнет ее вперед, сдаст, не упустит возможности погубить.
Райли же расшаркивался: устроил целый спектакль перед тем, кому регулярно платил. Некоторые — Суттипонг, Аддилек и Тханачай — пристально глядели на Эмико (эти прекрасно знали, что здесь есть пружинщица, даже как-то пробовали ее), думали, стоит ли разоблачать. Каждый исполнял свою роль, а она ждала, когда Канника оборвет фарс, укажет всем на ту, которая служит поводом для щедрых взяток.
От этого воспоминания ее передергивает.
— Сейчас уже проще.
Рикша подъезжает к зданию, где живет Андерсон-сама. Он выходит первым, смотрит, нет ли поблизости кителей, и ведет девушку внутрь. Охранники у дверей старательно отводят глаза. На обратном пути надо дать им на чай, чтобы наверняка не вспомнили. Она им отвратительна, но, пока ведет себя уважительно и платит — не сдадут. Правда, учитывая нынешнюю нервозность белых кителей, денег надо больше — иначе никак.
Лифтерша — выражение лица нарочито бесстрастное — громко называет их примерный вес.
Обнявшись, они входят в покой его квартиры. Эмико, к своему удивлению, счастлива оттого, что Андерсон-сама рад ей, касается ее и хочет касаться снова и снова. Она уже забыла, что значит выглядеть как человек и быть почти уважаемой. В Японии, глядя на нее, люди не испытывали неловкости, а тут она постоянно чувствует себя животным. До чего хорошо знать, что тебя любят — пусть даже ради тела.
Его пальцы скользят по груди Эмико, ниже, по животу, мягко скользят между ног, потом глубже. Она рада, что все идет так гладко, что сейчас он познает ее; льнет к Андерсону-саме — их губы находят друг друга — и на время совершенно забывает, что ее называют пружинщицей и дергунчиком, на мгновение чувствует себя настоящим человеком, растворяется в прикосновениях, в спокойствии исполнения долга и удовольствия.
Но после слияния вновь накатывает уныние.
Андерсон-сама заботливо приносит утомленной девушке стакан прохладной воды, обнаженным ложится чуть поодаль, чтобы не греть и без того разгоряченное тело, и спрашивает:
— Что случилось?
Эмико старательно изображает всем довольного Нового человека.
— Ничего. Ничего, что можно было бы изменить. — Говорить о своих нуждах почти невозможно, противоестественно, сенсей Мидзуми за такое, пожалуй, побила бы.
Андерсон-сама смотрит на нее нежно — слишком нежно для того, чье тело исполосовано шрамами. Эмико знает наизусть каждый загадочный и грозный след на этой бледной коже: тот, морщинками, на груди, видимо, от лезвий пружинного пистолета, на плече, похоже, от мачете, а те, что на спине, явно оставлены кнутом. Только об одном, на шее, ей известно наверняка — этот был получен на фабрике.
— Так в чем же дело? — Андерсон-сама осторожно трогает ее.
Эмико откатывается в сторону и, с трудом перебарывая смущение, говорит:
— Белые кители… Они никогда не позволят мне покинуть город. А еще Райли-сан платит за меня теперь очень большие взятки и тоже ни за что не отпустит.
Андерсон-сама молчит. Слышно лишь, как дышит — тихо и ровно. Эмико уже готова сгореть от стыда.
«Глупая пружинщица. Радуйся тому, что тебе дают сейчас».
Повисает долгая пауза. Наконец он спрашивает:
— Думаешь, Райли не убедить? Все-таки деловой человек.
Эмико прислушивается к его дыханию — может, он хочет купить ей свободу? Будь Андерсон-сама японцем, такое молчание можно было бы понять как осторожное предложение.
— Не знаю. Райли-сан любит деньги. И еще, по-моему, любит смотреть, как я мучаюсь.
Она выжидает, ловит любой намек на ход его мыслей, но Андерсон-сама больше ни о чем не спрашивает, и догадка остается догадкой. Эмико чувствует жар его тела совсем близко. Он хочет услышать еще что-то? Если не отвечает человек воспитанный — это равнозначно пощечине, однако гайдзинам чужды такие тонкости.
Эмико собирается с духом — заложенные генами, вбитые муштрой непреложные законы душат ее слова — и, превозмогая унижение и собачью покорность, продолжает:
— Я теперь живу прямо в баре. Райли-сан платит за меня взятки втрое больше прежних — и кителям, и другим барам, но не знаю, сколько еще продержусь там. Похоже, места мне скоро не будет.
— А ты… — Он нерешительно замолкает. — Ты могла бы жить здесь.
Сердце Эмико бьется быстрее.
— Боюсь, Райли-сан узнает.
— На таких, как он, есть методы.
— Ты можешь освободить меня от него?
— Вряд ли мне хватит денег тебя выкупить.
Надежды Эмико разбиты, но Андерсон-сама продолжает:
— Сейчас очень неспокойно, я не стал бы злить Райли и вот так просто уводить тебя — он же нашлет сюда белых кителей, это слишком большой риск. А вот разрешить тебе спать здесь — такое можно устроить. Ему самому так будет меньше риска.
— Но разве тогда не возникнет проблем у тебя? Кители тоже не любят фарангов. Ты очень рискуешь. «Помоги мне сбежать отсюда, помоги найти деревни Новых людей, помоги, прошу». Я смогу сама уйти на север… если расплачусь с Райли-саном.
Андерсон-сама нежно привлекает податливую Эмико к себе.
— Немного же ты желаешь, — говорит он и медленно, задумчиво проводит пальцами по ее животу. — Нас ждут большие перемены. А может, и вас, пружинщиков. — Потом добавляет таинственно: — Белые кители и их законы — это не навсегда.
Эмико молит о спасении, а в ответ получает какие-то сказки.
«Радуйся, жадная девчонка, благодари за то, что уже имеешь», — думает она, скрывая разочарование, но в голосе сквозит досада.
— Я — пружинщица. Ничего не изменится, нас всегда будут презирать.
Усмехнувшись, он прижимает Эмико к себе.
— Ты уверена? — Андерсон, касаясь губами ее уха, заговорщически шепчет: — Помолись своему чеширьему богу — бакэнэко, и, как знать, может, я смогу дать тебе кое-что получше деревни в джунглях. Немного удачи — и будет тебе целый город.
Эмико отстраняется и грустно говорит:
— Я понимаю, что ты не можешь изменить мою судьбу. Но хотя бы не береди душу.
В ответ Андерсон-сама только хохочет.
26
Хок Сен притаился в улочке, идущей вдоль промышленной зоны фарангов. Уже ночь, но кители повсюду. Куда ни поверни — оцепления и белые формы. Ожидая разрешения на разгрузку, у набережных замерли парусники. В самом районе на каждом углу стоят министерские и разворачивают всех — рабочих, хозяев, владельцев магазинчиков. Пропускают только жителей соседних домов.
Хок Сен, у которого из документов — один желтый билет, полдня пробирался через город в обход постов. Маи очень не хватает — с парой молодых глаз и ушей было спокойнее, без нее он сидит в провонявшем мочой углу среди чеширов, глядит, как кители проверяют бумаги очередного прохожего, и клянет обстоятельства, отрезавшие его от «Спринглайфа». Стоило действовать смелее, рискнуть всем и вскрыть сейф, пока имелась возможность, но сейчас уже поздно, сейчас министерские контролируют каждый дюйм в городе и их самые ценные жертвы — желтобилетники. Они с удовольствием проверяют свои дубинки на китайских головах, учат уму-разуму. Если бы не авторитет Навозного царя, уже давно вырезали бы все население башен. Для министерства природы желтобилетники — та же эпидемия. Кители убили бы всех китайцев до последнего, потом сделали бы кхраб и извинились перед Дитя-королевой за излишнее усердие, но только в таком порядке.
Какая-то девушка показывает патрулю документы, проходит через оцепление и исчезает в переулках промышленного района. Цель так мучительно близка и так невыносимо недоступна.
Если подумать, то и к лучшему, что фабрику закрыли — так всем безопасней. Если бы не содержимое сейфа, Хок Сен сам сообщил бы о заражении и раз и навсегда покончил с этим, тамади, местом, но его манят документы, запертые в железном шкафу где-то над ядовитыми испарениями водорослевых резервуаров.
Старик готов от отчаяния рвать на себе последние волосы.
Он глядит на патруль, мысленно приказывает кителям уйти, посмотреть в другую сторону, молит Гуанинь и золотого толстяка Будая об удаче. Достать бы планы, получить поддержку Навозного царя, и такие откроются возможности, такая будет жизнь… Хок Сен снова станет делать подношения предкам, может, заведет жену, и даже сына, передаст ему свое имя. А может…
Мимо проходит патруль. Старик отступает подальше в тень и вспоминает, что зеленые повязки начинали точно так же: бродили по ночам и высматривали распущенные влюбленные парочки, которые держались за руки.
В те дни Хок Сен наставлял своих детей вести себя осторожнее и втолковывал: время строгих нравов приходит и уходит, и даже если у них нет вольницы, какая была у родителей, — что с того? Разве голодают, лишены семьи и добрых друзей? А за высокими стенами родительского дома уже не важно, что думают зеленые повязки.
Снова патруль. Хок Сен отходит еще дальше. В промышленный район никак не проскользнуть — кители твердо решили перекрыть кислород Торговле и навредить фарангам. Махнув рукой, старик шагает окольным путем по переулкам-сой назад к своей лачуге.
Все министерские были продажными — все, кроме Джайди. По крайней мере так говорят. Даже «Саватди Крунг Тхеп», газетка, которая больше остальных благоволила капитану, а потом во время гонений порочила его, теперь полоса за полосой превозносит народного героя. Джайди слишком любили — таких нельзя просто порвать в клочки и отправить, как останки животного, на переработку в метан. Кто-то должен понести наказание. А раз винят министерство торговли, то Торговле и достанется. Вот поэтому закрыты фабрики, якорные площадки, доки, улицы, и Хок Сену нет туда пути ему ни купить билета на парусник, ни уйти по реке к руинам Аютии, ни улететь дирижаблем в Калькутту или Японию.
Он шагает вдоль причалов. Кители, само собой, тут как тут. Рядом небольшими группками на земле без дела сидят рабочие. Метрах в ста от берега, чуть покачиваясь на волнах, на якоре стоит красавец корабль, похожий на тот, каким когда-то владел сам Хок Сен: последняя серия, стремительный корпус из пальмовых полимеров, подводные крылья, паруса; быстрый, вместительный — стоит и манит. А старик смотрит с берега и понимает, что до этого борта ему далеко, как до Индии.
Хок Сен, собравшись с духом, шагает к торговцу, который жарит в глубоком воке на тележке модифицированную тиляпию. Без информации совсем плохо — надо разузнать хоть что-нибудь. А если тот поймет, что говорит с желтобилетником, и позовет кителей, которые стоят на дальнем краю причала, убежать время будет.
Старик осторожно подходит и, кивнув на парусник, спрашивает:
— Туда можно как-то попасть?
— Никак. Никого не пускают, — ворчит торговец.
— Вообще никого?
Тот хмуро показывает в темноту на рабочих, которые, скучившись у его радиоприемника, сидят на земле, курят и играют в карты.
— Эти вон уже неделю ждут. И ты, желтобилетник, подождешь, как все люди.
Хок Сен хочет сбежать — в нем узнали китайца, — но упорно делает вид, будто сейчас они с торговцем в одинаковом положении, внушает тому, что он тоже человек, а не какой-нибудь постылый чешир.
— Не знаешь — дальше по берегу за городом есть лодки? Те, которые возят за деньги?
Тот мотает головой:
— Нет, сейчас никого никуда не пускают. На днях поймали две группы пассажиров — хотели сами сойти на берег. Кораблям даже пополнить запасы не дают. Мы тут ставки делаем, кто первый не вытерпит: капитан прикажет сниматься с якоря или кители разрешат разгрузку.
— И какие ставки?
— Дам тебе одиннадцать к одному, что сначала уйдет парусник.
— Не стану рисковать.
— Ну, тогда двадцать к одному.
Рабочие посмеиваются — кое-кто, похоже, слушал их разговор.
— Проси пятьдесят к одному! Кители стали упрямые после смерти Тигра.
Хок Сен хохочет — натужно, за компанию, потом закуривает и угощает остальных — удачный момент побрататься с этими тайцами. Не будь у него акцента, пошел бы налаживать контакт и с кителями, но при нынешних обстоятельствах ответом на небольшой знак расположения будет удар дубинкой по черепу, а лежать на дороге с пробитой головой ему совсем не интересно, поэтому он курит и издалека наблюдает за кордонами.
Время идет.
При мысли о том, что весь город наглухо закрыт, у него начинают трястись руки. «Это же не из-за нас», — успокаивает он себя, но чувствует, как на шее сжимается удавка. Дело, может, и в министерстве торговли, вот только китайцев в Бангкоке слишком много, а если торговля замрет надолго, даже эти вроде бы милые люди поймут, что у них нет работы, станут пить, и, напившись, вспомнят о башнях, забитых китайцами.
Тигр погиб. Его портрет теперь на каждом столбе, на каждом углу — даже сейчас со стены склада глядят сразу трое Джайди в боевой стойке. Хок Сен, нахмурившись, разглядывает его лицо: народный герой, неподкупный капитан, восставший против торгашей, фарангов и министерств — даже своего собственного. Когда он стал доставлять слишком много хлопот, его посадили на канцелярскую работу, но стало только хуже, и капитана вновь вернули на улицы. Старик смотрит на человека, который, смеясь смерти в лицо, пережил три покушения. Три из четырех.
Четыре. Последние дни это число не идет у него из головы. У Бангкокского тигра было четыре попытки. А сам он, Хок Сен, сколько уже использовал? У доков толпятся люди, которые не могут попасть к себе на корабли. Обостренным чутьем беглеца старик ощущает в воздухе опасность — сильнее, чем когда на парусник налетает порыв ветра, грозящий скорым тайфуном.
Тигр погиб. Хок Сен смотрит в нарисованные глаза героя и внезапно с ужасом понимает, что тот не мертв, что тот продолжает свою охоту.
Он резко отступает от жуткого плаката, как от зараженного пузырчатой ржой фрукта. Так же как в том, что весь его клан похоронен в малайской земле, Хок Сен уверен: пора бежать. Нутром чует: пришло время прятаться от тигров, выискивающих жертву вопреки обычаю ночью, время уйти в кишащие пиявками джунгли, есть тараканов и бродить по колено в грязи сквозь ливни в сезон дождей. Не важно куда, главное — бежать. Старик смотрит на парусник и понимает, что пора принять трудное решение: забыть о «Спринглайфе» и о документах в сейфе. Если откладывать дальше, станет только хуже. Надо пускать в ход деньги и спасаться.
Его плот тонет.
27
Карлайл ждет, когда Андерсон выйдет из дома, ерзает на сиденье рикши, глаза, ощупывая темноту, бегают из стороны в сторону. Он весь настороже, как испуганный кролик.
— Нервничаешь? — садится рядом Андерсон.
— Белые кители заняли «Викторию», все конфисковали, — с досадой отвечает тот.
Его компаньон смотрит наверх, на окна своей квартиры, и радуется, что бедняга Йейтс выбрал жилье подальше от остальных фарангов.
— Много потерял?
— В сейфе была наличность и списки покупателей, которые не хотел держать в офисе. — Он командует возчику по-тайски, куда ехать, потом продолжает: — Надеюсь, ты приготовил хорошее предложение этим людям.
— Аккарату оно известно.
Повозка трогает с места и везет их сквозь влажную ночь. Из-под колес врассыпную бегут чеширы. Карлайл глядит назад — нет ли слежки.
— Формально фарангов не трогают, но ты же знаешь — мы следующие в списке. Вряд ли долго тут продержимся.
— А ты взгляни на это иначе: если фаранги вторые в очереди, то третий — Аккарат.
Они едут по темному городу. Впереди возникает КПП. Карлайл вытирает лоб — потеет, как лошадь. Кители приказывают рикше остановиться.
Андерсону неспокойно.
— Думаешь, сработает?
Компаньон снова смахивает с лица пот.
— Вот сейчас и узнаем.
Патрульные окружают повозку, Карлайл что-то быстро им говорит и протягивает бумажку, те, перекинувшись парой слов, заискивающе кланяются и пропускают фарангов.
— Черт побери!
Карлайл облегченно выдыхает и замечает с усмешкой:
— Нужные печати творят чудеса.
— Удивительно, что Аккарат еще имеет какое-то влияние.
— А при чем тут Аккарат?
Ближе к дамбе большие дома сменяются хибарами. Рикша лавирует между плитами, упавшими с высокой гостиницы времен Экспансии. «А была когда-то красивая», — думает Андерсон, глядя на силуэты этажей-террас, чернеющих на фоне луны. Здание со всех сторон облепили хижины, последние зеркальные стекла поблескивают, как зубы. Повозка замирает возле лестницы, ведущей на вершину дамбы. Пара нагов, стоящих у подножья, наблюдает за тем, как Карлайл расплачивается с возчиком.
— Идем, — зовет Андерсона его компаньон, поглаживая чешуйки изваяний. С вершины весь город — как на ладони. Вдали сияет Большой дворец: внутренние постройки, где живет Дитя-королева и ее приближенные, скрыты высокими стенами, над ними в лунном свете мерцает длинный шпиль чеди. Карлайл тянет спутника за рукав. — Пойдем, пойдем.
Андерсон мешкает, вглядываясь в темноту береговой линии.
— А где кители? Их тут должно быть полно.
— Все в порядке. Здесь они не имеют власти. — Карлайл усмехается чему-то, известному только ему, и подныривает под сайсином, протянутым вдоль всей дамбы. — Идем же. — Он, спотыкаясь, шагает по каменистой насыпи вниз. Его компаньон еще раз смотрит по сторонам и тоже идет на шум волн.
Почти тут же к ним из темноты выплывает ялик на пружинном ходу. Андерсон, решив, что это патруль, уже хочет сбежать, но Карлайл успевает шепнуть:
— Свои.
Пройдя немного по воде, они запрыгивают на борт, лодка делает крутой разворот и уходит от берега. Океанская гладь словно отлита из серебра. Слышны лишь пощелкивание пружины и плеск волн о корпус. Впереди возникает баржа — ни огонька, кроме нескольких подмигивающих индикаторов.
Лодка подходит ближе, со стуком задевает о борт. Из темноты тут же спускают веревочную лестницу. Наверху команда встречает прибывших вежливыми ваи. Карлайл знаком приказывает Андерсону не говорить ни слова, и их уводят на нижнюю палубу.
Охранники, стоящие у двери в конце коридора, докладывают о фарангах и вскоре запускают их внутрь.
За большим обеденным столом сидят люди: все смеются, все выпивают. В одном Андерсон узнает Аккарата, в другом — того адмирала, который разоряет корабли, идущие на Ко Ангрит, третий, генерал, похоже, откуда-то с юга, в углу стоит ухоженного вида человек в черной военной форме — глядит пристально. Пятый…
Он так и ахает.
— На пол, надо показать уважение, — шепчет Карлайл, опускаясь на колени и делая кхраб. Андерсон тут же падает вслед за ним.
Сомдет Чаопрайя принимает их знаки почтения с каменным лицом.
Аккарат, посмеиваясь, глядит, как фаранги гнут спины, потом обходит стол и поднимает их с пола.
— Обойдемся без этикета. Тут все — друзья. Присоединяйтесь к нашей компании.
— В самом деле, — с улыбкой говорит Сомдет Чаопрайя. — Садитесь. Выпейте с нами.
Андерсон делает самый глубокий ваи, на какой только способен. Хок Сен говорил, что Сомдет Чаопрайя убил больше людей, чем министерство природы — кур. До назначения защитником Дитя-королевы он был генералом, о его восточных кампаниях ходят жуткие легенды. Поговаривают, что, происходи он из более благородной семьи, вполне мог бы претендовать на трон, однако вынужден оставаться в тени, хотя перед его грозной фигурой каждый падает на колени.
Сердце Андерсона гулко стучит — если за сменой правительства стоит Сомдет Чаопрайя, возможно все. После долгих лет поиска и провала в Финляндии до банка семян теперь рукой подать, а в нем — ключ к тайне нго, пасленовых и ответы на тысячи других генетических загадок. Этот человек с тяжелым взглядом и улыбкой то ли друга, то ли смертельного врага — ключ ко всему.
Карлайл с Андерсоном присоединяются к компании за столом, слуга предлагает им вино, а Аккарат вводит в курс дела:
— Мы говорили об угольной войне. Вьетнамцы только что сдали Пномпень.
— Прекрасная новость.
Беседа течет дальше, но Андерсон едва слушает, тайком наблюдая за Сомдетом Чаопрайей. В последний раз он видел его у храма Пхра Себа в министерстве природы, пораженно разглядывающим (как и сам Андерсон) пружинщицу в японской делегации. Вблизи этот человек куда старше, чем на развешанных по всему городу портретах, где его изображают верным защитником Дитя-королевы. Пятна на лице выдают любителя выпивки, мешки под глазами свидетельствуют о бурных развлечениях, о которых ходят слухи. Хок Сен говорит, что в личной жизни тот проявляет не меньшую жестокость, чем на поле боя, и, хотя тайцы обязаны делать перед ним кхраб, любят его куда меньше, чем Дитя-королеву. Поймав на себе взгляд Сомдета Чаопрайи, Андерсон, кажется, понимает, за что именно.
Он встречал таких — высокопоставленных калорийщиков, опьяненных властью, способных поставить на колени целую страну одной угрозой перекрыть поставки сои-про. Это жесткий, страшный человек. С таким Дитя-королева вряд ли когда-нибудь сможет править сама.
Между тем беседующие ловко избегают главной темы ночной встречи — говорят об урожае на севере, о проблемах на Меконге, в верховьях которого китайцы настроили плотин, о новых кораблях, которые вот-вот выпустит «Мисимото».
— Сорок узлов при хорошем ветре! — Карлайл возбужденно стучит ладонью по столу. — Подводные крылья и грузоподъемность в сто тонн! Я бы купил себе целый флот.
— А я думал, будущее за воздушными перевозками, за мощными дирижаблями, — увлеченно спорит Аккарат.
— При таких-то парусниках? Я бы не сказал. В прежнюю Экспансию чем только не пользовались, так почему в этот раз будет по-другому?
— Сейчас только и разговоров что о новой Экспансии. — Аккарат перестает улыбаться, бросает быстрый взгляд на Сомдета Чаопрайю — тот едва заметно кивает — и говорит уже Андерсону: — Некоторые силы в королевстве против подобного прогресса. Силы, прямо скажем, невежественные, но, к несчастью, весьма влиятельные.
— Если вам нужна поддержка, мы по-прежнему рады ее предоставить.
Наступает пауза. Аккарат, опять взглянув на Сомдета Чаопрайю, кашляет и продолжает:
— Тем не менее существуют некоторые сомнения относительно сути этой помощи. Опыт сделок с подобными вам не внушает уверенности.
— Это как спать в кровати, кишащей скорпионами, — поясняет Сомдет Чаопрайя.
Чуть улыбнувшись, Андерсон отвечает:
— На мой взгляд, скорпионов вокруг и без того немало. С вашего позволения некоторых мы могли бы устранить — ради нашего общего блага.
— Вы просите слишком многого, — говорит Аккарат.
Нарочито беспечно Андерсон повторяет свое предложение:
— Мы просим только о доступе.
— И еще вам нужен этот, как его, Гиббонс.
— Вам что-то о нем известно? — Андерсон подается вперед. — Знаете, где он?
За столом наступает молчание. Аккарат вновь косится на Сомдета Чаопрайю, тот лишь пожимает плечами, но и этого достаточно: Гиббонс здесь, в королевстве, возможно даже в городе, и скорее всего работает над очередным шедевром вроде нго.
— Мы не намерены отбирать у вас страну. Тайское королевство — это не Индия, не Бирма, это — государство с собственной, независимой историей, которую мы, безусловно, уважаем.
Лица сидящих за столом мрачнеют.
«Идиот. Нельзя задевать их страхи», — ругает себя Андерсон и тут же уводит разговор в другую сторону:
— Сотрудничество выгодно обеим сторонам, оно открывает огромные возможности. Мы готовы предложить королевству серьезную поддержку, если придем к соглашению. Поможем в конфликтах на границе, обеспечим продуктовую безопасность, какой не было со времен Экспансии, — все эти блага будут вашими.
Он умолкает. Генерал согласно кивает, адмирал хмурит брови, лица Аккарата и Сомдета Чаопрайи не выражают ничего.
— Прошу нас извинить, — говорит Аккарат, но это не просьба — охранники указывают Андерсону с Карлайлом на дверь. Минуту спустя компаньоны стоят в коридоре под присмотром четверых человек.
Глядя в пол, Карлайл замечает:
— Похоже, мы их не убедили. Как думаешь, почему они тебе не доверяют?
— Предлагаю им оружие, деньги на взятки — только попроси. Найдут выход на командиров Прачи — тут же их перекуплю и снаряжу. Где тут риск? — возмущается Андерсон. — Они плясать должны от радости. Самое роскошное предложение за всю мою жизнь!
— Дело не в предложении, а в тебе. В тебе, в «Агрогене» и в вашей дрянной репутации. Если они тебе доверяют, все будет как надо, а нет… — Карлайл разводит руками.
Дверь открывается, их приглашают войти.
— Благодарим за встречу. Мы обдумаем ваше предложение, — объявляет Аккарат.
Услышав этот вежливый отказ, Карлайл бледнеет. Сомдет Чаопрайя не без удовольствия наблюдает за поражением фарангов. Кругом звучат любезности, но Андерсон их не слышит. Проиграл. Уже чувствуя на языке вкус нго, наткнулся на преграду. Должен быть способ начать все снова, надо придумать, как зацепить Сомдета Чаопрайю, как сломать эту стену…
Андерсон едва не вскрикивает — его осенило, все вдруг встало на свои места. Расстроенный Карлайл что-то бормочет, а он только улыбается, отвешивает ваи и ждет удобного момента хоть немного продлить разговор.
— Прекрасно понимаю ваши сомнения, как и то, что мы не заслужили достаточно доверия. Но давайте обсудим кое-что другое, нечто менее рискованное — скажем, возможность дружбы.
— Нам от вас ничего не нужно, — хмуро говорит адмирал.
— Пожалуйста, не спешите. Сперва оцените наше новое предложение, которое мы делаем от чистого сердца, и, если передумаете относительно прежнего — через неделю, год или десять лет, — то встретите нашу полную готовность предоставить вам поддержку.
— Прекрасно сказано, — замечает Аккарат с улыбкой, бросая при этом на адмирала сердитый взгляд. — Думаю, здесь никто ни на кого не в обиде, поэтому приглашаю вас на последний стаканчик. Вы проделали ради нас большой путь, так давайте расстанемся друзьями.
— Полностью разделяю ваши чувства, — с облегчением произносит Андерсон. Игра продолжается.
Прислуга разливает напитки, и вскоре Карлайл уже обещает прислать из Индии груз шафрана, как только снимут эмбарго, Аккарат рассказывает анекдот о кителе, который собирал взятки с трех торговцев, но все сбивался со счета, а Андерсон поглядывает на Сомдета Чаопрайю, ждет удобного случая, и едва тот отходит к окну, шагает следом.
— Жаль, что ваше предложение не приняли.
— Буду рад выйти отсюда живым. Пару лет назад за одну попытку встретиться с вами меня бы разорвали мегадонтами.
— Ха! Вы уверены, что вам дадут выйти?
— Вполне. Шансы на это приличные. Мы глубоко уважаем и вас, и Аккарата, хотя и не во всем находим общий язык, поэтому, полагаю, рискуем не слишком.
— Вот как? Половина присутствующих здесь находит, что скормить вас речным карпам было бы наиболее благоразумным решением. — Злые заплывшие глаза впиваются в фаранга. — Еще немного, и вышло бы именно так.
Андерсон, вымучивая улыбку, пробует угадать:
— Видимо, есть разногласия с вашим адмиралом?
— Сегодня есть.
— Я вам очень признателен. — Андерсон делает ваи.
— Рано благодарить. Я еще могу передумать. У таких, как вы, скверная репутация.
— Тогда не будете ли вы любезны дать мне возможность поторговаться за свою жизнь?
— Не вижу никакого смысла. Она и есть самое ценное из всего, что может меня заинтересовать.
— Но я могу предложить нечто уникальное.
Сомдет Чаопрайя бросает на Андерсона пугающе невыразительный взгляд.
— Ошибаетесь.
— Вовсе нет. Я могу показать вам — причем сегодня же — то, чего вы никогда не видели, кое-что исключительное — не для щепетильных людей, конечно, но потрясающее и неповторимое. Быть может, тогда мы не пойдем на корм речным карпам?
Сомдету Чаопрайе делается скучно.
— Что-то, чего я никогда не видел? Такого нет.
— Хотите пари?
— О! Фаранг все еще хочет играть? Мало рисковали сегодня?
— Немало. Но хочу быть уверен, что останусь цел и невредим. Небольшой риск, учитывая, сколько я потеряю в случае проигрыша. — Он смотрит на Сомдета Чаопрайю в упор. — Тем не менее предлагаю спор. Вы согласны?
Тот бросает на фаранга тяжелый взгляд и обращается к остальным:
— А калорийщик-то — игрок! Говорит, покажет мне что-то, чего я никогда не видел. Как вам это?
Все хохочут.
— Дело не в вашу пользу.
— Все-таки думаю, что у меня хорошие шансы. Готов поставить на себя приличные деньги.
— Деньги? — кривится Сомдет Чаопрайя. — Речь вроде шла о вашей жизни.
— Как насчет разработок моей пружинной фабрики?
— При желании я получу их вот так. — Защитник Дитя — королевы раздраженно щелкает пальцами. — Раз — и они мои.
— Понимаю.
«Все или ничего».
— А если я предложу королевству последнюю версию ю-тексовского риса, созданную моей компанией? Это хорошая ставка? Причем не только сам рис, а еще и нестерилизованное зерно. Сможете собирать урожай и высаживать заново, пока оно устойчиво к пузырчатой рже. Вряд ли моя жизнь дороже такого риса.
Все тут же замолкают.
Сомдет Чаопрайя внимательно изучает фаранга.
— А взамен? Чего вы хотите в случае победы?
— Хочу запустить тот проект, который мы обсуждали ранее — все на тех же условиях, а они, как мы оба понимаем, исключительно выгодны и вам, и королевству.
— А вы настойчивы, — прищурившись, говорит защитник Дитя-королевы. — Но что помешает вам просто не дать нам обещанный рис, если проиграете?
Андерсон с улыбкой показывает на своего компаньона:
— Думаю, если не справимся, вы сможете разорвать нас с господином Карлайлом мегадонтами. Такие гарантии устроят?
У Карлайла вырывается истеричный смешок.
— Да что ж это за спор такой?
Не сводя глаз с Сомдета Чаопрайи, Андерсон отвечает:
— Единственный стоящий. У меня нет ни малейших сомнений в том, что его превосходительство поступит честно, если я смогу его удивить, поэтому в знак доверия вручаю ему нашу жизнь. Вполне здравые условия. Мы же оба — достойные люди.
— Принято. — Сомдет Чаопрайя хлопает Андерсона по спине: — Удиви меня, фаранг. И желаю удачи. С удовольствием посмотрю, как тебя растопчут.
По городу они следуют удивительной процессией: благодаря эскорту Сомдета Чаопрайи легко минуют блокпосты и слушают, как позади в темноте раздаются удивленные возгласы кителей, сообразивших, кого они хотели задержать.
Карлайл утирает лоб платком.
— Господи, Андерсон, ты безумная скотина. Зачем только я вас свел?
Теперь, когда ставки сделаны и риски определены, его компаньон склонен с ним согласиться. Предлагать ю-тексовский рис — это слишком. Даже если начальство поддержит, финансисты будут против. Заменить погибшего калорийщика куда проще, чем восстановить запасы зерна. Если тайцы станут экспортировать рис, прибыли не видать долгие годы.
— Все нормально. Поверь мне, — ворчит он.
— Поверить? Сначала поверить, а потом — под ноги мегадонту? — Карлайл озирается. — Бежать надо.
— Забудь. Сомдет Чаопрайя сказал охранникам, что делать, если мы вдруг передумаем. — Андерсон кивает в сторону едущей позади рикши. — Попробуешь — пристрелят.
Вскоре впереди возникают знакомые башни.
— Плоенчит? Иисусе и Ной ветхозаветный! Ты хочешь отвести туда Сомдета Чаопрайю?
— Спокойно. Ты сам навел меня на эту мысль.
Андерсон выходит из повозки. Сомдет Чаопрайя, кружащий у дверей среди своей охраны, бросает на него сочувственный взгляд и качает головой.
— Вы это хотели мне предложить? Девочек? Секс?
— Не спешите судить. Заходите, прошу вас. К сожалению, здесь только лестница, условия совершенно вас недостойные, но, уверяю, цель того стоит.
Сомдет Чаопрайя, пожав плечами, пропускает фаранга вперед. Охранники беспокойно глядят в темноту и теснее обступают хозяина. Сидящие на ступенях наркоманы и шлюхи видят его, перепуганно падают ниц и делают кхраб. Телохранители бегут вверх, осматривая дорогу, но слух о прибытии гостя их опережает.
Сомдет Чаопрайя входит в распахнутые двери клуба «Сойл» — девочки падают на колени — и брезгливо спрашивает:
— Вот, значит, какие места вы, фаранги, предпочитаете?
— Как я уже говорил, место действительно не лучшее, приношу извинения. Нам сюда. — Андерсон пересекает зал и отдергивает занавеску, за которой виден небольшой зрительный зал.
На сцене под лампой со светляками лежит Эмико, вокруг — толпа мужчин, все глядят, как присевшая рядом Канника заставляет пружинщицу выполнять те самые марионеточные движения. Конечности девушки угловато подергиваются.
Сомдет Чаопрайя замирает на месте, изумленно раскрыв глаза.
— Я думал, такие есть только у японцев.
28
— Еще одного нашли.
Канья вздрагивает, видит в дверях Паи и трет глаза. Сидела за столом, маялась над очередным отчетом, ждала вестей от Ратаны, и вдруг откуда-то слюна на тыльной стороне ладони, чернила из ручки растеклись… Заснула. Видела Джайди: сидел рядом и подтрунивал над ее оправданиями.
— Я вас разбудил?
Канья еще раз протирает глаза.
— Сколько времени?
— Два часа как рассвело. Солнце давно встало.
Паи, которому по возрасту полагалось бы быть ее начальником, но вышло наоборот, терпеливо ждет, когда капитан окончательно придет в себя. Этот человек с оспинами на лице — еще из старой гвардии, из тех, кто боготворил самого Джайди и его поступки; из тех, кто помнит времена, когда министерство природы почитали, а не высмеивали. Хороший служака — пусть не чист на руку, но Канья знает о его взятках все — от кого, сколько и с кем в доле — и потому доверяет.
— Мы нашли еще одного, — напоминает Паи.
— Кто еще знает? — оживляется она.
Тот в ответ лишь мотает головой.
— Передали Ратане?
Кивает.
— Смерть не отметили как подозрительную, поэтому мы и нашли с трудом. Такое искать все равно что серебряную блесну на рисовом поле.
— Не отметили?! — Она шумно выдыхает сквозь сжатые зубы. — Ни к черту работнички. Быстро же там забыли, как все это обычно начинается.
Глядя на сердитую начальницу, Паи только согласно кивает. Канья смотрит на его лицо, испещренное пятнами и глубокими оспинами, и никак не может вспомнить, что за паразиты оставляют такие следы — долгоносики или какая-то разновидность бактерий-пхи.
— Итого, уже двое? — спрашивает он.
— Трое… А имя? Имя умершего известно?
— Их привезли тайком.
— Так и думала. Обойди район и узнай, не сообщал ли кто о пропавших родственниках. Все-таки три человека пропали. И фотографии с собой возьми.
Паи с сомнением пожимает плечами.
— Есть идея получше? — спрашивает Канья.
— Может, криминалисты найдут между ними какую-нибудь связь?
— Да, пускай ищут. Что сейчас Ратана делает?
— Везет тела к ямам. А еще просила вас о встрече.
— Это и так понятно, — раздраженно замечает она, убирает бумаги и отправляет Паи на бесполезные поиски.
По дороге из административного корпуса Канья размышляет, как на ее месте поступил бы Джайди. Осеняло того регулярно: бывало, встанет как вкопанный, а через секунду команда уже мчит через весь город к источнику загрязнения, и всегда безошибочно. Канье тошно думать, что королевство теперь рассчитывает на нее, а не на Джайди.
«Меня же купили. Заплатили и купили».
Впервые оказавшись в министерстве природы в роли тайного агента Аккарата, она с удивлением обнаружила: в службе у Прачи есть масса приятных моментов. Раз в неделю обход уличных торговцев и сбор денег за то, что жгут не дорогой разрешенный метан, а другое топливо; а еще ночное патрулирование, больше похожее на прогулку, и крепкий сон. Легкая была жизнь, даже под началом Джайди. Теперь же — вот не повезло — Канья должна выполнять работу, причем важную, а в голове давно перепуталось, кто из двух ее хозяев главный.
«На ваше место следовало встать кому-нибудь другому, кому-нибудь более достойному. Королевство гибнет, потому что мы слабы, лишены добродетели, не следуем восьмеричному пути[130], и вот — снова болезни».
А поставить им заслон должна она, как когда-то Пхра Себ, только у того были силы и моральные устои.
Канья шагает по плацу, хмуро кивая попадающимся по пути офицерам.
«Да что же у тебя за камма такая, Джайди, если на твое место встала я, если дело попало в мои ненадежные руки? Это чья-то шутка? Может, злой хитрец Пхи Оун, дух чеширов, решил, что в мире мало мертвечины, и хочет новых гор из трупов?»
Едва Канья открывает ворота в крематорий, к ней подбегают люди в медицинских масках, такую же вручают и ей, но она оставляет тряпочку болтаться на шее — не должен офицер показывать страх. К тому же маска не спасет. Капитан больше верит в пользу амулета с образом Пхра Себа.
Красная земля пустыря сплошь изрыта большими ямами, выложенными камнем для защиты от близких грунтовых вод. Почва сырая, но поверхность вся выжжена солнцем. Засушливому сезону не видно конца. Придут ли вообще в этом году муссоны? А если придут — спасут или погубят? Есть игроки, которые только на погоду и ставят, каждый день пересчитывают шансы. Но климат так изменился, что даже компьютеры министерства не каждый год дают верный прогноз.
Ратана стоит на краю ямы. От горящих тел валит густой дым. Вверху кружат вороны и другие падальщики, у стены настороженно выжидает неизвестно как пробравшийся в министерство пес.
— Этот здесь откуда? — кивает на него Канья.
Ратана поднимает голову, видит животное и безразлично замечает:
— Природа всегда себе дорогу найдет. Оставь пищу, и она тут как тут.
— Что с новым телом?
— Те же симптомы. — Девушка стоит понуро, плечи опущены, смотрит на огонь. Один из стервятников спускается ниже. Человек в форме палит из пушки, птица с криком взлетает, но продолжает кружить неподалеку. Ратана на несколько секунд закрывает глаза — в уголках блестят слезы, — но, мотнув головой, быстро берет себя в руки. Канья с грустью думает, переживут ли они новую эпидемию.
— Надо всех предупредить, — говорит Ратана. — Генерала Прачу, дворец…
— Больше не сомневаешься?
— Его нашли в другой части города, — со вздохом отвечает она. — В уличной больнице. Думали — передозировка ябой. Паи случайно его обнаружил — как раз шел в благотворительный госпиталь и из разговора с кем-то узнал.
— Не говорил, что случайно. Сколько таких уже — сотни, тысячи?
— Не знаю. Одно хорошо: пока нет признаков того, что сами тела заразны.
— Это пока.
— Ты должна сходить к Ги Бу Сену, только он сможет точно сказать, с какой напастью мы столкнулись. Это ведь его страшные детища нам угрожают. У меня почти готовы новые образцы, хотя бы по одному из трех точно поймет, что это.
— А иначе никак не выяснить?
— Иначе — это вводить карантин по всему городу. Но тогда жди бунтов, и спасать будет уже нечего.
Кругом, куда ни посмотри, — яркие изумрудно-зеленые рисовые поля. Канья очень долго пробыла в клоаке Крунг Тхепа, и ей в радость видеть живые, залитые солнцем просторы. Кажется, что в мире еще есть надежда, что эти травинки никогда не покраснеют от новой разновидности пузырчатой ржи, что очередная созданная человеком спора не прилетит из Бирмы и не поразит эту землю, что заливные поля по-прежнему растут, дамбы сдерживают океан, а насосы Рамы XII качают воду.
Фермеры кланяются проезжающей мимо на велосипеде Канье. Судя по клеймам на руках, большинство в этом году уже выполнило обязательную работу на королевство, а некоторым в сезон дождей еще предстоит пойти в город укреплять дамбы. У Каньи тоже сохранились татуировки — до того как агенты Аккарата сунули ее в министерство природы, она жила, как эти фермеры.
Канья уже час крутит педали по насыпным дорогам. Наконец впереди возникает строение: сперва забор из проволоки, охрана с собаками, потом стены с битым стеклом, колючей проволокой и высоким бамбуковым частоколом поверху. Она пока не спешит съезжать с насыпи. Внешне — обычный дом человека с достатком, построенный на искусственном бетонном холме, на остатках небоскреба времен Экспансии.
Удивительно, сколько труда потрачено на эту ерунду, если учесть, как опустел мир за последний век. Когда силы требовались на починку дамб, возделывание полей и ведение войн, кто-то сумел отправить людей строить дом на холме. Это убежище богача принадлежало Раме XII, формально и теперь им владеет дворец. С дирижаблей — строение как строение, ничего особенного, но вблизи замечаешь и высоту стен, и глубину ям-ловушек, и зорко глядящих по сторонам людей с собаками.
Она показывает охране свои бумаги. Рядом рвут цепи и рычат мастиффы — громадные твари, крупнее обычных собак. Пружинщики — голодные, опасные, идеально подходящие для своей работы. В каждом веса вдвое больше, чем в Канье, и все — сплошные мышцы и зубы. Оживший ночной кошмар Ги Бу Сена. Дежурные тем временем с помощью механических декодеров расшифровывают ее документы. У этих людей в черной форме личной гвардии королевы пугающе серьезный и деловитый вид. Наконец с бумагами покончено, и Канья едет дальше мимо оскаленных собачьих зубов, со страхом понимая, что псы легко догонят любой велосипед.
У ворот документы проверяют еще раз, затем ее проводят на крытую черепицей террасу к сияющей, как драгоценность, голубой воде бассейна.
Три ледибоя, хихикающие в тени под пальмой, замечают Канью, приветствуют ее улыбками, она отвечает тем же. Симпатичные. Но глупые, если любят фаранга.
— Я Кип, — говорит одна из них. — Доктор сейчас на массаже. Вы можете подождать тут, у бассейна.
Здесь сильно пахнет океаном. Канья подходит к краю террасы. Волны внизу завиваются в буруны и белой пеной плещут на песчаный пляж. Налетает порыв ветра — свежего и удивительно живого после удушающей вони Бангкока, сжатого со всех сторон дамбами.
Она глубоко вдыхает соленый воздух. Мимо порхает бабочка, садится на перила террасы, несколько раз складывает и осторожно приоткрывает крылья, отливающие ярким зеленовато-синим, золотым и черным.
Канья, пораженная красотой, разглядывает пестрого посланца незнакомого ей мира и думает, какая нужда заставила насекомое прилететь в этот недобрый особняк к заключенному здесь фарангу. Безупречное свидетельство того, что прекрасное существует, что природа может быть до безумия великолепна.
Неосторожная рука могла бы смахнуть, растереть в пыль, уничтожить сидящую на перилах красоту и даже не заметить этого.
Канья осторожно тянет к ней палец. Бабочка замирает, но позволяет взять себя и посадить в сложенную горстью ладонь. Она прибыла издалека и наверняка очень утомилась — не меньше, чем сама Канья; она пересекла целые континенты, перепорхнула через горные поля, изумрудные джунгли, приземлилась среди мощеных дорожек, цветов гибискуса и достигла своей далекой цели — ее взяли в руки и восхищаются ее красотой.
Канья сжимает трепетное насекомое в кулаке, раскрывает пальцы, и на дорожку летит пыль, кусочки крыльев, падает раздавленное тельце искусственного опылителя, занесенного скорее всего из какой-нибудь лаборатории «ПурКалории».
У пружинщиков нет души. Но они красивы.
Позади слышен всплеск — Кип, уже переодевшись, скользит под водой, всплывает, откидывает назад длинные черные волосы, улыбается и снова ныряет. Канья наблюдает за изящными движениями смуглого тела, обтянутого голубым купальником. Симпатичная девушка, на таких созданий приятно смотреть.
Через некоторое время к бассейну выкатывают самого демона. Выглядит тот куда хуже, чем в прошлый раз: от горла к уху бегут извилистые шрамы от фагана, инфекции, с которой он справляется, несмотря на прогнозы врачей. Старик сидит в инвалидном кресле, на тонкие, как палки, ноги наброшен плед.
Все-таки болезнь прогрессирует, а Канья долгое время думала, что это россказни. Она вздрагивает, глядя на обезображенного, склочного и пугающе энергичного уродца. Будет хорошо, когда демон уйдет к следующей жизни, его труп отправят в карантин и сожгут, но до тех пор пускай лекарства подольше сдерживают болезнь.
Сидящий в коляске человек — лохматая голова, кустистые брови, мясистый нос — при виде Каньи широко, по шакальи оскаливает зубы.
— О! Мой тюремщик!
— Не совсем так.
Глядя на рассекающую воду Кип, Гиббонс говорит:
— Одно то, что вы снабдили меня этими красавицами с симпатичными ротиками, не означает, что я не заключенный. — Старик смотрит на бассейн, где плавает Кип, потом поднимает глаза на Канью. — Давно не виделись. А где же ваш достославный хозяин и повелитель, мой драгоценный сторож? Где победоносный капитан Джайди? Я не привык иметь дело со вторыми лицами… — Тут он замечает у нее на воротнике новые нашивки и, прищурясь, откидывается на спинку кресла. — Понятно. Рано или поздно его должны были устранить. Поздравляю с повышением, капитан.
Канья старательно сохраняет невозмутимый вид. Раньше переговоры с этим демоном вел Джайди — оба отправлялись в кабинет, а она оставалась у бассейна в компании тех существ, каких доктор в тот раз выбирал для своих развлечений. Капитан всегда выходил от Гиббонса угрюмо-молчаливым.
Однажды по дороге обратно Джайди чуть не разговорился, едва не высказал все, что крутилось у него на языке — открыл рот, начал протестующе: «Но!..», однако больше не произнес ни слова, хотя, похоже, продолжал разговор, вел бой, швырял в противника фразы, как мячи для такро, только игровым полем служила его голова.
В другой раз капитан вышел от Гиббонса с мрачным видом и сказал:
— Слишком опасен, нельзя его больше держать.
— Но ведь он больше не работает на «Агроген», — удивилась Канья. Джайди взглянул на нее озадаченно — сам не заметил, что говорил вслух.
Доктор — настоящая легенда, им пугают детей. При первой встрече она ждала увидеть закованного в цепи демона, но ей предстал человек, который со счастливой самодовольной улыбкой вычерпывал сердцевину из привезенной с Ко Ангрита папайи, обливаясь соком.
Канья никак не могла понять, что привело его в королевство — чувство вины или иная загадочная причина, соблазн развлечений с ледибоями, приближающаяся смерть или ссора с коллегами. Но он, похоже, ни о чем не жалел, не испытывал угрызений совести за причиненное миру зло, спокойно шутил о том, как помешал Доминго и Равиате и тем угробил десятилетний труд лаборатории доктора Майкла Пина.
Ее размышления прерывает чешир: прокравшись по веранде, тот запрыгивает на колени к Гиббонсу. Канья с отвращением делает шаг назад. Доктор, улыбаясь, чешет зверька за ухом, лапы животного постепенно меняют оттенок, принимая цвет пледа.
— Не цепляйтесь вы так ко всему «естественному». Вот, смотрите. — Старик, склонясь над чеширом, изображает урчание. Мерцающая тень вытягивает шею к его лицу, мяукает, осторожно лижет человека в подбородок, по пятнистой шкуре пробегают искры. — Кушать хочет зверушка. Удивительные твари! Если как следует оголодают, перейдут на нас и съедят, разве только мы создадим более совершенного хищника — того, кто будет пожирать их.
— Мы просчитывали такой вариант, — говорит Канья. — Пищевая сеть пострадает еще больше. Новый хищник не вернет того, что уже утеряно.
— Пищевая сеть посыпалась, когда человек впервые вышел в море, — фыркает Гиббонс, — когда зажег первый костер в африканской саванне. Мы лишь ускорили процесс. Эта ваша пищевая цепь — не более чем ностальгия. Природа… — Он презрительно морщит нос. — Мы и есть природа, каждый наш каприз, каждая малейшая потребность. Мы те, кто есть, и мир принадлежит нам. Мы — его боги. Все же ваши затруднения лишь в нежелании применить к нему всю свою силу.
— Как «Агроген»? Как «Ю-Текс» или «Ред Стар Хайгро»? Нет уж. Сколько людей погибло потому, что они применили свою силу? Эти ваши господа калорийщики уже показали, к чему ведет такой путь — люди умирают.
— Умирают все, — отмахивается доктор. — Но вы — из-за того, что цепляетесь за прошлое. Всем давно пора стать пружинщиками. Проще создать человека, устойчивого к пузырчатой рже, чем защищать его прежнюю версию. Одно поколение — и мы превосходно впишемся в новую среду. Ваши дети станут хозяевами мира. Однако вы, люди, не желаете приспосабливаться, держитесь за свою идею человечности, которая тысячи лет менялась вслед за природой, а теперь вдруг решила пойти своим путем. Пузырчатая ржа — вот наша среда. Цибискоз, долгоносики со взломанными генами, чеширы — они адаптировались. Естественной была их эволюция или нет — не важно, что вы там себе думаете. Природа изменилась. Хотим по-прежнему сидеть на вершине пищевой цепочки — станем приспосабливаться, нет — пойдем вслед за динозаврами и Felis domesticus. Эволюция или смерть — вот главный и вечный принцип. Вы же, белые кители, упрямо мешаете неизбежным переменам. — Он подается вперед. — До чего же иногда охота встряхнуть вас хорошенько! Дайте возможность — я стану вашим богом, изменю вас так, что мир вокруг станет раем.
— Я буддистка.
— Ну да, а у пружинщиков нет души, — подхватывает Гиббонс с ухмылкой, — и перерождений тоже. Значит, найдут собственных богов-защитников и уже им начнут читать молитвы и просить своих мертвых. — Он улыбается еще шире. — Может, как раз я-то и окажусь их богом и просить о спасении ваши дети станут меня. — В его глазах пробегает искорка. — Да, признаю — хочу паству побольше. Джайди был таким же, как ты, — вечно в сомнениях. Не настолько безнадежным, как грэммиты, но до божества определенно не дотягивал.
— Когда вы умрете, мы сожжем ваше тело, перемешаем пепел с хлором и щелоком, захороним, и никто даже не вспомнит, что был такой человек, — брезгливо говорит Канья.
— А кто из богов не страдал? — Доктор безразлично пожимает плечами, откидывается в кресле и хитро на нее глядит. — Сейчас на костер отправите или, как обычно, падете ниц, боготворя мой ум?
Стараясь не показывать своего к нему отвращения, она протягивает старику бумаги. Тот, почти не взглянув, просто кладет их на колени.
— Ну и?..
— Посмотрите.
— А попросить коленопреклонно? Уверен, вы своему отцу выказываете большее почтение, а уж городскому столпу и подавно.
— Мой отец умер.
— …а Бангкок утонет. Это не повод забывать об уважении.
Канья очень хочет врезать старику дубинкой. Догадавшись об этом, Гиббонс с улыбкой предлагает:
— Тогда, быть может, для начала побеседуем? Джайди любил поговорить. Не хотите? Вижу по лицу, что вы меня презираете. Полагаете, я — убийца? Пожиратель младенцев? С таким, как я, никогда не преломите хлеб?
— Вы и есть убийца.
— Именно. Ваш штатный убийца. Но кто в таком случае вы? — Он вопросительно смотрит на Канью. Той кажется, что старик препарирует ее взглядом: достает и по отдельности изучает то печень, то желудок, легкие, сердце.
— Желаете мне смерти… — Покрытое оспинами лицо Гиббонса расплывается в улыбке, в глазах сквозит безумие. — Так застрелите меня, раз ненавидите. — Канья молчит, и он возмущенно вскидывает руки. — Черт меня подери, какие же вы все робкие! Одна Кип хоть чего-то стоит. — Старик несколько секунд завороженно смотрит на плавающую в бассейне девушку. — Давайте, убейте. Рад буду умереть. Живу-то лишь по вашей воле.
— Это ненадолго.
Доктор бросает взгляд на свои парализованные ноги и, усмехнувшись, замечает:
— И в самом деле. Только что вы станете делать, когда «Агроген» и иже с ними опять пойдут в наступление? Когда ветер из Бирмы или течение из Индии занесет новые споры? Будете умирать с голода, как индусы? Или с вас, как с бирманцев, кусками начнет слезать мясо? Ваша страна на шаг впереди болезней благодаря мне, моему гниющему мозгу. Хотите гнить вместе со мной? — Он откидывает плед, показывая бледные безжизненные ноги, покрытые коростой и язвами, обескровленную, сочащуюся, будто лишенную костей плоть, и спрашивает, грустно улыбаясь: — Вот так хотите умереть?
Канья отводит взгляд.
— Вы заслужили болезненную смерть. Это ваша камма.
— Карма? Карма, говорите? — Доктор подается вперед, сверкая карими глазами и высунув язык. — И что же это за карма у королевства, если оно целиком зависит от моего протухшего тела? Какая такая карма вынуждает вас так старательно поддерживать именно мою жизнь? Я часто размышляю об этой вашей карме. Может, черпать из моих рук свой банк семян — цена вашей гордыни? А что, если все вы — не более чем инструмент моего просветления и спасения? Кто знает? Вдруг за все добро, которое я вам сделал, мне суждено переродиться возле самого Будды?
— Вы неправильно понимаете камму.
— Да плевать. Главное — подложите под меня кого-нибудь вроде Кип, бросьте мне очередную свою больную заблудшую душу, даже пружинщицу — все равно, сойдет любая плоть. Только не надоедайте. Мне теперь не до вашей протухшей страны.
Гиббонс швыряет бумаги в воду. Страницы разлетаются по всему бассейну, и Канья, ахнув, едва не прыгает следом, но заставляет себя сесть на место — нельзя вестись на уловки старика. Типичный калорийщик — постоянно манипулирует, испытывает. Она переводит взгляд с размокающих листков на Гиббонса.
— Ну? Что же вы не бросаетесь за ними? Моя юная нимфа с удовольствием вам поможет. Уж я насмотрюсь на двух резвящихся наяд.
— Сами доставайте.
— Обожаю беседовать с правильными людьми вроде вас, дамы с искренними убеждениями, — говорит он и добавляет, прищурившись: — С тем, кто может профессионально судить о моей работе.
— Вы были убийцей.
— Всего лишь продвинулся вперед. А как они распорядились плодами моих трудов — меня не касалось. Пружинный пистолет — у вас в руках, и не его конструктор виноват в вашей непредсказуемости и в том, что вы в любой момент можете пристрелить не того человека. Я дал орудие, которым можно творить жизнь, но если люди используют его в каких-то своих целях, то это их карма, а не моя.
— Вы так думаете, потому что «Агроген» вам хорошо платил.
— «Агроген» платил мне за то, что я делал его богатым. А думаю я самостоятельно. — Старик пристально смотрит на Канью. — Полагаю, совесть у вас не запятнана. Вы из тех порядочных министерских офицеров, которые безупречны, как белизна их кителей, и чисты, как после стерилизации. Вот скажите-ка — взятки берете?
Канья открывает рот, но слова застревают в горле: словно прямо у нее за спиной парит дух Джайди и тоже ждет ответа. Вздрогнув, она усилием воли приказывает себе не смотреть назад.
— Ну конечно, — улыбается Гиббонс. — Все вы одинаковые, насквозь продажные. — Старик замечает, как она тянет руку к пистолету. — Вот как? Угрожаете? И с меня хотите взятку? А может, мне вам еще и полизать? Или предложить мою не совсем девочку? — Он сверлит Канью взглядом. — Деньги у меня вы уже отняли, остаток моей жизни проходит в муках. Чего вам еще нужно? Почему и Кип не отберете?
Девушка с готовностью выглядывает из бассейна, перебирая ногами в воде. От ряби прозрачных волн на ее теле играют блики. Канья отводит глаза.
— Извини, Кип, — смеется доктор. — Нет у нас таких взяток, какие вот эта любит. — Барабаня пальцами по подлокотнику, он спрашивает: — Может, тогда мальчика хотите? У меня на кухне есть один симпатичный двенадцатилетний. С радостью исполнит любой каприз. Удовольствие белого кителя — превыше всего.
— Я вам кости переломаю.
— Тогда вперед. Только поскорее — мне нужен повод отказать вам в помощи.
— Почему вы так долго помогали «Агрогену»?
Старик смотрит на нее прищурившись.
— По той же причине, по которой вы, как собачки, бегаете за своими хозяевами. Они платили тем, что мне было нужнее всего.
Звук удара упругим эхо отскакивает от воды. Охранники срываются с места, но Канья уже отходит от Гиббонса, тряся ушибленной рукой, и знаком останавливает их.
— Все хорошо, у нас все в порядке.
Те замирают, не зная, выполнять свою прямую обязанность или приказ старшего по званию.
Доктор трогает пальцами разбитую губу, смотрит на кровь, потом на Канью.
— Болезненное место. Так вы продались целиком или частично? — Он улыбается, выставляя напоказ покрасневшие зубы. — Работаете на «Агроген»? Явились меня убить? Помочь им избавиться от занозы? — Старик буравит ее любопытствующим взглядом, словно хочет проникнуть в самую душу. — Рано или поздно они должны были догадаться, что я здесь, работаю на вас, иначе с чего бы королевству благоденствовать так долго. Нго и пасленовые не появились бы без моей помощи. На меня объявили охоту. Выходит, вы и есть мой охотник? Вы — моя судьба?
— Вряд ли. Мы с вами еще не закончили.
Старик облегченно выдыхает.
— Само собой. И никогда не закончите. Такова природа животных и эпидемий: их не опередить, это не какие-нибудь безмозглые механизмы, у них есть свои потребности, в том числе потребность эволюционировать. Они должны мутировать, приспосабливаться, поэтому со мной вы не закончите никогда. Вот умру — что будете делать? Мы выпустили на волю демонов, а ваша оборона крепка только моим умом. Природа стала совсем иной, теперь она принадлежит нам по-настоящему. Ну а если нас пожрут наши же создания, разве это будет не поэтично?
— Такая камма, — тихо отвечает Канья.
— Именно. — Гиббонс довольно откидывается на спинку кресла. — Кип, собери бумаги. Посмотрим, что за ребус мне принесли. — Он задумчиво постукивает пальцами по безжизненным ногам и, ухмыльнувшись своей гостье, говорит: — Поглядим, насколько близко королевство подошло к своей гибели.
Один за другим Кип выхватывает из воды листки; Гиббонс наблюдает за плавающей в бассейне девушкой и замечает с легкой улыбкой:
— Повезло же вам, что она мне так нравится. Иначе давно бы бросил вас умирать. — Потом он кивает охранникам. — У капитана с собой образцы, там, на велосипеде, — принесите. Я возьму их в лабораторию.
Наконец Кип выныривает и кладет доктору на колени горку размокших бумаг, потом по его сигналу везет коляску в здание. Гиббонс зовет Канью с собой:
— Идемте. Много времени это не займет.
Доктор сидит, склонившись над предметным стеклом.
— И с чего вы взяли, что это пассивная мутация?
— Отмечено только три случая.
Он поднимает голову от микроскопа.
— В жизни все идет по алгоритму. Сначала два, потом четыре, потом десять тысяч, а потом эпидемия. Может, заражен каждый, а мы просто не заметили? А если до последней стадии болезнь протекает без симптомов, как у бедняжки Кип?
Ледибой слабо улыбается; у нее чистая кожа, на теле никаких признаков, умирает она не от того же, что и доктор, и все же… Канья невольно отступает назад.
— Да не волнуйтесь, у вас та же болезнь. Жизнь в любом случае заканчивается смертью, — ухмыльнувшись, говорит доктор и продолжает, глядя в микроскоп: — Это не кустарный взлом генов, тут что-то другое. Агрогеновских меток тоже нет. — Потом раздраженно бросает: — Ничего интересного, просто ошибка какого-то идиота. Эта ерунда недостойна моего внимания.
— Значит, все в порядке?
— Случайная болезнь убивает не хуже любой другой.
— Ее можно остановить?
Доктор берет со стола зеленый заплесневевший сухарь.
— Многое из того, что растет, нам полезно, но многое — смертельно опасно. — Он протягивает корочку Канье. — Попробуйте.
Та испуганно отступает. Гиббонс откусывает и предлагает снова.
— Можете мне доверять.
Канья мотает головой, скрывая, что в суеверном страхе молит Пхра Себа об удаче и очищении, представляет его сидящим в позе лотоса, нащупывает пальцами амулеты и убеждает себя не поддаваться на уловки старика.
С хитрым видом доктор продолжает грызть сухарь и сыпать крошками.
— Откусите — обещаю все рассказать.
— Из ваших рук я ничего не приму.
— Ха! Уже приняли! Прививки в детстве помните? А иммунные инъекции? Ешьте. Это — то же самое, только в натуральном виде. Потом еще спасибо скажете.
Канья кивает на микроскоп.
— Что там такое? Вам нужно время на тесты?
— Там-то? Ничего особенного. Банальная мутация, стандартная разновидность. В лабораториях когда-то постоянно наблюдал подобные. Хлам.
— Тогда почему мы раньше таких не видели?
Гиббонс нетерпеливо разъясняет:
— Вы не возитесь со смертью, как мы, не играете с элементами, из которых построена природа. — В глазах старика на секунду вспыхивает увлеченность — страстная, но при этом недобрая, хищная. — Вы понятия не имеете, чего мы только не насоздавали в лабораториях. А эта ерунда моего времени не стоит. Думал, что-то интересное принесли — от доктора Пина, от доктора Реймонда или даже от Махмуда Сонталии. Вот над их задачками интересно голову поломать. — Цинизм ненадолго уступает место задумчивости. — Да, они — настоящие соперники.
«Наша жизнь — в руках игрока», — осеняет Канью. Внезапно капитан понимает, кто такой доктор на самом деле: человек могучего ума, достигший вершин в своей науке, ревнивый к чужой славе любитель состязаний, которому наскучили прежние соперники и который приехал в королевство за интересными задачками. Это как если бы Джайди решил выйти на ринг со связанными руками, желая узнать, сможет ли без них одолеть соперника. «Мы зависим от каприза божества. Он работает на нас ради собственной забавы, но если мы не сможем его увлечь — закроет глаза и впадет в спячку».
Чудовищная мысль. Доктор живет ради игры в эволюционные шахматы на поле размером с весь мир. Это великан, который отбивает атаки других гигантов, прихлопывает их, как мух, и хохочет, ублажая собственное «я». Но все великаны рано или поздно падут, и что тогда делать королевству? Канью пробивает холодный пот.
— Есть еще вопросы?
Она ловит на себе взгляд Гиббонса и спешит отогнать жуткие мысли.
— Значит, вы уверены насчет этой болезни? Знаете, что надо делать? Просто посмотрели и сразу все поняли?
— Не верите, так поступайте как обычно, по учебникам, шагайте прямиком в могилу. Или вырвите проблему с корнем — сожгите весь промышленный квартал. Ваш любимый способ — рубить с плеча — тут поможет. А этот вирус, — доктор машет в сторону микроскопа, — пока не очень жизнеспособен, хотя, конечно, мутирует быстро. Он слишком слаб. К тому же человек для него — не лучшая среда. Чтобы заболеть, его надо втирать в слизистую — в нос, в глаза, в задний проход — куда-нибудь поближе к крови и внутренним органам, туда, где он сможет расти.
— Тогда все в порядке, раз этот вирус не опаснее гепатита и фагана.
— Только в отличие от них может сильно мутировать. И вот что: ищите предприятие с химрезервуарами, с бассейнами, в которых выращивают какие-нибудь организмы, — фабрику «Хайгро» или «Агрогена», завод, где делают пружинщиков, — что-то вроде того.
Глядя на мастиффов, Канья спрашивает:
— Пружинщики способны разносить эту болезнь?
Гиббонс похлопывает одного из псов по спине и отвечает:
— Птицы и млекопитающие — да. Но сперва осмотрите фабрики с такими резервуарами. Будь мы в Японии, я бы в первую очередь подумал на места, где выращивают пружинщиков, но тут источником может быть любое биопроизводство.
— Какие именно пружинщики?
Гиббонс сердито фыркает.
— Да при чем тут «какие»? Дело в контакте с вирусом. Если их растили в зараженных бассейнах, они могут быть переносчиками. К тому же оставите вирус как есть — мутирует и скоро перекинется на людей, и откуда он пришел, уже будет не важно.
— Сколько у нас времени?
— Это вам не период распада урана и не скорость парусника — тут не измеришь. Хорошо его кормите, и он сам научится есть, разводите в сыром городе, забитом людьми, и он расцветет. А стоит ли устраивать панику — решайте сами.
Презрительно скривив губы, Канья выходит из лаборатории. Гиббонс кричит ей вслед:
— Удачи! Сгораю от нетерпения узнать, кого из своих многочисленных врагов вы убьете первым!
Она пропускает язвительные слова мимо ушей и спешит на свежий воздух.
Подходит Кип, вытирая волосы полотенцем.
— Помог вам доктор?
— Он достаточно рассказал.
Ледибой смеется тонким птичьим голоском.
— Я когда-то тоже так думала, но позже поняла: он никогда не говорит всего сразу, самое важное оставляет на потом. Доктор любит общество. — Кип осторожно трогает гостью, замечает, что та заставляет себя не отдергивать руку, и прибавляет с легкой улыбкой: — Вы ему понравились, он захочет увидеть вас снова.
Канью передергивает.
— Должна его огорчить.
Кип глядит на нее большими блестящими глазами.
— Надеюсь, вы не умрете скоро, мне вы тоже понравились.
Покидая жилище Гиббонса, Канья замечает Джайди: тот стоит на берегу, смотрит на прибой, потом, словно почувствовав ее взгляд, поворачивает голову и, улыбнувшись, исчезает в воздухе. Еще один дух, которому некуда идти. Она думает, сможет ли бывший капитан когда-нибудь переродиться или так и будет ее преследовать. Вдруг, если доктор прав, он ждет реинкарнации в теле, которому не страшны эпидемии, в создании, пока не сотворенном? Может, его единственная надежда — обрести жизнь в форме пружинщика?
Канья гонит прочь опасную мысль и желает Джайди воплощения в райском месте, где нет и быть не может ни пружинщиков, ни пузырчатой ржи; пусть никогда не достигнет ниббаны[131], не станет Буддой, вечно живет монахом, но не будет страдать, видя, как мир, который он так самоотверженно защищал, обгладывают до костей толпы услужливых пружинщиков, этих заполонивших все вокруг тварей, этого нового триумфа природы.
Джайди умер, но, может, смерть — лучший выход для любого человека? Может, если сунуть в рот ствол пружинного пистолета и спустить курок, сама она станет счастливее? Если бы не ее большой дом да не камма, отягощенная предательством…
Нет, уверенной можно быть только в одном — в своих обязанностях здесь. Никаких сомнений: ее душу снова отправят на землю и, если повезет, поместят в человека, а нет — в собаку или в таракана. Оставив за собой хаос, к нему же Канья и будет возвращаться раз за разом — после всех ее предательств это неизбежно. Она должна продолжать свою войну до тех пор, пока камма не станет чистой. Уйти от проблемы, убив себя, значит вернуться к ней же и встретить ее в более страшной форме. Для таких, как Канья, выхода нет.
29
Не обращая внимания на комендантский час и белых кителей, Андерсон-сама почти безрассудно, словно искупает какую-то вину, ухаживает за Эмико, но когда та с тревогой напоминает ему о Райли, лишь загадочно улыбается и говорит, что повода для волнений нет и что все идет как надо.
— Скоро приедут мои люди, и тогда настанут большие перемены — никаких тебе кителей.
— Просто сказка.
— Именно. Я отлучусь на несколько дней кое-что устроить, а когда вернусь, все будет уже по-другому.
Перед отъездом он строго наказал ей следовать обычному распорядку дня, ничего не говорить Райли, и оставил ключ от своей квартиры.
И потому этим вечером Эмико просыпается на чистых простынях в прохладной комнате под неторопливыми лопастями вентилятора и едва может вспомнить, когда в последний раз спала, не испытывая боли и страха. В голове туман от непривычно крепкого сна. В квартире сумрак, с улицы попадают лишь отблески газовых фонарей, язычки пламени дрожат, как светляки.
Эмико страшно голодна — рыщет по кухне, осматривает тщательно запечатанные контейнеры в поисках какой-нибудь еды — крекеров, печений, кексов — чего угодно. Свежие овощи здесь не держат, зато есть рис, соус соевый и рыбный. Эмико греет воду на метановой горелке, попутно удивляясь, что Андерсон-сама ту даже не прячет. Теперь и не вспомнить, что когда-то она спокойно наслаждалась подобной роскошью: Гендо-сама держал ее в шикарных апартаментах на верхнем этаже дома в Киото, откуда открывался вид на храм Тодзи и на одетых в черное стариков, которые вели свои неторопливые церемонии.
То давнее время теперь больше похоже на сон, где синеет неподвижное осеннее небо, где Эмико с улыбкой наблюдает за школой Новых людей, в которой малыши кормят уток или постигают чайную церемонию — с интересом и обреченностью.
Она вспоминает свое детство…
…и, содрогнувшись, понимает, что на самом деле ее учили быть безупречной и вечно служить хозяину. Эмико не забыла, как Гендо-сама поначалу щедро окружил ее любовью, а потом выбросил, как шелуху тамаринда. И такая судьба, такой исход не были случайными.
Прищурившись, она смотрит на закипающую в сковороде воду, на идеальную порцию риса, которую сперва отсыпала на глазок ловким движением, без всякой мерной посуды, зная, сколько именно ей нужно, а потом машинально — и так же безупречно — разровняла, как гравий в саду камней, будто готовилась к медитации дзадзэн[132] на рисинках, будто намеревалась до конца жизни разглаживать и разглаживать их плошкой.
Эмико бьет с размаха. Плошка — вдребезги, осколки — во все стороны, котелок с водой подлетает вверх, расплескивая жемчужины кипящей воды.
Девушка стоит посреди этого смерча, смотрит на парящие капли, на рисинки, зависшие в воздухе, замершие в движении, будто и они — пружинщики, на мгновение запнувшиеся в полете, как это делает Эмико во время ходьбы — дикая, нелепая в глазах обычных людей, тех, кому так отчаянно хочет служить.
«Посмотри, куда завело тебя это служение».
Котелок ударяет в стену, рис рассыпается по полу, кругом вода.
Сегодня же Эмико узнает, где деревня пружинщиков, где такие, как она, живут без хозяев и где служат только себе. Пусть Андерсон-сама говорит, что его люди вот-вот придут; чем бы ни кончилось, он всегда будет человеком настоящим, а она — Новым, и всегда будет служить.
Эмико гонит прочь желание навести порядок к приходу Андерсона-самы; наоборот, заставляет себя смотреть на бардак и осознавать, что больше она не раба. Захочет убрать рис с пола — найдет тех, кто это сделает. Пружинщица изменилась, стала кем-то другим — созданием по-прежнему идеальным, но уже на свой лад. И если была Эмико когда-то в душе ловчим соколом, то хотя бы за одно стоит поблагодарить Гендо-саму: он перерезал путы. Теперь можно лететь.
Пробираться по темным улицам до странного легко. То тут, то там в толпе мелькает лицо Эмико: на губах — новая яркая помада, в ушах — серебряные кольца, в глазах — мрачный блеск.
Новый человек, она так гладко скользит в потоке прохожих, что ее никто не замечает; она смеется над людьми — лавирует среди них и смеется. В ней, пружинщице, словно заработал механизм самоуничтожения: Эмико бесстрашно прячет себя у всех на виду, уверенная, что судьба убережет.
Заметив рядом пружинщицу, прохожие испуганно вздрагивают и отходят подальше от нечистой машины, которая бесстыдно порочит собой их улицы, словно местная земля хотя бы вполовину так же благородна, как отвергнувшие Эмико острова. Сама девушка только морщит нос: этот невыносимо шумный, смрадный город недостоин даже нечистот из Японии. Местные не понимают, что ее присутствие для них — честь. Девушка смеется про себя, но, заметив косые взгляды, соображает: смех слышат все вокруг.
Впереди за мегадонтами и повозками мелькают белые кители. Эмико замирает у перил моста через клонг, ждет, когда опасность минует, смотрит на свое отражение в зеленом ореоле газовых фонарей, размышляет, сможет ли стать одним целым с этим каналом, если глядеть в него достаточно долго, сможет ли превратиться в духа воды. Разве сейчас она уже не часть текущего куда-то мира? Разве не заслужила сойти в канал и тихо утонуть? Нет, так нельзя, так могла думать только прежняя Эмико — та, которая еще не умела летать.
Какой-то человек подходит к перилам и встает рядом. Она, не поднимая головы, глядит на его отражение.
— Люблю смотреть, как дети играют в догонялки на лодках.
Эмико чуть заметно кивает, не решаясь заговорить.
— Вы там что-то увидели? Так долго стоите…
Она мотает головой. Китель в отражении выглядит зеленым. Человек стоит слишком близко. Интересно, какой у него будет взгляд, если протянет руку и коснется ее огненной кожи.
— Не бойтесь меня. Это всего лишь форма. Вы же ничего не натворили.
— Нет, — шепчет Эмико, — я и не боюсь.
— Вот и хорошо. Чего опасаться такой симпатичной девушке? — Он ненадолго замолкает. — Странный у вас акцент. Я увидал издали и подумал: чаочжоу, наверное.
Она прерывисто мотает головой:
— Нет, японка.
— С фабрики?
Эмико пожимает плечами, взгляд человека делается пристальным. Она поворачивает голову — ровно, очень ровно, гладко, не вздрогнув, без единого рывка — и смотрит тому прямо в лицо. Китель старше, чем казалось, — примерно средних лет, а может, и молодой, но уже поистертый адской работой. Эмико сдерживает желание посочувствовать ему, отказывает генетически заложенному позыву услужить этому человеку, несмотря на то что он может стать ее палачом. Медленно, очень медленно девушка переводит взгляд обратно на воду.
— Как вас зовут?
Она нерешительно отвечает:
— Эмико.
— Красивое имя. Что означает?
— Ничего особенного.
— Для такой красавицы вы очень скромны.
Эмико грустно качает головой:
— Какая красавица… Я уродина…
Китель смотрит на нее, вытаращив глаза. Она прикусывает язык, понимая, что забылась, выдала себя неосторожным движением, делает шаг назад, уже не пытаясь изображать настоящего человека.
— Дергунчик, — зло выговаривает он.
— Любой бы спутал, — сухо улыбается Эмико.
— Покажи разрешение на свой ввоз в королевство.
— Да, сейчас, где-то тут было. — Девушка молниеносно отступает, отдав приказ всем клеткам тела вплоть до спиралей ДНК. Китель хватает ее за руку, но она ловко вырывается и стремительно, размываясь в неясное пятно, исчезает на дороге среди людей и повозок.
— Держи ее! Именем министерства! Держите пружинщицу!
Все ее существо приказывает девушке замереть на месте, подчиниться, но Эмико может лишь бежать, почти ощущая оплеухи, которые раздавала сенсей Мидзуми за непослушание, и жалящие слова за возражение хозяйским прихотям.
Эмико сгорает со стыда, слыша за спиной команды, но толпа уже поглотила ее, кругом сплошной поток мегадонтов и повозок, а сам китель бежит слишком медленно, ему не найти тот переулок, в котором она переводит дух.
Обходить патрули стороной долго, но теперь Эмико даже нравится эта игра. Если быть осторожной и быстрой, давать себе передышку между стремительными пробежками, уходить от преследователей просто. Изумляясь своей невероятной скорости, она словно заново себя открывает и начинает подозревать, что обучением и оплеухами сенсея Мидзуми из нее выбивали знание собственной природы.
Наконец пружинщица подходит к башне Плоенчит и начинает долгий подъем по лестницам. Райли, по обыкновению, сидит в баре, нетерпеливо ждет.
— Опоздала. С тебя штраф.
Эмико просит прощения, стараясь при этом не чувствовать вины.
— Переоденься. Сегодня важные гости. Очень важные. Вот-вот приедут.
— Я хотела бы спросить вас о деревне.
— Какой еще деревне?
Она, не переставая мило улыбаться, думает, а не врал ли Райли и есть ли такое поселение на самом деле.
— Той, где живут Новые люди.
— Все никак из головы не выбросишь? Я же говорил: заработаешь — отправлю тебя туда, раз так охота. — Он показывает на подсобку. — Иди, скоро выступать.
Эмико хочет задать еще вопрос, но лишь покорно кивает — все потом; он выпьет, станет сговорчивей, тогда и можно будет выпытывать.
В гримерной переодевается Канника — бросает на пружинщицу презрительный взгляд, но ничего не говорит. Эмико тоже меняет одежду и уходит за первым за вечер стаканом льда. Пьет бережно, смакуя прохладу и ощущение того, что все хорошо, которое не оставляет даже здесь, в душном небоскребе. За огороженными веревкой окнами мерцают огни. С высоты город прекрасен. Если бы не люди — настоящие люди, — можно было бы его полюбить.
Эмико делает еще глоток.
Вдруг — переполох, женщины падают на колени, все головы в пол — делают кхраб, Эмико — за ними. Опять он, тот жуткий человек. Тот, который как-то приходил с Андерсоном-самой. Самого Андерсона, как она ни высматривает, нигде не видно. В двери вваливаются Сомдет Чаопрайя с приятелями — уже румяные от выпивки.
Райли подлетает к гостям и просит в зал для важных гостей.
За спиной возникает Канника.
— Допивай живее, дергунчик. Пора за работу.
Эмико так и хочет ответить какой-нибудь грубостью, но не позволяет себе такого безумства и только молит богов дать ей шанс, как только узнает, где находится деревня, отомстить этой женщине за все свои унижения.
Зал для особых гостей набит до отказа. Двери закрыты, внутри душно, несмотря на распахнутые окна. К тому же с Эмико тут вытворяют вещи более дикие, чем на сцене, — там у Канники есть примерный сценарий, а здесь мучительница сперва проводит ее мимо гостей, показывает, предлагает им пощупать пружинщицу, ощутить жар кожи и приговаривает:
— Нравится? Думаете, это — очередное грязное животное? Сегодня вы узнаете, что такое «грязное животное» на самом деле.
Тот властный человек, его охранники и приятели разглядывают Эмико, отпускают шуточки, щиплют за зад, мнут грудь, запускают руки ей между ног и хохочут немного нервно; она для них — еще незнакомое развлечение.
Канника указывает на стол.
Пружинщица кое-как залезает на черную лаковую поверхность. Мучительница покрикивает, заставляет наклониться, пройтись, показать всем нелепые дерганые движения. Гости тем временем налегают на спиртное, весело и шумно болтают вместе с подсевшими к ним девушками. Наконец демонстрация окончена, и Канника приступает к делу.
Она силой укладывает Эмико на стол (мужчины подходят ближе, надругательство начинается), не спеша поигрывает ее сосками, проводит нефритовым членом между ног, пробуждает заложенные создателями реакции — те, которые сама девушка не может контролировать, как бы ее душа ни сопротивлялась.
Зрители наблюдают за унижением, возбужденно подстегивают Каннику, требуют большего, та, заводясь все сильнее, выдумывает новое издевательство: раздвинув ягодицы, присаживается жертве на лицо и заставляет исследовать раскрытую глубину.
— О да, теперь чувствую. Тебе нравится засовывать туда язык, грязная пружинщица? — Потом говорит хохочущим над послушной куклой зрителям. — Нравится. Грязные пружинщицы обожают это. — Еще один взрыв смеха. — Давай, мерзкая девка, еще, еще. — Она давит сильнее, почти не давая униженной девушке дышать, заставляет работать языком активнее, доставлять удовольствие, потом помогает себе рукой, наслаждаясь властью над жертвой. — Хотите рассмотреть получше? Пожалуйста.
Бедра Эмико раздвигают в стороны, выставляя все напоказ, чьи-то пальцы, поиграв ее складками, входят внутрь.
— Хотите трахнуть? Трахнуть пружинщицу? Дайте мне ее ноги.
Канника хватает ее за лодыжки, тянет кверху, потом в стороны и раскрывает девушку еще больше.
— Нет, — еле выговаривает Эмико, но мучительницу не сдвинуть.
— Будь послушной, дергунчик. — Канника поясняет гостям: — Что ей в рот ни положи — съест все. — Люди хохочут, а она наваливается еще сильнее. Теперь Эмико ничего не видит — только слышит, как ее называют шлюхой, собакой, грязной куклой, игрушкой, не лучшей чем резиновый член.
Все умолкают.
Эмико пробует шевельнуться, но Канника держит крепко, так что даже рта не раскрыть.
— Лежи спокойно, — командует мучительница. Потом кому-то еще: — Нет. Лучше этим.
Пружинщица чувствует, как ее руки прижимают к столу, чьи-то пальцы сперва тычутся, а потом проникают ей внутрь.
— Смажьте, — возбужденно шепчет Канника и крепче хватает свою жертву за лодыжки.
В заднем проходе делается мокро, скользко. Потом — толчок. Что-то холодное. Эмико возмущенно мычит. Давление на секунду ослабевает, но тут же слышен голос Канники:
— Ну что за мужчины такие. Трахните ее! Трахайте и смотрите, как она будет дергаться. Пихайте и глядите на конечности. Пусть спляшет, как настоящий дергунчик.
Снова давят, хватают еще крепче — так, что не вырваться. Толчок. Что-то холодное входит внутрь, дальше, сильнее, раздвигая стенки, — Эмико вскрикивает.
— Вот так-то, отрабатывай содержание, — хохочет Канника. — Пока не кончу — не встанешь.
Пружинщица снова начинает ее вылизывать, брызжа слюной, по-собачьи, отчаянно, а бутылка из-под шампанского проникает все глубже, все больней.
Гости веселятся:
— Гляди, гляди, как ее передергивает!
В глазах девушки стоят слезы. Канника заставляет ее работать изо всех сил. Ловчий сокол в душе Эмико, если такой вообще был там, сдох, безвольно свесил крылья. Жизнь, полет, побег — не для нее. Только покорность. Ей снова указали на свое место.
Весь остальной вечер — сплошной урок повиновения и понимания благ, которое оно дает. Эмико умоляет Каннику о возможности услужить, подчиниться, лишь бы прекратить боль и издевательства, просит дать любое задание, лишь бы пожить еще немного. В ответ ее мучительница только хохочет.
Наконец пытка окончена. Уже поздний вечер. Эмико — сломленная, вымотанная, по щекам стекает тушь — сидит, привалившись к стене, и чувствует, что внутри все омертвело. Лучше быть мертвым человеком, чем живой пружинщицей. В зале начинают мыть пол. У дальнего края барной стойки чему-то посмеивается Райли.
Уборщик все ближе. Эмико думает, сотрут ли ее с остальной грязью, вынесут ли на улицу, свалят в кучу с другим мусором, оставят рабочим Навозного царя. Ведь можно просто лечь и дать покрошить себя в компост, позволить вышвырнуть — Гендо-сама так с ней уже поступал. Она — всего лишь хлам и теперь хорошо это понимает.
Полотер обводит вокруг нее тряпкой.
— Меня почему не выбрасываешь? — хрипит Эмико. Уборщик бросает на девушку озадаченный взгляд и продолжает мыть пол. — А ну отвечай! Разве не хочешь меня выбросить? — Крик гулко разносится по пустому залу.
Райли поднимает голову и хмуро глядит на девушку. Она понимает, что говорила по-японски, и повторяет уже на тайском:
— Почему меня не выбрасываешь? Я — тоже мусор. Выбрось.
Полотер вздрагивает и, неуверенно улыбаясь, отступает.
Подходит Райли. Садится рядом.
— Вставай, Эмико. Ты его пугаешь.
— Да наплевать.
— Само собой. — Райли кивком указывает на соседний зал, где все еще сидят важные гости: расслабленно потягивают напитки и обсуждают недавнее развлечение. — Тебе — награда. Они дали хорошие чаевые.
— Каннике тоже дали?
— Не твое дело.
— Ей — тройные, а мне — пятьдесят бат?
— Даже не начинай, — предупреждает Райли.
— А то что? Выбросите в компост на метан? Сдадите белым кителям?
— Не нарывайся. И не зли меня. — Он встает. — Кончишь себя жалеть — приходи за деньгами.
Девушка провожает его потухшим взглядом. Старик залезает на стул, наливает себе еще, смотрит на нее, что-то говорит Дэнгу, тот услужливо кивает, кладет в чистый бокал лед. Райли показывает стакан Эмико, ставит его на пачку розовых банкнот и больше не обращает на подопечную никакого внимания.
Интересно, что происходит со сломанными пружинщиками? Она не слышала, чтобы кто-то из подобных ей умирал. С их хозяевами такое случалось, а с пружинщиками — нет, все ее подруги жили дальше, причем долго. Сенсея Мидзуми она никогда об этом не спрашивала.
Спотыкаясь, Эмико подходит к бару, приваливается к стойке, берет стакан. Райли толкает к ней кучку денег.
Она допивает, глотает лед и чувствует, как холод проникает глубоко внутрь.
— Вы уже узнавали?
— О чем? — Старик занят раскладыванием пасьянса.
— О поездке на север.
Он поднимает глаза на девушку, переворачивает колоду и, помолчав немного, говорит:
— Это очень непросто. За один день такое не устроишь.
— Так вы узнавали?
— Да, узнавал. Только пока белые кители бесятся после убийства Джайди, никто никуда вообще не ездит. Что-то изменится — скажу.
— Мне надо на север.
— Я это уже слышал. Заработаешь — поедешь.
— Я много заработала. И хочу уехать сейчас.
Рука Райли взлетает стремительно, но девушка успевает заметить не слишком быстрое для нее движение и принимает оплеуху с покорной признательностью, которую испытывала к Гендо-саме, когда тот водил ее в дорогой ресторан. Щека горит и тут же начинает неметь, Эмико ощупывает след от ладони.
— Поедешь, когда это будет удобно, черт тебя подери, — холодно прибавляет старик.
Девушка покорно кивает, усваивая вполне заслуженный урок.
— Значит, помогать вы не станете.
Райли снова берет в руки карты.
— Так она хотя бы существует?
— Конечно, раз уже тебе так хочется. Стоит на месте. А будешь меня допекать — исчезнет. Теперь уйди с глаз моих.
Сокол в ее душе мертв. Мертва и сама Эмико — мусор для компостной ямы, мясо, которое пожрет город; гнилье, которое станет газом для фонарей.
Она смотрит на Райли, представляет убитого сокола и вдруг понимает, что есть нечто худшее, чем смерть, что некоторые вещи нельзя стерпеть.
Кулак молниеносно ударяет прямо в мягкое стариковское горло.
Тот, выкатив глаза, валится назад, тянет руки к шее.
Все происходит очень медленно: Дэнг поворачивает голову на грохот упавшего стула, Райли вскидывает руки и хлопает ртом, как рыба, пытаясь вдохнуть, уборщик роняет швабру, Нои с Саенгом у дальнего конца бара и охранники, ждущие, когда их можно будет отвести домой, — все — очень медленно — оглядываются на шум.
Старик еще не успел упасть, а Эмико уже подбегает к залу для важных гостей и спешит к своему главному обидчику — к тому, кто сидит среди друзей, хохочет и даже не вспоминает о боли, которую ей причинил.
Девушка распахивает дверь. Гости удивленно поднимают головы, смотрят на нее, открывают рты, хотят закричать, охранники тянут руки к пружинным пистолетам, но все они слишком медлительны.
Тут нет Новых людей.
30
Паи подползает поближе к Канье и смотрит на погруженную в сумерки деревню.
— Совсем крохотная.
Канья кивает и оглядывается на остальных: команда разошлась перекрывать подходы к креветочным питомникам, где выращивают невосприимчивых к горькой воде рачков — их потом продают в Крунг Тхепе.
Дома — все на бамбуковых плотах — сейчас стоят на земле, но в наводнение всплывают на потоках ила и воды, заливающей пруды и рисовые поля. Давно на Меконге семья Каньи жила в похожем, пока не пришел генерал Прача.
— Хорошую нам дали наводку, — тихо замечает она.
Ратана чуть не прыгала от радости, найдя подсказку — рыбных клещей между пальцами ног на третьем теле.
Рыбные клещи — значит, креветочные питомники, а раз питомники, то только те, которым пришлось отправить людей в Бангкок, а отправить могли, только если случился мор. И вот Канья — у плавучего поселения в Тонбури, а ее люди притихли у края насыпи, ждут сигнала.
В бамбуковых домах внизу мерцают редкие свечи. Лает собака.
Вся команда в защитных костюмах. Ратана говорила, что болезнь вряд ли передается от человека к человеку, но рисковать не стоит. Канья отгоняет жужжащего возле уха москита, потуже затягивает капюшон и начинает потеть еще сильнее.
Над прудами слышны голоса — смех целой семьи, уютно собравшейся в своем доме. Даже теперь, как бы тяжело ни приходилось, кто-то еще может смеяться. Кто-то, но не Канья. В ней словно что-то сломалось.
Джайди постоянно говорил, что королевство — счастливая страна, вечно твердил о «Земле улыбок». Вот только Канья не припомнит таких улыбок, как на музейных фотографиях, и думает: может, те, кто жил до Свертывания, притворялись ради хорошего снимка, а сама Национальная галерея лишь для того и нужна, чтобы вгонять ее в тоску? Неужели было время, когда люди улыбались так открыто и бесстрашно?
Она опускает маску.
— Пошли.
Паи дает отряду знак. Солдаты вскакивают, перепрыгивают насыпь, бегут к деревне и окружают ее, как обычно перед поджогом.
Белые кители, когда явились в деревню Каньи, сперва быстро обошли лачуги, держа в руках шипящие и искрящие факелы. Тут все иначе: никаких криков в мегафоны, никаких офицеров, которые, пока оранжевое пламя охватывает стены из бамбука и везеролла, по колено в воде оттаскивают вопящих людей от домов.
Генерал Прача велел провести операцию без шума. Подписывая отказ на карантин, он сказал:
— Джайди устроил бы переполох, но у нас не хватает сил и змеиное гнездо, то есть Торговлю, теребить, и это дело улаживать. Еще повернут против нас. Так что действуйте тихо.
— Хорошо, работаем без шума.
Яростным лаем заходится собака. Когда отряд подходит ближе, ей начинают вторить другие. Несколько местных выглядывают на веранды, смотрят в темноту, замечают белые пятна защитных костюмов, кричат домашним. Кители припускают быстрее.
Рядом садится Джайди и смотрит на бегущих.
— Прача говорит, что я как мегадонт — прихожу и вытаптываю целое рисовое поле.
Канья не обращает на него внимания, но капитан не умолкает.
— Видела бы ты его в молодости — он же в штаны писал, когда мы еще кадетами участвовали в операциях.
— Перестаньте. Смерть еще не дает вам права так неуважительно о нем говорить.
Ее парни встряхивают химические фонарики, и деревню заливает резкий свет. Местные мечутся, как перепуганные куры, прячут провизию и животных, кто-то пробует обойти оцепление: бежит по воде, ныряет в пруд, хочет выплыть на другой стороне, но там их ждут расставленные Каньей сети, и люди, попав в ловушку, беспомощно колотят ногами посреди грязной ямы с креветками.
— Как ты можешь называть его своим командиром, если мы оба знаем, кому ты на самом деле служишь?
— Замолчите.
— Трудно, наверное, под двумя-то начальниками? Оба ездят на тебе, как на…
— Заткнитесь!
— Что? — вздрагивает Паи.
— Ничего. Так, задумалась.
Помощник смотрит на селян и говорит:
— Думаю, они готовы к вашему появлению.
Канья встает, и все втроем — она, Паи и самодовольно улыбающийся Джайди, хотя его не приглашали, — шагают вниз по насыпи. У нее с собой уже захватанная грязными пальцами фотография одного из трех мертвецов. Канья показывает ее местным и, светя фонариком то на снимок, то на их лица, следит, не узнает ли кто этого человека.
Если один только вид белого кителя заставляет обычных людей говорить, то с рыбоводами всегда непросто. Канья хорошо знает этот народ: читает их жизнь по мозолям на руках, по вони определяет, удачно ли идут дела, по смраду из прудов — много ли погибло рыбы. Она понимает, что в их глазах похожа на очередного калорийщика, который ищет следы генвзлома. Но загадка не решена, и Канья светит в лица, а люди один за другим отводят взгляды.
— Знаешь его? Разве родные не ищут этого человека? — спрашивает она очередного фермера. Тот смотрит на снимок, потом на ее форму и говорит:
— Нет у него никаких родственников.
Канья чуть не подпрыгивает от удивления.
— Выходит, знаешь. Кем он был?
— Был? Выходит, помер?
— А что, похож на живого?
Они оба разглядывают бледное застывшее лицо на фотографии.
— Говорил я ему — есть работа получше, чем на фабрике вкалывать. А он не слушал.
— Значит, в городе работал?
— Так и есть.
— Где именно?
Человек мотает головой.
— А жил где?
Он показывает в сторону темного дома на сваях.
— Хижину — на карантин, — командует Канья, потом поплотнее завязывает маску и входит внутрь, светя фонариком по сторонам. Мрачное место. Странное, пустое, полуразрушенное. Луч выхватывает стоящую в воздухе пыль. От мысли, что это дом мертвеца, у Каньи возникает нехорошее предчувствие. Его дух еще может быть здесь, бродить голодным призраком, злиться на то, что до сих пор не покинул этот мир, что его заразили или даже убили. Она осматривает немногочисленные пожитки, еще раз обходит дом и, ничего не обнаружив, шагает наружу. Вдали в зеленом зареве стоит город, куда сбежал тот человек, потеряв надежду прожить разведением рыбы.
— Ты точно не знаешь, где он работал? — спрашивает Канья человека, который указал на дом. Тот лишь качает головой. — Название фабрики? Хоть что-нибудь? — Она старательно скрывает подступающее отчаяние. Ответ все тот же.
Канья с досадой обводит взглядом темную деревню. Трещат сверчки, монотонно поскрипывают бежевые жучки. Вот оно — то самое место, разгадка рядом, но где же нужная фабрика? Ги Бу Сен прав: стоит взять да спалить весь промышленный район. В прежние времена, когда кители обладали большой властью, не было бы ничего проще.
— Теперь-то готова жечь? — слышен рядом смешок Джайди. — Начинаешь меня понимать?
Она пропускает его слова мимо ушей. Неподалеку стоит девочка — пристально смотрит, но едва ее замечают, тут же отводит глаза. Канья трогает Раи за плечо:
— Вот кто знает.
— Эта?
Девочка, похоже, готова в любую секунду сбежать, поэтому Канья осторожно присаживается поодаль и подзывает ее к себе:
— Эй, как тебя зовут?
Та явно нервничает, но не может не подчиниться кителю.
— Подойди поближе и скажи мне свое имя, — снова подманивает ее Канья.
Девочка делает несколько шагов вперед и шепотом сообщает:
— Маи.
— Ты ведь знаешь, где работал этот человек?
Глядя на фотографию, девочка мотает головой, но ясно, что лжет. Все дети — страшные вруны, и Канья была такой же. Когда белые кители спросили, где ее семья прячет карпов на развод, она показала на юг, и те, улыбнувшись по-взрослому, пошли на север.
— Ведь ты понимаешь, какая это опасная болезнь? — спрашивает Канья, протягивая фотографию.
Девочка в нерешительности.
— Вы сожжете деревню?
— Конечно же нет. — Пряча сильное волнение за улыбкой, Канья успокаивает: — Не волнуйся, Маи. Я понимаю твой страх — сама выросла в такой же деревне, знаю, как тут трудно. Но ты должна помочь мне найти источник этой болезни, или умрет много людей.
— Мне запретили говорить.
— Правильно, мы все должны выполнять приказы хозяев. Но еще мы обязаны быть верными ее королевскому величеству, а она хочет, чтобы все жили в безопасности. Королева разрешила бы нам помочь.
Немного помешкав, Маи говорит:
— Там, на фабрике, было еще трое.
Канья, кое-как скрывая жгучий интерес, подается вперед.
— На какой фабрике?
Девочка снова нерешительно замолкает.
— Только подумай, сколько пхи станут тебя проклинать, если ты дашь людям умереть, прежде чем камма позволит им перейти в новую жизнь.
Маи думает.
— Сломаем ей пальцы — все и расскажет, — встревает Паи.
Девочка вздрагивает, но Канья берет ее за руку и успокаивает.
— Не бойся. Он, конечно, тигр, но я держу его на поводке. Не тронет. Но, пожалуйста, помоги нам спасти город. Помоги спасти Крунг Тхеп.
Маи смотрит на дрожащее в воде отражение Бангкока.
— Фабрику закрыли. Вы закрыли.
— Очень хорошо. Только надо убедиться, что болезнь не пойдет дальше. Как она называется?
— «Спринглайф», — нехотя отвечает Маи.
Канья морщит лоб, припоминая.
— Пружинный завод? Им чаочжоуские китайцы владеют?
— Нет. Фаранг. Очень богатый фаранг.
Канья садится поближе.
— Расскажи-ка поподробнее.
31
У двери его квартиры, съежившись, сидит Эмико, и Андерсон понимает, что поначалу спокойный вечер может закончиться чем угодно.
Последние несколько дней он в бешеном темпе готовил вторжение, которое едва не сорвалось из-за непредвиденного: закрыли фабрику. Ругая себя за никчемную способность хорошо все планировать, Андерсон потратил пару нелишних дней на поиск безопасного пути в «Спринглайф», в обход толп белых кителей, оцепивших весь промышленный квартал. Если бы не отступной маршрут Хок Сена, до сих пор шнырял бы по закоулкам, придумывая, как попасть к себе на фабрику.
Перемазанный, с крюком и веревкой на плече, он влез в окно конторы, попутно благодаря сумасшедшего старика, который совсем недавно украл зарплату всех рабочих.
На фабрике стояла вонь, в резервуарах все протухло, но Андерсон радовался, что в темном здании не было ни души. Если бы кители догадались выставить охрану внутри… Зажав ладонью рот, он прошел по главному цеху вдоль конвейера. Разложением и навозом там смердело еще сильнее.
В сумраке под сушильными сетками возле темных силуэтов вырубных прессов он опустился на колени и ощупал пол. Рядом с водорослевыми резервуарами вонь стала невыносимой, словно рядом сдохла целая корова, — вот так, в итоге, пахла энергия, которой Йейтс хотел вдохнуть в мир новую жизнь.
Андерсон разгреб руками разводы высохших водорослей возле дренажной решетки, нащупал рычаг и потянул вверх. Скрипнув, крышка отошла. Как можно тише он откатил ее в сторону, со стуком опустил на бетонный пол, лег, сунул в отверстие руку, надеясь не наткнуться на змею или скорпиона, и, забираясь все дальше, стал вслепую искать что-то в сырой темноте.
На секунду его хватил страх, что ее сорвало потоком и унесло по трубам к насосам короля Рамы, качавшим грунтовые воды, но тут нащупал непромокаемую ткань, отодрал от стенки и с довольным видом вытащил на свет тетрадь с кодами, приготовленную на экстренные случаи, в возможность которых почти не верил.
Вернувшись в темную контору, он набрал нужные номера и передал сигнал тревоги дежурным в Бирме и Индии, переполошив секретарей кодами, забытыми со времен Финляндии.
Два дня спустя Андерсон уже был на плавучем острове Ко Ангрит в здании «Агрогена» и обсуждал с командирами ударных частей последние детали операции. Оружие ждали со дня на день, собирали боевые отряды, а на материк уже отправили деньги, золото и нефрит, которые заставили бы генералов перейти на другую сторону и выступить против своего старого друга Прачи.
Но теперь, когда все приготовления закончены, он приезжает в город и обнаруживает у себя под дверью несчастную, сжавшуюся в комок, сплошь забрызганную кровью Эмико. Увидев Андерсона, девушка падает в его объятья и плачет.
— Что ты здесь делаешь? — шепотом спрашивает он, прижимая ее к себе, а сам тем временем поворачивает ключ в замке, заводит их внутрь и поскорее захлопывает дверь. Эмико вся в крови, кожа пылает, на лице царапины, руки в шрамах. — Что с тобой стряслось? — Андерсон немного отстраняет ее, осматривает и понимает, что столько крови из этих ран натечь не могло. — Чья кровь?
Она лишь мотает головой и всхлипывает.
— Давай-ка тебя вымоем.
Андерсон отводит ее в ванную и ставит под распылитель прохладной воды. Девушка дрожит, испуганные глаза лихорадочно мечутся из стороны в сторону, как у сумасшедшей. Он хочет снять с нее короткую блузку, выбросить запачканную одежду, но внезапно на лице Эмико возникает гримаса ярости.
— Нет! — Девушка бьет наотмашь. Андерсон отскакивает и хватается за щеку.
— Какого черта? — Ничего себе скорость. Больно. На пальцах кровь. — Ты чего?
Вместо затравленного зверя перед ним вновь стоит обычная Эмико — непонимающе смотрит, постепенно приходит в себя, шепчет «прости», сворачивается калачиком на полу в облаке водяной пыли и продолжает просить прощения, но уже на японском.
Андерсон сидит рядом в промокшей одежде и успокаивает девушку.
— Ничего страшного. Давай снимем грязное, дам тебе что-нибудь другое. Хорошо? Согласна?
Она чуть заметно кивает, стягивает блузку, разворачивает пасин и снова, уже голая, прижимает колени к подбородку. Андерсон оставляет ее лежать в прохладной воде, а сам, завернув окровавленные вещи в тряпку, идет на улицу. Уже темно, но людей кругом много. Не обращая на них внимания, он поскорее ныряет в неосвещенный переулок, доходит до клонга и выбрасывает узел в канал. Вода тут же вскипает — змееголовы и карпы-бодхи, привлеченные запахом крови, яростно рвут одежду в клочки.
Когда он возвращается, Эмико с прилипшими ко лбу черными волосами маленьким напуганным зверьком бродит по квартире. Андерсон достает аптечку, обрабатывает раны спиртом, потом втирает антивирусное. Она даже не вскрикивает. Ногти сломаны, по всему телу набухают синяки, но в остальном, если вспомнить, сколько на ней было крови, девушка отделалась удивительно легко.
— Так что же произошло?
Эмико прижимается к Андерсону и, содрогаясь все сильнее, шепчет:
— Я — одна. У Новых людей нет своего дома.
Он крепко обнимает девушку и чувствует, какая раскаленная у нее кожа.
— Ничего. Скоро все переменится. Все будет по-другому.
— Нет, не будет.
А через секунду пружинщица уже дышит ровно — все скопившееся напряжение тонет в глубоком сне.
Андерсон, весь в поту, резко открывает глаза. Вентилятор под потолком замер, израсходовав все до последнего джоуля. Рядом в кровати мечется и постанывает раскаленная, как печь, Эмико. Он спускает ноги на пол. Легкий ветерок, набежавший с моря, приносит облегчение. За москитной сеткой темнеет город, метановые фонари уже погасили на ночь. Вдали мерцают огоньки плавучих поселений Тонбури, где люди разводят рыбу и вечно перебираются с места на место, убегая от очередной генетической заразы.
В дверь стучат — уверенно и настойчиво.
Эмико вскакивает в постели.
— Что случилось?
— Кто-то за дверью. — Андерсон хочет встать, но она хватает его, больно впиваясь в руку сломанными ногтями.
— Не открывай! — Ее кожа белеет в лунном свете. В глазах страх. — Пожалуйста. — Колотят все сильнее. — Я… Там белые кители.
— Что? — У Андерсона начинает бешено стучать сердце. — Они отследили тебя до моего дома? Зачем? Что с тобой произошло? — Эмико только печально качает головой. Он смотрит на девушку и думает, что же за зверя впустил в свою жизнь. — И все-таки, что сегодня случилось?
Она молчит, не сводя глаз с двери, в которую продолжают колотить.
Андерсон встает с кровати и кричит:
— Одну минуту! Одеваюсь!
— Открывай! — доносится голос Карлайла. — Это срочно!
— Вот видишь, — укоризненно говорит Андерсон. — Это не кители. А теперь спрячься.
— Не кители? — На мгновение Эмико успокаивается, но тут же ее вновь охватывает тревога. — Нет, это они.
— Значит, ты с кителями связалась? Вот кто тебя изукрасил?
Девушка лишь печально качает головой и снова сворачивается калачиком.
— Иисусе и Ной ветхозаветный. — Андерсон достает и кидает ей одежду, которую когда-то, опьяненный красотой девушки, покупал в подарок. — Ты, может, и готова выйти на люди, но для меня выйти с тобой — это катастрофа. Вот, надевай и полезай в шкаф.
Эмико снова отрицательно мотает головой. Все равно что с деревом разговаривать. Он терпеливо садится рядом, поворачивает к себе ее лицо и как можно спокойнее произносит:
— Там всего лишь мой деловой партнер. Это не за тобой пришли. Но, пожалуйста, спрячься, пока он будет тут, хорошо? Он ненадолго. Уйдет — вылезешь. Если увидит нас вместе, сможет сыграть на этом против меня.
Ее взгляд медленно проясняется, из него исчезают покорность и обреченность. Карлайл продолжает стучать. Она смотрит на дверь, потом на Андерсона и тихо произносит:
— Там белые кители. Много. Я их слышу. — И продолжает уже решительно: — Точно кители. Прятаться бесполезно.
Андерсон, кое-как сдерживаясь, говорит:
— Нет, это не они.
В дверь молотят изо всех сил.
— Открывай, мать твою!
— Одну минуту! — Андерсон натягивает брюки и сердито бросает девушке: — Да нет там никаких кителей. Карлайл скорее себе горло перережет, чем с ними спутается.
— Скорее, черт тебя подери! — вопит через дверь компаньон.
— Иду! — кричит Андерсон и приказывает Эмико: — Прячься. Сейчас же!
Это уже не просьба, а приказ, команда к послушанию, заложенному генами и воспитанием.
Она замирает, потом неожиданно резво встает, кивает, говорит:
— Да, сделаю, как ты говоришь, — и тут же начинает натягивать блузку и свободные штаны. Кожа блестит, прерывистые жесты настолько стремительны, что рук и ног почти не видно. В невероятно быстрых и ловких движениях вдруг возникает странная красота. — Прятаться нет смысла, — говорит Эмико и бежит к балкону.
— Ты что делаешь?
Она приоткрывает рот в улыбке, словно хочет что-то сказать, перепрыгивает через перила и исчезает в темноте.
— Эмико! — Андерсон спешит следом.
Внизу — никого и ничего: ни крика, ни звука удара, ни стонов упавшей. Тишина и пустота. Словно ночь проглотила девушку без остатка.
В дверь снова колотят.
Его сердце тоже гулко стучит. Где она? Как ей это удалось? Эмико двигалась неестественно быстро, под конец на что-то решилась, вышла на балкон, а через секунду взяла и перемахнула через перила. Андерсон внимательно смотрит в темноту. Перепрыгнуть отсюда на другой этаж невозможно. И все-таки… Упала? Разбилась?
Дверь падает под мощным ударом. Андерсон резко оборачивается и видит, как в комнату, спотыкаясь, влетает Карлайл.
— Какого…
Отпихнув его компаньона в сторону, с шумом вбегают «Черные пантеры» — в сумерках поблескивают бронекостюмы. Один из военных хватает Андерсона и толкает лицом к стене. По телу шарят чьи-то руки. Он пробует вырваться, но его прижимают еще сильнее. Быстро заходят все новые солдаты — целая толпа — и попутно разносят дверь в щепки. Кругом грохочут сапоги. Слышен звук разбитого стекла — на кухне громят посуду.
Андерсон поворачивает голову посмотреть, что происходит, но его тут же хватают за волосы и больно бьют лицом в стену. Во рту кровь — прикусил язык.
— Вы что творите? Вы знаете, кто я такой? — кричит он, но тут же замолкает — рядом с ним на пол швыряют Карлайла. Компаньон связан, вся физиономия в синяках, глаз заплыл, на скуле запеклась кровь, каштановые волосы в бурых сгустках. — О Господи!
Андерсону заламывают и связывают за спиной руки, потом его хватают за волосы и разворачивают. Один из солдат кричит что-то, но проговаривает слова слишком быстро, неразборчиво, злится, брызжет слюной. Наконец мелькает знакомое: «дергунчик».
— Где пружинщица? Где она? Где? Где?
«Пантеры» рыщут по квартире, прикладами винтовок выбивают замки, крушат двери. Вбегают огромные черные мастиффы-пружинщики, лают, раскрыв мокрые пасти, вынюхивают, потом находят нужный запах и воют. Теперь на Андерсона кричит кто-то другой, повыше званием.
— Да в чем дело-то? У меня есть влиятельные друзья! — возмущается он в ответ.
— Не так уж много.
В дверь уверенным шагом входит министр торговли.
— Аккарат! — Андерсон хочет обернуться, но солдаты ударом прижимают его обратно к стене. — Что происходит?
— У нас к тебе точно такой же вопрос.
Министр на тайском отдает приказы перетряхивающим квартиру солдатам. Андерсон закрывает глаза и радуется, что Эмико его не послушалась и не спряталась в шкафу. Если бы их застали вместе…
Один из «пантер» приносит найденный пружинный пистолет.
Аккарат с недовольным видом спрашивает:
— Разрешение есть?
— Мы тут революцию затеяли, а вы о разрешениях говорите.
Министр кивает, и пленника с силой швыряют о стену. Голова взрывается болью, в глазах темнеет, ноги слабеют. С трудом устояв, Андерсон спрашивает:
— Какого черта тут происходит?
Аккарат протягивает руку, получает пистолет — тяжелое массивное оружие — и не спеша его заряжает.
— Где пружинщица?
Андерсон сплевывает кровь.
— Вам-то какое дело? Вы же не белый китель, не грэммит.
Его снова кидают о стену. Перед глазами плывут цветные пятна.
— Откуда она взялась?
— Японка-то? Из Киото, надо думать!
Аккарат приставляет ствол к его голове.
— Как ты провез ее сюда?
— Что?!
Министр бьет рукоятью пистолета. Все кругом темнеет.
В лицо плещут водой. Пленник, захлебываясь, вдыхает, фыркает и видит, что сидит на полу. Аккарат приставляет к его шее ствол, заставляет встать — выше, на цыпочки, — давит сильнее, Андерсон хрипит.
— Как ты провез пружинщицу в страну? — повторяет министр.
Пот и кровь щиплют глаза, пленник моргает, потом мотает головой и снова сплевывает красным.
— Не провозил. Японцы выбросили. Где бы я еще взял такую?
Аккарат с ухмылкой что-то говорит своим людям.
— Японцы прямо так взяли и выбросили военную модель? Сомневаюсь.
Он бьет по ребрам — с одного бока, с другого. Слышен хруст. Андерсон воет, кашляет, складывается пополам, прячет корпус от ударов. Министр ставит его прямо.
— С чего бы военная модель пружинщицы оказалась в Городе божественных воплощений?
— Она не военная. Она просто секретарь… была…
Аккарат с равнодушным видом разворачивает его и с силой толкает лицом в стену. Снова треск — похоже, челюсть. Андерсон чувствует, как ему за спиной разводят пальцы, понимает, что сейчас произойдет, скулит, пробует сжать их в кулак, но у министра сильная хватка. Страшный момент беспомощного ожидания — резкое крутящее движение — щелчок.
Он вопит, прижимаясь к стене. Его крепко держат, а когда немного затихает и перестает дрожать, Аккарат хватает его за волосы, разворачивает к себе — глаза в глаза — и спокойно продолжает:
— Она — военная модель, убийца, а ты привел к ней Сомдета Чаопрайю. Итак, где пружинщица?
— Убийца?.. — Андерсон едва может собраться с мыслями. — Она — никто, хлам с завода «Мисимото», японский мусор…
— Министерство природы право в одном: вам, зверям из «Агрогена», доверять нельзя. Сначала ловко называете пружинщицу обычной игрушкой для плотских утех, а потом ведете эту убийцу к защитнику королевы. — Он приближает разъяренное лицо вплотную к пленнику. — Вы бы так и на ее величество замахнулись.
— Да это же невозможно! — истерично кричит Андерсон. В сломанном пальце пульсирует боль, во рту снова полно крови. — Это же кусок хлама! Поверьте мне — не способна она на такое.
— Пружинщица убила троих человек и охрану — восьмерых натренированных парней. Какие еще нужны доказательства?
Внезапно Андерсон вспоминает, как Эмико, сжавшись в комок, сидела под дверью вся в крови; вспоминает, как перепрыгнула балконные перила и растворилась в темноте, будто призрак.
«А вдруг это правда?»
— Но ведь можно это объяснить как-то иначе. Она всего лишь чертова пружинщица. А такие умеют только подчиняться.
…Вспоминает, как Эмико в ранах и ссадинах, съежившись, лежала в кровати, всхлипывала.
Андерсон делает глубокий вдох и берет себя в руки.
— Прошу, поверьте мне. Мы бы не стали рисковать в такой больше игре. «Агрогену» нет никакой пользы от смерти Сомдета Чаопрайи. Никому нет. Это сыграло бы на руку министерству природы. Нам гораздо выгоднее хорошие отношения.
— Тогда зачем привели его к убийце?
— Никакая она не убийца. Ну, кто смог бы провезти в страну военную модель, а потом ее прятать? Вы разузнайте. Эта пружинщица тут уже долгие годы, подкупала кителей, много лет работала в клубе у папа-сана… — Он несет все подряд, но замечает, что Аккарат слушает — холодная ярость уступила место вниманию. Андерсон сплевывает кровь и продолжает, глядя министру в глаза: — Да, я показал ему это существо, но только потому, что для него такое в новинку. Все знают, какая за ним ходит слава. — Он вздрагивает, заметив на лице Аккарата злость. — Прошу вас. Прислушайтесь ко мне, проведите свое расследование и тогда поймете, что это не мы устроили. Должно быть другое объяснение. Мы даже понятия не имели… — Андерсон утомленно замолкает. — Просто расследуйте все сами.
— Мы не можем. Дело у министерства природы.
— Как?! По какому праву?
— По такому, что здесь замешана пружинщица. А это — вторжение биологического вида.
— Расследуют эти ублюдки, а вы до сих пор думаете, что я все устроил? — И Андерсон продолжает искать объяснения, причины, отговорки — старается выиграть время. — Им нельзя доверять. Прача и его люди… Он вполне мог бы нас подставить, даже не задумываясь. Что, если догадался о наших планах, устроил контратаку и использует нас как прикрытие? Если Прача узнал, что Сомдет Чаопрайя против него…
— Все планы держались в тайне.
— Тайн не бывает. По крайней мере в таких крупных делах. Кто-то из генералов мог сболтнуть лишнее старому приятелю, потом уничтожил троих наших, а мы теперь тычем пальцами друг в друга.
Министр задумывается. Пленник ждет, затаив дыхание.
— Нет, Прача не посмел бы устроить покушение на королевскую власть. Он, конечно, дрянь, но все еще таец.
— Но и я не устраивал! — Андерсон смотрит на лежащего рядом Карлайла. — Не мы! Должно быть другое объяснение. — От страха он заходится кашлем — сильным, судорожным, который долго не может побороть, наконец унимает, чувствует, как болят ребра, сплевывает кровь, думает, не пробито ли легкое, потом поднимает глаза на министра и пробует сказать что-то весомое, убедительное: — Надо выяснить, что на самом деле случилось с Сомдетом Чаопрайей. Надо найти хоть какую-то связь.
Один из «пантер» шепчет что-то на ухо Аккарату. Андерсон будто бы узнает его — видел на барже. Это один из людей защитника королевы, тот самый, суровый, с диким лицом и ледяным взглядом.
— Кхап. — Министр отрывисто кивает и жестом приказывает отвести связанных в соседнюю комнату. — Хорошо, кун Андерсон. Попробуем что-нибудь выяснить. — Солдаты валят пленника на пол к Карлайлу. — Устраивайтесь поудобнее. Я дал своим людям на расследование двенадцать часов. Как следует помолитесь богу — или кто там у вас, грэммитов? — чтобы ваша история оказалась правдой.
У Андерсона возникает надежда.
— Выясните все, что только сможете, и вы поймете — это не мы устроили. — Он облизывает разбитую губу. — Та пружинщица — японская кукла, только и всего. Тут кто-то другой виноват. Это белые кители подстраивают, хотят нас стравить. Десять к одному, что это их козни.
— Посмотрим.
Андерсон прислоняется затылком к стене, чувствуя, как его колотит от нервного истощения и прилива адреналина. В руке пульсирует боль, безвольно висит сломанный палец. Время. Он выиграл немного времени. Теперь — только ждать; ждать и искать новый способ уцепиться за жизнь. Он кашляет, сжимая зубы от боли в ребрах.
Рядом, не приходя в себя, стонет Карлайл. Андерсон смотрит на стену, собирает силы к следующей схватке с Аккаратом. И хотя мозг продумывает варианты спасения, пробует понять, отчего вдруг так резко изменились обстоятельства, перед глазами неотступно стоит одна и та же картина: пружинщица, перепрыгивающая через перила и исчезающая в темноте — быстрая, как никакое другое существо, сам дух движения и дикой грации, плавно-стремительная и пугающе прекрасная.
32
Канья стоит среди клубов густого дыма. Обнаружились еще четыре тела, не считая тех трех из больниц. Мутация идет быстрее, чем думали. Ги Бу Сен так и предполагал, но ей все равно не по себе от жуткой статистики.
Паи расхаживает вдоль рыбного пруда, который уже засыпали щелоком и хлором из огромных мешков. Все кругом кашляют — в воздухе висят облака едкой, пахнущей страхом, пыли.
В памяти всплывают другие засыпанные пруды, другая кучка напуганных людей и другие кители, которые, растянувшись цепочкой, поджигают деревню. Канья закрывает глаза. Как же она тогда их возненавидела!
Позже местный джаопор заметил сообразительную целеустремленную девочку, отправил ее в столицу, наказав пойти добровольцем в белые кители и стать среди них своей. Крестный отец был заодно с врагами министерства природы, хотел отомстить за то, что его лишили власти. С таким же заданием детей на юг отправляли десятками, но из тех, с кем в город ушла Канья, ей одной удалось подняться так высоко, хотя она знала: бывшие подростки, затаившие злость, сейчас рядом, их много.
— Я прощаю тебя, — негромко произносит Джайди.
Мотнув головой, Канья показывает, что не желает его слушать, и подает знак Паи: пруды можно засыпать. Если повезет, деревня просто исчезнет. Парни работают быстро — хотят поскорее уйти отсюда. Все в масках и костюмах, но в такую жару от защиты больше мук, чем пользы.
К небу взлетают новые клубы едкого дыма. Деревенские плачут. Маи смотрит на капитана потухшими глазами. Эта ночь изменит жизнь девочки, сегодняшние воспоминания до конца дней будут ей как кость в горле. Канье жаль Маи. «Если бы ты могла понять». Но юным не дано постичь обыденную жестокость мира. «Если бы я тогда могла все понять».
— Капитан Канья!
С насыпи кто-то бежит, увязая в грязи заливного поля среди изумрудных стрелок проросшего риса. Паи очень хочет узнать, что происходит, но Канья отсылает его прочь.
— Да благословит вас и министерство улыбка Будды, — еле переводя дух, выпаливает посыльный и выжидающе умолкает.
— Сейчас? — Канья оглядывается на полыхающую деревню. — Я нужна прямо сейчас? — Мальчишка, ничего не понимая, беспокойно смотрит по сторонам, тогда она спрашивает еще раз: — Повтори — я нужна прямо сейчас?
— Улыбка Будды да благословит вас. И министерство. Все дороги начинаются в сердце Крунг Тхепа. Все дороги.
Недовольно поморщившись, она кричит лейтенанту:
— Паи, я должна уехать.
Старательно скрывая удивление, тот спрашивает:
— Теперь?
— Да, ничего не поделаешь. — Канья показывает на горящие бамбуковые дома. — Вы тут сами заканчивайте.
— А что с деревенскими?
— Связать, чтоб не ушли, и оставить здесь. Пришлете им еду. Если через неделю никто не заболеет, значит, наше дело сделано.
— Думаете, нам может так сильно повезти?
Канья представляет себе, насколько это странно — переубеждать человека с таким опытом, как у Паи, но, улыбнувшись, отвечает:
— Не исключено, — потом машет мальчику: — Поехали, — и снова лейтенанту: — Как закончите здесь, встречаемся в министерстве. Надо сжечь еще кое-что.
— Фабрику фаранга?!
Ее веселит такой задор.
— Главный источник надо обязательно обеззаразить. Разве не это наша работа?
— Ты — новый Тигр! — Паи восхищенно хлопает ее по спине, потом вспоминает о субординации, поклоном просит прощения за свой пыл и убегает дожигать деревню.
— Новый Тигр, — негромко повторяет Джайди. — Неплохо.
— Не моя вина, что после вас им в начальники нужен сорвиголова.
— Но выбрали-то тебя?
— Им только факел покажи — пойдут за тобой.
Джайди смеется.
За насыпью ждет пружинный мотоцикл. Мальчишка вскакивает в седло и ждет, пока капитан устроится позади. Они едут по улицам, лавируя между мегадонтами и рикшами; трубит клаксон, город летит мимо, вдоль дорог продают рыбу, одежду и амулеты с Пхра Себом — Джайди особенно любил посмеяться над последними, но Канья втайне носила такой на цепочке поближе к сердцу.
— Слишком многих богов ты хочешь умилостивить, — заметил призрак, когда та, выезжая из деревни, коснулась подвески. Однако она пропустила шпильку мимо ушей и всю дорогу молила защитить ее, хотя и понимала, что защиты не заслужила.
Скутер делает разворот, замирает, Канья спрыгивает на землю. На золотых узорах Священного столпа играют первые отсветы дня. Кругом уже вовсю продают бархатцы для подношений, среди белоснежных стен разносится пение монахов и музыка танца кхон. Прежде чем она успевает поблагодарить мальчишку, тот уезжает. Один из облагодетельствованных Аккаратом, и скутер ему наверняка достался даром, но в обмен на преданность.
— Ну, и какова же твоя цель, дорогая моя Канья? — любопытствует Джайди.
— Сами знаете. Та самая, какой я поклялась достичь.
— И она тебе по-прежнему нужна?
Канья ничего не отвечает и входит в решетчатую дверь. Даже на рассвете храм забит верующими: люди сидят, склонившись перед статуями Будды и алтарем Пхра Себа, который размерами уступает лишь тому, что стоит в министерстве, преподносят цветы и фрукты, разбрасывают гадальные палочки. Воздух гудит от пения монахов, оберегающих город с помощью молитв, амулетов и сайсина, протянутого к плотинам и насосам. Священная нить подрагивает в сером предутреннем свете, бежит по столбам над улицами от сердца Крунг Тхепа и кольцом обвивает дамбы. Монотонные распевы не умолкают ни на минуту, охраняют Город божественных воплощений от вод, готовых его поглотить.
Канья покупает благовония и пищу для подношений, идет по мраморным ступеням в прохладу внутреннего придела, опускается на колени перед столпами — старым, перенесенным из погибшей Аютии, и новым, побольше, бангкокским. Здесь — начало всех дорог, сердце Крунг Тхепа, дом стерегущих его духов. С порога хорошо видны высокие стены дамбы; Канья понимает, что стоит в нижней части огромной чаши, что город беззащитен, открыт со всех сторон, а это святилище… Она поджигает благовония и почтительно склоняет голову.
— Прийти именно сюда по прихоти министерства торговли — не слишком лицемерно?
— Замолчите, Джайди.
Тот опускается на колени неподалеку.
— Ну, хотя бы фрукты приличные поднесла.
— Замолчите.
Она пробует прочесть молитву, но призрак беспрестанно отвлекает, поэтому спустя минуту Канья встает и выходит из храма. На улице стало светлее и жарче. Наронг уже здесь — прислонился к столбу и наблюдает за кхоном. Стучат барабаны, танцоры старательно изображают своих персонажей, высокие пронзительные голоса перекрывают гудение монахов, выстроившихся у дальнего края двора. Канья подходит ближе.
Наронг предупреждающе поднимает руку:
— Подожди! Дай досмотреть.
Скрывая недовольство, она находит свободное место, садится и смотрит, как разыгрывают историю Рамы[133].
Наконец Наронг удовлетворенно замечает:
— Неплохо, правда? — Потом показывает на храм и спрашивает: — Подношения уже сделала?
— Вам-то что?
Вокруг много белых кителей, которые тоже пришли с дарами просить о продвижении по службе, о месте поприбыльнее, об удаче в расследованиях и о защите от болезней, с которыми сталкиваются каждый день. Министерству природы этот храм по духу ближе всех остальных, если не считать святилища Пхра Себа, мученика во имя биоразнообразия. Канье неспокойно разговаривать с Наронгом на глазах у сослуживцев, но его это, видимо, мало волнует.
— Мы все любим наш город и будем любить, даже если Аккарат его не убережет, — говорит он.
— Чего вы от меня хотите?
— Какая нетерпеливая. Сперва пройдемся.
Наронг никуда не спешит, будто и не вызывал ее срочно.
— Вы представляете, от чего меня оторвали? — стараясь не показывать злости, спрашивает Канья.
— Вот и расскажешь.
— У меня там деревня, в которой пять трупов, а мы до сих пор не изолировали источник заражения.
— Интересно. Новый цибискоз? — любопытствует он, потом шагает мимо цветочниц к выходу из комплекса и идет дальше.
— Неизвестно. Однако вы оторвали меня от дел. Вам, видимо, приятно, что я, как собачка, прибегаю по первому…
— У нас неприятности, по сравнению которыми твоя деревня — полная ерунда. Погиб человек. Очень высокопоставленный человек. И нам нужна твоя помощь в расследовании.
Канья смеется:
— Я не полицейский.
— А полиция тут и ни при чем. В деле замешана пружинщица.
Она так и замирает на месте.
— Кто?
— Убийца. Полагаем, речь идет о незаконном ввозе существа. Это военная модель. Дергунчик.
— Как такое вообще возможно?
— Вот мы и хотим выяснить. — Наронг пристально глядит на Канью. — А задавать вопросы прямо не можем, поскольку дело забрал генерал Прача — сказал, что это по его части, раз пружинщики в стране под запретом. Будто это — какие-нибудь чеширы или желтобилетники, — говорит он и прибавляет с горькой усмешкой: — Мы связаны по рукам и ногам. Поручаем тебе все выяснить.
— Будет непросто. Расследование веду не я, а Прача не разрешит…
— Он тебе доверяет.
— Доверять мне мою обычную работу и лезть в чужое дело — разные вещи. Это невозможно, — ставит точку Канья и уже хочет уйти, но Наронг хватает ее за руку.
— Нет! Это жизненно необходимо! Нам надо знать все подробности.
Извернувшись, она освобождается от его хватки.
— Зачем? Что в этом деле такого? В Бангкоке каждый день кто-нибудь умирает — тела в компостные кучи на метан выбрасывать не успеваем. Чего ради я должна идти против генерала?
Наронг приближает ее почти вплотную к себе.
— Погиб Сомдет Чаопрайя. Мы потеряли защитника ее королевского величества.
У Каньи подкашиваются ноги. Наронг ставит ее прямо и продолжает настойчиво, яростно убеждать, не умолкая ни на секунду:
— С тех пор как я влез в эту игру, политика стала только грязнее. — Сквозь его улыбку проступает злоба. — Ты — хорошая девушка, Канья. Мы всегда выполняли свои обещания, поэтому ты тут. Будет непросто, знаю. У тебя свои обязательства перед министерством природы, ты молишься Пхра Себу, и это правильно. Для тебя правильно. Но теперь мы требуем твоей помощи. Даже если Аккарат стал тебе неприятен, помощь нужна дворцу.
— Чего вы хотите?
— Нам надо знать, не Прача ли это устроил — слишком уж быстро забрал расследование себе. Нам просто необходимо знать, не он ли направил тот нож. От этого зависит и жизнь твоего начальника, и безопасность дворца. Возможно, генерал хочет что-то утаить. Как знать — вдруг снова применяет против нас те же приемы, что и двенадцатого декабря.
— Невозможно.
— Но очень для него удобно — раз убийство совершил пружинщик, то мы теперь не у дел. — В голосе Наронга вдруг возникает неожиданная напористость. — Мы просто обязаны знать, не министерство ли вырастило пружинщицу. — Он протягивает ей кучу банкнот. Канья изумленно глядит на огромную кипу денег. — Подкупай всех подряд.
Она сбрасывает с себя оцепенение и рассовывает пачки по карманам. Наронг осторожно дотрагивается до ее руки.
— Прости, но, кроме тебя, у меня никого нет. Надо найти и без остатка уничтожить наших врагов, и тут я полагаюсь только на твою помощь.
Днем в башне Плоенчит и так страшная жара, а теперь, когда обшарпанные комнаты клуба до отказа забиты следователями, здесь просто невыносимо. Совсем неподходящее место для мертвых тел; место, где прописались голод, отчаяние и неудовлетворенность. В коридорах толпятся люди из дворца — наблюдают, обсуждают, ждут, когда подчиненные Прачи закончат обследование и останки Сомдета Чаопрайи можно будет забрать, сжечь и поместить в погребальную урну. В воздухе разлиты тревога и злоба, все ведут себя с пугающей, оскорбительно подчеркнутой вежливостью, предчувствуют бурю, удары молний и черный грозовой фронт, за которым — неизвестность.
Первое тело лежит в общем зале возле бара. Старый фаранг похож на существо из другого мира. Повреждений почти нет, кроме лилового кровоподтека на шее там, где свернуто горло. Он весь в пятнах, как утопленник; наживка на гангстерской рыбалке. Широко раскрытые голубые глаза — два мертвых колодца — смотрят прямо на капитана. Канья молча изучает травмы, потом секретарь Прачи ведет ее во внутренние помещения.
Она ошеломленно замирает на месте.
Все в крови. На стенах длинные брызги, на полу огромные лужи. Среди груды тел — Сомдет Чаопрайя: тот же след на шее, что и у старого фаранга, только горло не сломано, а вырвано, словно его загрыз тигр. Охранники лежат рядом — у одного из глазницы торчит лезвие от пружинного пистолета, другой, вцепившийся в свое оружие, сам весь нашпигован острыми зарядами.
— Кот рай! — бормочет Канья. Она в полной растерянности от жуткого зрелища. В кровяной пене ползают бежевые жучки, оставляя за собой дорожки на посыпанном реагентом полу.
Прача, который стоит неподалеку и беседует с подчиненными, замечает ее потрясение. На лицах остальных тоже шок, тревога и смятение. От мысли о том, что организовать резню мог генерал, Канье физически плохо. Сомдет Чаопрайя, конечно, не был другом министерству природы, но чудовищность происшедшего полностью выбивает ее из колеи. Одно дело — замышлять атаки и отвечать на удары противника, но посягать на дворец — совсем иная история. Канья чувствует себя бамбуковым листочком, тонущим в бурном потоке.
«Всех ждет смерть. Даже самые богатые и могущественные в итоге лишь корм для чеширов. Мы бродячие трупы, и больше ничего. Стоит задуматься, и поймешь, что так и есть».
И все же вид мертвого полубога страшно ее пугает, лишает сил. «Что же вы натворили, генерал?» Представить страшно. Поток все сильнее, вот-вот утянет на дно.
Прача подзывает Канью. Капитан ищет в выражении его лица хотя бы намек на вину, но, кроме озадаченности, ничего не замечает.
— Что ты здесь делаешь?
— Я… — Объяснение она приготовила заранее, но, стоя возле раскиданных по полу тел охранников и защитника королевы, не может произнести ни слова.
Прача видит, как Канья смотрит на останки Сомдета Чаопрайи, смягчается, осторожно берет ее за руку и ведет к двери.
— Идем, это слишком тяжелое зрелище.
— Но…
— Я же сказал — идем. — Прача вздыхает. — К вечеру узнает весь город.
К Канье наконец возвращается дар речи, она говорит, все, что собиралась сказать, играет назначенную Наронгом роль.
— Я не поверила, когда узнала.
— Все гораздо хуже, — мрачно сообщает генерал. — Его убила пружинщица.
— Пружинщица? В одиночку? — Канья изображает удивление, а сама тем временем напоследок оглядывает залитый кровью зал — рассматривает густо утыканные лезвиями стены, замечает среди тел чиновника из министерства торговли — сына одного из старейшин не первой величины, — и еще человека из клана чаочжоуских промышленников, этот занимался деловой прессой. Все лица знакомы ей по газетам, все — «тигры», большие люди. — Кошмар.
— Вообразить невозможно — шестерых охранников, а потом еще трех человек. Причем пружинщица управилась одна, если верить свидетелям. Даже после цибискоза такой грязи нет.
От шеи его светлости почти ничего не осталось — ее сломали и вырвали; позвонки на месте, но голову почти не держат.
— Его будто демон разодрал.
— Демон — не демон, но уж точно дикое животное. Почерк военного существа с перестроенными генами. Мы такое уже видели — на севере, на войне с вьетнамцами. В разведке и ударных частях у них есть пружинщики, но, на наше счастье, немного. — Прача серьезно смотрит на Канью. — Туго нам придется. Торговля свалит вину на нас, скажет — мы пропустили зверя в страну, попробует сыграть на этом, найдет предлог отхватить себе больше власти. — Он мрачнеет. — Надо выяснить, откуда взялась пружинщица. Может, это Аккарат, стремясь к могуществу, решил подставить нас и принести в жертву защитника королевы.
— Он бы ни за что…
— Брось, политика — грязное дело. Ради власти даже маленький человек пойдет на что угодно. Мы предполагаем, что Аккарат бывал здесь раньше. Кое-кто из персонала вроде бы узнал его по фотографии… Все, конечно, боятся, лишнего не скажут. Но, похоже, Сомдета Чаопрайю к дергунчику привел именно он или кто-то из его приятелей, торговцев-фарангов.
«Генерал со мной играет? Знает, что я работаю на Аккарата? — Канья не дает страху завладеть собой. — Хотя, если бы знал, не поставил бы на место Джайди».
— Уверена? — шепчет призрак капитана. — Змея в своем гнезде безопаснее той, что свободно ползает по джунглям. Так генерал может тебя контролировать.
— Отправляйся в отдел документов, — приказывает Прача. — Кому-то будет на руку, если часть информации вдруг исчезнет, понимаешь? Среди нас есть агенты Торговли. Разыщи все, что сможешь, и вези мне. Узнай, как ей удавалось тут спокойно жить. Скоро пойдут слухи, и следы начнут быстро заметать — люди станут врать, регистрационные записи — исчезать. Кто-то ведь позволял ей здесь находиться, несмотря на запрет. Есть у нас такая болезнь — брать взятки. И я хочу знать, кто это был и не платил ли ему Аккарат.
— Но почему я?
Печально улыбаясь, Прача объясняет:
— Потому что больше я доверял только Джайди.
— Он тебя подставит, — подсказывает призрак. — Если генерал хочет свалить вину на Торговлю, ты — идеальный вариант. Ты же их шпион.
Канья не замечает в лице Прачи и намека на подвох, хотя знает, насколько хитер этот человек.
«Что ему известно?»
— Соберешь информацию — сразу ко мне. И никому ни слова.
— Хорошо, — отвечает она, но не думает, что хоть какие-то документы сохранились. Следы скорее всего уже замели. Сделать это было несложно: если покушение планировали, взятки шли налево и направо. Канья с содроганием представляет, кто мог решиться на такое. Политические убийства происходят, однако поднять руку на дворец… На нее накатывает волна ярости и отчаяния, но она берет себя в руки и спрашивает: — А что нам уже известно о пружинщице?
— Говорят, ее бросил тут какой-то японец. По словам местных девочек, работала в клубе несколько лет.
Канью передергивает от отвращения.
— Как кто-то мог вообще захотеть замарать себя о… — Тут она понимает, что чуть не сказала лишнего о Сомдете Чаопрайе, прикусывает язык и, желая скрыть неловкость и горечь от досадной мысли, спешит задать другой вопрос: — Как защитник королевы здесь оказался?
— Знаем одно: с ним были люди из окружения Аккарата.
— Самого министра допрашивать будете?
— Его бы еще найти.
— Он пропал?
— Удивлена? Аккарат всегда умел себя прикрыть. Сколько раз уже оставался в живых. Он как чешир — ничто его не берет, — с досадой говорит Прача. — А теперь нам надо выяснить, кто разрешал этой твари, этой пружинщице находиться тут все это время, как она попала в город и как было организовано покушение. Пока нам не известно ничего, мы слепы, а значит, беззащитны. Все станет очень зыбко, когда об убийстве узнают в городе.
— Приложу максимум усилий. — Канья делает ваи, не обращая внимания на Джайди, который посмеивается у нее за спиной. — Хотелось бы получить чуть больше информации, чтобы разыскать виновных.
— Для начала ты знаешь достаточно. Выясни, откуда взялась пружинщица и кто брал взятки. Это я должен знать в первую очередь.
— А как же Аккарат и фаранги, которые привели к ней защитника королевы?
— Этим займусь я, — чуть улыбнувшись, говорит Прача.
— Но…
— Прекрасно понимаю, что ты хочешь сделать больше. Нам всем небезразлично благополучие дворца и королевства. Однако оберегать информацию об этом существе мы должны очень тщательно.
— Да, конечно. Я выясню все о взятках, — сдержанно отвечает Канья и, немного помедлив, осторожно спрашивает: — Потребуются ли от кого-то знаки раскаяния?
— Доход с небольших безобидных взяток — это одно. Год для министерства вышел не самый удачный. Но чтобы вот так… — Генерал покачивает головой.
— Помню времена, когда нас уважали.
— Правда? Вроде бы ты появилась позже. — Прача вздыхает. — Не беспокойся, укрывательством это не будет. Расплата неминуема, ручаюсь лично. И даже не ставь под сомнение мою преданность дворцу и ее величеству. Виновных ждет наказание.
Канья еще раз смотрит на тело защитника королевы и обводит взглядом обшарпанный зальчик, где тот нашел свою смерть. Пружинщица-проститутка. Ей даже думать о таком противно. Пружинщица. И кто-то ведь… Она отгоняет прочь гадкие мысли. Мерзкое убийство с опасными последствиями. А расплачиваться за него будет какой-нибудь юнец — тот, кто брал взятки с Плоенчита, и, может, еще несколько человек.
Выйдя на улицу, Канья подзывает велорикшу, попутно замечая дворцовых «пантер», выстроившихся у двери. Рядом уже собралась толпа зевак; пара часов — и город наполнят новости и слухи.
— В министерство природы. Гони!
Она показывает несколько банкнот, полученных от Аккарата, — пусть возчик давит на педали изо всех сил, — а сама все никак не может понять, от чьего имени тратит эти деньги.
33
В полдень приезжает армейский грузовик — огромная, быстрая, извергающая выхлопы, невероятно громкая махина, ископаемое эпохи Экспансии. Слышно ее еще за квартал, но при виде машины Эмико все равно изумленно ахает. Давно в Японии она видела что-то подобное; Гендо-сама объяснял, что ездит это чудище на разжиженном угле. Умопомрачительно грязная, прожорливая, но фантастически могучая штука — будто десяток мегадонтов поставили в одну упряжку — идеально подходит для военных задач, хотя гражданским не понять ни ее мощь, ни то, во что встают одни налоги на топливо.
Грузовик останавливается, его окутывают клубы голубого дыма. Подъезжают несколько пружинных скутеров с людьми в черной форме дворцовых «пантер» и военными в зеленом. Из кузова выпрыгивают солдаты и бегут ко входу в высотку, где живет Андерсон-сама.
Эмико ныряет в укрытие. Поначалу она хотела убежать подальше, но, пройдя полквартала, поняла, что идти некуда: Андерсон-сама — ее единственный плот посреди бушующего океана.
Пружинщица ждет в соседнем переулке, наблюдает за башней, похожей сейчас на оживленный муравейник, и никак не может взять в толк, почему люди, которые вломились в квартиру, — не белые кители, хотя должны были прийти именно они. В Киото полиция уже давно разыскала бы ее с помощью собак-ищеек и ликвидировала из жалости — пружинщица, которая совершенно перестала подчиняться человеку, а уж тем более устроила кровавую бойню и сбежала, — дело неслыханное. Стыд и ненависть раздирают Эмико. С одной стороны, быть здесь опасно, с другой — полная военных квартира гайдзина — ее последнее убежище во враждебном городе.
Из кузова продолжают выскакивать солдаты. Она думает, что искать ее станут везде, поэтому отходит подальше в переулок, готовая стремительным, горячечным рывком домчать до клонга — там можно остыть, а потом бежать дальше.
Но военные расходятся по главным улицам и, похоже, не спешат устраивать поиски.
У входа в здание вновь суматоха: «пантеры» выволакивают из дверей двух человек с мешками на головах. Судя по бледным рукам, это гайдзины, один — Андерсон-сама, по крайней мере на нем знакомая Эмико одежда. Последнего толкают вперед, и он, споткнувшись, врезается в борт грузовика. Чертыхаясь, «пантеры» тащат его в кузов, ударом сбивают с ног и бросают на пол рядом с первым гайдзином. Следом залезают солдаты.
Урча дизель-угольным двигателем, к тротуару подъезжает лимузин — по сравнению с грузовиком почти бесшумный, хотя дымит ничуть не меньше. Вообразить невозможно, что за богач…
Эмико так и ахает: в плотной толпе телохранителей из здания выходит Аккарат и шагает к машине. Зеваки умолкают, смотрят на самого министра торговли, раскрыв рты. Лимузин трогается, а за ним, ревя огромным мотором, и машина с солдатами. Процессия, оставив за собой облако дыма, исчезает за углом.
Наступает оглушительная тишина.
— Политика… Аккарат… Фаранг?.. Генерал Прача… — шепчут вдалеке зеваки.
У Эмико превосходный слух, но уловить смысл по отдельным словам никак не выходит. Она смотрит на опустевшую дорогу. Нужно решиться и пойти за машинами… Однако девушка отбрасывает эту идею. Не важно, куда увезли Андерсона-саму, — ей туда нельзя. В какую бы политическую заварушку он ни влез, финал у нее будет гадким, как у всех подобных историй.
Эмико раздумывает, не проскользнуть ли незаметно в опустевшую квартиру.
Двое у входа раздают всем прохожим листовки. Еще парочка едет на велосипеде с прицепом, загруженным такими же бумажками, — один соскакивает прямо на ходу, лепит объявление на столб и запрыгивает обратно.
Пружинщица хочет подойти и взять у них листовку, но параноидальный страх заставляет ее подождать, пока расклейщики проедут мимо, и только потом — осторожно, изо всех сил стараясь двигаться естественно и не привлекать к себе внимания, — она шагает к столбу, аккуратно втискиваясь в толпу, вытягивает шею и пробует разглядеть над морем черных голов и напряженных тел, что написано на листовке.
Ропот нарастает. Кто-то начинает рыдать. Стоящий впереди мужчина отходит в сторону. Эмико видит расширенные от ужаса, полные горя глаза и занимает его место. Народ гудит все громче. Она делает шаг вперед, еще один, медленно, осторожно… и обмирает.
Сомдет Чаопрайя, защитник ее величества. Написано… Девушка с трудом заставляет свой мозг переводить с тайского на японский и, вчитываясь, все яснее осознает: вокруг, сжимая ее со всех сторон, стоят люди и тоже узнают, что где-то среди них бродит пружинщица — смертельно опасное создание, агент министерства природы, — которая убила первого приближенного самой королевы.
Тайцы протискиваются ближе, читают, отходят в сторону, расталкивая соседей локтями, и каждый думает о том, что рядом с ним может стоять тот самый убийца. Эмико жива лишь по одной причине: эти люди ее пока не заметили.
34
— Сядь ты наконец! Нервируешь. — Хок Сен бросает недовольный взгляд на расхаживающего по хижине Чаня-хохотуна. — За твои калории плачу я, а не наоборот.
Тот пожимает плечами и возвращается за карточный столик. Компания безвылазно провела в комнате уже несколько дней. И Чань, и Пак Ин, и Питер Куок — отличные игроки, но даже самая блестящая компания…
Хок Сен качает головой. Какая теперь разница? Грядет буря, на горизонте — резня и хаос. То же предчувствие не отпускало старика и тогда, незадолго до Казуса, перед тем как его сыновей без особого повода обезглавили, а дочерей изнасиловали. Сам же он сидел посреди набиравшей силу грозы, не желал признавать очевидного и говорил тем, кто хотел его слушать: люди в Куала-Лумпуре не допустят того же, что произошло в Джакарте. Разве не был славный китайский народ верен этой стране? Разве не работал на ее благо? И разве нет у самого Хок Сена в правительстве друзей самого разного ранга, которые постоянно убеждают: слова зеленых повязок — лишь пустые угрозы?
Гроза бушевала, а он отказывался в нее верить. Теперь все иначе, в этот раз старик готов. Все стало ясно, как только белые кители закрыли фабрики. Воздух наэлектризован, вот-вот сверкнет молния, но сейчас Хок Сен знает, что делать. Усмехаясь про себя, он обводит взглядом свое маленькое убежище, напичканное деньгами, драгоценными камнями, едой, и спрашивает:
— Что нового слышно по радио?
Его компаньоны переглядываются. Чань-хохотун кивает Пак Ину:
— Твоя очередь заводить.
Тот с недовольным видом идет к приемнику. Дорогой прибор, Хок Сен уже жалеет, что его купил. Хотя радио в трущобах есть, бродить между хижин и привлекать к себе внимание опасно, поэтому пришлось брать, даже не зная, расскажут ли по нему что-то кроме слухов, но отказать себе в источнике информации было нельзя.
Пак Ин начинает крутить ручку. Динамик с хрипом оживает, однако сквозь скрип пружины слов почти не разобрать.
— Вот поставил бы ты на него нормальный привод, было б куда проще.
На слова Пак Ина никто не обращает внимания — все внимают звукам. Передают музыку — кто-то играет на содуанге.
Хок Сен присаживается рядом, внимательно слушает, потом крутит ручку настройки. Вспотевший Пак Ин еще с полминуты затягивает пружину и, отдуваясь, говорит:
— Ну все, пока хватит.
Хок Сен вращает рычажок, вслушиваясь в шум эфира, как в голос прорицателя, переходит с канала на канал. Одни развлекательные программы, везде музыка.
— Сколько времени? — спрашивает Чань-хохотун.
— Часа четыре, — пожимает плечами старик.
— Должна быть трансляция с муай-тай, сейчас время церемонии открытия.
Все переглядываются. Хок Сен щелкает дальше. Музыка и ничего больше, никаких новостей. Внезапно по всем каналам начинает звучать один и тот же голос. Компания склоняет головы к динамику.
— Похоже, это Аккарат, — говорит старик. — Сомдет Чаопрайя мертв. Министр винит белых кителей. — Он обводит всех взглядом. — Началось.
Пак Ин, Чань-хохотун и Питер смотрят на него с уважением.
— Ты был прав.
Старик лишь нетерпеливо кивает.
— Учусь со временем.
Тучи сгущаются. Мегадонты должны вступить в бой, это их судьба. Они делили власть со времени прошлого переворота, но больше так не могут. Главным из схватки выйдет только один. Хок Сен молит предков позволить ему выйти из бури живым.
Чань встает.
— Похоже, все-таки придется отрабатывать зарплату телохранителя.
— Это будет непросто. Но только для тех, кто не готов, — серьезно кивает старик.
— Прямо как в Пинанге, — говорит Пак Ин, затягивая пружину пистолета.
— Нет. В этот раз мы знаем, чего ждать. Идемте. Пора отхватить себе, что еще осталось…
Все вздрагивают от стука в дверь.
— Хок Сен! Хок Сен! — вопят снаружи и снова стучат.
— Это Лао Гу.
Старик впускает его в хижину.
— Мистера Лэйка забрали. Самого заморского демона и всех его друзей.
— Его белые кители взяли?
— Нет, министерство торговли. Сам Аккарат приезжал.
— Странно. Ничего не понимаю.
Лао Гу протягивает ему листовку.
— Это все пружинщица, которую мистер Лэйк водил к себе домой. Это она убила Сомдета Чаопрайю.
Хок Сен быстро пробегает глазами страницу и кивает своим мыслям.
— Уверен насчет этого существа, этой пружинщицы? Заморский демон работал с убийцей?
— Знаю только то, что пишут в газетах, но по тому, как описывают, — это точно дергунчик. Он сколько раз привозил ее из Плоенчита и даже ночевать оставлял.
— Это плохо? — любопытствует Чань-хохотун.
— Нет. — Улыбнувшись, Хок Сен достает из-под матраса связку ключей. — Нет, хорошо. Даже лучше, чем я предполагал. Это — наш шанс. Прятаться здесь больше не будем.
— Не будем?..
— Прежде чем уехать из города, нам надо заглянуть еще в одно место, забрать кое-что из моей прежней конторы. Готовьте оружие.
Чань больше ни о чем не спрашивает, рассовывает пистолеты и пристраивает за спиной мачете, остальные делают то же самое и вместе выходят из хижины.
Хок Сен быстро шагает по улочке за своей командой и позвякивает связкой ключей от фабрики. Впервые за долгое время судьба — на его стороне. Теперь бы еще каплю удачи и немного времени.
Впереди что-то кричат о белых кителях, о смерти защитника королевы — злые голоса людей, готовых к бунту. Буря набирает мощь, противники выстраивают войска.
Мимо пробегает девочка и, почти не останавливаясь, всовывает каждому в руку по листовке. Значит, партии уже взялись за дело. Скоро крестный отец трущоб выведет свои силы, и тогда жди погромов.
Из узких переходов они выходят на большую улицу.
Все замерло, не ездят даже свободно подрабатывающие рикши. Возле приемника столпились несколько владельцев магазинчиков. Хок Сен подходит ближе и спрашивает:
— Что слышно?
— По государственному радио говорят, что защитник… — начинает какая-то женщина.
— Это я знаю. А что нового-то?
— Министр Аккарат обвинил генерала Прачу.
Все происходит быстрее, чем он ожидал. Старик командует Чаню и остальным:
— Идемте скорее, а не то опоздаем.
Из-за угла с оглушительным ревом выворачивает огромный грузовик. Дыма от него, как от костра, где нелегально жгут сухой навоз. В кузове едут несколько десятков сурового вида солдат. Старик с компанией, закашлявшись, торопливо отходят обратно в переулок. Чань-хохотун выглядывает из укрытия наружу и смотрит, куда поехала машина.
— Надо же — угольный дизель! Армия.
Хок Сен думает, не те ли это силы, которые верны делу Двенадцатого декабря, не прислали ли их генералы с Северо-Востока на помощь Праче, чтобы захватить радиовышку. А может, это союзники Аккарата, спешащие оцепить доки, шлюзы и якорные площадки, или просто искатели поживы в грядущем хаосе. Так или иначе, они — предвестники бури.
Последние прохожие скрываются в домах, владельцы магазинов торопливо запирают изнутри ставни. По всей улице слышны щелчки замков. Город точно знает, чего ждать.
На Хок Сена накатывают воспоминания: залитые кровью мостовые, запах тлеющего бамбука. Он трогает рукояти пистолетов и мачете — с ними спокойнее. Даже если город — джунгли, где бродят тигры, теперь старик уже не беззащитная жертва, бегущая из Малайи, он наконец научился быть готовым к стихии.
Хок Сен командует:
— Идемте. Пришло наше время.
35
— Это не Прача! Генерал ни при чем!
Канья кричит в трубку заводного телефона, но с тем же успехом можно руками погнуть тюремную решетку. На линии треск, чьи-то голоса, гудение машин, да и сам Наронг слушает ее вполуха — видимо, говорит с кем-то, кто стоит рядом, и слов почти не разобрать.
Вдруг его голос прорывается сквозь шум:
— Извини, но у нас другая информация.
Канья скептически оглядывает разложенные на столе газетки, которые, мрачно ухмыляясь, принес Паи. Одни пишут о повергнутом Сомдете Чаопрайе, другие о Праче, но все как одна обсуждают убийцу-пружинщицу. Выпуски «Саватди Крунг Тхеп» уже наводняют город. Она пробегает глазами по строчкам: сплошь возмущение белыми кителями, которые закрыли гавани и якорные площадки, а защитить Сомдета Чаопрайю от одного-единственного нелегально ввезенного существа не смогли.
— Выходит, газеты — ваши? — спрашивает Канья. Молчание Наронга красноречивее любых слов. Капитан добавляет с горечью в голосе: — Тогда зачем просили меня вести расследование, раз сами все уже решили?
Холодный голос в трубке отвечает сквозь треск:
— Не задавай ненужных вопросов.
Ошеломленная жуткой догадкой, Канья чуть слышно спрашивает:
— Это Аккарат устроил? Прача говорил, что без министра не обошлось. Так это Аккарат?
Снова молчание, только не ясно, что оно означает. Наконец Наронг говорит:
— Нет, тут я могу поклясться. Не наша работа.
— То есть все-таки Прача? — Канья перебирает лежащие на столе лицензии и разрешения. — Я вас уверяю, что это не он! Вот тут все документы по пружинщице. Генерал меня разве только силой не заставлял вести расследование. Велел найти любые связанные с ней записи. Есть бумаги о прибытии — привезли сотрудники «Мисимото», и об утилизации, и разрешения есть — все есть.
— Кто подписывал документы на утилизацию?
— Не знаю — подпись неразборчивая, — с досадой говорит Канья. — Еще покопаюсь и тогда узнаю, кто тогда этим занимался.
— Пока ты выясняешь, их уже не будет в живых.
— Тогда зачем Прача велел разыскать все, что только можно? Не складывается! Я говорила с теми, кто брал взятки с бара, — это глупые мальчишки, которые хотели немного подзаработать.
— Значит, генерал умен, заметает следы.
— За что вы так его ненавидите?
— За что ты так его любишь? Разве не он приказал сжечь твою деревню?
— Да, но без злого умысла — работа такая.
— Работа? А не он ли уже на следующий сезон перепродал разрешение на разведение рыбы соседней деревне, а сам набил карман?
Канья умолкает. Наронг примиряюще говорит:
— Извини, но тут уже ничего не поделаешь. Мы уверены, что преступление совершил он, а дворец дал нам право решить эту проблему.
— Как решить? Бунты поднять? — Она в сердцах смахивает со стола газеты. — Город сжечь? Прошу вас, не надо. Я докажу, что Прача не подсылал пружинщицу. Я смогу вас убедить.
— Ты слишком заинтересована и к тому же служишь обеим сторонам.
— Я служу королеве. Дайте мне возможность не допустить этого безумия.
Снова молчание.
— Даю три часа. До заката не успеешь — уже ничем не помогу.
— То есть пока подождете?
Канья почти видит улыбку возле трубки на том конце провода.
— Подожду.
Щелчок, разрыв связи, и она снова одна в кабинете.
На стол присаживается Джайди.
— Очень интересно. И как ты докажешь невиновность Прачи? По-моему, ясно, что он-то и подослал пружинщицу.
— Чего ради вы меня преследуете?
— Ради санука. Очень весело смотреть, как тебя кидает между двумя хозяевами. — Джайди бросает на нее пристальный взгляд. — А почему ты так беспокоишься за генерала? Ведь не он твой настоящий начальник.
Канья с ненавистью смотрит на призрака и показывает на разбросанные газетки.
— Все как пять лет назад.
— Да, как с Прачей и премьер-министром Суравонгом — Двенадцатое декабря, толпы народа… Так, да не так — в этот раз против нас пошел Аккарат.
Снаружи трубит мегадонт.
— Слышала? Вооружаемся, — с довольным видом заявляет Джайди. — Два старых быка решили затеять драку, и ты их не остановишь. Да и непонятно, зачем ты хочешь им помешать — Прача с Аккаратом уже много лет точат друг на друга зуб, грязью поливают. Так давай поглядим на хорошую схватку.
— Тут не ринг.
— Это верно. — На мгновение его улыбка делается грустной.
Канья задумчиво разглядывает газеты и записи, которые подтверждают ввоз пропавшей пружинщицы: приехала из Японии на дирижабле как секретарь…
— …и убийца, — встревает Джайди.
— Замолчите. Не мешайте.
Пружинщица из Японии, хлам, больше не нужный островному народу…
Канья вскакивает, одной рукой торопливо засовывает пружинный пистолет в кобуру, другой собирает бумаги.
— Куда ты?
Она бросает на Джайди хитрый взгляд.
— Скажу — испорчу санук.
Пхи бывшего капитана ухмыляется.
— А ты начинаешь постигать суть.
36
Толпа вокруг Эмико все больше, все плотнее, спрятаться негде, ее вот-вот заметят.
Первая мысль — прорубить себе дорогу, вступить в схватку за жизнь, хотя ясно, что перегрев произойдет раньше, чем впереди возникнет свободное пространство.
«Я не умру, как собака. За мою жизнь заплатят кровью».
Она не дает панике взять верх и думает, как быть. Мимо — поближе к листовке — лезут новые и новые люди. Эмико в ловушке, хотя пока ее не замечают. Если не двигаться… От такой давки есть своя польза — пальцем не шевельнуть, не то что выдать себя случайным дерганым движением.
«Медленно. Осторожно».
Прислоняясь к стоящим вокруг, она постепенно проталкивается прочь от столба, а сама изображает убитую горем: голова поникла, плечи вздрагивают от рыданий. Глядя под ноги, Эмико осторожно протискивается вперед. Наконец толпа редеет. Люди сидят на земле небольшими группами, плачут, смотрят вокруг пустыми глазами. Их даже немного жаль; она вспоминает день, когда Гендо-сама взошел на борт дирижабля, сказав, что поступил с ней очень гуманно, хотя и выбросил на улицы Крунг Тхепа.
«Соберись!» — зло командует себе Эмико. Надо спрятаться, дойти до безлюдного места и ждать темноты. «Твое описание — на каждом фонарном столбе, на каждой стене, даже под ногами. Бежать некуда». Она успокаивает себя: сейчас главное — дойти до переулка, затихнуть и придумывать, как быть дальше. Эмико, уперев взгляд в землю и старательно изображая горе, осторожно шагает вперед.
— Ты! Иди сюда!
Девушка замирает на месте, медленно поднимает голову, видит рассерженного человека, который машет ей рукой; она хочет что-то сказать, но тут слышит за спиной еще чей-то голос:
— Чего надо, хийя?
Мимо пробегает юноша: на голове желтая повязка, в руке кипа листовок.
— Это у тебя там что?
Пока они кричат друг на друга и показывают, кто тут главный, на скандал стягиваются зеваки; некоторые, решив, на чьей будут стороне, подбадривают выкриками. Чувствуя поддержку, тот, что старше, отвешивает молодому затрещину, хочет сорвать с его головы желтую повязку.
— Ты — не за королеву! Предатель! — Потом выдергивает из рук листовки, швыряет их на землю и топчет. — Иди отсюда! И забери с собой это вранье своего генерала-хийи!
Одна из бумажек пролетает мимо, и Эмико успевает заметить карикатуру: довольный Аккарат, пожирающий Большой дворец.
Юноша собирает листовки и убеждает противника:
— Ничего не вранье! Аккарат хочет убрать королеву, неужели не понятно?
Его тут же освистывают. Но не все. Тогда, встав спиной к сопернику, молодой человек говорит толпе:
— Аккарат жаждет власти! Аккарат всегда хотел…
Тут он получает пинок под зад, подскакивает и бешено бросается в драку. Эмико смотрит, раскрыв рот: мальчишка — боец, знает приемы муай-тай. Один удар локтем в голову, и соперник уже на земле.
Юноша осыпает врага оскорблениями, но очень быстро его голос тонет в воплях толпы, а сам он, истошно крича, исчезает под градом ударов.
Эмико, не скрывая движений, спешит укрыться в каком-нибудь темном углу подальше от драки. Люди пихают ее, бегут кто на помощь мальчишке, кто — наоборот. Сейчас им не до нее — стычка уже перекинулась на улицу.
Эмико ищет какую-нибудь кучу мусора. Позади слышен звук разбитого стекла, чей-то крик. Она опускается возле разломанного ящика из везеролла, подгребает к себе все, чем можно укрыться — банановые листья, куски веревки от старой корзины, шкурки дурианов, — и, подобравшись, замирает. Мимо бегут люди, и у каждого на лице ярость.
37
До главного комплекса «Мисимото и К°» в Тонбури надо долго добираться по воде. Канья, держа руку на румпеле, осторожно направляет лодку в клонг. Листовки с рассказами о плохом Праче и пружинщице-убийце уже добрались и сюда, за границы Бангкока.
— В одиночку не страшно?
— Вы же со мной. Такого спутника кому угодно за глаза хватит.
— Я, конечно, мастер по муай-тай, но не в нынешнем состоянии.
— Какая жалость.
Раскаленное вечернее солнце заливает встающие из воды ворота и пристани «Мисимото». К Канье подходит суденышко речного торговца, и хотя она голодна, тратить впустую не желает ни секунды: светило стремительно летит к горизонту.
Лодка ударяет носом в пирс, Канья забрасывает швартов на кнехт.
— Вряд ли тебя впустят, — говорит Джайди.
Она не обращает внимания.
Странно, что призрак пробыл с ней всю дорогу; обычно этот пхи, поприсутствовав недолго, спешит заняться чем-то или кем-то другим: возможно, навещает детей, просит прощения у матери Чайи. Но сейчас сидит как привязанный.
— И твоей белой форме тоже рады не будут. Тут дружат с министерством торговли и полицией.
Канья молчит, но и сама понимает, что главный вход охраняют полицейские из отделения Тонбури. А кругом — ничего, кроме волн. Японцы предусмотрительны: строят себе только на воде, на бамбуковых плотах толщиной, как говорят, футов в пятьдесят — такие выдержат и наводнение, и разлив Чао-Прайи.
— Мне нужно поговорить с господином Ясимото.
— Он не принимает.
— Это касается его собственности, пострадавшей во время того печального случая с дирижаблями. У меня документы на компенсацию.
Охранник, поразмыслив, исчезает за воротами.
— Умно, — усмехается Джайди.
— Хоть какая-то от вас польза.
— Причем от мертвого.
Очень скоро их уже ведут по комплексу, который оказывается довольно небольшим. Все производство скрыто высокими стенами. В профсоюзе мегадонтов постоянно говорят, что любой фабрике нужен источник мускульной силы, японцы же работают, хотя ни своих зверей не ввозят, ни нанимают профсоюз; без лишних слов ясно, что используют запрещенные технологии, но при этом постоянно помогают королевству техникой — в обмен на материалы из семенного банка снабжают тайцев последними разработками в мореходстве, поэтому никто не задает лишних вопросов о том, как построен корпус судна и все ли в нем изготовлено полностью легально.
Симпатичная девушка открывает дверь, встречает улыбкой и поклоном. Канья чуть не выхватывает пистолет — перед ней пружинщица! — но та, словно не замечая нервозности гостьи, прерывистым жестом приглашает пройти внутрь.
На полу аккуратно разложены циновки-татами, на стенах — картины суми-э. Сидящий на коленях человек — видимо сам господин Ясимото — что-то рисует. Девушка предлагает Канье устроиться неподалеку.
Джайди восхищенно разглядывает рисунки.
— Представь — все это он сам написал.
— Откуда вы знаете?
— Зашел посмотреть — после того как умер, — правда ли у них тут есть десятирукие.
— Есть?
— Сама выясняй.
Господин Ясимото окунает кисточку в тушь, отточенным стремительным движением наносит последний штрих, потом встает, кланяется Канье и начинает говорить по-японски. Почти тут же пружинщица переводит на тайский:
— Ваш визит — честь для меня.
Он ненадолго замолкает, а за ним и девушка. Канья догадывается, что та очень хороша собой — по-своему, по-кукольному; расстегнутая сверху короткая блузка приоткрывает ложбинку под шеей, светлая юбка соблазнительно облегает бедра. Настоящая красавица, если забыть о ее извращенной природе.
— Вам известно, зачем я здесь?
Японец отвечает быстрым кивком.
— До нас дошли слухи о прискорбном происшествии, а также газеты и листовки, в которых часто упоминается моя страна. — Он бросает на Канью пристальный взгляд. — Очень многие настроены против нас и высказывают чрезвычайно несправедливые и ошибочные суждения.
— У нас есть вопросы…
— Спешу заверить: мы друзья королевства и всегда были тайцам союзниками — еще с той давней большой войны.
— Я хотела бы знать…
— Не желаете чаю? — снова прерывает Ясимото.
Канья терпеливо играет роль вежливого гостя.
— Благодарю вас.
Пружинщица, получив указания, встает и выходит. Канья невольно чувствует облегчение: в присутствии этой твари было как-то не по себе. Правда, без переводчика в комнате повисает молчание, и она ощущает, как тают секунды и минуты. Время, время уходит. Небо затягивает грозовыми тучами, а тут — церемонии.
Пружинщица присаживается у низкого столика, точными движениями смешивает и заваривает чай. Канья заставляет себя молча наблюдать за странными жестами этого существа и понемногу понимает, чего добивались японцы, создавая себе слуг. Девушка действует безупречно, как часы, в ее выверенных движениях во время чайной церемонии есть изящество.
Сама же пружинщица старательно не замечает гостью, ничего не говорит о белой министерской форме, понимает, что при иных обстоятельствах уже была бы отправлена в компост, но вида не подает — ведет себя безупречно вежливо.
Ясимото ждет, когда Канья сделает первый глоток, потом отпивает сам и аккуратно ставит чашку на столик.
— Наши страны дружат очень давно — с тех пор как во времена вашего великого ученого Кинга Пумибола император преподнес в дар королевству тиляпию. Мы верны нашим добрым отношениям и, надеюсь, в нынешнем деле также сможем быть вам полезны, но сперва хочу еще раз подчеркнуть, что мы — ваши друзья.
— Расскажите о пружинщиках.
— Что именно вы хотели бы знать? — Он с улыбкой показывает на сидящую рядом девушку: — Одна из них сейчас перед вами.
Канья не показывает охвативших ее противоречивых чувств. Девушка очень красива: прекрасная кожа, удивительно изящные движения, — но от ее вида по спине пробегает холодок.
— Для чего они вам?
— Наше население стареет, молодежи совсем мало, а славные девушки вроде Хироко заполняют этот пробел. Мы не такие, как тайцы. У нас есть калории, но трудиться некому, поэтому стране нужны личные помощники и рабочие.
Скрывая отвращение, Канья говорит:
— Да, вы, японцы, совсем другие. Только вам мы дали исключительное право ввозить этих…
— Убийц, — подсказывает Джайди.
— …созданий. Вроде нее. — Она невольно кивает на переводчицу. — Больше — ни одной стране и ни одной фабрике.
— Мы ценим эту привилегию.
— Однако злоупотребляете ею, раз пользуетесь военными моделями…
Хироко прерывает гостью на полуслове и спешит передать возмущенный ответ своего хозяина.
— Нет! Это исключено! Мы даже близко не подходим к подобным технологиям!
Ясимото багровеет от гнева. Канья думает, не нарушила ли случайно какую-нибудь норму японского этикета, а пружинщица продолжает совершенно спокойным голосом:
— Мы имеем дело только с Новыми японцами вроде Хироко. Она послушна, умна и прекрасно обучена. Это — необходимое орудие в нашей работе, такое же, как мотыга для крестьянина или меч для самурая.
— Любопытно, что вы упоминаете именно меч.
— Хироко — не военная модель. Мы не располагаем подобными технологиями.
Канья достает из кармана и припечатывает к столику фотографию пружинщицы-убийцы.
— Тем не менее одна из ваших — ввезенная вами и зарегистрированная на вашего человека — совершила покушение на Сомдета Чаопрайю и еще восьмерых человек, а потом исчезла, растворилась в воздухе, как рассерженный пхи. А вы, глядя мне в глаза, говорите, что военных пружинщиков тут быть не может! — В конце она переходит на крик, но переводчица продолжает говорить спокойно.
Лицо японца делается неподвижным, Ясимото берет снимок, внимательно разглядывает, потом передает Хироко и говорит:
— Надо проверить наши записи.
Девушка выходит. Канья смотрит на него, но не замечает ни беспокойства, ни тревоги, ни даже намека на страх — одно только раздражение. Жаль, что нельзя поговорить с Ясимото напрямую, — слушая японское эхо своих слов, ей кажется, что их сила исчезает, что Хироко смягчает удар.
Ждут молча. Ясимото предлагает гостье чай, та отказывается, не пьет и он. Напряжение велико. Канья думает: японец вот-вот схватит висящий за ним на стене старинный меч и зарубит ее.
Спустя несколько минут приходит Хироко — поклонившись, возвращает фотографию и что-то говорит хозяину. Лица обоих совершенно бесстрастны. Затем девушка садится на свое место, а Ясимото, кивнув на снимок, спрашивает:
— Вы уверены, что это именно она?
— Абсолютно.
— Тогда это убийство объясняет, почему в городе растет возмущение. Вокруг фабрики собирались люди на лодках. Полиция их разогнала, но они снова приплывают — уже с факелами.
Канья встревожена тем, как быстро ярость охватывает людей, как стремительно развиваются события, но вида не подает. В какой-то момент у Аккарата и Прачи уже не будет возможности отступить, не потеряв лицо, и тогда — пиши пропало.
— Да, люди сейчас очень злы.
— Однако злость их направлена не туда. Это не военная пружинщица.
Канья хочет что-то сказать, но Ясимото бросает на нее такой свирепый взгляд, что она закрывает рот.
— «Мисимото» ничего не известно о военных моделях, — продолжает японец. — Совершенно ничего. Те модели — под строгим контролем и только у министерства обороны. Мне такую никогда бы не дали. — Тут он смотрит Канье прямо в глаза. — Никогда.
— Но…
Ясимото продолжает речь, а Хироко переводит:
— Мне известна та, которую вы описали. Пружинщица исполнила свои обязанности…
Ясимото еще говорит, но переводчица вдруг сбивается, вздрагивает и бросает на хозяина быстрый взгляд. Японец, явно недовольный нарушением этикета, что-то ей сообщает, она кивает, говорит «хай», оба ненадолго умолкают, затем девушка берет себя в руки и по команде завершает начатое:
— Ее не вывозили, а уничтожили, как того требуют правила.
В направленных на гостью спокойных, немигающих темных глазах уже нет и следа промелькнувшего только что удивления.
Канья, глядя на девушку и старика, этих двух чужаков, говорит:
— Очевидно, выжила.
— В то время я не был здесь управляющим и судить могу лишь по имеющимся записям.
— Записи — также очевидно — лгут.
— Вы правы. Этому не может быть оправданий, и мне стыдно за поступки предшественников. Тем не менее лично я о ней ничего не знаю.
Канья подается вперед.
— Не можете рассказать, как выжила, тогда, пожалуйста, объясните мне, как эта девушка, которая способна убить несколько человек за считанные секунды, попала в королевство. Вот вы говорите — не военная модель, но, если откровенно, верится с трудом. А это — очень серьезное нарушение договоренностей между нашими странами.
С неожиданно хитрым выражением лица японец берет чашку, делает глоток, обдумывает вопрос, допивает чай и говорит:
— На это я могу вам ответить.
Внезапно Ясимото кидает чашку прямо в Хироко. Канья вскрикивает. Рука пружинщицы молниеносно взмывает вверх и ловит брошенный предмет. Сама девушка удивлена не меньше Каньи.
Японец поправляет складки кимоно.
— У всех Новых людей превосходная реакция. Поэтому вы неправильно ставите свой вопрос. Как они пользуются своими врожденными физическими способностями — зависит от воспитания, а не от самих этих свойств. Хироко с самого начала учили вести себя подобающе и блюсти приличия. — Ясимото взглядом предлагает обратить внимание на кожу девушки. — Ей специально сделали гладкую, будто фарфоровую кожу с мелкими порами, однако это означает, что она легко перегревается. С военными моделями такого не произойдет — те способны выплескивать большую энергию без вреда для себя, а вот бедняжка Хироко от таких же усилий очень быстро бы умерла. Все пружинщики очень быстры, это заложено в их генах. — Его голос делается серьезнее. — Удивительно только, что одной удалось превозмочь свое воспитание. Плохая новость. Новые люди нам служат, и такого не должно было произойти.
— То есть и Хироко способна на такое? Может убить восьмерых вооруженных человек?
Девушка вздрагивает и смотрит на Ясимото широко раскрытыми глазами. Он кивает и что-то успокаивающе говорит.
— Хай. — Хироко забывает перевести, но потом находит нужные слова. — Да, такое возможно, однако для подобного поступка потребовалась бы невероятно веская причина. Дисциплина, порядок, послушание — вот главные ценности Новых людей. У нас даже есть поговорка: «Новые люди — больше японцы, чем сами японцы». — Ясимото кладет руку девушке на плечо. — Сделать из Хироко убийцу — тут нужны совершенно невероятные обстоятельства, — говорит он и прибавляет убежденно: — Та, кого вы ищете, слишком далеко отклонилась от отведенной роли. Ее следует уничтожить до того, как она натворит еще бед. Тут мы окажем поддержку… Вам поможет Хироко.
Скрыть свое отвращение Канья уже не в силах.
— Капитан Канья улыбается! Глазам своим не верю.
Крепкий ветер гонит ялик через широкое устье Чао-Прайи. На носу сидит пхи Джайди, брызги пролетают сквозь него, хотя Канья всякий раз думает, что теперь-то призрака окатит водой. Капитан действительно улыбается, нарочно не скрывая радости.
— Сегодня я сделала доброе дело.
— Я слышал и тебя, и их. Аккарат с Наронгом были весьма впечатлены.
— То есть вы были и со мной, и с ними одновременно?
— Похоже, я могу попасть куда захочу.
— Только не в следующую жизнь.
— У меня тут еще дела.
— Мне надоедать, — беззлобно огрызается Канья. Мягкий свет заходящего солнца, раскинувшийся впереди город, волны, стучащие в борт быстрой лодки, — и на душе хорошо от того, что разговор прошел благополучно. Еще во время беседы с Наронгом она слышала, как отзывают людей; потом были сообщения по радио о переговорах со сторонниками Двенадцатого декабря, и постепенно начали давать отбой. Если бы не согласие японцев взять на себя вину за пружинщицу-ренегата, все было бы иначе. Но компенсации выплачены, Прача оправдан предоставленными японцами документами, и дела идут на лад.
Канья даже немного горда собой — тяжелая работа на двоих хозяев наконец принесла свои плоды. Она думает, что, возможно, это ее камма — во благо Крунг Тхепа быть мостом над пропастью между генералом Прачой и министром Аккаратом. Разве мог кто-то другой преодолеть стены гордыни, выстроенные вокруг себя этими людьми, а еще больше — их окружением?
Джайди глядит на нее с ухмылкой:
— А представь, чего достигло бы королевство, если бы мы не боролись вечно друг с другом.
— Чего угодно! — в порыве воодушевления отвечает она.
Джайди хохочет.
— Тебе еще пружинщицу ловить!
Канья невольно оглядывается на свою помощницу. Хироко, подобрав ноги, увлеченно рассматривает быстро приближающийся город, проплывающие мимо парусники, ялики и пружинные лодки патрульных. Будто почувствовав что-то, она поднимает голову. Канья смотрит ей прямо в глаза.
— За что вы ненавидите Новых людей?
— Ну-ка, прочти ей лекцию о теории ниш в природе, — подзадоривает Джайди.
Канья отводит взгляд на плавучие фабрики и затонувший Тонбури. На фоне кроваво-красного неба встает пранг Ват Аруна.
— Почему вы ненавидите таких, как я?
— А тебя покрошат в компост, когда Ясимото-сан уедет обратно в Японию?
Хироко опускает глаза. Канье немного неловко за то, что задела чувства девушки, но она тут же гонит прочь эту мысль. Перед ней всего лишь пружинщица, обезьянка, копирующая человека, результат опасного эксперимента, который не прекратили вовремя. Рваные, дерганые движения выдают в ней существо, сконструированное генетиками. Это умное создание. И, если вынудить, опасное. Канья правит лодкой, смотрит вперед, но искоса поглядывает и на пружинщицу, хорошо осознавая, что в ней, как и в той, другой, скрыта та же дикая сила. Любой пружинщик может быть смертельно опасен.
— Мы не все — как та, кого вы ищете, — говорит Хироко.
Канья вновь оборачивается.
— Но все вы противоестественны. Вас вырастили в пробирках. В природе для таких нет ниши. У вас ни души, ни каммы. Да еще одна пружинщица… — у нее перехватывает дыхание от воспоминания о страшном убийстве, — уничтожила защитника нашей королевы. Для меня вы все одинаковые.
— Тогда отправьте меня обратно в «Мисимото», — холодно предлагает Хироко.
— Нет. Еще пригодишься. По крайней мере ты — хорошее доказательство того, что все пружинщики опасны и что та, другая, — не военная модель. Вот тут от тебя будет польза.
— Мы не опасны, — настаивает девушка.
— Господин Ясимото говорит, ты поможешь найти убийцу. Если так, то сгодишься для дела, а нет — отправлю в компост с навозом, который собирают в городе за день. Твой хозяин уверяет, что от тебя будет польза, хотя я и сомневаюсь.
Хироко опускает голову и смотрит на свою далекую фабрику.
— Думаю, ты ее обидела, — говорит Джайди.
— Чувств у них не больше, чем души. То есть нет совсем. — Канья налегает на румпель, направляя ялик к докам. Дел еще невпроворот.
— Она будет искать себе нового хозяина, — вдруг говорит Хироко.
— То есть? — удивленно оборачивается Канья.
— Сначала она лишилась своего японского владельца, а теперь потеряла и того, на кого работала в баре.
— Точнее сказать, убила.
— Какая разница. Раз хозяина нет, будет искать нового.
— Откуда ты знаешь?
— Это заложено в наших генах, — холодно отвечает пружинщица. — Мы хотим повиноваться и служить кому-то. Нам это необходимо, как вода — рыбе. Ясимото-сан все верно говорит: мы — больше японцы, чем сами японцы. Мы не можем не занимать свое место в иерархии. Она должна найти себе хозяина.
— А если она не такая? Если не будет искать?
— Будет. У нее нет выбора.
— Как и у тебя.
— Да, как и у меня.
Ей показалось, или в этих темных глазах сейчас действительно сверкнули ярость и отчаяние? Проступил признак очеловечивания того, кто человеком быть не может и никогда не станет? Вот так загадка.
Скоро причаливать. Канья переключается на управление, смотрит, есть ли рядом суда, которые станут соперничать с ней за место у причала, и, хмурясь, замечает:
— Странные баржи. Не знаю таких.
— Хорошо разбираетесь в кораблях?
— Поначалу работала в доках — облавы, досмотр грузов… Да и платили неплохо. — Она разглядывает незнакомые суда. — Большегрузные. На таких не только рис можно возить. Никогда не видела…
Ее сердце начинает гулко стучать. Машины, эти огромные мрачные звери, неумолимо идут вперед.
— В чем дело?
— Они на пружинной тяге.
— Ну и что?
Канья разворачивает парус. Ветер с речной дельты подхватывает и уносит суденышко с пути надвигающейся баржи.
— Военные. Это все военные корабли.
38
С мешком на голове дышать почти невозможно. Совершенно темно, от жары и страха пот заливает лицо. Зачем им замотали головы и вывели из квартиры — неизвестно. К тому моменту Карлайл уже пришел в себя, но едва попробовал возмутиться жестоким обращением, один из «пантер» в кровь разбил ему ухо прикладом винтовки, и пленники молча дали надеть на себя мешки. Через час их пинками подняли с пола, отвели вниз к тарахтящей, дымной, судя по всему, военной машине и затолкали в кузов.
Сломанный палец безвольно обвис; если чуть повернуть связанные за спиной руки — боль невыносимая. Андерсон следит за дыханием и не дает разыграться страхам и фантазиям. От пыльной ткани мешка першит в горле, но стоит кашлянуть, и в ребра будто втыкают острые спицы, поэтому дышит он неглубоко.
Интересно, их хотят казнить для острастки другим?
Голоса Аккарата давно не слышно. Не слышно вообще ничего. Он хочет шепнуть Карлайлу, узнать, рядом ли тот, но получать удар от охранника, если, конечно, в этом помещении за ними тоже присматривают, совсем не интересно.
Андерсон потерял след Карлайла еще когда их вынули из кузова и затащили в какое-то здание. Потом был лифт — вроде бы спускались, как будто в бункер, но для бункера в комнате, куда его впихнули, слишком жарко — пекло невероятное. Мешковина страшно колючая. Помимо прочего ужасно хочется почесать нос в том месте, где его щекочет намокшая от пота ткань. Андерсон мотает головой, пытаясь отлепить материал от лица. Сейчас бы глоток свежего воздуха…
Щелчок в замке. Шаги. Он замирает. Прямо над головой неразборчиво разговаривают. Внезапно его хватают и ставят на ноги — цепляют прямо за ребра, и Андерсон охает от боли. Куда-то ведут — то повороты, то остановки. Руки чувствуют сквозняк, прохладное движение чуть более свежего воздуха; видимо, вентиляция — нос улавливает легкий запах моря. Кругом ходят люди, говорят по-тайски. Похоже, это коридор — голоса ближе, совсем рядом и снова далеко. Он спотыкается, его тычком поднимают и ведут дальше.
Наконец остановка. Тут воздух свежее — работает вытяжка. Постукивают педали-подножки, тонко поскрипывают маховики — все напоминает какой-то вычислительный центр. Андерсона ставят прямо. Он думает, здесь ли его казнят и дадут ли в последний раз увидеть солнце.
Пружинщица. Чертова пружинщица. Как спрыгнула с балкона и нырнула в темноту!.. Это не было похоже на самоубийство. Чем дальше, тем яснее, что лицо девушки в тот момент выражало абсолютную уверенность. Неужели действительно убила защитника королевы? Но если Эмико — убийца, то почему кого-то боялась? Непонятно. Да и какая теперь разница, раз все кончено. Боже, как же щекотно носу.
Он чихает, кашляет от попавшей в горло пыли и складывается пополам — ребра пронзает боль.
С головы срывают мешок.
Андерсон моргает от резкого света, с наслаждением вдыхает свежий воздух и медленно распрямляется.
Большая комната, полная мужчин и женщин в военной форме, компьютеры с ножным приводом, цилиндры с пружинами, даже диодный экран с видами города во всю стену — словно снова попал в вычислительный центр «Агрогена».
А еще — окна. Он ошибся — лифт вез не вниз, а вверх, высоко вверх. Сориентировавшись, Андерсон понимает, что это место должно быть в одной из башен времен Экспансии — из окон открывается вид на город, залитый тускло-алой глазурью заходящего солнца.
Карлайл тоже здесь, ошеломленно смотрит по сторонам.
— Бог мой, как же от вас воняет, — хитро усмехаясь, замечает Аккарат. Говорят, у тайцев есть тринадцать видов улыбки; Андерсон пробует понять, какую именно видит сейчас. — Вас надо вымыть.
Андерсон уже открывает рот, но тут накатывает кашель. Он дышит через зубы, пытаясь утихомирить легкие, однако ничего не выходит, только наручники все сильнее впиваются в запястья, а ребра разрывает от боли. Карлайл молчит. У него на лбу кровь — следы то ли драки с охранниками, то ли пыток.
— Дайте ему воды, — командует министр.
Андерсона прислоняют к стене, тычками заставляют сесть, не задев на этот раз сломанный палец. Охранник подносит к губам пленника чашку, тот глотает прохладную воду, не к месту испытывая признательность, пересиливает кашель и, взглянув на министра, говорит:
— Спасибо.
— Да, хорошо. Итак, у нас проблема. Твоя история подтвердилась, а вот пружинщица — она, похоже, беглянка, которая вышла из-под контроля. — Аккарат садится рядом. — Удача отвернулась от нас ото всех. Военные говорят, каким бы хорошим ни был план боя, на деле битва идет по-задуманному лишь первые пять минут, потом все зависит от того, благосклонны ли к генералу судьба и духи. И вот — неудача. Все мы должны подлаживаться под обстоятельства — и я, конечно, — поскольку неприятных обстоятельств возникло немало. — Он кивает на Карлайла. — Вы, естественно, возмущены таким отношением к себе. Я бы мог принести извинения, но вряд ли одних слов будет достаточно.
Андерсон, стараясь не выдавать волнения и глядя Аккарату прямо в глаза, говорит:
— Сделаете с нами что-нибудь — поплатитесь.
— Конечно, «Агроген» нас накажет. Серьезная угроза. С другой стороны, они вечно нами недовольны.
— Развяжите меня, и всё забудем.
— Развязать, то есть довериться? Боюсь, это было бы неразумно.
— Устраивать революции — жесткий бизнес, я понимаю. Поэтому зла держать не стану, — как можно убедительнее говорит Андерсон. — Все хорошо, что хорошо кончается. Мы хотим того же, чего и раньше. Всегда можно начать с начала.
Аккарат задумчиво склоняет голову набок. «Возьмет да ткнет сейчас ножом», — думает Андерсон, но на лице министра вдруг возникает улыбка.
— А вы — крепкий орешек.
— Просто деловой человек — у нас по-прежнему общие интересы. Пользы моя смерть никому не принесет, а это маленькое недоразумение можно забыть.
Немного подумав, министр велит охраннику принести нож. Пленник замирает, но лезвие скользит между запястий.
Андерсон пробует пошевелить свободными теперь руками. В одеревеневшие, гудящие кисти устремляется кровь, потом их словно начинают пронзать иглами.
— Ай!..
— Кровообращение скоро будет в норме. Радуйтесь, что мы обошлись с вами мягко. — Аккарат замечает, как тот прижимает к груди сломанный палец, сочувственно, будто извиняясь, улыбается, велит привести врача, а сам переходит к Карлайлу.
— Где мы? — спрашивает Андерсон.
— В запасном командном центре. Когда стало ясно, что в деле замешаны белые кители, я для безопасности перевел штаб сюда. — Министр показывает на большие цилиндры с пружинами. — Их из подвала накручивают мегадонты. Никто не должен знать об этом пункте.
— Понятия не имел, что у вас есть нечто подобное.
— Мы же партнеры, а не любовники. Я своих секретов всем подряд не рассказываю.
— Пружинщицу поймали?
— Это дело времени. Ее портреты на каждом углу, город не даст ей долго гулять на свободе. Одно дело — подкупить пару кителей, а поднять руку на королевскую власть — совсем иная история.
Андерсон вспоминает, как Эмико, сжавшись в комок, дрожала от страха.
— Все равно не могу поверить, что пружинщица на такое способна.
— У нас есть свидетельства очевидцев и японцев, которые ее создали. Пружинщица — убийца. Найдем, казним по старинке — и дело сделано. А японцы за свою преступную небрежность еще заплатят нам феноменальные компенсации. — Вдруг улыбнувшись, Аккарат прибавляет: — В этом мы с кителями совершенно единодушны.
Кто-то из военных отзывает министра в сторону.
Карлайла освобождают от наручников, он вытаскивает изо рта кляп и говорит:
— Значит, снова дружим?
Андерсон, разглядывая суетящихся вокруг людей, пожимает плечами:
— Насколько вообще можно дружить во время революции.
— Жив?
— Ребра сломаны, — говорит он, ощупывая грудь, потом кивает на кисть, к которой врач прилаживает шину: — Чертов палец. Челюсть вроде цела. Сам-то как?
— Получше тебя. Похоже, плечо вывихнули. Все-таки не я им подсунул бешеную пружинщицу.
Андерсон, морщась, кашляет.
— Да, тут тебе повезло.
Один из военных с треском заводит пружину радиотелефона. Аккарат поднимает трубку и произносит по-тайски:
— Слушаю.
Андерсон мало что понимает, а вот глаза Карлайла постепенно делаются все шире.
— Про радиостанции говорят.
— Что? — Андерсон, кряхтя, встает и отталкивает доктора, который все еще заматывает руку. Тут же перед ним вырастают охранники, теснят от министра, отпихивают к стене. Он вытягивает шею и окликает: — Уже начинаете? Что — прямо сейчас?
Аккарат поднимает глаза, спокойно заканчивает разговор, протягивает трубку связисту, тот присаживается на пол у аппарата и ждет следующего звонка. Маховик замедляет ход.
— Покушение на Сомдета Чаопрайю вызвало большое недовольство белыми кителями. Возле министерства — демонстрации, пришел даже профсоюз мегадонтов. Люди рассержены их карательными мерами. Думаю, пора брать дело в свои руки.
— Но ведь еще не все деньги розданы кому надо, не подошли ваши соединения с северо-востока, мои ударные команды прибудут не раньше чем через неделю.
Аккарат, улыбнувшись, пожимает плечами.
— Когда идет революция — порядка не жди, подворачивается возможность — пользуйся. Тем не менее вы, думаю, будете приятно удивлены. — Он отходит к телефону, начинает отдавать приказы; набирая обороты, жужжит маховик.
Андерсон разглядывает спину человека, который при Сомдете Чаопрайе был лишь услужливой тенью, а теперь, став главным, уверенно раздает указания. Снова звонит телефон.
— Безумие какое-то, — бормочет Карлайл. — Мы-то как — все еще участвуем?
— Трудно сказать.
Аккарат оборачивается, хочет что-то сказать бывшим пленникам, но замолкает, склонив голову. Потом благоговейно произносит:
— Прислушайтесь.
По городу прокатывается гром. Вдали за окнами командного центра что-то коротко вспыхивает — будто молния.
На лице Аккарата играет улыбка.
— Началось.
39
Запыхавшаяся Канья вбегает к себе в кабинет, видит ждущего ее Паи и спрашивает:
— Где отряд?
— Недавно было построение у общежития холостяков. Мы вернулись, когда узнали, что тут…
— Они еще там?
— Кто-то — наверное. Говорят, Аккарат и Прача все-таки устроят переговоры.
— Не устроят! Созывай всех. — Она лихорадочно собирает по кабинету обоймы к пружинному пистолету. — Выводи на построение с оружием. У нас мало времени.
Паи удивленно глядит на Хироко.
— Это пружинщица?
— Насчет нее не беспокойся. Знаешь, где сейчас Прача?
— Говорят, осмотрел периметр и вроде хотел выйти к профсоюзу мегадонтов…
— Выводи отряд на построение, ждать больше нельзя.
— Вы с ума…
От взрыва дрожит земля. Снаружи слышен треск падающих деревьев. Паи ошеломленно вскакивает и подбегает к окну. Воет пневмосирена.
— Торговля. Они уже здесь, — говорит Канья и хватает пистолет. Хироко стоит неподвижно, по-собачьи склонив голову набок, вслушивается, потом, словно что-то почувствовав, поднимает глаза — целая серия взрывов сотрясает все здание, с потолка падают куски штукатурки.
Канья выбегает в коридор, куда из соседних кабинетов выскакивают те немногие кители, что работают в вечернюю смену, еще ждут назначения в патруль или в оцепление в доки и на якорные площадки, и спешит наружу в сопровождении Хироко и Паи.
Воздух пропитан тягучим жасминовым ароматом, дымом и еще одним острым запахом, которого Канья не ощущала с тех самых пор, как над Меконгом по старинному Мосту тайско-лаосской дружбы на бой с повстанцами во Вьетнам проехали отряды военных.
Пробив внешнюю стену, в комплекс въезжает танк.
Железное чудовище на гусеницах — в два с лишним человеческих роста, защитного окраса, чадящее горячим дымом, — палит из главного орудия. Из ствола вылетает огонь, танк чуть отбрасывает назад. Башня со скрежетом поворачивается, выискивая новую цель. Канью обдает градом кирпичей и мрамора, она бежит в укрытие.
За танком в пролом входят боевые мегадонты: тускло блестят бивни, на спинах сидят люди в черном. Немногочисленные белые кители, вышедшие на защиту территории, проступают в сумерках бледными призрачными пятнами — легкие мишени. С мегадонтов доносится визг мощных пружин, лезвия вспарывают воздух и наполняют его бетонным крошевом. Канье разрезает щеку, а через секунду она уже лежит под Хироко и слышит, как острые диски с хрустом бьют в стену прямо у нее за спиной.
Снова взрыв. В голове шум, в ушах словно вата. Канья осознает, что подвывает и дрожит от страха.
Танк въезжает в центр внутреннего двора, делает разворот. В пролом шагают все новые мегадонты, их ноги скрыты потоком вбегающих ударных отрядов. Издали не разобрать, кто из генералов предал Прачу. Из окон верхних этажей отстреливаются из ручного оружия, слышны крики — защитники министерства умирают один за другим. Канья достает пистолет, выбирает цель — рядом падает сраженный диском человек из отдела документов — и, осторожно держа рукоять, стреляет. Попала или нет — непонятно; стреляет снова и видит, что ее мишень сбита с ног. Волна солдат наступает, словно небольшое цунами.
— А как же твои парни? — возникает возле нее Джайди. — Вот так просто дашь себя убить и забудешь о тех, кто на тебя рассчитывает?
Канья снова стреляет; ей почти ничего не видно — слезы застилают глаза. По внутреннему двору, прикрываемые огнем, перебегают отряды нападающих.
— Пожалуйста, капитан Канья, — просит Хироко. — Надо уходить.
— Беги! — подгоняет Джайди. — Драться поздно.
Кругом свистят диски. Канья снимает палец с курка, перекатывается, потом, пригнувшись к земле, ныряет в дверной проем — внутри немногим безопаснее, чем снаружи, — и бежит к выходу на противоположном краю здания, не зная, успеет ли до того, как рухнут стены. Рвутся снаряды, все строение дрожит.
Вслед за Хироко и Паи она перепрыгивает через окровавленные тела. В памяти всплывают страшные сцены из детства: сквозь деревни по последним мощеным дорогам страны, а потом и прямо по рисовым полям с грохотом и оглушительным ревом узкими колоннами катят работающие на угле танки, вспахивают гусеницами землю, мчат к Меконгу, чтобы встать на пути внезапного вьетнамского вторжения, и оставляют за собой клубы черного смога. И вот эти железные чудовища здесь.
Канья выбегает наружу и оказывается посреди огненной бури: горят деревья, кругом дым, как от напалма. Проломив дальние ворота, въезжает еще один танк — стремительно, быстрее любого мегадонта. Капитан не успевает следить за их перемещениями — эти машины словно тигры, скользящие по джунглям. Кители стреляют из пистолетов, но лезвия не могут повредить броню — на настоящей войне они бессильны. Трещат оружейные пружины, вспыхивают огни выстрелов, кругом свистят и рикошетят серебристые диски. Защитники министерства бегут в укрытие, однако деться им некуда. На белых кителях расцветают алые пятна, людей разрывает на части взрывами. Подъезжают все новые и новые танки.
— Кто они? — вопит Паи.
Канья только и может, что бессильно пожать плечами. Целое море вооруженных людей обтекает пылающие деревья и заливает министерство природы. Поток все новых солдат не иссякает.
— Должно быть, войска с северо-востока. Это все Аккарат. Прачу предали.
Она жестом показывает на небольшой подъем, силуэты уцелевших деревьев — туда, где, возможно, еще стоит храм Пхра Себа и где можно укрыться. Паи смотрит непонимающе, потом соображает, и они мчат в темноту. Перед ними в дыму и пламени падают пальмы, свистит шрапнель, летят зеленые бомбы кокосов. Воздух наполнен воплями мужчин и женщин, которых разрывает на части умелая машина войны.
— Куда теперь? — кричит Паи.
Канья не знает. Укрываясь от града острых щепок, она ныряет за горящий ствол поваленной пальмы.
Рядом с довольным видом падает Джайди — он даже не вспотел, — выглядывает наружу, потом смотрит на Канью.
— Ну, капитан, и на чьей стороне теперь будешь сражаться?
40
Встретить танк они никак не ожидали — только что ехали в двух рикшах по почти безлюдной улице, и вдруг впереди, ревя мотором и вереща репродуктором — видимо, о чем-то предупреждая, — на перекресток вылетает эта махина и поворачивает ствол прямо на них.
— В укрытие! — кричит Хок Сен, и все в панике соскакивают с сидений. Гулкий выстрел — старик падает, тут же рушится фасад здания и засыпает его обломками и серой пылью. Он кашляет, хочет встать, отползти в сторону, но тут же падает снова — рядом щелкает ружейная пружина. Ничего не видно. Из соседнего дома ведут ответный огонь из ручного оружия. Танк поворачивает башню и палит снова. Дым постепенно оседает.
Чань-хохотун — лицо и волосы в серой пыли — машет старику из переулка, что-то говорит, беззвучно шевеля губами. Хок Сен пихает Пак Ина, и они вместе бегут в укрытие. Из люка на танке высовывается человек в бронекостюме и стреляет из ружья. Пак Ин падает — на груди вырастает красное пятно. Питер Куок ныряет в проход между домами, старик, краем глаза заметив его исчезающим вдали, падает на землю и закапывает себя в обломки. От очередного своего выстрела танк подпрыгивает, издалека в ответ снова трещат пружины пистолетов, человек в броне обмякает на люке, ружье соскальзывает на землю. Махина газует, с лязгом делает разворот, выбрасывает из-под гусениц камни с листовками, мчит прямо на Хок Сена — тот успевает отскочить в сторону — и пролетает мимо, обдав новой порцией мусора.
Чань-хохотун изумленно провожает его взглядом, что-то говорит старику, который из-за гула в ушах ничего не слышит, и снова зовет подойти. Хок Сен встает, ковыляет в переулок, Чань складывает ладони рупором и кричит, хотя кажется, что шепчет:
— Быстрый какой! Быстрее мегадонта!
Старик кивает. Его трясет от внезапного появления этой машины, стремительной, как ничто из виденного им раньше. Технология времен Экспансии. И водитель, похоже, сумасшедший. Глядя на останки здания, Хок Сен говорит:
— Ума не приложу, что он тут делал. Здесь же нечего охранять.
Чань-хохотун внезапно начинает хохотать.
— Заблудился! — слышит старик сквозь гул в ушах и тоже смеется — облегченно, почти истерично.
Они сидят посреди переулка, хихикают и переводят дыхание. Хок Сен постепенно начинает слышать.
— Это вам не зеленые повязки, — говорит Чань-хохотун, изучая разрушенную улицу. — Там хотя бы было кому в глаза посмотреть, было с кем драться. А эти слишком уж быстрые. Ненормальные, фен-ле — все до одного.
— Да, пожалуй. Только какая разница, кто тебя убьет? Ни тех, ни других не хотел бы встретить.
— Надо бы нам поосторожнее. — Чань-хохотун показывает на тело Пак Ина: — А с ним что будем делать?
— Ты же не предлагаешь нести его обратно в башни?
Чань огорченно мотает головой.
Снова взрыв — всего в паре кварталов.
— Танк?.. — поднимает голову Хок Сен.
— Давай не будем выяснять.
Они идут дальше, держась поближе к дверям. То тут, то там из домов выходят люди — посмотреть, что происходит и где взрывы. Старик вспоминает, как сам всего несколько лет назад стоял посреди почти такой же улицы: в воздухе пахло морем и подступающим муссоном. В тот день зеленые повязки начали зачистку. А люди стояли точно так же: по-голубиному склонив головы, прислушиваясь к звукам бойни, постепенно понимая, что они тоже в опасности.
Впереди — этот треск ни с чем не спутаешь — стреляют из пружинных пистолетов. Хок Сен машет Чаню, и они сворачивают в переулок. Не те уже годы для таких глупостей — сейчас бы на диван, курить опиум и чтобы красавица пятая жена массировала лодыжки.
А тайцы все стоят — не прячутся, смотрят в сторону взрывов, еще не понимают, как себя вести. Пока не понимают. Нет у них нужных рефлексов, не знают, что такое настоящая бойня.
Старик сворачивает к пустующему зданию. Чань-хохотун спрашивает:
— Ты куда?
— Надо посмотреть, что происходит.
Он шагает вверх по лестницам. Один пролет, второй, третий, четвертый — дыхание сбивается, — пятый, шестой, потом коридор — выбитые двери, страшная духота, вонь экскрементов. Вдалеке снова слышен взрыв.
Огненные дуги вспарывают темнеющее небо, вслед за каждой слышен далекий гром. На улицах, словно новогодние фейерверки, трещат выстрелы пружинных пистолетов. Над городом встает десяток дымных столбов — изгибы тел черных нагов застилают закатное солнце над якорными площадками, дамбами, промышленной зоной… над министерством природы.
Чань-хохотун хватает Хок Сена за плечо и показывает пальцем вперед.
У старика перехватывает дыхание: горят трущобы Яоварата, на месте лачуг из везеролла — сплошная стена огня.
— Уде тьянь, — бормочет Чань. — Там нам больше делать нечего.
Старик смотрит на охваченное пламенем место, которое было ему домом, и с ужасом понимает, что все его деньги и драгоценности в эту минуту превращаются в прах. Судьба переменчива. Устало усмехнувшись, он замечает:
— А ты говорил, мне не везет. Если бы мы остались там, превратились бы в жареное мясо.
Чань-хохотун чуть насмешливо делает ваи.
— За господином «Трех удач» я последую хоть в ад. Только что мы теперь будем делать?
— Сначала пойдем по улице Рамы XII…
Старик не успевает заметить, как прилетает ракета. Она слишком быстра для человеческого взгляда. Пружинщик военной модели, может, и среагировал бы, но Хок Сена с Чанем-хохотуном отбрасывает взрывной волной. На противоположной стороне улицы рушится здание.
Чань оттаскивает старика на лестницу.
— Брось, дорогу как-нибудь найдем. Не хочу рисковать жизнью из-за твоего желания осмотреться.
Они предельно осторожно шагают в сторону промзоны. Темнеет, людей на улицах все меньше — тайцы поняли, что выходить на открытые места опасно.
— Что там? — шепчет Чань-хохотун.
Прищурившись, Хок Сен замечает трех человек, которые сидят на корточках у радиоприемника. Один водит над головой антенной — ловит сигнал. Старик замедляет шаг, потом зовет за собой Чаня, подходит и, чуть запыхавшись, спрашивает:
— Что слышно?
— Видели, как ракета рванула? — спрашивает один из незнакомцев, поднимает голову и прибавляет: — А, желтобилетники…
Тут его приятели замечают за спиной у Чаня мачете, притихают и нервно улыбаются.
Хок Сен торопливо делает ваи.
— Мы просто хотим узнать, что нового.
Один из тайцев сплевывает бетель, подозрительно оглядывает старика, но все-таки говорит:
— Аккарат выступает. — Он приглашает гостей послушать. Второй поднимает антенну. В динамике трещат статические разряды.
— …не выходить на улицу. Оставайтесь в помещении. Генерал Прача и его белые кители попытались свергнуть ее величество королеву. Наша обязанность — защитить госу…
Голос министра глохнет в помехах. Один из тайцев снова крутит настройку, второй, качая головой, говорит:
— Вранье это все.
— Нет, Сомдет Чаопрайя… — начинает первый, но приятель прерывает его:
— Ради своей выгоды Аккарат убил бы самого Раму.
Третий опускает антенну, и передача окончательно глохнет в шипении помех.
— Ко мне в магазин на днях приходил белый китель, хотел забрать себе мою дочь, говорил — добровольное пожертвование. Шакалы они все. Одно дело — небольшая взятка, но эти хийя…
Земля вздрагивает от нового взрыва. Тайцы и желтобилетники вместе поворачивают головы на звук.
«Мы как маленькие обезьянки, которые не понимают, что происходит в огромных джунглях».
От этой мысли Хок Сену не по себе. У них есть лишь кусочки головоломки, но общая картина не складывается. Сколько ни собирай информацию, целиком всего никогда не поймешь. Можно реагировать лишь на отдельные события и рассчитывать, что тебе повезет.
Старик тянет Чаня за руку:
— Пойдем.
Тайцы торопливо разбирают приемник и спешат в свой магазин. Через минуту на углу улицы уже пусто, словно только что не было там разговора о политике.
Чем ближе к промзоне, тем громче выстрелы. Министерские и военные ведут бои повсюду, но на каждый отряд в форме есть еще один гражданский — либо добровольцы, либо студенты, либо сторонники прошлого переворота — те, кого вывели на улицы политические группировки. Старик на минуту останавливается передохнуть у очередной двери. Между домами скачет эхо взрывов и выстрелов.
— Непонятно, кто тут за кого, — говорит Чань-хохотун, глядя на группу студентов с короткими мачете и желтыми повязками на плечах — они бегут к танку, который палит по старой башне. — На всех есть что-нибудь желтое.
— Каждый показывает, что верен королеве.
— Жива ли она вообще?
Хок Сен только пожимает плечами.
Студенты стреляют, диски-лезвия отскакивают от брони. Все-таки огромная махина. Старик не может не оценить, как ловко армия загнала столько танков в столицу — видимо, не обошлось без помощи адмиралов и их флота. А это значит, что у генерала Прачи больше не осталось союзников.
— Все они ненормальные, — бормочет он, оглядывая улицу. — Какая разница, кто за кого. Рикшу бы найти, а то моя нога… — Колено ноет, не дает иди быстро — старая рана дает себя знать.
— На рикше подстрелить тебя будет проще, чем старуху с клюкой.
— Стар я для всего этого. — Хок Сен потирает больной сустав.
Снова взрыв — их обдает градом мелких камней. Чань смахивает с головы мусор и говорит:
— Надеюсь, наш поход стоит таких жертв.
— Если бы не он, ты бы сейчас поджаривался в трущобах.
— Тоже верно. Но все-таки надо поспешить. Не хочу долго испытывать судьбу.
Дальше — то же: темные перекрестки, стычки, слухи о казнях в парламенте, о пожаре в министерстве торговли, о мобилизации студентов университета Таммасат по поручению королевы. А потом — радиообращение. «На новой частоте», — говорят в толпе у дребезжащего динамика. Голос дикторши дрожит. Возможно, говорит под дулом пистолета, думает Хок Сен. Это кун Супавади — известная ведущая, которая всегда представляла интересные постановки. А теперь она испуганно просит своих сограждан сохранять спокойствие, пока танки разъезжают по улицам и берут под контроль весь город — от якорных площадок до доков. Из хрипящего динамика доносятся звуки взрывов, а спустя несколько секунд им вторит гулкое эхо на улице.
— Она ближе к месту сражения, чем мы, — замечает Чань-хохотун.
— Это хорошо или плохо? — не понимает Хок Сен.
Чань уже хочет ответить, но его прерывает яростный рев мегадонта и вой ружейных пружин. Все оборачивают головы на звук.
— А вот это точно плохо.
— В укрытие, — командует старик.
— Поздно.
Из-за угла выплескивается волна вопящих людей, которую гонят три зверя в карбоновой броне. Огромные склоненные к земле головы бьют наотмашь из стороны в сторону, бивни, утыканные длинными клинками, разрубают тела, как апельсины, и подбрасывают в воздух, как сухие листья. С площадок на спинах мегадонтов пулеметы открывают стрельбу — струи острых серебристых дисков бьют в самую гущу. Хок Сен с Чанем сидят, вжавшись в дверной проем. В толпе бегут несколько белых кителей и палят из пистолетов и винтовок, но их оружие бессильно против бронированных животных — к таким боям министерство природы никогда не готовилось. Строчат пулеметы, диски летят рикошетом во все стороны, растут горы окровавленных, извивающихся тел, кругом предсмертные крики раздавленных, темная улица тонет в дыму и запахе мускуса. На Хок Сена падает отброшенный ударом бивня человек. Из горла мертвеца хлещет кровь.
Старик вылезает из-под трупа. Ряд людей встает позади мегадонтов и дает залп из пистолетов. Хок Сен предполагает, что это студенты, и скорее всего из Таммасата, но на чьей они стороне — непонятно, и к тому же вряд ли сами представляют, с кем имеют дело.
Звери разворачиваются и поднимают головы. Стрелки, уворачиваясь от удара, вжимают Хок Сена в стену так, что тот не может даже вздохнуть. Старик хочет закричать, освободить себе немного места, но давят слишком сильно; он вопит и падает под напором перепуганной толпы. Мегадонт бьет, немного отходит назад, бьет снова, вонзая смертоносные бивни в самую гущу людей. Студенты швыряют в зверей бутылки с маслом, а вслед за ними — ярко пылающие факелы.
Толпу накрывает новый ливень дисков-лезвий. Серебристые струи из пулеметных стволов вот-вот дойдут до Хок Сена. Он пригибается. Прямо на него смотрит мальчишка — желтая повязка сползла со лба на залитое кровью лицо. Страшная боль в ноге — то ли подстрелили, то ли сломали колено. Старик кричит от страха и отчаяния и падает под весом тел; сейчас умрет, раздавленный трупами. Несмотря ни на что, он так и не смог постичь непредсказуемую суть войны, хотя самонадеянно полагал, что будет готов ко всему. Глупец.
Внезапно наступает тишина. В ушах стоит звон, но пальбы и рева мегадонтов больше не слышно, кругом только стоны и плач. Зажатый телами Хок Сен делает судорожный вдох.
— Чань?..
Ответа нет.
Старик кое-как вылезает из-под трупов. Таких, как он, много — люди встают и идут помогать раненым. С ног до головы в крови, Хок Сен едва может стоять — боль разрывает ногу, — пробует отыскать Чаня-хохотуна, но понимает, что это бесполезно — слишком темно, слишком большие эти груды тел и все лица одинаково красны.
Он снова зовет приятеля, вглядываясь в кучи трупов. Невдалеке ярко горит метановый фонарь — струя газа с силой бьет из сломанной трубки; в любой момент он может взорваться, а за ним и другие по всему городу, но у старика нет сил думать еще и об этом.
Хок Сен смотрит на тела. По большей части студенты. Глупые юнцы — хотели победить мегадонтов. Дураки. Он вспоминает собственных детей — убитых и так же сваленных в общую кучу. Перед ним — все та же кровавая малайская постановка, разыгранная на тайской земле. Старик берет из рук убитого кителя пружинный пистолет, проверяет обойму — немного дисков еще есть, уже неплохо, — заводит пружину и сует оружие в карман. Дети, играющие в войну. Дети, не заслужившие смерти, но по собственной глупости не сумевшие сохранить себе жизнь.
Вдали по-прежнему идет бой — захватывает новые кварталы и оставляет новые жертвы. Старик хромает по заваленной телами улице, доходит до перекрестка и, уже не заботясь о том, что не стоит вылезать на открытые места, переходит дорогу. У стены, привалившись, сидит человек с окровавленными ногами. Рядом лежит велосипед.
Хок Сен поднимает машину.
— Это мое, — говорит раненый.
Старик глядит на него молча — глаза едва открыть может, а все еще цепляется за привычный порядок вещей, за идею, что чем-то можно обладать.
Хок Сен спускает велосипед на дорогу.
— Это мое, — снова говорит человек, но даже не пробует помешать.
Старик перекидывает ногу через раму, встает на педали. Если раненый и говорит что-то еще, то его уже не слышно.
41
— Я рассчитывал, что мы начнем не раньше чем через пару недель, — возмущается Андерсон. — Еще почти ничего не готово.
— Планы необходимо менять, — отвечает Аккарат. — Ваши деньги и оружие по-прежнему будут полезны. В любом случае появление в городе ударных отрядов фарангов вряд ли смягчило бы шок от перемен. Возможно, ускоренный график даже лучше.
Над городом рокочет эхо взрывов. Ярко-зеленое метановое пламя желтеет, перекидываясь на сухой бамбук и другое горючее. Аккарат задумчиво смотрит на огонь, машет рядовому-связисту, который тут же начинает заводить пружину телефона, спокойным голосом отдает приказы командам выезжать на пожар и, взглянув на Андерсона, поясняет:
— Выйдет из-под контроля — защищать нам будет нечего.
Тот тоже смотрит, как растет и играет на дворцовом чеди — Храме Изумрудного Будды — зарево.
— Огонь уже рядом со Столпом.
— Кхап. Столп не должен сгореть. Это было бы дурным знаком дня новой власти, которая должна показать себя сильной и дальновидной.
Андерсон выходит на балкон и прислоняется к перилам. В затянутой шиной руке все еще пульсирует боль, но уже не такая сильная. С тех пор как военный доктор вправил кость, прошло несколько часов, к тому же все заглушает морфий.
Ракета огненной дугой разрезает небо и тонет где-то в районе министерства природы. Даже представить трудно, какие силы Аккарат собрал вокруг себя ради прихода к власти, — он даже намеком не выдавал того, какая мощь есть в его распоряжении.
Андерсон как бы между делом замечает:
— Полагаю, этот «ускоренный график» никак не повлияет на наши договоренности.
— В наступающей эпохе «Агроген» будет нашим привилегированным партнером… — Эти слова успокаивают, но уже следующая фраза заставляет насторожиться. — Хотя, конечно, ситуация несколько изменилась. Вам в итоге не удалось предоставить кое-что из обещанного.
Андерсон бросает на министра злой взгляд.
— У нас был свой график. Войска уже в пути, оружие и деньги тоже на подходе.
Слегка улыбнувшись, Аккарат говорит:
— Не волнуйтесь так, уж как-нибудь договоримся.
— Мы по-прежнему хотим получить доступ к банку семян.
— Я понимаю ваши интересы.
— И не забывайте, что насосы, которые вам будут нужны перед сезоном дождей, у Карлайла.
Аккарат мельком смотрит на последнего и говорит:
— Думаю, можно достичь отдельных договоренностей.
— Нет! — Карлайл переводит взгляд с Аккарата на Андерсона, вскидывает руки и отступает. — Сами договаривайтесь, не мое это дело.
— Именно так. — Министр отходит командовать боями.
Андерсон щурит глаз. Есть еще рычаги: плодоносящие семена последней модификации, рис, который выдержит по меньшей мере десять сезонов до того, как его поразит пузырчатая ржа. Он думает, как лучше воздействовать на Аккарата, заставить выполнить уговор, но морфий и скопившаяся за сутки усталость дают о себе знать.
В окна залетает дым соседнего пожара, и пока ветер не меняет направление, все в помещении кашляют. Еще несколько огненных дуг прочерчивают небо, слышен гул далеких взрывов.
— Что это было? — хмурясь, спрашивает Карлайл.
— Наверное, армейское подразделение из Крута, — отвечает Аккарат. — Их командир отказался от нашей дружбы и теперь по приказу Прачи бомбит якорные площадки — белые кители хотят помешать пополнению наших запасов. А еще, если мы, конечно, такое допустим, намерены заняться дамбами.
— Но город же утонет.
— И виноваты будем мы. Во время переворота Двенадцатого декабря плотины чудом удалось защитить. Если Прача поймет, что проигрывает — а сейчас для этого самое время, — то кители попробуют взять в заложники весь город и вытребовать себе условия капитуляции повыгоднее. Жаль, что угольные насосы до сих пор не привезли.
— Как только бои прекратятся, я дам указание в Калькутту и их вышлют, — говорит Карлайл.
— Меньшего я и не ожидал, — сияет Аккарат.
Андерсон старательно скрывает свое недовольство.
Этот добродушный обмен репликами ему совсем не нравится. Карлайл с министром беседуют как старые приятели, будто не было никаких мешков на голове. А еще его настораживает то, как Аккарат разделяет интересы компаньонов.
Он оглядывает город и размышляет: если бы знать, где банк семян, в суматохе стычек можно было бы незаметно послать туда ударный отряд…
На улице кричат. Толпа глядит туда, где царит хаос, и каждый пробует понять, что принесет ему эта война. Андерсон смотрит в ту же сторону и видит, как среди пожаров чернеют силуэты небоскребов времен Экспансии, как в последних уцелевших стеклах празднично играет отраженное пламя; видит, как там, за огнями, за пределами города, лежит темное волнистое покрывало моря. С высоты дамбы выглядят невероятно хрупкими: тонкое кольцо газовых фонарей, а за ним — ничего, кроме готового все поглотить мрака.
— Они и в самом деле могут сломать плотину?
Аккарат пожимает плечами.
— Есть там слабые места. Мы хотели отправить к ним дополнительные силы флота, но, думаю, справимся сами.
— А если не справитесь?
— Тот, кто позволит затопить город, никогда не будет прощен. Допустить этого мы не можем. Будем сражаться за дамбы, как жители Банг Раджана.
Андерсон переводит взгляд с пожаров на море. Подходит Карлайл. На освещенном заревом лице играет довольная улыбка человека, который никогда не проигрывает.
— Аккарат, конечно, имеет власть, — говорит Андерсон, глядя прямо в глаза компаньону, — но только здесь. А «Агроген» — повсюду. Помни об этом. — Ему приятно видеть, как торговец мрачнеет.
Где-то снова стреляют из ружей. Сверху все эти стычки кажутся игрушечными, похожими на битву муравьев за кучу песка, будто кто-то стравил два примитивных племени — посмотреть, кто кого. Рявкают минометы, мерцают и вспыхивают огоньки.
Вдалеке на фоне темного неба возникает черная тень — к зареву слетает дирижабль и плывет прямо над пожарищами. Внезапно пламя под ним гаснет — из брюха судна падает поток морской воды.
— Наши, — с удовольствием замечает Аккарат.
Вдруг, словно огонь не потух, а перескочил с земли на небо, дирижабль взрывается. Ревет огонь, ветер разносит горящие куски оболочки во все стороны, а сама огромная махина валится на здания, рассыпаясь на части.
— О Господи. Вам точно не нужны наши подкрепления? — спрашивает Андерсон.
— Не думал, что они успеют развернуть ракетные установки, — невозмутимо говорит министр.
Мощный взрыв сотрясает город. На горизонте вспыхивает яркое зеленое пламя, в оглушительном реве вырвавшегося на волю сжатого газа вырастает в гигантский огненный гриб.
— По-моему, это был стратегический запас министерства природы, — замечает Аккарат.
— Красота, — бормочет Карлайл. — Осатанеть, какая красота.
42
По Тханон Пхошри с грохотом едут грузовики и танки. Хок Сен пережидает в соседнем переулке и с содроганием представляет, что каждая из этих машин жжет топливо — приличную часть государственных запасов дизеля, и все — ради безумства короткой схватки. Жадно поглощая горючее, танки скрежещут гусеницами, улицу заполняет угольный дым. Старик сидит, забившись в кучу мусора. Случился кризис, и все его планы пошли прахом. Надо было выждать и осторожно увести свой отряд на север, а не бросать сбережения и не рисковать ради призрачного шанса.
«Хватить ныть, старый дурак. Если бы не ушел тогда, сейчас горел бы вместе со своими красными банкнотами и друзьями-желтобилетниками».
Все равно он жалеет, что не догадался прихватить с собой хотя бы часть накопленного добра, гарантии будущего, и думает, действительно ли у него настолько плохая карма, что рассчитывать на успех бесполезно.
Старик выглядывает за угол, видит, что «Спринглайф» уже близко, а у входа нет охраны — хорошая новость, повод для небольшой радости. Белым кителям сейчас хватает других забот. Он ведет велосипед через дорогу, опираясь на него как на палочку.
Внутри здания — следы небольшой стычки: у стены лежат три тела. Похоже, этих людей казнили: сорванные с плеч желтые повязки брошены рядом. Опять глупые дети, которые решили поиграть в политику…
Сзади кто-то стоит.
Хок Сен оборачивается и тычет пружинным пистолетом в своего преследователя. Испуганно пискнув, Маи широко раскрытыми глазами смотрит на дуло, вжатое ей в живот.
— Что ты тут делаешь? — шипит старик.
Маи отступает от оружия.
— Вас искала. Кители нашли нашу деревню, а там — больные. — Она хнычет. — А потом еще ваш дом сгорел.
Тут он замечает, что девочка вся в копоти и царапинах.
— Ты была в Яоварате? В трущобах?!
— Да, но мне повезло. — Маи еле сдерживает рыдания.
Хок Сен качает головой.
— А сюда зачем пришла?
— Куда ж мне еще?..
— Много народа заболело?
Девочка испуганно кивает.
— Кители нас допрашивали. Я не знала, что делать, я им рассказала…
— Не бойся. — Хок Сен, успокаивая, кладет руку ей на плечо. — Они нас больше не побеспокоят, у них теперь своих проблем хватает.
— А у вас… — Маи умолкает, потом говорит: — Деревню сожгли. Все сожгли.
Жалкое создание, маленький беззащитный человечек. Старик представляет, как она бежит из гибнущей в огне деревни в свое последнее убежище и вдруг попадает в самый центр войны. Отчасти он хочет избавить себя от этой обузы, но слишком много смертей приключилось возле него, к тому же компания девочки чем-то ему приятна.
— Глупый ребенок. Идем со мной.
В главном зале страшно воняет. Оба прикрывают рты ладонями, стараясь дышать неглубоко.
— Водорослевые ванны, — говорит Хок Сен. — Вентиляция не работает, у пружин кончился завод.
Он шагает на второй этаж и открывает дверь в контору. Там жарко, душно и после нескольких дней без проветривания пахнет не лучше, чем внизу. Старик распахивает ставни и впускает внутрь ночной бриз вперемешку с дымом пожарищ. За крышами видны языки пламени. В небо, словно молитвы, поднимаются искры.
Подходит Маи. На ее лице играют отсветы — на улице ярко горит сломанный газовый фонарь. Так, наверное, сейчас по всему городу. Удивительно, что газопровод не перекрыт — кто-то ведь должен был это сделать. Однако вот он — пылает изо всех сил, отбрасывая блики на девочку. Хок Сен вдруг замечает, что Маи миленькая — хрупкая и красивая. Невинное существо в клетке с дикими зверями.
Старик отходит от окна, присаживается возле сейфа, начинает рассматривать цифры на наборном диске, массивные замки, рукояти. Шкаф из такого количества стали — недешевая вещь. Одно время — Хок Сен тогда владел компанией, и «Тримаран» царил в Южно-Китайском море и в Индийском океане — у него был похожий, достался в наследство от разорившегося банка, из подвалов которого его с помощью двух мегадонтов привезли прямиком в офис торгового общества «Три удачи». Этот сейф дразнит старика всем своим видом. Надо бы взломать каждый узел, но на это уйдет много времени.
— Идем.
Хок Сен с Маи шагают обратно в цех, но когда девочка видит, что ее ведут в зал очистки, нерешительно замирает на месте. Старик протягивает ей защитную маску:
— Этого будет достаточно.
— Вы уверены?
— Не хочешь — жди здесь.
Однако она следует за стариком — назад, туда, где хранят скрепляющую кислоту. Идут чрезвычайно осторожно. Занавес у входа в зал очистки Хок Сен отодвигает замотанной в тряпку рукой, стараясь ни к чему не прикасаться. Дыхание в маске шумное, хриплое. В цехах беспорядок — белые кители проводили обыск. От гниющих в цистернах водорослей исходит такая вонь, что не спасает даже маска. Старик дышит неглубоко, с трудом сдерживая тошноту и кашель. Под потолком темнеют сетки, полные пересохших водорослей. Некоторые, оборвавшись, свисают вялыми черными щупальцами. Он усилием воли заставляет себя не отпрыгивать от них подальше.
— Что вы ищете?
— Будущее. — Хок Сен подбадривает Маи улыбкой, но тут же соображает, что под маской ничего не видно, потом достает из кладовки перчатки с фартуком, протягивает их девочке и, показывая на мешок с порошком, говорит: — Помоги-ка, — и прибавляет: — Теперь мы работаем сами на себя. Никаких больше заморских хозяев, понимаешь?
Маи хочет открыть упаковку, но старик ее останавливает.
— Смотри, чтобы на кожу не попало. И потом не капни случайно.
Они идут обратно в контору.
— А что это?
— Скоро увидишь.
— Да, но…
— Это — волшебство. А теперь принеси воды из клонга.
Когда она возвращается, Хок Сен осторожно взрезает мешок.
— Давай воду.
Маи пододвигает ведро, окунает туда нож, перемешивает порошок, который начинает шипеть и пениться, а когда вынимает обратно, половины лезвия уже нет, оно просто растаяло.
Девочка, широко раскрыв глаза, смотрит, как с рукояти стекает вязкая жидкость.
— Что это такое?
— Специальная бактерия. Изобретение фарангов.
— Но ведь это не кислота.
— Нет. В некотором смысле живой организм.
Хок Сен водит ножом по дверце сейфа, его орудие быстро тает, и он, недовольно морщась, говорит:
— Надо бы что-нибудь длинное, чем размазывать.
— А вы облейте сейф, а потом посыпьте.
— Вот так да! Какой сообразительный ребенок!
Вскоре железный шкаф блестит от воды, а старик, свернув из бумаги раструб, обдает его тонкой струйкой порошка, который, едва коснувшись металла, начинает шипеть. Хок Сен чуть отходит назад, испугавшись невероятной скорости реакции, и сдерживает порыв отряхнуть руки.
— Не дай попасть на кожу, — бормочет он, глядя на перчатки — если на них есть хотя бы несколько пылинок, и туда попадет вода… Страшно представить.
Маи сразу отошла подальше и теперь стоит у дальней стены, с ужасом глядя на происходящее.
С сейфа облезает металл, отходит толстыми слоями, опадает яркими прошлогодними листьями, падает, потрескивая, скручивается, тает, рассыпается, оставляя на деревянном полу выжженный узор.
— Все проедает и проедает… — ошеломленно говорит девочка.
Старик начинает беспокоиться, не рухнет ли сейф сквозь пол на первый этаж, на конвейер.
— Бактерии живые — скоро у них наступит предел насыщения.
— Вон как фаранги умеют… — с благоговейным страхом говорит Маи.
— Не только они, тайцы тоже. И не думай, что все фаранги такие мастера.
Сейф тает и тает.
Надо было старику раньше проявить смелость и начать действовать еще до того, как в городе разразилась война. Он жалеет, что не может отмотать время назад, встретить прошлого себя — того напуганного параноика, который только и думал, как бы его не выслали из страны, как бы не разозлить заморских демонов, как бы сохранить свое доброе имя, — встретить и шепнуть ему, что нет никакой надежды, что надо брать и бежать, что хуже от этого не станет.
Его размышления прерывает чей-то голос:
— Ну-ну, Тань Хок Сен. Как же я рад нашей встрече. — В дверях стоят Собакотрах, Костлявый, а за ними еще шестеро. У каждого в руке по пружинному пистолету. Закопченные, все в ссадинах, но довольные и самоуверенные. — Выходит, мыслим мы одинаково.
Взрыв освещает контору оранжевым заревом, пол дрожит. Трудно сказать, где именно громыхнуло — стреляют, похоже, куда попало, а если кто-то и руководит атакой, то его замысел не понять. Снова взрыв, теперь ближе — скорее всего белые кители защищают дамбы. Хок Сен сдерживает острое желание сбежать. Продолжает потрескивать разъедаемая бактериями сталь, металл большими чешуйками опадает на пол.
— И я рад, — осторожно начинает старик. — Идемте, помогите мне.
— Пожалуй, не станем помогать, — с ухмылкой отвечает Костлявый.
Оттеснив Хок Сена, на чье присутствие, а также на присутствие Маи им наплевать, бандиты подходят к сейфу.
— Но это мое! — едва устояв на ногах, протестует старик. — Это я вам сказал, где все лежит! Вы не можете их забрать!
Никто не обращает на него внимания.
Он достает пистолет, но тут же чувствует прижатый к голове ствол и видит ухмылку Костлявого.
— Не стоит меня испытывать. Одной смертью больше, одной меньше — на мое перерождение это уже никак не повлияет, — с интересом разглядывая старика, говорит Собакотрах.
Хок Сен едва сдерживает ярость. Часть его очень хочет нажать на курок и стереть с этого лица довольную усмешку.
Металл все еще шипит, пузырится, опадает слоями, постепенно открывая последнюю надежду старика.
Нак ленги совершенно спокойно, с ухмылкой, с любопытством, даже не доставая свое оружие, смотрят на Костлявого и на Хок Сена, направившего на них пистолет.
— Уходи-ка, желтобилетник, подобру-поздорову, пока я не передумал, — советует Собакотрах.
Маи тянет старика за рукав:
— Пойдемте, разве это стоит вашей жизни?
— Она права, — говорит Костлявый. — Тебе нас не одолеть.
Хок Сен опускает пистолет и дает себя увести. Люди Навозного царя, ухмыляясь, смотрят, как эти двое выходят из конторы, шагают вниз по лестнице в цех и дальше за ворота, на заваленную обломками улицу.
Вдали ревет мегадонт. Порыв ветра приносит с собой пепел, политические листовки и запах горящей везеролловской древесины. Хок Сен чувствует себя старым, слишком старым для борьбы с судьбой, которая совершенно очевидно хочет его уничтожить. Мимо пролетает газетный листок, на котором крупным шрифтом что-то написано о пружинщице и убийстве. Удивительно, какой переполох устроила подружка господина Лэйка и как дружно люди ринулись ее искать. Он едва заметно улыбается: этому жалкому созданию сейчас куда хуже, чем ему, желтобилетнику. Стоило бы даже испытывать признательность: если бы не она и не новости об аресте господина Лэйка, старик давно бы умер, сгорел в трущобах вместе со своими бриллиантами, камнями и деньгами.
«Надо радоваться».
Но вместо радости он ощущает тяжесть, чувствует, как его осуждают предки: построенное в Малайе еще отцом и дедом при нем обратилось в прах. Гнет поражения давит невыносимо.
На фабричной стене шелестит листовка: снова пишут про пружинщицу, обвиняют генерала Прачу. Господин Лэйк с ума по ней сходил: трахал не переставая, тащил к себе в постель при первой возможности.
Хок Сен срывает бумажку и задумывается.
— Что случилось? — спрашивает Маи.
«Стар я для всего этого», — думает он, но чувствует, как сердце забилось живее.
— Есть одна идея. Возможно, это шанс.
Пусть надежда безумна, но отказаться от нее нет сил. Даже оставшись ни с чем, он должен рискнуть.
43
От взрыва танкового снаряда ее обдает землей и щепками. Отряд ушел из комплекса — отступил с позиций, как говорит Канья, но на самом деле сломя голову сбежал от танков и мегадонтов.
Они живы лишь потому, что главная задача военных, похоже, — занять территорию министерства, и основные силы сосредоточены там. Несмотря на это, по дороге к южным стенам ее команда наткнулась на три отряда и потеряла половину людей, а прямо у запасного выхода, проломив стену, им навстречу выкатил еще один танк и перекрыл путь к отступлению.
Канья скомандовала отходить в рощу у храма Пхра Себа. Там разруха: бережно возделываемый сад вытоптан боевыми мегадонтами, колоннада сгорела от удара зажигательной бомбы, которая с ревом и свистом, будто яростный демон, пронеслась сквозь лес высохших деревьев. Поэтому теперь они сидят в укрытии на склоне холма среди обугленных пней и пепла.
Неподалеку падает еще один снаряд. В пролом за танком течет поток солдат, которые, разбившись на группы, бегут в глубь министерской территории — похоже, к биолабораториям. Канья думает, не там ли сейчас Ратана и знает ли она вообще о боях тут, наверху. Танк дает еще один залп, и совсем рядом падает дерево.
— Они нас не видят, но знают, что мы тут, — говорит Паи. Словно доказывая его правоту, над их головами, взвизгнув, пролетает очередь дисков. Серебристо поблескивая, лезвия замирают в черных выгоревших стволах. Канья дает сигнал отходить. Кители — формы старательно вымазаны сажей — спешат в глубь дымящейся рощи.
Чуть ниже по склону взрывается снаряд. В воздух летят горящие щепки.
— Слишком близко. — Канья вскакивает и бежит вперед, Паи — следом. Их стремительно обгоняет Хироко, падает за лежащий на земле обугленный ствол и ждет, когда остальные ее догонят.
— Вот как такую одолеешь? — пораженно выдыхает Паи.
Канья только качает головой.
Пружинщица спасала их уже дважды: сначала заметила крадущийся к ним в темноте спецназ, потом успела оттолкнуть Канью за секунду до того, как место, где находилась ее голова, прорезала очередь лезвий. Зрение у девушки острее, чем у людей, а движения молниеносны. Но она уже вся пылает, кожа сухая и горячая на ощупь. Хироко не создана для войны в тропиках, и хотя ее поливают водой и стараются не перегревать, она теряет силы. Когда Канья подходит ближе, пружинщица смотрит на нее воспаленными глазами.
— Мне бы чего-нибудь выпить. Лучше ледяного.
— Нет у нас льда.
— Тогда надо к реке, к любой воде. Я должна вернуться к Ясимото-саме.
— Вдоль всей реки идут бои. — Канья слыхала, что генерал Прача сейчас у плотин, отбивает высадку десанта, ведет сражение со своим старым приятелем адмиралом Нои.
Хироко касается ее раскаленной рукой.
— Я долго не протяну.
Канья смотрит по сторонам, думает, как быть. Кругом сплошь тела, месиво страшнее, чем во время эпидемий: мужчины, женщины — все в клочья, везде оторванные конечности, чью-то ногу забросило на дерево. Трупы лежат кучами и тлеют. Шипит напалм, скрежещут гусеницы, пахнет сжигаемым углем.
— Дайте рацию.
— В последний раз была у Пичаи, — отвечают ей.
Но Пичаи убили, и неизвестно, где рация теперь.
«К такому нас не готовили. Учили останавливать пузырчатую ржу, грипп, но никак не мегадонтов с танками».
Наконец Канья находит приемник в чьей-то мертвой руке, заводит пружину, пробует частоты, которыми пользовались во время эпидемий — эпидемий, а не войн. Везде тишина. Тогда она говорит на открытой волне:
— Это капитан Канья. Есть кто-нибудь?
Долгое молчание. Треск пустого эфира. Канья повторяет снова. Потом еще раз. Ничего. И вдруг:
— Капитан? Это лейтенант Апичат. — Голос ее помощника.
— Прием. Где генерал Прача?
Опять долгая тишина.
— Мы не знаем.
— Разве вы не с ним?
Снова молчание.
— Думаем, погиб. — Апичат кашляет. — Они используют газ.
— Кто теперь командующий?
Выдержав паузу, лейтенант отвечает:
— Полагаю, вы.
Она пораженно замирает, потом говорит:
— Не может быть. А где заместитель?
— Неизвестно.
— Генерал Сом?
— Его нашли у себя дома убитым. Карматху с Пхаилином тоже.
— Это невозможно.
— Так говорят, но их действительно здесь никто не видел, а когда нам об этом рассказали, генерал Прача поверил.
— Еще капитаны есть?
— Пиромпакди был на якорных площадках, но мы видим там только пожар.
— Где вы?
— Возле башни, рядом с Пхрарам-роад.
— Сколько вас?
— Человек тридцать.
Она окидывает свою команду тревожным взглядом: мужчины, женщины — все раненые. Хироко привалилась к разбитой в щепки банановой пальме — глаза закрыты, лицо пылает, как китайский фонарь. Может, уже умерла. Канья на мгновение задумывается, жаль ей это создание или…
Отряд выжидающе смотрит на своего капитана. Она оглядывает их жалкую амуницию, их раны. Почти никого не осталось.
— Что нам делать, капитан? — трещит радио. — Пистолеты против танков бесполезны. Мы никак… — Голос лейтенанта Апичата обрывают помехи.
Со стороны реки доносится мощный взрыв.
С дерева слезает рядовой Саравут.
— Бомбить доки перестали.
— Мы теперь одни, — тихо произносит Паи.
44
Она просыпается от тишины. Эмико провела вечер в тяжелой дреме, постоянно прерываемой эхом гулких взрывов, пронзительным воем мощных пружин и скрежетом жгущих уголь танков. Но все эти звуки далеко, бои идут в других кварталах. После стычек улицы завалены телами, о которых теперь, переключившись на настоящую войну, уже забыли.
Над городом повисло странное затишье. Редкие свечи мерцают в тех окнах, из-за которых следят за происходящим в истерзанном полночном городе. Газовые фонари не горят ни на домах, ни вдоль улиц — кругом сплошная тьма. То ли весь метан вышел, то ли кто-то наконец перекрыл трубы.
Эмико встает из кучи мусора, морщась от запаха банановой кожуры и дынных корок. В отсветах огненной зарницы видны лишь несколько столбов дыма — и больше ничего. Улицы пусты. Лучше времени не придумаешь.
Она смотрит на башню. Там, на шестом этаже — квартира Андерсона-самы. Вот куда бы ей попасть. Поначалу рассчитывала просто пробежать через центральный вход и подняться по лестнице, но двери заперты, рядом ходит охрана, а сама она теперь слишком хорошо известна, и потому прямого пути ей нет. Зато есть непрямой путь.
Ей жарко, страшно жарко. От зеленого кокоса, найденного и разбитого еще вечером, осталось лишь дразнящее воспоминание. Подняв голову, она снова пересчитывает балконы — там вода и воздух посвежее, там спасение и временное укрытие. Осталось залезть.
Вдали слышен гул, потом треск, будто от фейерверков. Эмико понимает, что ждать больше нельзя, и лезет на первый из двух нижних балконов — оба забраны решеткой, рукам есть за что ухватиться.
Она замирает на третьем, открытом, тяжело дышит, борясь с растущим в ней жаром и головокружением, смотрит вниз, на манящую мостовую, потом поднимает голову, глядит на четвертый балкон, собирается, прыгает — рука, к счастью, нащупывает удобный выступ — и тянет себя наверх. Здесь некоторое время сидит на перилах — внутренний жар от физических усилий все нарастает, — затем делает глубокий вдох, прыгает снова — пальцы находят, за что зацепиться, — повисает над пустотой, смотрит вниз и тут же об этом жалеет: теперь улица совсем далеко. Часто и тяжело дыша, она влезает на балкон.
В квартире за окном темно, все неподвижно. Эмико наудачу дергает прутья решетки, но та на замке. Что угодно отдала бы сейчас за воду — ей бы попить, облить лицо и тело, но ограда устроена так, что не сломать.
«Значит, еще один прыжок».
Она подходит к краю балкона. Ладони — единственное, что потеет, как у обычных людей, — скользкие, будто смазаны маслом. Пружинщица старательно трет их об одежду, пытаясь высушить. Жар, который не находит выхода, охватывает ее целиком. Покачнувшись от головокружения, Эмико встает на самую кромку. Приседает. Замирает. Прыгает.
Пальцы царапают выступ и соскальзывают.
Она сильно ударяется о перила — ребра пронзает боль — и падает на горшки с вьющимся жасмином. Сильная резь в локте.
Эмико лежит среди черепков, вдыхает аромат цветов, смотрит на чернеющую на ладонях кровь и беспрестанно стонет. Тело, вымотанное прыжками и карабканьем, пылает. Наконец она кое-как встает, придерживая поврежденную руку, смотрит на окно и ждет, что сейчас кто-нибудь выскочит из-за решетки. Однако в квартире по-прежнему темно.
Эмико ковыляет к перилам и, облокотившись о них, смотрит на свою цель.
«Глупая девчонка. Ради чего стараешься спасти свою жизнь? Прыгни вниз и умри — так будет проще».
Пружинщица смотрит на чернеющую улицу и не находит ответа. Что-то в генах, заложенное так же глубоко, как желание угождать, не дает ей убить себя.
Она с трудом залезает на перила, неуклюже балансирует, придерживает ноющую руку, смотрит наверх, молит Мидзуко Дзидзо, бодхисаттву пружинщиков, смилостивиться, вытягивает вверх здоровую руку и прыгает, надеясь спастись.
Пальцы цепляют выступ… и соскальзывают.
Эмико выбрасывает вверх раненую руку, хватается, связки в локте трещат, потом одна от другой с хрустом отходят кости. Она скулит, судорожно втягивает воздух, хрипит, давясь слезами, тянет вверх другую руку, впивается в выступ, разжимает раненую ладонь. Порванная конечность — сгусток пылающей боли — безвольно падает. Пружинщица повисает над пустотой, тихо стонет, готовясь к новой пытке, потом хрипло вскрикивает, выбрасывает наверх больную руку и хватается ею за перила.
«Давай, давай, еще немного».
Она переносит вес на истерзанную конечность — в глазах искры от боли, — с яростным стоном закидывает ногу, нащупывает железную опору и, сжав зубы, тянет себя наверх, борясь с желанием упасть на землю.
«Еще чуть-чуть».
Ей в лоб тычут стволом.
Эмико открывает глаза. Это девочка — держит пружинный пистолет дрожащими руками, смотрит испуганно и шепчет:
— Вы были правы.
За ней темнеет силуэт старого китайца. Лица не разглядеть. Оба, склонившись над краем балкона, глядят на повисшую над пустотой Эмико.
Ладони пружинщицы начинают соскальзывать. Боль делается почти невыносимой.
— Пожалуйста… Помогите.
45
В командном центре Аккарата, помигав, гаснут газовые светильники. Наступает темнота. Андерсон удивленно вскакивает. Бои уже некоторое время идут беспорядочно — и так по всему городу. Зеленые точки фонарей на улицах Крунг Тхепа мерцают и исчезают один за другим. Местами — там, где пока происходят стычки, — видно оранжевое пламя, поедающее везеролл, но зеленых огоньков больше нет. Город окутывает тьма, почти такая же густая, как и над лежащим за дамбами океаном.
— Что случилось? — спрашивает Андерсон.
Суету, царящую в командном центре, освещают только тусклые компьютерные мониторы. С балкона приходит Аккарат. Включаются аварийные лампы с ручным заводом и отбрасывают блики на его довольное лицо.
— Мы заняли метановые заводы. Страна — наша.
— Уверены?
— Якорные площадки и доки взяты, белые кители сдаются — их командующий дал слово. Сложат оружие безо всяких условий — приказ сейчас передают по их частотам. Некоторые, конечно, посопротивляются, но город — наш.
Андерсон потирает сломанные ребра.
— То есть мы свободны?
— Естественно. Чуть позже я велю проводить вас по домам — порядок на улицах наступит не сразу. — Улыбаясь, министр добавляет: — Думаю, вы будете очень довольны новой властью в королевстве.
Несколько часов спустя бывших пленников отводят к лифту, внизу их ждет личный лимузин Аккарата.
Понемногу светает.
Карлайл замирает у машины, глядит вдаль, на желтую полоску на горизонте, и говорит:
— В кои-то веки происходит то, чего я не ожидал.
— Я думал — нам конец.
— Держался молодцом.
Андерсон осторожно кивает.
— В Финляндии было хуже.
Он уже хочет залезть в машину, но подкатывает приступ кашля и терзает его с полминуты.
Карлайл с удивлением замечает, как компаньон стирает с губ кровь.
— Ты здоров?
Андерсон кивает, прикрывая дверь.
— Черт знает что у меня внутри. Аккарат приложился к ребрам пистолетом.
Карлайл глядит на него внимательно.
— Точно никакую заразу не подхватил?
— Шутишь? — У Андерсона от смеха опять ноют ребра. — Я же на «Агроген» работаю. Меня привили даже от тех болезней, которые из пробирок пока не выпустили.
Угольно-дизельный лимузин набирает ход и отъезжает от обочины в окружении целого роя сопровождающих пружинных скутеров. Устроившись поудобнее, Андерсон смотрит, как за стеклами проплывает город. Карлайл задумчиво постукивает пальцами по кожаной обивке.
— Как пойдет торговля, обзаведусь таким же. Ведь надо будет куда-то потратить кучу денег.
Компаньон рассеянно кивает.
— Немедленно займемся отправкой калорий — допустить голода нельзя. Я хочу сейчас же, пока нет кораблей, заказать у тебя дирижабли. Привезем ю-текс — пусть Аккарат порадуется, поймет, чем хорош свободный рынок. Потом газеты — нужна волна положительных отзывов, закрепить ситуацию.
— Не можешь просто насладиться моментом? — смеясь, спрашивает его Карлайл. — Тебе будто каждый день надевают на голову черный мешок, а потом оставляют в живых. Первым делом найдем бутылку виски, крышу с хорошим видом и поглядим на рассвет над страной, которую только что купили. Это — сначала, а остальная ерунда подождет до завтра.
Быстро светает. Эскорт уезжает вперед, лимузин сворачивает с шоссе на Пхрарам-роад и катит в объезд разрушенной во время ночного боя башни. Несколько человек уже бродят по завалам, но оружия ни у кого не видно.
— Вот все и кончилось, — негромко произносит Андерсон. — Вот так просто. — Он чувствует усталость. Двое убитых в белых формах, похожие на порванные тряпичные куклы, свисают с дорожных бордюров. К ним бочком подходят стервятники. Андерсон потирает ребра и вдруг ощущает радость от того, что жив. — А где бы нам раздобыть виски?
46
Китаец с девочкой осторожно стоят в сторонке и наблюдают за тем, как жадно она пьет. Эмико удивилась, когда старик помог ей залезть на балкон, но теперь, под дулом пистолета, понимает, что спасли не просто так.
— Это правда, что их убила ты?
Пружинщица бережно берет стакан и снова пьет. Если бы не боль, мысль о том, что ее боятся, доставила бы удовольствие. От воды ей гораздо лучше, несмотря на распухшую руку, которая безжизненно лежит на коленях. Эмико ставит стакан на пол и, часто дыша от боли, осторожно прижимает к себе пострадавший локоть.
— Ты убила?
— Я была очень быстрой, а они такими медленными.
Беседуют на мандаринском — языке, который не был у нее в ходу со времен Гендо-самы. Говорить и читать по-английски, тайски, французски, мандарински, вести бухгалтерию, соблюдать протокол, сервировать стол, знать правила гостеприимства — сколько этих умений ей теперь ни к чему. Всего несколько минут — и язык вспомнился, будто отброшенная за ненадобностью, атрофированная конечность вдруг чудесным образом ожила и набралась сил. Эмико гадает, заживет ли так же легко рука, удивит ли ее тело еще раз.
— Вы работали на фабрике. Секретарем. Хок Сен, желтый билет. Так? Андерсон-сама рассказывал, что вы сбежали, когда пришли белые кители.
— И вот я снова здесь.
— Зачем?
Старик отвечает, невесело улыбаясь:
— Мы все цепляемся за то, что осталось после крушения.
Грохочет далекий взрыв. Все смотрят в окно.
— Похоже, дело к концу, — негромко произносит девочка. — Уже больше часа было тихо.
Они отвлеклись, и Эмико думает, что могла бы легко прикончить их даже одной рукой, но уж слишком устала — от разрушения, от смертей. В балконном проеме на фоне светлеющего неба встают столбы дыма. Весь город — в клочья, а из-за чего? Из-за пружинщицы, которая отказалась знать свое место.
Она закрывает глаза от стыда и видит перед собой осуждающее лицо сенсея Мидзуми. Даже удивительно, почему эта женщина до сих пор на нее влияет. Девушке, наверное, уже никогда не избавиться от наставницы — та стала такой же частью ее естества, как и катастрофически суженные поры.
— Хотите получить за меня награду? Заработать на том, что поймали убийцу?
— Тайцы жаждут тебя заполучить.
В двери щелкает ключ. В квартиру входят Андерсон-сама с еще одним гайдзином — радостные, веселые, хотя и изукрашенные синяками, — и замирают, переводя взгляд с Эмико на старика, со старика на ствол пистолета, направленного прямо на них.
— Хок Сен?..
— Какого черта тут происходит? — подает голос второй гайдзин из-за спины Андерсона-самы.
— Мне тоже интересно, — говорит тот. Его бледно-голубые глаза оценивают обстановку.
Маи машинально делает ваи, Эмико улыбается про себя — ей хорошо знаком этот рефлекс, сам собою складывающий ладони.
— Что ты тут делаешь? — спрашивает Хок Сена Андерсон-сама.
— Разве вы не рады поимке убийцы Сомдета Чаопрайи?
Тот молчит, переводя взгляд со старика на Эмико и обратно, и наконец задает другой вопрос:
— Как ты сюда попал?
— Все-таки эту квартиру господину Йейтсу нашел я, я же и отдал ему ключи.
— Глупец он был, правда?
Хок Сен согласно кивает.
Эмико со страхом понимает, что плохо эта встреча может закончиться только для нее. Из всех ее одну могут пустить в расход. Если действовать быстро, можно выхватить пистолет, как у тех медлительных охранников. Будет, конечно, больно, но не трудно — старик ей не соперник.
Второй гайдзин молча выходит за дверь, а Андерсон-сама, к ее удивлению, остается и спокойно проходит в квартиру, подняв руки — показывает, что в них ничего нет. Одна его ладонь забинтована.
— Чего ты хочешь, Хок Сен? — спрашивает он миролюбиво.
Старик отступает, выдерживая дистанцию.
— Ничего. Справедливого наказания для убийцы Сомдета Чаопрайи, и все.
— Надо же, — с усмешкой говорит Андерсон-сама и, морщась, кряхтя, осторожно усаживается на диван. — И все-таки чего ты хочешь на самом деле?
Старик, чуть ухмыльнувшись, отвечает:
— Того же, чего и всегда: будущего.
Гайдзин задумчиво кивает.
— Полагаешь, за эту девушку тебя хорошо вознаградят?
— За поимку того, кто убил приближенного королевы, мне наверняка дадут столько, что этого хватит на возрождение моего клана.
Андерсон-сама молча смотрит на Хок Сена, потом переводит холодный взгляд на Эмико.
— Ты действительно его убила?
Пружинщица хочет солгать, видит, что и гайдзин ждет того же, но не может.
— Простите меня.
— И телохранителей?
— Они сделали мне больно.
Андерсон-сама качает головой:
— А я-то не верил. Думал, Аккарат все подстроил. Но потом ты спрыгнула с балкона. — Он смотрит на девушку с беспокойством. — Тебя учили убивать?
— Нет! — Возмущенная таким предположением Эмико спешит объяснить: — Я не знаю. Мне сделали больно, я разозлилась, но не знала… — Ее охватывает сильное желание пресмыкаться, убеждать в своей преданности, однако она перебарывает заложенный в генах инстинкт, который велит лечь перед хозяином и подставить живот.
— То есть ты не специально обученная убийца? Не военная модель?
— Нет, не военная. Прошу вас, поверьте мне.
— Не военная, но тем не менее опасная. Ты же голыми руками оторвала голову Сомдету Чаопрайе.
Эмико хочет возразить, объяснить, что она совсем другая, но не находит слов и только шепчет:
— Я не отрывала ему голову.
— А ведь ты всех нас можешь прикончить так, что мы и пикнуть не успеем. Хок Сен даже прицеливаться не начнет.
Тут старик очень медленно переводит пистолет на пружинщицу.
Та несогласно мотает головой:
— Я не хочу этого. Хочу только уйти отсюда. Уйти на север — и больше ничего.
— Все равно ты — опасное существо. И для меня опасное, и для других людей. Если бы сейчас кто-то увидел нас вместе… Мертвая ты ценнее, чем живая.
Эмико подбирается, готовясь к умопомрачительной боли. Первым — китайца, потом Андерсона-саму. Девочку, наверное, не стоит…
— Прости, Хок Сен, — вдруг говорит гайдзин. — Не могу отдать ее тебе.
Пружинщица смотрит на него изумленно.
— Что — остановите меня? — усмехнувшись, спрашивает китаец.
— Настали другие времена. В королевство идут армии таких, как я. Всех нас ждет новая судьба. Теперь тут будут не только фабрики — будут контракты на калории, грузоперевозки, отделы исследований и разработки, торговые переговоры… С этого дня все по-другому.
— Поднимет ли этот прилив и мой корабль?
Андерсон-сама смеется и тут же хватает себя за ребра.
— Еще как, Хок Сен. Еще как нам станут нужны люди вроде тебя.
Старик смотрит на Эмико.
— А Маи?
Гайдзин кашляет.
— Забудь о мелочах. У тебя будет почти ничем не ограниченный счет. Найми ее, женись на ней — мне все равно. Делай что пожелаешь. Черт возьми, вон Карлайл найдет ей место, если ты не захочешь. — Он откидывает голову и кричит: — Я знаю, что ты там, старый трус! Заходи.
Из коридора доносится голос второго гайдзина:
— Ты что, действительно решил защищать пружинщицу? — Карлайл осторожно выглядывает из-за двери.
— Без нее не было бы повода для переворота. А это чего-то да стоит, — криво ухмыльнувшись, говорит Андерсон-сама и смотрит на Хок Сена: — Ну, что скажешь?
— Клянетесь?
— Если нарушим слово, ты ведь сможешь о ней донести, а пока весь город ищет пружинщицу-убийцу, она отсюда никуда не уйдет. Если мы с тобой найдем общий язык, выгадает каждый. Давай же, Хок Сен, условия простые — в кои-то веки все будут в выигрыше.
Немного подумав, старик отрывисто кивает и опускает пистолет. Андерсон переводит взгляд на Эмико, которая испытывает огромное облегчение, и говорит гораздо мягче:
— Многое теперь изменится, но видеть тебя никто не должен. Кто-то в этой стране тебя уже никогда не простит. Понимаешь?
— Да, меня не должны видеть.
— Вот и хорошо. Как только все утихнет, придумаем, как тебя вывезти, а пока поживешь тут. Руку поправим. Попрошу кого-нибудь принести ящик со льдом. Хочешь?
— Да. Спасибо. Вы так добры. — Ей делается необычайно спокойно.
— Ну, Карлайл, где виски? За это надо поднять тост! — Андерсон-сама, поморщившись, встает и вскоре приносит бутылку с горкой стаканов, ставит их на прикроватный столик, кашляет. — Чертов Аккарат. — Кашляет еще раз — гулко, раскатисто.
Внезапно новый приступ сгибает его пополам, потом еще один — мокрый, лающий. Андерсон-сама тянет руку, хочет ухватиться за столик, но не рассчитывает движение, толкает его и переворачивает.
Эмико смотрит, как стаканы с бутылкой скользят к краю и, расплескивая виски, летят вниз — медленно, играя в первых утренних лучах.
«Какие красивые. Чистые. Яркие».
Посуда — вдребезги. Андерсон-сама, не переставая кашляет, падает на колени прямо на осколки, хочет встать, его подкашивает новый приступ, он заваливается на бок, наконец затихает и, подняв на Эмико глубоко запавшие глаза, хрипит:
— Крепко же Аккарат мне врезал.
Маи с Хок Сеном отходят подальше, Карлайл испуганно выглядывает поверх локтя, сгибом которого прикрывает рот.
— Прямо как было на фабрике, — выдыхает Маи. Эмико встает на колени возле гайдзина.
Внезапно тот выглядит таким маленьким и хрупким. Она берет протянутую ей дрожащую руку. На губах Андерсона-самы блестит кровь.
47
Официальную капитуляцию решили устроить на парадной площади возле Большого дворца: Аккарат поприветствует Канью и примет ее символический кхраб. Корабли «Агрогена» уже стоят в доках, с них выгружают ю-тексовский рис и сою-про — стерильные семена, присланные зерновыми монополистами; одной частью накормят народ, другая пойдет фермерам — из нее вырастят новый урожай. Со своего места Канье хорошо видно, как над краем дамбы трепещут паруса с эмблемой корпорации — пшеничными колосьями.
Поговаривали, что понаблюдать за церемонией и закрепить своим присутствием власть правительства Аккарата придет сама юная королева, поэтому народу собралось больше, чем ожидали, однако в последний момент пролетел слух, что ее все-таки не будет, и теперь толпа, обливаясь потом, стоит под палящим солнцем засушливого сезона, которому уже давно пора бы уступить место муссонам, и смотрит, как под пение монахов на помост восходит Аккарат. В качестве нового Сомдета Чаопрайи он приносит клятву, обещает защищать королевство в неспокойные времена военного положения, потом встает лицом к выстроившимся рядами военным, гражданским и последним белым кителям под командованием Каньи.
По вискам капитана струится пот, но она не желает даже пальцем шевельнуть — хоть и сдала Аккарату министерство природы, хочет предстать в наилучшем свете, блеснуть выправкой, а потому стоит неподвижно в первом ряду, плечом к плечу с Паи, чье лицо застыло ничего не выражающей маской.
Немного позади Аккарата за церемонией наблюдает Наронг. Он кивает Канье, а той остается лишь не заорать на него, не завопить, что причиненные городу страдания — его вина, что бессмысленных жертв и разрушений можно было избежать. Скрипя зубами, Канья мысленно ввинчивает всю свою ненависть в его голову. Какая глупость. Ненавидеть надо себя: это она сейчас сдаст последних своих верных людей на милость Аккарату и увидит, как закончится история белых кителей.
Рядом возникает Джайди и задумчиво смотрит вперед.
— Хотите что-то сказать?
— Вся моя семья, кто еще был жив, погибла во время боев.
Канья ахает.
— Мне так жаль. — Она хочет протянуть руку, тронуть призрака за плечо.
— Это война, — печально улыбаясь, произносит Джайди. — Я всегда тебе это втолковывал.
Канья уже готова ответить, но тут ее вызывает Аккарат. Наступил момент унижения. Как же она ненавидит министра. И куда подевалась та юношеская злость? Еще в детстве Канья поклялась уничтожить белых кителей, а теперь понимает, что от ее победы смердит сгоревшими министерскими зданиями.
Она шагает вверх по ступеням, опускается на землю и делает кхраб. Аккарат, не торопясь ее поднимать, начинает обращенную к толпе речь:
— Испытывать горе от утраты такого человека, как генерал Прача, вполне естественно. При всем недостатке верности он был страстно предан своему делу, и хотя бы за одно это мы обязаны выказать ему уважение. Стоит помнить не только о последних днях, но и о тех долгих годах, когда генерал служил королевству, берег народ в смутные времена. О тех его славных трудах я никогда не скажу ни единого дурного слова, несмотря на то что в конце он пошел по неверному пути. — Аккарат ненадолго замолкает, обводит толпу взглядом и говорит: — Мы, единое королевство, должны исцелиться. В знак доброй воли я счастлив сообщить, что королева одобрила мою просьбу: все, кто сражался на стороне генерала Прачи и поддерживал попытку переворота, помилованы — полностью и безусловно. Тем, кто по-прежнему желает работать в министерстве природы, заявляю: надеюсь, что нести свою службу вы станете с честью. Перед королевством по-прежнему стоит множество трудных задач, и предугадать, чем грозит будущее, невозможно. — Аккарат знаком разрешает Канье встать и подходит ближе. — Капитан Канья, несмотря на то что вы сражались не на стороне дворца, я дарую вам прощение и кое-что еще. — Он выдерживает небольшую паузу. — Мы должны помириться, найти общий язык как единое королевство, и как единый народ обязаны протянуть друг другу руки.
Все внутри Каньи стягивается в тугой узел, ей отвратительна эта церемония, но Аккарат продолжает:
— Как старшего по званию служащего министерства природы назначаю вас его главой. Ваши обязанности все те же: защищать королевство и ее величество.
Она потрясенно смотрит на Аккарата и замечает стоящего за ним Наронга, который, чуть улыбнувшись, в знак уважения приветствует ее поклоном. Потеряв дар речи, Канья делает ваи.
— Вольно, генерал. Пока можете отпустить своих людей, но уже завтра нас ждет прежняя работа.
Все еще не в состоянии вымолвить ни слова, она снова кланяется, потом смотрит на подчиненных, хочет отдать свой первый приказ, однако из горла вылетает лишь невнятное карканье. Сглотнув, Канья хрипло повторяет свои слова и видит на лицах удивление и смятение — точно такое же, что охватило и ее. На мгновение ей кажется, что они примут ее за самозванку, не станут выполнять команды, но тут отряд, как один человек, поворачивается на месте и маршем уходит с площади. Среди сияющих на солнце белых кителей шагает Джайди. Однако прежде чем уйти, он делает ей ваи, словно настоящему генералу, и этот жест ранит Канью, как ничто другое.
48
— Уходят, церемония окончена.
Голова Андерсона падает на подушку.
— Значит, мы победили.
Эмико молчит, глядя вдаль, на парадную площадь.
В окно бьет обжигающее утреннее солнце. Андерсона знобит, колотит от холода, он обильно потеет и с наслаждением впитывает всем телом раскаленные лучи. Эмико кладет ему на лоб ладонь — удивительно холодную ладонь. Глядя мутными лихорадочными глазами, он спрашивает:
— Хок Сен пришел?
Пружинщица грустно качает головой:
— Ваши люди не знают, что такое верность.
Андерсон хочет рассмеяться в ответ, пробует стянуть с себя одеяла, но не может, тогда Эмико убирает их сама.
— Нет, знают. — Он снова оборачивает лицо к солнцу, впитывает свет кожей, тонет в потоках тепла. — Хотя я знал, что так будет. — На смех не хватает сил, тело будто рассыпается на части.
— Хотите еще воды?
Мысль о воде неинтересна. Жажды нет. Вот прошлой ночью жажда была страшная. Когда по приказу Аккарата явился врач, хотелось выпить целый океан. А теперь — нет.
Осмотрев больного, доктор ушел напуганный, но перед тем сказал, что пришлет кое-кого и что надо доложить в министерство природы — пусть те выполнят свой ритуал черной оберегающей магии. Все это время Эмико пряталась тут, а после визита врача дни и ночи напролет сидела у постели.
Андерсон начал изредка ее узнавать, хотя до этого видел сны, бредил. Йейтс долго сидел на краю кровати, посмеивался, объяснял тщету его жизни, смотрел прямо в глаза и спрашивал, понимает ли он. Андерсон пробовал отвечать, но слова застревали в пересохшем горле. Йейтса это тоже веселило, он любопытствовал, что больной думает о замене его на недавно прибывшего торгового представителя «Агрогена». Потом пришла Эмико с мокрым полотенцем, и Андерсон был ей благодарен, безумно благодарен за внимание, за человеческое тепло… Мысль о «человеческом тепле» его даже позабавила.
Он видит пружинщицу сквозь туман, вспоминает, кому и что остался должен, думает, успеет ли раздать долги.
— Мы вывезем тебя отсюда.
Его снова охватывает озноб. Всю ночь было жарко, а теперь вдруг стало холодно, как когда-то зимой среди снегов северных районов Среднего Запада. Желание пить пропало. Холодно. Даже пальцы девушки, лежащие у него на лбу, будто изо льда.
Андерсон слабо трогает ее ладонь.
— Хок Сен пришел?
— Вы весь горите. — Она смотрит на больного с тревогой.
— А приходил? — Крайне важно, чтобы тот непременно был тут, в комнате, совсем рядом. Почему — никак не вспомнить, но невероятно важно.
— Вряд ли появится. Он уже получил от вас те бумаги, какие хотел, вы его представили. Хок Сен сейчас вовсю работает с людьми из вашей компании, с новым представителем, с той дамой по фамилии Бодри.
На балкон залезает чешир, мяукает и тихо проходит в комнату. Эмико то ли не замечает, то ли просто не обращает внимания: как-никак родственники, создания одних и тех же несовершенных богов.
Андерсон вяло следит за кошкой, которая неслышно скользит по спальне и исчезает за дверью. Если бы не слабость, швырнул бы чем-нибудь, но он только вздыхает: все уже не важно, переживать из-за животного нет сил. Потом больной расслабляет глаза и смотрит на потолок, на медленно описывающие круги лопасти механического вентилятора.
Ощутить бы снова злость, но даже злость ушла. Осознав, что болен — в тот самый момент, когда Хок Сен с девочкой испуганно отшатнулись, — Андерсон посчитал их сумасшедшими, поскольку не имел никаких контактов с переносчиками инфекции, однако, увидев страх и отсутствие сомнений, все быстро понял.
— Как на фабрике?.. — повторил он за Маи, и старик кивнул, не отрывая ладони ото рта.
— Зал обработки или водорослевые ванны.
Андерсон хотел разозлиться, но болезнь уже тогда начала вытягивать силы. Его хватило лишь на вспышку ярости, которая быстро погасла.
— Выжившие были?
— Только один, — тихо ответила девочка и торопливо исчезла вслед за китайцем.
Ах этот Хок Сен и его вечные тайны, замыслы, свои интересы, вечное ожидание чего-то.
— Уже едет? — с трудом произносит Андерсон.
— Он не придет, — отвечает Эмико.
— Но ты же здесь.
— Я — Новый человек, мне ваши болезни не страшны. А вот китаец не придет, и тот, которого зовут Карлайл, тоже.
— По крайней мере тебя оставили в покое, хоть тут сдержали слово.
— Может, и сдержали.
Андерсон думает, не права ли пружинщица, не ошибался ли он сам насчет Хок Сена, как, впрочем, много на чей счет еще, верно ли вообще понимал то, как устроена жизнь в этой стране, и, отгоняя страхи, говорит:
— Обязательно сдержит слово. Бизнесмен все-таки.
Эмико молчит.
Чешир залезает на кровать — девушка сгоняет животное, — запрыгивает снова, видимо, предчувствуя скорую возможность поживиться падалью.
Андерсон делает слабую попытку приподнять руку и хрипло произносит:
— Не надо. Пусть сидит.
49
Из доков выходит целое войско сотрудников «Агрогена». Канья и ее подчиненные — почетный караул заморских демонов — вытянулись по стойке «смирно». Фаранги щурятся от тропического солнца, готовясь прибрать к рукам страну, которую видят первый раз в жизни, тычут пальцами в сторону местных девушек, галдят, гогочут. Что за неотесанный народ — ведут себя как хозяева.
— Самоуверенные-то какие, — негромко произносит Паи.
Она вздрагивает, услышав собственные мысли, но ничего не говорит, только ждет и смотрит, как Аккарат встречает этих существ. За главного у них хмурая светловолосая дама по имени Элизабет Бодри — само воплощение сути «Агрогена». На ней, как и на остальных, длинный, в пол, черный плащ, на котором поблескивают фирменные колосья. Радует одно: в этих мерзких одеждах им должно быть невыносимо жарко. Лица фарангов залиты потом.
— Вот их отведешь в банк семян, — говорит ей Аккарат.
— Вы уверены?
— Им нужны только образцы, новый генный материал. Королевству от этого тоже будет польза.
Канья рассматривает людей, которых недавно называли демонами-калорийщиками и которые теперь нагло разгуливают по Крунг Тхепу, Городу Божественных воплощений. С кораблей сгружают ящики зерна — на каждом ярко отпечатана эмблема «Агрогена» — и заполняют ими запряженные мегадонтами повозки.
Догадавшись, о чем думает Канья, Аккарат говорит:
— Прошло то время, когда мы отсиживались за своими стенами и надеялись на выживание. Пора вступить в контакт с внешним миром.
— Но семенной банк! Это же наследие короля Рамы! — не повышая голоса, протестует Канья.
— Они возьмут только образцы. Не стоит так переживать. — Аккарат приветствует очередного фаранга, пожимает ему руку на заморский манер, говорит на ангрите, указывает путь, потом поясняет своей спутнице: — Это Ричард Карлайл. С насосами наконец решено. Сегодня днем он отправит за ними дирижабли. Немного удачи, и мы успешно переживем сезон дождей. — Тут Аккарат добавляет значительно: — Ты осознаешь, ты понимаешь, чем я тут занимаюсь? Лучше пожертвовать небольшой частью страны, чем сразу всем королевством. Есть время вести войны, но есть и время вести переговоры. В полной изоляции нам не выжить. История показывает, что налаживать связи с остальным миром необходимо.
Канья в ответ сухо кивает.
За ее плечом вырастает Джайди.
— Зато Ги Бу Сена им ни за что не получить.
— По мне, так лучше отдать его, чем банк семян.
— Да, но потеря Ги Бу Сена злит их гораздо больше. — Призрак показывает на Бодри и говорит: — Вон та порядком взбеленилась, кричала даже. Совсем потеряла лицо — расхаживала туда-сюда, руками вот так размахивала, — изображает он женщину-фаранга.
Канья ухмыляется.
— Аккарат тоже был сердит. Весь день меня выспрашивал, как так вышло, что мы позволили старику сбежать.
— Он очень хитрый.
— Кто — Аккарат?
— Нет, генхакер.
Прежде чем Джайди успевает посвятить Канью в свои соображения, подходит Бодри со специалистами по семенам, а вместе с ними старый китаец-желтобилетник. Последний замирает, вытянувшись по струнке, и, приветственно кивнув, сообщает:
— Я буду переводить для куна Элизабет Бодри.
Канья заставляет себя ответить вежливой улыбкой, попутно разглядывая прибывших. Вот до чего дошло — фаранги с желтобилетниками.
— Реальны одни перемены, — вздыхает Джайди. — Тебе не помешало бы об этом помнить. Цепляться за прошлое, переживать о будущем… Все в этом мире — страдание.
Фаранги ждут, проявляют нетерпение. Наконец Канья дает им знак и ведет по разрушенной боями улице. Издалека, со стороны якорных площадок, доносится выстрел из танкового орудия — должно быть, группа непокорных студентов, тех, чье представление о чести иное, чем у нее. Канья подзывает двоих новых подчиненных — Маливалайю и Ютхакона, если верно запомнила их имена.
— Генерал, — начинает первый, но она делает недовольное лицо.
— Я говорила — никаких генералов. Хватит этой ереси. Я капитан. Если Джайди хватало такого звания, то и мне другое незачем.
Маливалайя делает ваи, прося прощения.
Канья приказывает усадить фарангов в удобное чрево дизель-угольного автомобиля. Ей не знакома подобная роскошь, однако она сдерживает эмоции при виде этого неожиданного откровения о богатстве Аккарата. Шурша колесами, машина мчит их по пустынным улицам к Священному столпу.
Четверть часа спустя они выходят под палящее солнце. Монахи почтительно склоняют головы, признавая тем ее, Каньи, власть. Она кланяется в ответ, чувствуя себя при этом скверно: в этом самом месте Рама XII поставил министерство выше самих монахов.
Служители открывают ворота и ведут новоиспеченного генерала вместе с ее окружением вниз, в прохладное подземелье. Герметичные двери отходят вверх, с шипением от перепада давления вырывается очищенный, идеальной влажности, зябкий воздух. Температура падает, Канья сдерживает желание обхватить себя за плечи. За чередой защищенных тройной системой безопасности дверей, которые приводит в движение энергия угольных моторов, тянутся коридоры.
Терпеливо ожидающие гостей монахи в желтых облачениях почтительно расступаются перед Каньей, которая напоминает Бодри:
— Не заденьте их случайно, они дали обет не прикасаться к женщинам.
Желтобилетник переводит. Вслед за резкими звуками незнакомого языка она слышит взрыв смеха, но заставляет себя не обращать внимания. Чем ближе банк семян, тем возбужденнее голоса Бодри и ее генхакеров. Китаец даже не поясняет их нелепые возгласы, но по довольным лицам все ясно и без слов.
Канья ведет их все глубже в подземелье, к хранилищу, а по пути размышляет о том, что такое преданность. Лучше расстаться с конечностью, чем с головой. Тайцы практичны, поэтому пока другие страны гибнут, королевство продолжает существовать.
Белесые глаза фарангов алчно ощупывают полки, заставленные вакуумными контейнерами с тысячами семян, каждое из которых — линия обороны страны от заморских демонов. Перед пришельцами лежит истинное сокровище королевства. Их трофей.
Когда бирманцы осадили Аютию, город сдался без боя. Теперь происходит то же самое. Потоки крови и пота, бесчисленные смерти и тяжкий труд, подвиги святых спасителей семян и мучеников вроде Пхра Себа, девочки, отданные в рабство ги бу сенам, — все, что было, кончилось бесславно: ликующие фаранги стоят в самом сердце королевства, вновь преданного министрами, которым наплевать на честь короны.
— Не переживай ты так, — говорит Джайди, коснувшись ее плеча. — Мы все вынуждены мириться с собственными неудачами.
— Простите. Простите меня за все.
— Давно простил. У каждого из нас есть обязательства перед теми, кто стоит выше. Это камма свела тебя с Аккаратом раньше, чем со мной.
— Представить не могла, чем все закончится.
— Да, страшная потеря… Но даже теперь можно все изменить.
Один из ученых ловит на себе быстрый взгляд Каньи и что-то говорит Бодри — то ли ехидно, то ли озабоченно. На плащах в отблесках электрических ламп играют пшеничные колосья.
— Что бы ни происходило, ее величество королева всегда остается на троне.
— И что толку?
— Разве не лучше, если тебя будут помнить так же, как тех крестьян из Банг Раджана, которые встали на защиту Аютии, зная, что война проиграна, и недолго, но сдерживали наступление бирманцев? Или хочешь быть как те трусливые придворные, которые принесли в жертву свое королевство?
— Это все честолюбие.
— Возможно. Но открою тебе правду: на фоне всей истории Аютия — песчинка. Разве тайцы не пережили ее разграбления? Разве не было сотен таких же историй? Разве не остались в прошлом бирманцы? А кхмеры? Французы? Японцы, американцы, китайцы? Калорийщиков разве не пережили? Не сопротивлялись им успешно, когда другие государства сдавались? Кровь и плоть нашей страны — народ, а не этот город. Народ носит имена, данные ему династией Чакри, народ — вот что важнее всего. А придает ему сил этот самый банк семян.
— Но ее величество заявляла, что мы всегда будем защищать…
— Король Рама и гроша ломаного не давал за Крунг Тхеп. Только из-за своей заботы о нас он создал символ, который бы мы защищали. Но важен не город, важен народ. Что толку от города, если его жители — рабы?
Она дышит часто, взволнованно, холодный воздух дерет горло.
Бодри что-то произносит, и генхакеры начинают вопить на своем жутком наречии.
— Действуй, как я, — говорит Канья Паи, достает пружинный пистолет и в упор стреляет в голову женщине-фарангу.
50
Голова Элизабет Бодри, дернувшись, заваливается назад. Облако мельчайших красных капель оседает на новенькой одежде Хок Сена. Под взглядом генерала белых кителей старик немедленно падает на колени рядом с телом заморского демона и в знак повиновения делает кхраб. Мертвые глаза светловолосого создания удивленно смотрят прямо на него. Вдоль стен стрекочут диски, кричат люди.
Внезапно наступает тишина.
Генерал рывком поднимает старика на ноги и тычет в лицо пистолетом.
— Не надо, — лопочет Хок Сен по-тайски, — я не такой, как они.
Дама в белом кителе, посмотрев внимательно, резко кивает, отталкивает его к стене — тот немедленно притихает в углу — и начинает отдавать хлесткие приказы. Тела агрогеновцев быстро оттаскивают в сторону. Хок Сен удивлен тем, как ловко эта неулыбчивая женщина управляется со своей командой. Она подходит к монахам — хранителям банка семян, почтительно делает кхраб и что-то быстро говорит. Несмотря на этот символ уважения к их духовной власти, совершенно ясно, кто здесь на самом деле главный.
Старик холодеет от ужаса, когда слышит, какие именно приказы она отдает — замыслила страшные, недопустимые разрушения, однако монахи послушно берутся за дело и вскоре непрерывным потоком идут из подземелья. Генерал распахивает двери, скрывающие за собой целые арсеналы, и распределяет отряды: один — к Большому дворцу, другой — к насосу Коракот, третий — к шлюзу в Клонг Той.
Отдав указания, она мельком смотрит на Хок Сена, который съеживается под ее взглядом — после всего услышанного его вряд ли оставят в живых.
Тем временем монахи торопливо снимают с полок контейнеры с семенами, уходят, в помещение вбегают все новые и новые, аккуратно ставят ящики на пол — один за другим, ряд за рядом. Зерна, которым многие сотни лет, которые время от времени берут, чтобы прорастить в совершенно изолированных от внешнего мира помещениях, а затем вернуть на место; коробки, хранящие тысячелетнее мировое наследие.
Река бритоголовых людей в шафрановых одеяниях безостановочно складывает контейнеры себе на плечи и выносит главную драгоценность своего народа прочь из подземелья. Хок Сен завороженно следит за тем, как богатейший генетический материал исчезает во внешнем мире. Снаружи едва слышны песнопения — монахи благословляют замысел, несущий разрушение и обновление.
Белый генерал снова смотрит на старика. Тот не опускает голову, не хочет пресмыкаться. Пусть его убьют — убьют, иначе и быть не может, — но он не покажет страха. Хотя бы умереть надо с достоинством.
Однако дама, презрительно скривившись, лишь кивает ему на открытую дверь.
— Беги, желтобилетник. Этот город больше не сможет тебя укрывать, — говорит она и снова показывает на выход.
Хок Сен глядит удивленно, замечает на ее губах тень улыбки, торопливо делает ваи, вскакивает и бежит по тоннелям навстречу горячему уличному воздуху, проталкиваясь сквозь реку людей в шафрановых одеждах. Оказавшись на поверхности, поток монахов разделяется на несколько ручейков, которые текут к разным выходам, по пути разбиваясь на все меньшие и меньшие группы, на небольшие отряды, у каждого из которых своя цель, свое давно подготовленное место в далекой глуши, тайное укрытие, оберегаемое Пхра Себом и духами предков; место, куда не добраться калорийщикам.
Хок Сен, еще на мгновенье задержав взгляд на людях, непрерывно выходящих из семенного банка, бежит на улицу.
Заметив его, подъезжает рикша.
— Куда?
Старик, уже сидя в повозке, лихорадочно размышляет. Якорные площадки — только оттуда можно наверняка сбежать от подступающего хаоса. Ян гуйдзы Ричард Карлайл скорее всего еще там — он и его дирижабль, который летит в Калькутту за угольными насосами для королевства. В воздухе точно будет безопаснее — только надо застать заморского демона до того, как он поднимет последний якорь.
— Так куда едем?
«Маи».
Хок Сен мотает головой — теперь-то зачем не дает покоя мысль о девочке? Он ничего ей не должен. Какая-то рыбачка, никто. Но ведь вопреки здравому смыслу старик почему-то позволил Маи остаться рядом, пообещал взять себе в прислугу, уберечь от бед — ничтожная, но все-таки плата за помощь. Однако то было раньше, когда он планировал сбежать с деньгами калорийщиков, а значит, и тот уговор теперь не действует. Поймет.
— На якорные площадки. Гони. Опаздываю.
Рикша кивает и давит на педали.
«Маи».
Хок Сен проклинает себя. Ну что за идиот! Почему никогда не может сосредоточиться на главном? Почему его вечно что-то отвлекает, а в итоге прахом идут все планы спокойной и безопасной жизни?
Злясь на себя, злясь на Маи, он командует:
— Нет, подожди. В другое место. Сперва к мосту Крунгтон, потом на якорные площадки.
— Это же совсем в другую сторону.
— А я, по-твоему, не знаю?
Рикша притормаживает, разворачивает повозку в ту сторону, откуда только что приехали, встает на педалях и снова набирает ход.
На улицах наводят порядок, бурлит пестрый город — город, который не подозревает о неминуемой гибели. Велосипед скользит по залитым солнцем дорогам, рикша плавно переключает скорости и все быстрее и быстрее везет старика к девочке.
Хок Сен успеет, если только ему очень повезет, поэтому он молится об удаче, о том, чтобы хватило времени забрать Маи и не упустить дирижабль. Будь старик умнее — взял бы, да и сбежал один.
А он молится об удаче.
Эпилог
Дамбы разрушены, насосы взорваны; шесть дней — и Город Божественных воплощений мертв. С балкона высотки, в которой расположены лучшие в Бангкоке апартаменты, Эмико наблюдает за тем, как море стремительно заполняет улицы. От Андерсона-самы осталась лишь телесная оболочка. Пока гайдзин не испустил дух, девушка выжимала воду ему в рот, а он приникал к мокрой тряпке, как ребенок к груди, и просил прощения у видимых лишь ему призраков.
Услышав мощные взрывы на краю города, Эмико не сразу поняла, что происходит, но когда в воздух над плотинами, извиваясь гигантскими нагами, поднялись двенадцать столбов дыма, стало ясно: насосы Рамы XII, спасавшие от наводнений, уничтожены и жизнь города опять под угрозой.
Три дня Крунг Тхеп пытались спасти, но пришли муссоны, и все попытки сдержать наступающий океан были оставлены. Полил дождь, мощные потоки смыли с улиц пыль и мусор, закружив и подняв над землей каждую щепочку. Из домов, держа над головами пожитки, хлынули люди. Медленно наполняясь водой, Бангкок превращался в огромное озеро, волны которого стучали в окна третьих этажей.
На шестой день ее величество объявила, что священный город решено оставить. Сомдета Чаопрайи больше нет — только королева и сплотившийся вокруг нее народ.
Белые кители, всего несколько дней назад ненавидимые и презираемые, теперь повсюду — выводят людей на север, а командует ими новый Тигр, странная неулыбчивая женщина — как говорят, одержимая духами. Она настраивает подчиненных на самоотверженную работу, на спасение стольких жителей Крунг Тхепа, сколько вообще возможно спасти. Когда доброволец в белой форме проходит по коридорам здания и предлагает пищу и чистую воду, Эмико сидит тихо. Город гибнет, но доброе имя министерства природы восстановлено.
Бангкок пустеет, на смену велосипедному звону и крикам торговцев приходят плеск океанской воды и вопли чеширов. Иногда Эмико думает, что она — единственное здесь человеческое существо. Заведя однажды радио, девушка узнает, что столицу переносят в Аютию, которая стоит выше уровня моря, что Аккарат остриг голову и ушел в монахи искупать свою вину, так как не смог защитить город. Но все это от нее очень далеко.
В сезон дождей жизнь Эмико делается сносной — вода теперь повсюду, пусть застойная, воняющая отходами миллионов людей, но вода. Она находит лодочку и плавает на ней по заброшенному городу. Льет каждый день, и девушка подставляет свое тело под струи, которые смывают воспоминания о прошлом.
Эмико добывает пропитание, копаясь в мусоре и охотясь, ест чеширов, голыми руками ловит рыбу — с ее стремительными движениями метко проткнуть карпа одним ударом не составляет труда; сытно ест и спокойно спит — когда кругом вода, перегрева можно не бояться. Подходящее для Новых людей место виделось ей другим, но и это вполне подходит.
Она украшает квартиру — как-то раз переплыла широкое устье Чао-Прайи и навестила фабрику «Мисимото», где некогда работала. В разрушенном здании нашлось несколько сувениров, напоминающих ей о прошлом: сорванные со стен панно с иероглифами и традиционные чайные чаши — тяван.
Пару раз встречались люди: по большей части искали пропитание, и им не было дела до странно подергивающегося создания, которое скорее мерещилось, чем ясно виделось, но были и те, кто в беззащитной на первый взгляд девушке усматривал добычу. Этих Эмико успокаивала быстро и так гуманно, как только умела.
Дни идут за днями. Она уже настолько привыкла к своей спокойной жизни искателя пропитания в водном мире, что когда за стиркой на балконе третьего этажа ее застают незнакомый гайдзин с девушкой, встреча оказывается для нее полной неожиданностью.
— Это еще кто?
Эмико вздрагивает, чуть не падает с перил, спрыгивает на пол и, шлепая по воде, убегает в безопасный сумрак заброшенной квартиры.
Лодка гайдзина утыкается в балкон.
— Саватди кхрап!.. Здравствуйте!..
Человек стар, кожа вся в пятнах, живо блестят умные глаза. На лице гибкой смуглой девушки играет мягкая улыбка. Облокотившись о перила, они всматриваются в темную комнату.
— Не убегай, малышка. Мы совсем не опасны. Я так вообще не могу ходить, а Кип у нас — натура кроткая.
Эмико ждет, но пришлые никак не уходят и продолжают упорно ее высматривать.
— Пожалуйста, покажитесь, — просит девушка.
Вопреки здравому смыслу Эмико выходит им навстречу, осторожно шагая по щиколотку в воде. Она уже давно и ни с кем не разговаривала.
— Дергунчик! — ахает Кип.
Старика это словечко веселит.
— Но сами себя называют Новыми людьми. — В его голосе нет неприязни. Гайдзин показывает две тушки чеширов: — Не желает ли юная госпожа с нами отобедать?
Эмико показывает на балконную ограду, к которой под водой привязан ее сегодняшний улов.
— Мне ваша помощь не нужна.
Старик замечает нанизанных на веревку рыб и смотрит уже по-новому, с уважением.
— Действительно не нужна. Если только вы не иной модели, чем я думаю. — Он просит ее наклониться поближе. — Здесь живете?
Эмико показывает наверх.
— Чудесная у вас недвижимость. Мы с удовольствием бы отужинали с вами сегодня вечером. Если чеширы вам не по вкусу, то и рыбы отведаем с радостью.
Она неуверенно пожимает плечами. Ей одиноко, а старик с девушкой на вид безобидны.
Темнеет. Костер из мебели разводят на балконе ее квартиры и жарят рыбу. В прорехи облаков выглядывают звезды. Под ними лежит темный лабиринт города. Когда с ужином покончено, гайдзин придвигает свое израненное тело к огню, а девушка ему помогает.
— Вот объясните, что тут делает пружинщица?
— Меня бросили.
— Нас тоже. — Старик с помощницей обмениваются улыбками. — Впрочем, полагаю, этот отпуск скоро подойдет к концу и меня вновь будут ждать прелести генетических войн и интриг вокруг калорий, поскольку, надо думать, белые кители опять найдут мне применение, — заканчивает он уже со смехом.
— Вы генхакер?
— Надеюсь, больше чем просто взломщик генов.
— Вы говорили, что знакомы с моей… моделью.
Ухмыльнувшись, старик подзывает помощницу, как ни в чем не бывало проводит ей ладонью по ноге снизу вверх и при этом не сводит глаз с Эмико, которая видит, что та одновременно и девушка, и мужчина. Кип, угадав ее мысли, улыбается.
— Я читал о таких, как вы. О генах, о воспитании… Встать! — внезапно рявкает он.
Не успев ничего понять, Эмико уже стоит на ногах, дрожит от страха и непреодолимого желания подчиняться.
Старик качает головой:
— Жестоко с тобой обошлись.
— А еще сделали сильной. Я могу причинить вам боль. — Пружинщица кипит от злости.
— Верно, можешь. Создатели спрямили некоторые углы, обходные пути есть, хотя и скрыты воспитанием. Взять это ваше желание повиноваться — откуда его взяли, не знаю. Может быть, от лабрадоров. Но почти во всем остальном вы превосходите людей. Быстрее, умнее. Лучше видите и слышите. Вы покорны, зато не боитесь болезней вроде тех, что у меня. — Он показывает на исполосованные шрамами гноящиеся ноги. — Вам везет.
— Так вы один из моих создателей?
— Не совсем, но что-то вроде того. Мне знакомы ваши секреты — так же как секреты мегадонтов и пшеницы «Тотал Нутриент». — Старик кивком указывает на тушки чеширов: — Вот об этих кошках я знаю все. Если бы захотел, заложил бы в них генетическую бомбу, которая уничтожит их маскировку — несколько поколений, и они опять станут своей предыдущей, менее успешной версией.
— Вы действительно бы так поступили?
— Нет, — смеется старик. — Такими они мне симпатичнее.
— Ненавижу людей вроде вас.
— Потому что тебя создали мне подобные? — Он снова хохочет. — Надо радоваться, что встретила меня. Ближе к богу быть невозможно. Ну же, разве тебе не о чем просить бога?
Эмико хмуро кивает на чеширов:
— Будь вы моим богом, первыми сделали бы Новых людей.
Эта мысль веселит старого гайдзина.
— Я бы с удовольствием.
— Мы бы тогда взяли над вами верх — вот как чеширы.
— Вы и сейчас можете — ни пузырчатой ржи, ни цибискоза не боитесь.
— Не можем. Мы не способны размножаться, и в этом зависим от вас. — Она шевелит рукой, показывая прерывистые марионеточные движения. — Я помечена. Мы всегда помечены и заметны не хуже десятируких или мегадонтов.
— Ерунда. Эти ваши движения не принципиальны. Нет особой причины, почему их нельзя устранить. А вот стерильность… Ограничения снять можно, их устроили ради безопасности, и на то были причины, но необходимости в них нет, хотя из-за некоторых создавать вас труднее. Все в вас поправимо. — Гайдзин улыбается. — Когда-нибудь все станут Новыми людьми. Вы еще будете смотреть на нас, как мы на бедных неандертальцев.
Эмико молчит. Потрескивает костер. Потом она спрашивает:
— Вы знаете, как это сделать? Можете дать мне такую же способность к размножению, как у чеширов?
Старик и Кип переглядываются.
— Так можете или нет?
— Твое нынешнее устройство мне не изменить. У тебя даже яичников нет. Ты способна дать приплод не больше, чем твоя кожа.
Эмико подавленно замолкает.
Старик снова хохочет:
— Выше нос! Женские яйцеклетки как источник генетического материала мне и так никогда особо не нравились. Пряди волос вполне хватит. Тебя уже не изменить, а вот твоих детей — в генетическом, не в физическом смысле — их можно сделать фертильными. Они станут частью естественной природы.
У Эмико сердце из груди выпрыгивает.
— Вы действительно можете это сделать?
— Да. Конечно, могу. — Мыслями гайдзин уже где-то далеко. На его губах играет улыбка. — Могу и это, и много чего еще.
От автора
Без поддержки моих многочисленных помощников «Заводная» получилась бы куда слабее. От всего сердца выражаю свою благодарность Келли Бюлер и Дэниелу Спектору за гостеприимство, экскурсии и крышу над головой в Чиангмае, пока я занимался исследованиями; Ричарду Фоссу за маховые колеса, Йену Чаи за любезные исправления явных недочетов, связанных с персонажем Тань Хок Сеном; Джеймсу Фану, автору «Пылающей земли», за консультации и разъяснение экологических проблем Таиланда; банде из «Блю Хевен» — в особенности моим первым читателям Тобиасу Бакелу и Биллу Шанну, а также Полу Мелко, Грегу ван Ээкхута, Саре Принеас, Сандре Макдоналд, Хизер Шоу, Холли Макдауэлл, Йену Трегиллису, Рэю Карсону и Чарли Финлею. Сомневаюсь, что без их мудрых советов я придумал бы концовку для книги. Я также хочу поблагодарить своего редактора Джулиет Ульман, которая помогала находить неувязки в сюжете и преодолевать их, когда я оказывался в тупике. Особых слов заслуживает Билл Таффин: когда книга пребывала еще в зачаточном состоянии, мне посчастливилось встретить этого человека, который стал для меня щедрым источником знаний о культуре Юго-Восточной Азии и добрым другом. И наконец, я хочу поблагодарить мою жену Анджулу за неизменную поддержку в течение многих лет, за ее невероятное терпение и веру. Все эти люди помогали книге стать лучше, однако только я в ответе за имеющиеся в ней ошибки, упущения и недостатки.
Я хотел бы особо заметить, что действие книги происходит в Таиланде будущего, и по ней не следует судить ни о нынешнем королевстве, ни о его населении. Тем, кто хочет по-настоящему познакомиться с богатой и разнообразной жизнью Таиланда, я с удовольствием рекомендую почитать таких авторов, как Чарт Корбджитти, С. П. Сомтоу, Пхра Питер Паннападипо, Ботан, отец Джо Мейер, Кукрит Прамой, Санех Сангсук и Кампун Бунтави.