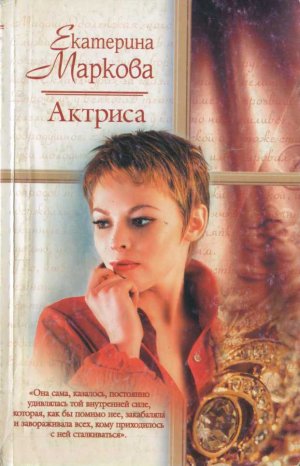
Мадам Оболенская, похоже, опаздывала на службу.
Служила она вахтером в театре и, к несчастью, сменяла по дежурству злобную, ворчливую мегеру, которую иначе как Сколопендра за глаза никто и не величал.
Впрочем, у всякого в театре имелось прозвище: у кого-то беззлобно-ироническое, у кого-то насмешливое, у кого-то — добродушное. Мадам Оболенской она тоже стала с легкой руки молодых актеров, которым импонировал ее знатный древний род и которые никогда не задавали ей бестактных вопросов типа как дошла она до жизни такой, и никогда не обсуждали ее неискоренимой привычки постоянно носить тканые ажурные перчатки и шляпку с легкой газовой вуалью, уложенной по узким полям.
То, что Елена Николаевна бедствовала, догадывались немногие, хотя в последнее время это удавалось скрывать все труднее. Еще не хватало, чтобы сердобольные актеры начали подкармливать ее, как подкармливали приблудных собак и кошек, вечно снующих по двору театра.
Елена Николаевна судорожно сглотнула застрявший в горле ком обиды и горечи. Ну это уж положим! Достоинства ей не занимать. Если она всегда отмалчивается на злостные нападки Сколопендры и мягкие нарекания администратора Вдовина, то это лишь потому, что жизнь приучила ее молчать.
Золотой кленовый лист в багровых причудливых разводах осени мягко спланировал на грудь мадам Оболенской. Она задумчиво разгладила его и огляделась вокруг.
Бульвар неистовствовал лихорадочной агонией осени. Елена Николаевна вздрогнула и остановилась, прижимая кленовый листок заштопанными кружевными перчатками к груди, как любовное послание. Она всегда так больно чувствовала это безумствующее умирание осени. А теперь, если бы не этот невзначай брошенный ей на грудь лист, она бы и не увидела, как божественно и причудливо разодет бульвар.
Дрожащими пальцами она вытянула из пачки дешевую сигарету и, жадно затянувшись, с бесшабашным аристократизмом, пренебрегая очередным выговором на службе, присела на край скамейки. Усмехнулась, вспомнив, как ее соседка по коммуналке, краснолицая Татьяна — продавщица из овощного магазина, всегда всплескивает руками и замечает ехидно: «Опять ты, Николавна, как птичка на жердочке, пристроилась. Зад-то пропихни глубже, сидеть так сидеть, чтоб со всем удобством». Елена Николаевна молчит в ответ, а в памяти возникает глуховатый голос ее педагога по мастерству актера — знаменитой актрисы Александринки: «Сидеть, Леночка, надо всегда так, чтобы было немного неудобно — на самом краешке. В таком положении — как бы продолжение движения, готовность в любую секунду без усилий встать, легко и непринужденно, а не выкарабкиваться всем телом…»
Конечно, в ее возрасте следовать привычкам молодости все трудней, но именно они, эти привычки и навыки той, далекой, жизни спасают ее от беспросветного отчаяния одиночества. Они словно перекидывают невидимый мостик к тем людям, которые нежно оберегали ее хрупкую, юную жизнь, дарили ей чудо любви и пристрастности… Не уберегли. Жизнь расправилась с Леночкой Оболенской со всей мерой жестокости, впрочем, совсем неудивительной для той безумной эпохи, когда все трещало по швам… Мадам Оболенская не любила вспоминать, не любила сожалеть. Она верила в вечную жизнь и в то, что ее земные страдания искупают грехи людей, их тяжкую вину перед Спасителем. Не далее как вчера Елена Николаевна перечитывала свой любимый роман «Доктор Живаго», зачитанный до целых страниц наизусть, и в очередной раз, задумавшись о пастернаковских строчках, рыдающих над тремя днями от смерти до воскресения Христа, записала в своем дневнике кое-какие собственные мысли. Верней, не в дневнике — на обрывке бумаги: тетрадка была уже исписана, а купить новую еще не довелось.
Елена Николаевна затушила окурок, достала из сумочки сложенный листок бумаги.
«Три дня в сравнении с веками — и века окажутся мгновением, взмахом ресниц мироздания перед величием скорби тех трех дней. Длиной в историю всего человечества отныне будут эти три дня. От распятия до Воскресения…
Далекий наш предок Адам — виновник изначальный этих скорбных трех дней.
Что он, собственно, мог, этот первенец, несмышленыш, эдакий блин комом, положивший начало вселенской неразберихе?
Быть первым, вне опыта — это так ответственно. Но много ли в этом вины, когда еще ничего не познал, ничего не изведал, когда чувственный опыт ошибок и достижений, поражений и побед умозрителен и лишь она, сотворенная из его плоти, так дорога и так безоговорочно непорочна в его глазах.
Он, Адам, — замысел, но не ошибка. Господь не совершает ошибок. Бог — творец, и процесс Его творчества непостижим для слабого человеческого разумения, поэтому Он дал шанс человеку разуметь свои шаги верой. И, сотворив первенца, ошибочно принявшего Родительскую любовь за вседозволенность, Сам вместе с ним пустился в долгий путь искупления, то прижимая к сердцу, то с болью отрывая от груди, отпуская грешить и каяться свое драгоценное создание.
Человеческая кровь на опыте оказалась жидкой для высокого предназначения…
И Христос пришел и отдал для таинства причащения свою плоть и кровь, чтобы ее частички вернули людской крови ту вязкость, которая взбудоражит и укрепит слабые силы для рывка в бессмертие…»
Сильный порыв ветра вырвал из пальцев Елены Николаевны листок бумаги, разворошил сметенную в охапку сухую листву и беспардонно швырнул ей в лицо. Она охнула и поспешно одернула задранную юбку. Беспомощным движением попыталась поймать листок, но тут же отказалась от этой мысли и, легко поднявшись со скамьи, направилась к троллейбусной остановке.
Записи мадам Оболенской поднял и спрятал в карман молодой человек с копной длинных густых волос, в очках, сильно увеличивающих бледно-голубые, точно выцветшие на солнце или выплаканные долгими ночами глаза в пушистых ресницах.
Елене Николаевне было невдомек, что эти глаза неотступно следили за ней из-за толстого ствола дуба наискосок от скамейки, где она сидела.
Главным режиссером молодежного театра Алена Позднякова стала неожиданно и для себя, и для всей труппы. Два года назад ее дипломный режиссерский спектакль стал событием. Студенты — выпускники актерского факультета — играли чуть ли не телефонную книгу — так незамысловата была пьеса. Но неожиданно острые режиссерские ходы, властная, почти мужская воля, объединяющая необычную сценографию, пластику каждой роли и, наконец, незабываемой яркости актерские работы заставили многих усомниться, а так ли уж банальна и проста фабула, если на ней столь мощно заблистал талант режиссера. Пьеса оказалась при тщательном изучении весьма средней. Выбор ее — странен. Но налицо результат — в театре появилось уникальное режиссерское дарование.
Внешне Алена являла собой полную противоположность такой профессиональной мужской манере. Маленькая, складненькая блондинка с пухлым детским ртом, в круглых очечках и с тихим, низким, гудящим, как у осы, голосом, она сама, казалось, постоянно удивлялась той внутренней силе, которая, как бы помимо нее, закабаляла и завораживала всех, кому привелось с ней работать.
Тогда же, два года назад, после ее дипломного успеха, главный режиссер молодежного театра Виталий Семенович Перегудов пригласил ее на юбилейную постановку Островского. Злые языки пророчили в кулуарах провал. После заурядной «телефонной книги» поставить «Бесприданницу» — это уж явно продемонстрировать всему свету, что проехать в сверходаренные можно было только на слабой драматургии, в которой нет своей энергетики и с трактовкой которой можно не считаться, а изначально сочинять и пьесу и постановку. А здесь Александр Николаевич сам жестко манипулирует героями и поставить себя с ног на голову вряд ли позволит. Но Малышка Алена, любовно прозванная так актерами, умудрилась, вопреки прогнозам, поставить-таки великого драматурга если не на макушку, то уж на уши точно. И что самое удивительное, придраться было не к чему: ее собственная трактовка никак не исказила замысла автора. Это был тот самый умный, глубокий, ироничный Островский — только непривычно увиденный, по-своему пересказанный языком режиссуры и сценографии.
Удивительна была все знающая наперед, рвущаяся доказать всем трагизм и обреченность земной любви, пусть на своей судьбе бесприданница Лариса. Ее играла Катя Воробьева, которая до прихода Алены пять лет бегала в массовках, и единственной ее большой ролью была Баба Яга в «Двух кленах».
Как уж рассмотрела в ней Алена страстную, умную, совсем лишенную лиризма и голубизны Ларису — уму непостижимо. Долговязая, плоская Катька Воробьева словно прикосновением волшебной палочки превратилась в длинноногую супермодель и сразу после премьеры «Бесприданницы» была приглашена на главную роль в многосерийный телевизионный фильм.
Воробьеву в театре не любили и отчаянно ей завидовали — даже тогда, когда играла только массовки. Ее родители жили в Америке, имели дом в Испании и квартиру в Лондоне. Катька одевалась в самых шикарных «бутиках», стриглась в дорогом американском салоне и загорала летом на пляжах фешенебельных курортов. А теперь, после того как Малышка так убедительно доказала всему театральному московскому миру, какая Воробьева первоклассная героиня и актриса Божьим даром, пришлось взгляд пересмотреть. Звезде и пристало загорать не где попало и стричься не там, где подешевле.
Одним словом, в театре по немому сговору прекратили дружить против Катьки, тем более что Виталий Семенович Перегудов распределил ее на роль Катарины в «Укрощении строптивой», начал репетировать, но спектакль выпустить не успел — умер скоропостижно от сердечного приступа прямо в своем кабинете. Спектакль выпустила Алена, продемонстрировав при этом поразительное чувство такта к чужому режиссерскому видению и сохранив все, что было заложено или только начально разработано.
Воробьева опять блистала. На худсовете, утверждавшем кандидатуру Малышки на должность главного режиссера, задали вопрос, как удалось ей разглядеть в Екатерине Воробьевой ее необычайность. Наверное, монолог Бабы Яги дал почувствовать и этот нерв актрисы, и глубину трагической природы? Малышка ответила отрицательно, потом помолчала и добавила, по-детски потирая подушечками пальцев глаза за стеклами очков:
— Я случайно увидела на улице, как Катя рыдала над сбитой самосвалом дворнягой, как тащила на себе окровавленную собаку в машину, чтобы срочно отвезти в ветеринарную клинику.
— И все? — дружно удивились члены худсовета.
— И все, — серьезно подтвердила Алена.
На минуту в кабинете воцарилось молчание, которое нарушил раздумчивый голос одной из пожилых актрис:
— Так сказать, человеческий фактор…
— Возможно, — пожала плечами Малышка.
Распространяться об изнанке своего творческого процесса она явно не собиралась.
Казалось, несмотря на свою травестюшную внешность, Алена соответствовала всем параметрам, чтобы считаться «железной леди». Но… и у нее имелись свои слабости. Основной слабостью был Петр Сиволапов, двухметровый детина родом из Красноярского края. Его фамилия настолько дополняла мощную фактуру сибирского медвежатника, что возникало ощущение розыгрыша, когда он протягивал широкую, как лопата, ладонь для пожатия и представлялся: «Сиволапов». У Петра были прекрасные задумчивые глаза ярко-синего цвета, крепкие красивые зубы, точеный прямой нос с легкой горбинкой и чувственные, изящного рисунка губы. Он сразу производил очень сильное впечатление, этот Сиволапов. И ничего не было удивительного в том, что Алена, влюбившись по уши в статного сибиряка, закончившего в то время высшие сценарные курсы, выбрала для диплома его пьесу, к сожалению, сильно проигрывающую в своем «совершенстве» синеглазому автору. Но любовь зла… И Алена мощным режиссерским даром вытолкнула имя молодого драматурга к жизни в кино и театре.
Теперь, закончив «Укрощение строптивой», уже будучи главным режиссером театра, Алена выпускала очередную пьесу Сиволапова, где Кате Воробьевой была дана возможность предстать в новом качестве — отрицательного персонажа.
Театр бурлил обычными повседневными заботами, и очередное опоздание мадам Оболенской на службу взвинтило лишь изнывающую от отсутствия событий в собственной личной жизни Сколопендру. Улучив момент, когда Алена, откинувшись за режиссерским столиком на спинку стула, попросила костюмеров принести из пошивочного костюм Воробьевой и помочь актрисе одеться и сделать другую прическу, Сколопендра подсела сбоку и зашипела в ухо Малышке:
— Вот вы, Алена Владимировна, руководитель театра… должны знать… Вдовин прикрывает безобразия Оболенской.
Алена рассеянно отозвалась, перелистывая исчерченный вариант пьесы.
— Да бросьте, Зинаида Ивановна. Старая женщина, из прекрасного дворянского рода, с несложившейся, безумно трудной судьбой… Какие безобразия? О чем вы?
— Вот, вот. Из прекрасного дворянского рода. Это-то всех и вводит в заблуждение. Она же алкоголичка, Алена Владимировна. Позволяет себе опаздывать на дежурство аж на час, а как дыхнет — так сразу понятно: пила точно, потому и опухшая вся, и опаздывает потому… Вы же сами-то не видите, вся в творчестве.
— А я и не должна видеть, Зинаида Ивановна. — Голос Малышки прогудел с угрожающей высоковольтной мощью. — Вдовин прекрасно сам справится с этой проблемой. Извините, у меня репетиция, мне бы не хотелось отвлекаться…
— Отвлекаться, видите ли, не хотелось бы, — бурчала разъяренная Сколопендра, демонстративно покинув зал. — А вопрос кадров — важнейший, уж руководителю-то понятно должно быть.
Натолкнувшись на вылетевшую в коридор Катю Воробьеву в полном, можно сказать, неглиже, она недовольно пробормотала: «Вот бордель-то!» — и понесла свое грузное тело к кабинету зам. директора.
А Малышка вдруг ощутила почти болезненную жалость к Оболенской. Ей была очень симпатична эта худенькая большеглазая женщина, кроткая, с встревоженным выражением лица и манерами великосветской дамы. Зинаида не первый раз нападает на нее, и Алена однажды застала омерзительную сцену: Сколопендра оскорбляла Оболенскую, а та молча слушала, как провинившаяся школьница, с вежливой виноватой улыбкой, и только пальцы, вечно задрапированные старенькими ажурными перчатками, мелко дрожали…
Говорили, что Оболенская родилась в эмиграции, в Париже, получила прекрасное образование в Сорбонне. А потом вышла замуж за какого-то актера из Питера, уехала с ним туда, училась на актерском факультете, но актерская судьба не сложилась, так же, впрочем, как и личная жизнь. Ее муж, видимо, оказался еще тот прощелыга. Рассчитывал на богатых родственников жены, но у них началась какая-то денежная неразбериха, и никакого наследства не было получено. Оболенская вернулась в Париж ухаживать за умирающей матерью. Потеряв всех близких, осела в России — теперь уже почему-то в Москве… В общем, толком о ней Алена ничего и не знает. И может, права Сколопендра: надо бы знать.
От мыслей об Оболенской Малышку отвлекла появившаяся на сцене Воробьева. Алена вскочила со стула, поднялась к авансцене.
— Катюша, мне не нравится. Понимаешь, если она шлюха и пробы ставить негде, значит, мы должны все же поискать местечко в ее душе, где пробы отсутствуют. И в одежде, и в прическе это поискать… Иначе все однозначно. Ну-ка повернись!
Катя крутанулась вокруг себя, распахнулись разрезы короткой яркой юбки, открывая длинные ноги в чулках с резинками и блестящие малиновые трусики-бикини. Она дотронулась до сильно загримированного лица, припудренного блестками, и спросила:
— Грим тоже ярковат?
— Да. Будем пробовать от обратного. Давай так. Лицо без косметики. Знаю, знаю, сейчас начнутся слезы по поводу того, что ты без макияжа — моль. Но мне сейчас и нужна моль. Итак, образ моли. Строгий английский костюм, юбка чуть выше колен, гладко зачесанная голова, пучок сзади — пусть слегка старомодный — тем неожиданней будет ее поведение. Туфли… Так! Никаких каблуков, что-то типа «чешек», чтобы походка была мягкая, вкрадчивая. И давай попробуем очки. Такая идеальная студентка-пятерочница. Зануда, одним словом. Благопристойная зануда. Ну что мордочку-то скукожила? Не нравится? Это же проба!
— Алена Владимировна, но ведь она же убийца.
— Ну правильно. А что у убийц на лбу написано: «Господа, я — убийца!»? Вот здорово было бы! Чем дольше зритель не сможет согласиться с тем, что в этой благовоспитанной пятерочнице прописался сам дьявол, тем будет интересней. Согласна?
Катя уныло взглянула исподлобья на режиссера:
— Так хотелось бы сыграть что-нибудь острое, характерное, как бы… крайность человеческой природы.
— Здрасьте, приехали! Катерина! Это — второй курс! Работа на образ. Нехарактерных ролей вообще не существует! Если хочешь знать, твои Лариса и Катарина героини только потому, что вокруг них сюжет крутится и они — носители идеи драматурга. Ты сегодня как с луны свалилась! Опять магнитная буря? О твоей метеочувствительности уши слышать уже отказываются.
— Да ей просто здешний климат не в кайф, — раздался из темноты зала веселый голос Сиволапова. — Небось в Штатах у родителей голова не болит.
Алена вздрогнула, и на бледных щеках вспыхнул яркий румянец. Она сразу похорошела, и голос стал влажным и глубоким.
— Нечего актрису отвлекать воспоминаниями о приятном. Ей сейчас трудно — и прекрасно! Не сбивай с толку, Петр! Иди, Катюша, поищи все, о чем говорили. Перерыв — пятнадцать минут. Свет в зал не надо!
Малышка вприпрыжку ринулась к режиссерскому столику, где Сиволапов пристроился у настольной лампы и любовно перелистывал испещренный режиссерскими ремарками вариант своего детища.
— Люблю тебя, — шепнул Петр, не отрывая глаз от пьесы.
— Меня или свое произведение? — так же шепотом отозвалась Алена.
— Ты развращена до безобразия своей профессией — везде мерещатся парадоксальные трактовки и мизансцены. Автор в темноте зрительного зала объясняется в любви своей пьесе! Иди ко мне, зайка, я соскучился.
Алена, повертев головой по сторонам, шагнула в объятия Сиволапова и словно сразу утонула в нем. Но уже через секунду высвободилась из рук Петра, протерла очки кончиком шейного платка и голосом, утратившим привлекательность, распорядилась:
— Так, мой дорогой, подумай-ка над этим диалогом. Что-то здесь неточно.
Две головы склонились над исписанной стопкой листков. А с последнего ряда бельэтажа со вздохом поднялась Инга Ковалева, молодая актриса, второй сезон работающая в театре. В ее жгуче-черных чуть растянутых к вискам глазах застыли злые слезы. Красивое тонкое лицо было обезображено страдальческой гримасой. Казалось, еще чуть-чуть — и она забьется в страшной истерике, взорвав тишину полутемного зала дикими, отчаянными криками, взбаламутив видимость порядка и отлаженности в непростом механизме жизни, именуемом «театр».
В кабинете заместителя директора Нины Евгеньевны Ковалевой отводила душу переполненная негодованием Сколопендра.
— Видите ли, княжеский титул делает ей исключение…
— Да при чем здесь это? — поморщилась Нина Евгеньевна. — Просто Перегудову до всего было дело, все успевал… царствие ему небесное. А у этой… одни пристрастия и представления обо всем весьма сомнительные. Я часто, Зинуля, вспоминаю, как мы здесь начинали. Все молодые, все равны… справедливость какая-то существовала. А теперь… борьба за выживание.
— Да уж это точно! — с воодушевлением подхватила Сколопендра. — Ингушу жалко… — И, осторожным взглядом проверив в глазах старинной приятельницы, а теперь, волей судеб, начальницы, дозволение на продолжение больной темы, продолжала, подыскивая нужные слова: — На глазах ведь выросла. А как в дипломном спектакле играла! Помню, Перегудов обещал ей со временем интересные роли. А сейчас… похоже, девочке ничего и не светит…
Нина Евгеньевна нервным щелчком выбила из пачки сигарету, глубоко затянулась.
Весь театр знал, как до умопомрачения обожает она свою единственную дочь, как гордится ею и как способна перегрызть глотку всякому, кто ее обидит.
— Сама-то не пробовала говорить с Аленой?
— Боюсь Инге еще хуже сделать. — Нина Евгеньевна проверила лежащую на рычаге трубку и доверительно склонилась к уху Зинаиды Ивановны. — Инга сама с ней несколько раз говорила — просила ввести ее на роли Воробьевой. Но пока ей только разрешено присутствовать на репетициях новой пьесы на предмет второго состава Воробьевой. Здесь другое… Сиволапов ведет себя по отношению к Инге весьма недвусмысленно. Звонит, приглашал поужинать вместе…
— Ходила? — Сколопендра задыхалась от переполнявших ее чувств.
— Ходила… Вернулась под утро… В общем, ситуация — хуже не придумаешь. — Нина Евгеньевна поискала глазами пепельницу и, не найдя, в сердцах затушила окурок в горшке с протестующим против подобного обращения всеми своими колючками огромным плоским кактусом.
— А сама она… Ингуша… она-то как к нему?
— По-моему, влюблена до полусмерти. — Нина Евгеньевна тяжело, прерывисто вздохнула.
Сколопендра тоже вздохнула, и обе погрузились в тягостное, больное раздумье.
Зам. директора Ковалева была человеком театральным в самом высоком смысле этого слова. Глубоко понимая природу театра, она никогда не допускала других приоритетов, кроме творческих, никогда организационная и производственная деятельность не была в ущерб режиссеру, актерам, цехам, осуществлявшим работу над спектаклями.
Нина Евгеньевна одна из первых сумела рассмотреть в Алене Поздняковой огромное режиссерское дарование, прожужжала все уши бывшему главному режиссеру, что нельзя упустить эту очкастую малышку. И при этом умудрилась никак не задеть профессиональное самолюбие Перегудова — наоборот, убедила, что, несмотря на талант, Позднякова — начинающая, а он — мэтр и это прибавит ему чести — вырастить яркого ученика. Сработало. Боявшийся оказаться в ситуации «побежденного учителя» Перегудов пришел к выводу, что он уже ох как немолод, а Алена несколько лет будет развиваться творчески под его отеческой опекой, а там и, даст Бог, будет кому театр передать.
Дочь Ковалевой и Алена в один год перешагнули порог театра. Имея навык все просчитывать намного вперед, Нина Евгеньевна позвала Алену на дипломный спектакль, в котором Инга играла главную роль.
— Ей нужно серьезно заняться голосом, — вместо ожидаемых дифирамбов сообщила Малышка после спектакля взволнованной матери. — Внешние данные хорошие, а голос… Тусклый, невыразительный. Чуть пытается повысить его — пищит, а писклявый высокий голос на сцене — что ножом по тарелке. Низы у нее совсем отсутствуют. — Алена недоуменно пожала плечами. — Почему в училище так мало уделяли этому внимание — непонятно. Она же не в немом кино будет работать.
Сердце Нины Евгеньевны от обиды и досады рвалось на части. Она так и видела свою ненаглядную девочку в ролях, которые играет Воробьева. Против самой Катерины Ковалева, впрочем, ничего не имеет. Нормальная симпатичная девочка. И родители — милые люди. Несколько лет назад Нина Евгеньевна гостила у них в Калифорнии. Таких людей можно только уважать. Отец — один из первых предпринимателей горбачевского периода. Был директором банка, потом кожей почувствовал какую-то опасность для крупного бизнеса и переехал с семьей в Штаты. Младший сын учится в Оксфорде. По Кате до недавнего времени у родителей болело сердце — хорош был у нее репертуар: Баба Яга и шесть массовок. Но теперь… Катины родители шлют приглашения Малышке провести отпуск в любой точке земного шара. А та без своего Сиволапова — ни шагу.
Какая-то дикая карусель вертелась в голове у Нины Евгеньевны. Ее Инга, ее ненаглядная, любимая девочка страдает, а она, мать, ничем не может ей помочь. И все так уродливо переплелось. Вчера вечером Петр позвонил ей в одиннадцать, а в час ночи Инга положила трубку. Проговорить два часа по телефону! И где в это время была Алена? А если она догадается или кто-нибудь скажет, то Инге придется уходить из театра. Из театра, который для нее с детства был родным домом. Инге было пять лет, когда она впервые вышла на сцену в розовском «Дне свадьбы», потом Перегудов еще несколько раз поручал ей детские незначительные роли. И кто бы мог подумать, что судьба так зарулит… так все перебаламутит…
Мощный толчок в дверь кабинета заставил вздрогнуть обеих женщин.
— В чем дело? — успела вскрикнуть Нина Евгеньевна, и в этот же момент задом наперед с огромной коробкой в руках ввалился реквизитор Сева Киреев по прозвищу Домовой.
— Ура! Нина Евгеньевна! Справедливость восторжествовала! Мы теперь такое устроим! Чертям в аду тошно станет от нашей пальбы! Виват! Победа!
— Успокойся, Сева! — всегда сдержанная с подчиненными, Ковалева волевым усилием задавила в себе личные переживания и из сумасшедшей страдающей матери превратилась в умного, спокойного руководителя. — Что ты приволок? Что это за махина?
— В этой махине… — от волнения Севка даже задохнулся, — то, о чем вы так сокрушались… сокрушались, что отсутствие э-то-го не сможет украсить юбилей нашего театра, потому что дорого и нам не потянуть!
— Ну? — Нина Евгеньевна в недоумении пожала плечами.
— Ага, сдаетесь! Не можете угадать?! Считаю до трех, не угадаете — унесу в реквизиторский.
— Киреев, прекрати балаган. Вечно как тайфун! — поморщилась Сколопендра.
— Правда, Севка, кончай свои выкрутасы, — засмеялась Нина Евгеньевна. — Что в коробке?
Киреев гордо подбоченился и произнес торжественным голосом:
— Тысяча петард и фейерверков!
— Откуда? — хором охнули Ковалева и Сколопендра.
— Оттеда, вестимо! Из Америки! В подарок театру от бизнесмена Воробьева. Вот так! Побегу разбираться. Можно, да? Там еще три коробищи!
Веснушчатое детское лицо Севки сияло таким невероятным счастьем, что даже Сколопендра не удержалась от улыбки.
Домовой крутанулся на одной ноге, подпрыгнул, коснувшись рукой подвесок на люстре, и с радостным воплем под звон хрусталя выволок коробку.
— Вот дите-то! — не то одобрительно, не то осуждающе прошипела вслед Сколопендра.
— Ну, хорошо! Пойду посмотрю на все эти дары! — Ковалева приподнялась с кресла, но потом вдруг села и, взволнованно глядя на дверь, за которой скрылся Сева, произнесла: — Дите-то дите, но на этом мальчишке без преувеличения весь театр держится. Уникальный парень! Ведь и прибился к театру случайно. Помню, я его на работу брала — после девятого класса пришел наниматься рабочим сцены… Через месяц знал наизусть все спектакли. Еще через месяц актеры перестали опаздывать на выход — он бегал по гримерным, предупреждая каждого. Перестановки в затемнении на сцене стали происходить так бесшумно и отлажено, что все только диву давались. Реквизит весь был обновлен и подавался с такой четкостью, что актеры ходили ко мне толпами и спрашивали, что это за чудо-домовой появился в театре. Я его в реквизиторский цех тогда перевела. Хотя место его работы ничего не значит. Следит абсолютно за всеми цехами. Даже переодевания актеров за кулисами умудряется осуществлять. И все уверяют, что, когда переодевает Севка, получается намного быстрей. А старики вообще без него как без рук. Каждого после спектакля домой доставит без промедления. Актер вышел — такси уже ждет. Так же с театральными машинами. Раньше за пожилыми артистами съездить, привезти к спектаклю с трудом удавалось — театральные производственные нужды заполняли весь день. Теперь под Севкиным давлением оба наших водителя так свой график ухитряются подтасовать, что непременно стариков доставят в театр. Удивительный тип этот Севка! Недавно на переодевании Воробьевой вообще анекдотический случай произошел. У нее за кулисами полное переодевание, и костюмер Вера ждет ее с платьем, перчатками, туфлями и прочим. Севка с реквизитом мимо пронесся, глянул в ее сторону и шепчет: «Верунь, колготки перепутала — Катерине на этот выход зеленые нужны, а ты какие приготовила!» — и сам бегом в костюмерную… Да-а, такое впечатление, что это не человек, а какое-то порождение театра. Хвалишь его — сердится… Ну ладно, Зинаида, пойду… Дел невпроворот.
Сколопендра молча кивнула, в задумчивости вышла в коридор, сожалея о том, что не успела присоединить в монологу Ковалевой свои собственные симпатии Севке. Прошлой зимой к ней в больницу если кто и ездил из театра, то только Севка. Фрукты привозил, всякий раз допытывался, не скрывает ли она каких-нибудь своих нужд. Вот только нежной дружбы с Оболенской она ему никак простить не может…
Холодный осенний вечер запеленал засыпающий город плотным влажным туманом. К ночи ветер не утихомирился, но словно подустал неистово рвать из рук прохожих пакеты и свертки, выворачивать раскрытые зонты, срывать головные уборы и играючи катить колесом по мостовой шляпы, потешаясь над нелепыми пируэтами их обладателей, пытающихся догнать и уже не сметь водрузить их на голову.
Около погрузившегося в темноту театра натужно поскрипывал раскачивающийся фонарь, стилизованный неизвестно под какую никому не интересную эпоху — самодурство главного художника, ухнувшего на изготовление этого чудища уйму денег, — и похохатывала дребезжащими переборами кровля нависающего над входом козырька.
Непривычно пустынный, словно сразу осунувшийся от тоски по дневной суете, с крыльями прилегающих флигелей театр выглядел гигантской летучей мышью. Казалось, вот дождется полуночи, напружинится и, взлетев, вцепится мертвой хваткой в намеченную невинную жертву…
В одном из флигелей располагался служебный вход, и сквозь окно рядом с крыльцом слабо пробивался свет настольной лампы.
Елена Николаевна Оболенская раскладывала пасьянс под широким пластиковым абажуром лампы.
Ночное дежурство сравнительно недавно стало входить в обязанности вахтера. Раньше в ночную смену заступал охранник. Но потом театр разорился на централизованную систему, всюду была подведена сигнализация — необходимость в живой охране отпала, а вахтерам предложили за дополнительную оплату ночевать в театре — на всякий непредвиденный случай. Они и в самом деле возникали, разные случаи, только непредвиденными их вряд ли можно было назвать: то позвонит за полночь Катя Воробьева — машину, мол, бросила у театра, просьба проверить, горит ли лампочка сигнализации; то кто-нибудь впопыхах забыл что-то в гримерной, а вдруг не в гримерной, а еще где-то… срочные междугородные звонки от актеров, снимающихся в других городах и не успевающих к утренней репетиции.
Час был поздний, и Елена Николаевна уже застелила узкий диванчик стареньким пледом, чтобы, проворочавшись в тяжких раздумьях, провалиться к рассвету в глубокий, как обморок, сон.
Резкая телефонная трель оторвала ее от удачно сложившегося пасьянса. Недоумевая над выходившим трижды бубновым королем, Елена Николаевна машинально ответила:
— Театр! Слушаю вас.
Прерывистое, взволнованное дыхание в трубке мгновенно отозвалось непонятной тревогой.
— Я слушаю! Алло! — повторила мадам Оболенская.
— Простите… Мне нужна Елена Николаевна Оболенская. — Мальчишеский голос с сильным иностранным акцентом вибрировал и срывался — казалось, молодой человек пробежал длинную дистанцию, так шумно он дышал.
— Слушаю вас. Я — Елена Николаевна Оболенская.
Трубка, стиснутая ее побелевшими пальцами, молчала. Елена Николаевна облизала мгновенно пересохшие губы, почти шепотом попросила:
— Пожалуйста, говорите. Кто вы?
И услышала в ответ такой же взволнованный шепот:
— Я — Адам.
— Кто?
— Адам Оболенский. Внук вашей старшей сестры Нины.
По коридорам спящего театра еще добрые полчаса разносился гулким эхом срывающийся на хриплый полушепот голос старой одинокой женщины, в чудный миг провидения вдруг обретшей смысл своего шаткого, больного существования.
А еще через какое-то время, когда стрелки часов давно уж перевалили за полночь, взорвав пронзительным звонком в дверь ночную тишину, явилась Екатерина Воробьева. Глаза ее, уже очищенные от макияжа, словно два кофейных зернышка прятались в бесцветных густых ресничках. Лицо слегка поблескивало от наложенного слоя крема. Наспех застегнутая не на те пуговицы теплая клетчатая кофта давала понять, как она торопилась.
— Катюша?! — удивилась Елена Николаевна. — Что случилось, дорогая?
Катя покрутила в руках ключи от машины, автоматически бросила на вахтерский столик и, вздрогнув от их звона, заговорила, как всегда, эмоциональной скороговоркой:
— Елена Николаевна, простите за мое дикое вторжение. Но мне вдруг пришло в голову, как я должна играть финальную сцену в «Столичной штучке». Меня, Елена Николаевна, словно озарило… знаете, будто током шибануло. И все, что я придумала, решается только в пластике, только в мизансценах… Без единого слова! Я должна немедленно это проверить в декорациях. Завтра прогон в десять. Алене будет не до того. Да и мне хотелось бы одной, без посторонних глаз электриков, реквизиторов, радистов, которые ни свет ни заря начнут сновать по сцене… Я не разбудила вас, Елена Николаевна? Ох, как я вас перебаламутила — вы бледная, как стенка. Простите ради Бога. Я ненадолго. Можно, включу на сцене дежурный свет? К счастью, весь реквизит остался в декорациях — мне это тоже понадобится. Можно, Елена Николаевна?
Мадам Оболенская проводила Катю на темную сцену. С помощью фонарика они отыскали рубильник дежурного света, и Катя, точно загипнотизированная озарением своего творческого порыва, не дожидаясь ухода Оболенской, начала проверять финальную сцену.
Елена Николаевна вернулась на вахту, дрожащими пальцами вытянула из пачки сигарету, закурила, собрала в колоду раскиданные по столу карты, отложив в сторону постоянно сигналившего ей в пасьянсах бубнового короля, так чудесно воплотившегося в Ниночкиного внука. Улыбнулась, взяв в руки брошенную связку Катиных ключей. Вместо брелка на колечке раскачивался смешной плюшевый слоненок с трогательным розовым хоботом, ушами-бабочками и длинным мягким хвостом.
Эта девочка всегда проявляла к ней ласковое внимание и участие. Стараясь не обидеть, привозила из всех поездок скромные, но всегда нужные подарки. К началу сезона, вернувшись от родителей, она подарила Оболенской две пары ажурных черных перчаток. Растроганная до слез, Елена Николаевна спрятала их до так называемых худших времен, которые неизбежно привнесет грядущая старость. Хотя теперь ее жизнь, возможно, станет совсем иной…
Катя отсутствовала долго и появилась так тихо, что заставила Елену Николаевну вздрогнуть.
— Простите, я снова вас испугала. Алена требует, чтобы я двигалась бесшумно, как бы стелилась… А все, что репетируешь, сразу влезает в привычку. Можно, я пять минут посижу?
— Конечно, садись, Катюша. И сразу убери ключи — забудешь, как уже не раз случалось. Хочешь чаю?
Катя плюхнулась на стул, вытянув длинные ноги в мягких кроссовках, и, потянувшись, сладко зевнула:
— Спасибо, я уж сейчас помчусь домой. А как вы себя чувствуете, Елена Николаевна? Что-то вы мне сегодня не нравитесь — бледненькая и руки вот дрожат. Может, какое-нибудь лекарство надо? Я — мигом, здесь за углом дежурная аптека.
От теплых Катиных слов внутреннее напряжение неожиданно прорвалось неудержимым потоком слез. Они текли и текли, несмотря на мужественные усилия Елены Николаевны взять себя в руки. Встревоженная Катя извлекла из кармана упаковку бумажных платочков и протянула Оболенской. Потом встала и, обняв ее подрагивающие худые плечи, стала гладить по голове, приговаривая шепотом:
— Ну-ну, не надо, не надо плакать. Успокойтесь, моя дорогая. Давайте вытрем слезы… вот так. Ну-ну, успокойтесь. И расскажите, что случилось. Сразу легче станет. А я никому — ничего. Меня подруги даже называют «братской могилой». Вы — замкнутая, все в себе держите. А иногда надо расслабиться и с кем-то поделиться. Освободиться. Что-нибудь стряслось серьезное?
Елена Николаевна всхлипнула и отрицательно мотнула головой.
— Стряслось… замечательное, Катюша. Впрочем, это долгая история, а уже поздно…
— Я никуда не спешу. — Катя села на стул и, подперев руками голову, приготовилась слушать. — Мне, Елена Николаевна, теперь все равно не заснуть. Чем бока мять, кувыркаясь без сна в кровати, посижу с вами.
Оболенская благодарно улыбнулась, и глаза ее мгновенно опрокинулись в далекое прошлое.
— У меня была сестра, Катюша. Старшая. Ниночка. Перед самой войной она вышла замуж за итальянца, и они уехали из Парижа. Последние вести от нее мы с мамой получили к концу войны — они с мужем участвовали в итальянском Сопротивлении. Потом наступило полное молчание. И уже после войны пришло письмо от родственников ее мужа, которые сообщали, что Ниночка с мужем попали в плен и, видимо, погибли или были угнаны в Германию… Короче, больше известий никаких не поступало. Мы ждали, а потом перестали надеяться. Тем более что обстоятельства швыряли нас с мамой из одного города в другой. Последние годы мама жила в Марселе, где и умерла… Царствие ей небесное.
Катя глубоко вздохнула и перекрестилась. Оболенская промокнула влажные глаза и продолжала:
— И вот сегодня, Катюша, как раз перед твоим приходом, мне позвонил внук Нины…
— Да что вы! — Катя резко вскочила со стула, ее глаза загорелись, щеки вспыхнули ярким румянцем. — Вот здорово! И он здесь? В Москве? А как же он отыскал вас?
— Все это очень загадочно и непостижимо, хотя я уже давно взяла в привычку ничему не удивляться… Ну разве не поразительно то, что в моих пасьянсах последние две недели неизменно появляется бубновый король, как будто в мою жизнь врывается какой-то молодой человек. Чудеса, да и только.
Елена Николаевна в задумчивости повертела лежащей отдельно от колоды картой.
— Можно? — Катя осторожно потянула из рук Оболенской карту и жадно впилась в нее любопытным взглядом.
Оболенская тихо рассмеялась.
— Какая ты смешная, Катюша. Это же не фотография, а просто картинка, причем дурного вкуса… Одним словом, он приехал учиться в Московский международный университет для иностранных студентов. Оказывается (мы об этом ничего и не знали!), у Ниночки еще во время войны родился сын, которого она доверила на время какой-то многодетной итальянской подруге. А дальше вся эта дикая карусель: Сопротивление, плен, убийство при попытке к бегству… Ниночкин ребенок вырос в итальянской семье… Его приемные родители пытались отыскать нас с мамой, но…
Сам Адам… Моего внука зовут Адамом, и это еще одно интересное совпадение… Я, видите ли, Катюша, недавно много дней провела, размышляя о праотце нашем Адаме, даже записи кое-какие сделала… Так вот, Адам — он представился Оболенским, но носит другую фамилию — год назад потерял родителей. Они погибли в авиационной катастрофе. Боже, бедный мальчик! Адам всегда стремился в Россию, она манила его. Это так понятно. Кровь несет в себе мощнейшую информацию. Родители, видимо, были совсем небогаты, но как-то удалось получить гранд на обучение в России. Он приехал, и кто-то в университете надоумил его связаться с дворянским собранием. Я никогда ни с кем там не общалась, но мир тесен, и, к изумлению своему, узнаешь, что все обо всем знают. Ему сказали, что якобы какая-то Оболенская работает в театре. И вот…
Елена Николаевна закрыла лицо руками и опять разрыдалась.
Катя сидела напротив, тихо глотая слезы, и теперь уже не пыталась успокоить Оболенскую. Она понимала, что эти рыдания — спасение от стресса, сердечного приступа, любой другой опасной для жизни реакции. Ее кофейные глаза сейчас еще больше напоминали маслянистые зернышки — так влажно блестели они сквозь полуприкрытые пшеничные реснички.
— Спасибо тебе, милая, — проговорила наконец Елена Николаевна. — Завтра я увижусь с Адамом и непременно расскажу ему о тебе. У меня так стиснуло сердце, когда он позвонил, что, если бы не ты, неизвестно, как бы я дожила до утра.
— Елена Николаевна, дайте слово познакомить меня с Адамом. Я его по театрам повожу. Кстати, сколько ему лет?
— Девятнадцать.
— Отлично. Найдем общий язык. Я вас так поздравляю, так поздравляю… Это по справедливости судьба устроила. Теперь вы не одна, и он не один. Класс!
Возбужденная Катя расцеловала Оболенскую и вихрем скрылась за дверью, но через минуту появилась опять с виноватой улыбкой:
— Ключи забыла… — и, схватив плюшевого слоненка, вприпрыжку побежала к машине.
Мадам Оболенская конечно же не сомкнула глаз. А в девять утра позвонили из больницы и сочувственный голос сообщил, что актриса Воробьева не придет на репетицию: она попала на машине в аварию и, к счастью, «отделалась» сотрясением мозга и переломом ноги.
Трясущимися руками Елена Николаевна собрала со стола карты, с глубоким вздохом положила сверху колоды ту самую картинку, которую несколько часов назад вертела в руках Катя, и вздрогнула. Ей показалось, что тонкие губы бубнового короля расползлись в ироничной усмешке и он плутовато подмигнул одним глазом…
Театр бурлил и ходил ходуном. Актриса, на которой держится репертуар, выбыла из строя минимум на месяц. Перелом ноги в двух местах и сотрясение мозга — дело нешуточное. Тут таблеткой аспирина или дежурством «неотложки» на спектакле не отделаешься. Кстати, тем и другим не отличающаяся богатырским здоровьем Катя Воробьева вынуждена была изредка пользоваться.
«Неотложку», правда, по своей инициативе вызывал влюбленный в нее по уши Севка. Все знали, что у Кати больное сердце, но она обычно скрывала недомогания, и лишь Домовой своим пристрастным, обожающим взглядом умел сквозь слой грима увидеть синеватую бледность, проступающую на лице девушки. Во время ее спектаклей, как только выдавалась свободная минутка, Севка вставал в кулисе, и тогда никто не дергал его, не донимал вопросами и просьбами — таким благоговейным и отстраненным становилось его лицо. Он умудрялся непременно выкроить время, чтобы довести до блеска ее роскошную изумрудно-перламутровую «Тойоту», припаркованную во дворе театра, привозил домой продукты, встречал и провожал, если Катя отправлялась на съемки в другие города, таскал ее вещи при отъездах на гастроли. Одним словом, служил ей самозабвенно и безоговорочно, но делал это с таким чувством внутреннего достоинства, что ни у кого в театре не поворачивался язык обсуждать его поступки. Впрочем, однажды Катина подруга, хорошенькая инженю Женя Трембич, взвилась до небес, когда Севка принес Кате в гримерку туфли из мастерской.
— Ох, Катерина, наглая же ты баба, — заклокотал праведным гневом Женин осевший на низы голос. — Совсем парня поработила! Он тебе скоро попу подтирать будет.
— Ну и что? — хладнокровно отозвалась Катя, разглядывая починенную туфлю. — Если надо будет, то и подотрет. Знаешь, Женька, чем возмущаться, задумайся вот о чем. Нас с детства без устали учат любить. Но никогда никто мне лично — не знаю, как тебе, — не сказал о том, как надо принимать любовь. Чтобы не обидеть, не оскорбить, чтобы человек, отдавая, знал, что все это принимается с благодарностью. Нет, ну как принимать подарки на день рождения, нам, конечно, говорили: книксен, ножкой шаркнуть, высветить благодарную улыбку и так далее. А как принимать дар души? Не упакованный в нарядную бумажку сувенирчик, а то, чему нет цены?! Севка хотел бы положить к моим ногам весь мир и сходит с ума от того, что на свою символическую зарплату не может купить мне букет роз. Поэтому на то, что в его возможностях, на все его бесконечные, пусть незначительные, но необходимые для него проявления внимания и заботы я с восторгом отзываюсь согласием. Я его обожаю до полусмерти, он понимает. Понимает и то, что это обожание совсем не такое, которого бы он хотел. Но он мне как-то сказал: «Какой дурак выдумал, что любовь без взаимности — трагедия? Я люблю тебя и счастлив!» Он — особенный, отдельный… а вы все хотите подогнать его под собственные стереотипы. Короче, отстань и больше на эту тему не возникай!
Теперь, когда взволнованная Алена попросила всех пройти в зал и обсудить ситуацию, на Севку было жалко смотреть. Ему не сиделось, и он, перебравшись на сцену, сновал от портала к порталу, создавая видимость тщательной проверки реквизита. Как единственно двигающийся объект, он приковывал к себе десятки глаз, машинально фиксирующих любое его движение. Если бы знали все эти люди, что совсем скоро будут напряженно воспроизводить в памяти каждый шаг мечущегося по сцене Севки, чтобы вспомнить, как он нагнулся, пристально вглядываясь в коврик, лежащий у дивана, поднял что-то, прищурившись, рассмотрел на свету включенной настольной лампы, пожал недоуменно плечами и, налив в стакан воды из графина, заготовленного для прогона, бросил туда это «что-то», сразу забыв о своей находке и продолжая выполнять десятки других никому не нужных дел.
Алена в который раз поразила своим мужеством и умением мгновенно взять себя в руки.
— Что говорить, ситуация, конечно, непростая. Премьера назначена, отменить ее невозможно. У нас — восемь дней. Это очень мало, чтобы равноценно заменить Катю, но, как говорится, надежда умирает последней. Премьерных спектаклей в этом месяце четыре, но помимо них — три «Бесприданницы» и три «Укрощения строптивой». Это сурово. Но безвыходных ситуаций не существует — значит, выход найдется.
— На два из этих шести спектаклей прилетает продюсер из Японии, — напомнила Нина Евгеньевна.
— Так что же теперь получается, что судьба наших гастролей в Японию будет зависеть от сломанной ноги Воробьевой?
Реплика принадлежала партнеру Кати. Паратов в «Бесприданнице» и Петруччо в «Укрощении строптивой» — смуглый красавец и признанный кино и театром секс-символ Валерий Гладышев вальяжно раскидал свои длинные руки и ноги в последнем ряду партера. Капризный рот растянулся в ироничной ухмылке в ответ на быстрый неодобрительный взгляд Малышки.
— Между прочим, — возразила Алена, — во всем цивилизованном мире при переговорах о гастролях просто высылается кассета с записанным спектаклем. Наивно полагать, что только ради этого продюсер примчится в Москву. У него тут есть другие дела. Кто спорит, что смотреть спектакль живьем намного выгодней для театра. Поэтому приглашение на спектакль пока не отменяем.
Но Гладышева неожиданно поддержал директор театра — Валентин Глебович Пожарский, за глаза просто Глебыч или Шкафендра — огромных размеров и необъятной толщины человек, с вводящей в заблуждение добродушной улыбкой и располагающими манерами барина и сибарита. Перекатывая в пухлых пальцах нераспечатанную сигару, он ласково улыбнулся Алене и заговорил неторопливым задушевным тенорком:
— Я многократно предупреждал о необходимости двух составов на все центральные роли, особенно в тех спектаклях, которые идут как премьерные и пользуются таким успехом, как «Бесприданница» и «Укрощение…». Алена, дорогая, вы уже морщите лобик, и я предвижу все ваши возражения. Но бывают ситуации в любом производстве (а театр — специфическое, особенное, но тоже производство, и никуда от этого не денешься), так вот… бывают ситуации, когда нежелательное становится насущным. Дай Бог скорейшего выздоровления Катюше — обещаю, что театр немедленно подключит лучших врачей, если возникнет необходимость, — но ввод на ее роли в теперешней ситуации просто необходим. Таких коммерчески выгодных гастролей, как в Японию, нам давно никто не предлагал. Да и потом… Алена Владимировна, в театре без работы много талантливых молодых актрис… На днях уже вывесили распределение «Двенадцатой ночи» Шекспира. Воробьева опять в одном составе, да еще и на две главные роли. Я убежден, что вы придумали чрезвычайно интересное, дерзкое, как всегда, режиссерское решение. Виолу и Себастьяна только средствами кинематографа могла играть одна актриса, и я заранее трепещу перед появлением чего-то грандиозно неожиданного и яркого. Но… опять тысяча «но»…
— Знаете, Валентин Глебович, — взорвалась вдруг завлит Галя Бурьянова, — ей-богу, странно слушать ваши рассуждения. Вы всю жизнь в театре и вдруг отказываетесь понимать, что такая актриса, как Воробьева, — товар штучный, извините за грубое сравнение. Одна ее пластика… эти ее неправдоподобно длинные руки и ноги, которыми она от природы владеет не так, как все… Да что я про пластику! Ее актерская природа предполагает драматизм такой глубины и непредсказуемости, что даже у матерых театроведов дух захватывает. Она на сцене существует таким образом, что вспоминаешь невольно слова Достоевского о том, что слишком широк человек, хотелось бы сузить. Он имел в виду человека в жизни, а Екатерина умудряется со сцены транслировать на каком-то подсознательном уровне такую бездонность и непознаваемость души… И ведь такая в ней, смотришь, вроде бы порочность сидит, а то вдруг озаряется светом… до святости…
Пожарский добродушно рассмеялся:
— Ну, пошла-поехала… Уж эти мне теоретики! Я, Галчонок, против таланта Воробьевой ничего не имею — более того, самый большой ее поклонник. Еще покойному Перегудову всегда советовал обратить на нее внимание — уж больно хороша она была в «Двух кленах», не Баба Яга, а объедение какое-то… Теперь к насущным делам и поконкретней. Инга Ковалева назначена вторым составом в «Столичной штучке». С этим, думаю, вопрос решен? Что скажете, Алена Владимировна?
Алена задумчиво протерла шейным платочком стекла очков и прогудела низким, неприятным голосом:
— Будем пробовать. Пока что о полноценной замене речь идти не может.
Головы всех присутствующих, как по команде, выполнили равнение налево, где сидела Инга. Актриса залилась ярким румянцем и, закусив до боли нижнюю губу, низко опустила голову.
— Валентин Глебович, машина свободна? — сменила тему Малышка. — Я навещу Катю, она в больнице наотрез отказалась оставаться, ее под расписку отпустили домой. Световую репетицию пройдете без меня. Через полчаса художница принесет эскизы костюмов для «Двенадцатой ночи» — пусть подождет. Проводите ее в мой кабинет…
Во дворе театра Алену догнал взволнованный Севка.
— Ты хочешь поехать со мной? Без тебя на световой репетиции не обойтись, — предупредила Алена.
Домовой отрицательно мотнул головой. В его всегда блестящих глазах появилось тусклое, тоскливое выражение. Он выглядел несчастной собакой, потерявшей своего хозяина.
— Алена Владимировна, сейчас все говорили о том, как заменить Катю в спектаклях, но никому не пришло в голову, что здесь что-то не так…
Алена остановилась, внимательно посмотрела в Севкино потерянное лицо.
— Что ты имеешь в виду, Сева? Что не так?
— Я говорил с ней по телефону. Она сказала, что на выезде из тоннеля к бордюру ее прижал какой-то джип. Катя — замечательный водитель, прошла отличную водительскую школу в Штатах — там движение покруче нашего. Она всегда за рулем предельно сконцентрирована и ездит по правилам.
Малышка озадаченно покачала головой.
— Ты считаешь, что кто-то покушался на Катину жизнь?
Севка побледнел еще больше, и Алене на миг показалось, что сейчас он лишится чувств. Она обняла его за плечи и слегка встряхнула.
— Во-первых, успокойся. Она — в порядке. Жива и практически здорова.
— Этот джип все время ехал за ней, — стоял на своем Севка. — Возможно, пока это было просто какое-то предупреждение… Но ведь и оно могло стоить ей жизни.
Волнение Домового внезапно передалось Алене. Она зябко повела плечами, но тут же взяла себя в руки.
— Я думаю, все намного проще. Ну ехал за ней какой-нибудь полуночный болван, к тому же не совсем трезвый. Увидел роскошную блондинку за рулем и решил подклеиться.
— Елена Николаевна сказала, что Катя была уже умытая на ночь. А без косметики она совсем не роскошная, — уныло возразил Севка.
Алена засмеялась, потрепала парня по взлохмаченной голове.
— В темноте этого не видно. Только длинные белые волосы. Скорее всего, Катя устала, эмоционально перенапряглась. О чем, кстати, свидетельствует ее ночной приезд в театр. Тем более живет она сейчас в детективном материале: убийства, покушения, подозрения, поиски преступника. Вот по ночам и не спится. Все, дорогой, я понеслась. Купить от тебя Кате цветы? — Малышка лукаво подмигнула Севке.
— Какая вы все-таки замечательная, Алена Владимировна… — проникновенно начал Севка, но Алена махнула рукой и села в машину. Оглянувшись, увидела одинокую долговязую фигуру посреди дворика и снова поежилась. Интуиция любящего сердца чего-то да значит…
Дверь в квартиру Кати Воробьевой открыл рослый красивый мужчина с серебристой проседью в отливающих синевой черных вьющихся волосах. На вид Алена дала ему лет сорок, но тут же, окинув наметанным профессиональным взглядом его холеные руки, безупречно облегающий атлетическую фигуру дорогой фирменный костюм и учуяв запах роскошного мужского парфюма, подумала, что, возможно, он старше, но следит за собой безупречно.
Мужчина склонил голову и посторонился, пропуская Алену внутрь.
— Здравствуйте. Вы — Стивен. — Алена вошла в переднюю и протянула мужчине руку.
Крепкое и одновременно бережное рукопожатие сразу расположило ее к этому человеку.
— Здравствуйте. А вы — Алена Владимировна. Наслышан от Кати и по нескольку раз видел ваши спектакли. Можете считать меня вашим искренним поклонником.
— Тогда можно просто Алена, — засмеялась Малышка. — Тем более я знаю, как иностранцам даются наши труднопроизносимые отчества. Хотя вы иностранец весьма сомнительный — даже с моим абсолютным слухом не улавливаю ни малейшего акцента.
— Вот именно… сомнительный. Я воспитывался в русскоязычной семье, а из России, можно сказать, не вылезаю. То, что я по паспорту американец, ровным счетом ничего не значит. Выдает только имя, но мои коллеги в клинике называют меня Степа. Стивен, как они определили, по-русски Степан. Проходите, Алена, Катя очень ждала вас, но ей ввели много обезболивающих лекарств, и сейчас она заснула. Будить ее я бы не хотел — ей нужен отдых. Кофе, чай?
— Кофе и, если можно, покрепче.
Стивен провел Алену в просторную гостиную, со вкусом обставленную старинной мебелью из карельской березы. Пока он возился на кухне, Алена, с удовольствием опустившись в мягкое ампирное кресло, внимательно оглядела комнату. Мебель, обтянутая полосатым атласом, была отреставрирована первоклассным краснодеревщиком и производила впечатление совсем новой. Лучам мягкого осеннего солнца словно доставляло удовольствие выгодно подсвечивать полированную поверхность изысканного дерева, шустрыми зайчиками прыгать по стеклянным створкам буфета, вызванивая на хрустальных фужерах и рюмках свои беззвучные солнечные мелодии.
Алена погрузилась в странное блаженное оцепенение. Где-то там, за пределами этой огромной светлой квартиры, бушевали страсти, люди ссорились и выясняли отношения, обижались и негодовали, искали выхода и впадали в отчаяние, а здесь был тихий светлый покой. Наверное, она тоже очень устала. Устала от всего. Взяв однажды себе за правило слова Бетховена: «Ради своего искусства жертвуй, жертвуй всегда пустяками житейскими», Алена мужественно преодолевала уйму бытовых трудностей. Пять лет прожив в институтской общаге, она овладела мудростью коммуникативных навыков и научилась говорить жесткое «нет» любым посягательствам на свое время и психологическое пространство. Теперь она перебралась в маленькую двухкомнатную квартиру неподалеку от театра, но хроническая нехватка времени не давала благоустроить новое жилье. Прихожая была забита коробками с книгами, в комнатах уже разобранные книги лежали на полу аккуратными стопками, но никак не получалось купить полки. Петр, поначалу с воодушевлением взявшийся приводить квартиру в порядок, повесил люстры, смонтировал кухонную стенку… и, пожалуй, все. У него тоже ни на что не хватало времени. Впрочем, Алена не выносила иллюзий и чувствовала, что в их отношения закралась какая-то неправда. Она терялась в догадках и не задавала никаких вопросов, боясь до ужаса услышать правду или — еще хуже — спрятанную за словами ложь. По взаимной договоренности они жили порознь — Петр снимал квартиру в арбатских переулках, но ночевать он оставался все реже и реже. Вчера позвонил поздно и сказал, что через полчаса приедет, но в его взвинченном тоне Алене почудилась не всегдашняя радость предстоящей встречи, а что-то тягостно-насильственное, точно он делал это только для нее, обреченно шел на поводу у сложившегося стереотипа отношений. Ночью он был, как всегда, безупречно нежен, и умело доведенная им до высот крайнего блаженства Алена должна была бы, обессиленная и счастливая, провалиться в глубокий сон, но ее абсолютный слух вычленил из всей их страстной любовной симфонии несколько фальшивых звуков, услышанных, видимо, и им самим и потому впопыхах исправленных. Исправленному верить… Но только не в любви, где любая поправка саднит, как плохо залеченная рана. Заснула Алена лишь под утро, поэтому, прикидываясь спящей, слышала, как Петр ворочался, ходил курить на кухню, — что-то его терзало…
Появившийся с подносом Стивен вернул Алену к насущным проблемам.
— Катя позвонила вам из больницы? — спросила Алена, помогая расстелить белоснежную кружевную салфетку.
— Да. И в пять утра я забрал ее. — Стивен подвинул Алене вазочку с печеньем и налил кофе из изящного белого кофейника.
— Как здесь все у Катюши красиво.
— Красиво. Она очень любит свой дом. Это уже много. А когда имеешь хороший вкус и материальные возможности, тогда и получается богато, уютно и комфортно. Простите, я, как всегда, забыл сахар и не спросил, не нужны ли сливки. — Стивен стремительно поднялся с кресла, и Алена еще раз отметила, какое тренированное, спортивное тело у этого красивого американца.
— Сливки не надо, а сахар с удовольствием. Я жуткая сладкоежка, — улыбаясь, сообщила Алена.
— Миниатюрные хорошенькие женщины обычно любят сладкое, — отозвался из кухни Стивен. И, показавшись в дверях гостиной, пояснил: — Это не комплимент, а констатация факта, хотя вы располагаете к тому, чтобы говорить комплименты. Пока Катя спит, я могу заливаться соловьем, а в ее присутствии — замолкаю. Она крайне строго следит за моим нравственным обликом, потому что очень дружна с моей женой.
— Как удачно сложилось, что вы оказались в Москве. И раз вы забрали ее из больницы, значит, ей действительно можно лечиться в домашних условиях. Это так?
— Не совсем. Под постоянным присмотром врачей было бы, безусловно, разумней. Но… она наотрез отказалась. Дома ей спокойней, а сотрясение мозга лечится абсолютным покоем. Лежать, лежать и лежать. К ней станет приходить каждый день медсестра — я договорился в своей клинике. И подруга поживет здесь. А главное, Катюша не хочет волновать родителей, поэтому будет, как обычно, разговаривать с ними по телефону. Это каждодневный ритуал. От родителей решено происшествие скрыть. Я давно дружу с этой семьей и знаю, что начнется в их доме, если они узнают, что Катя попала в аварию. Во-первых, они не поверят ни одному слову и сразу примчатся, чтобы увидеть все своими глазами. А путь не близкий, и здоровье у обоих оставляет желать лучшего.
— И, как вы считаете, это надолго? — с глубоким вздохом спросила Алена. — У нас без нее в театре все летит кувырком.
— Надолго ли? — Стивен задумался. — Я хоть и не невропатолог, а хирург, и к тому же совсем в другой области, но тем не менее могу сказать определенно, что сотрясение средней тяжести лечится три недели абсолютным покоем. Что касается ноги… там двойной перелом лодыжки и голени. Это месяц. Но опять же это прогнозы на среднестатистического больного. У творческих индивидуальностей все по-своему и непредсказуемо. Контрольный рентген назначен через неделю.
— Понятно, — протяжно прогудела Малышка. — Ах, как все это некстати.
— Болезнь и травмы никогда не бывают кстати, — усмехнулся Стивен. — Еще, слава Богу, легко отделалась.
— Ох, это да! — Перед мысленным взором Алены всплыли тоскливые глаза Севки, и она осторожно спросила: — Скажите, Стивен, Катя никогда не говорила вам о том, что… ну… не делилась ли она с вами своими страхами… возможно, ей казалось, что за ней кто-то следит, преследует…
Стивен рассмеялся:
— Относительно преследований знаю точно, что оно регулярно осуществляется молодым человеком по имени Сева. Удивительно обаятельный парень! Но на меня смотрит зверем — я его боюсь. Он собой пытается вытеснить все и всех, кто вокруг Кати.
Алена с удовольствием отхлебнула горячий душистый кофе:
— Именно он и насторожился в первую очередь.
С лица Стивена исчезла ослепительная улыбка, он сразу стал старше, и Алена кожей почувствовала мощную внутреннюю силу, которой обладал этот человек.
— Простите, а в какой области вы работаете? — поинтересовалась она.
— В той, что вам долго еще не понадобится. Я — пластический хирург. Помогаю людям стать красивее и моложе. Хотя сам, как ни парадоксально, считаю, что в любом человеке и любом возрасте есть та гармония и красота, которую нельзя корректировать, тем более грубым хирургическим вмешательством. Возможно, я пришел к этому выводу не сразу. С опытом.
— То есть вам пациент до операции нравится больше, чем после нее. Так, что ли? — удивилась Алена.
— Ну, если в общих чертах, то так. А если развивать эту тему, то всплывет целая философия. К примеру, возраст женщины всегда выдают глаза — их выражение, вобравшее опыт целой жизни, нельзя поменять хирургическим методом. И слава Богу. То, что дано свыше, имеет смысл принимать как дар, а не бежать от себя, как черт от ладана… К примеру, моя жена старше меня на пятнадцать лет. Старшему сыну — двадцать пять. Их всегда принимают за любовную пару. Глаза жены вводят в заблуждение: все морщинки на месте (никогда не было речи о том, что она воспользуется услугами моей клиники), а весь ее необыкновенный внутренний мир — в ярких, лучистых, радостных глазах. Напрашивается вывод: позитивный стереотип мышления способен изнутри производить омолаживающий эффект.
— Она тоже хирург, ваша жена?
— Нет, Джой — психолог. Она много работала с Катей. Катюша всегда остро переживала свою актерскую невостребованность, и Джой сумела ее убедить в том, что мысли всегда формируют ситуацию и меняют качество жизни, что в возможностях человека влиять на свое будущее… — Стивен оборвал себя, прислушался: — По-моему, Катя… Простите, я сейчас.
Алена тоже прислушалась, но в квартире по-прежнему царила полная тишина. Дорогие пластиковые окна надежно защищали обособленность этого пространства от внешней среды. Внезапно Алена ощутила досаду, вспомнив о круглосуточном шуме Садового кольца в своей неустроенной квартирке, и подумала, что так будет всегда — стеклопакеты для нее слишком дорогое удовольствие. Но она тут же недовольно отмахнулась от этих мыслей. А то больше проблем нет! И так голова идет кругом.
Стивен появился так тихо, что Алена вздрогнула.
— Ну что? Как она?
— Во сне, наверное, вскрикнула. — Он сел рядом с гостьей. — Еще кофе?
— Спасибо, мне нужно вернуться в театр. — Алена тяжело вздохнула. — Вы себе представить не можете, как все трудно, — пожаловалась она Стивену и поймала себя на том, что ей хочется, чтобы он положил теплую крепкую ладонь ей на макушку, а она, почувствовав, как струится по ней его добрая умная энергия, рассказала бы ему без утайки, как ей сейчас одиноко, что совсем она никакая не «железная леди», а просто глупая испуганная девчонка, волей судьбы оказавшаяся в положении творческого руководителя такого сложного и жестокого организма, как театр, и что ей подчас невыносимо трудно без мудрого совета и безусловной веры в ее силы. Алена испугалась собственных мыслей и подозрительно покосилась на Стивена — кто знает, может быть, его супержена научила считывать чужие мысли. Взгляд Малышки натолкнулся на такое сочувствие и понимание в глазах американца, что в носу предательски защекотало.
Алена решительно встала.
— Спасибо, Стивен. Хоть и не удалось повидать Катю, зато теперь я спокойна, что она находится в надежных руках. И сроки ее выздоровления в общих чертах ясны. Передайте Катюше самый нежный привет, скажите, что уже готов макет и эскизы костюмов для «Двенадцатой ночи». Ее ждет интересная и трудная работа.
Стивен кивнул понимающе:
— Она говорила, что вы придумали такое решение, когда Виолу и Себастьяна играет одна актриса, то есть — Катя. Насколько я помню пьесу, они там встречаются… Это должно быть необычно и неожиданно. Мечтаю оказаться на премьере.
— Это будет нескоро. А вот на юбилей театра непременно пришлю официальное приглашение.
— И когда?
— Через две недели. — Алена внезапно поморщилась. — Ох, только что было собрание в театре, и у всех вылетело из головы, что, помимо спектаклей, Катя занята в юбилейном капустнике и там ее заменить будет совсем непросто…
И вновь крепкое бережное рукопожатие Стивена.
— Знаете, я отдохнула с вами, — невольно вырвалось у Алены.
Американец задержал на секунду дольше положенного Аленину руку и, приняв ее слова как должное, ответил с мягкой улыбкой:
— Всегда к вашим услугам.
Уже выходя из подъезда, Алена вспомнила, что забыла в машине розы, купленные для Кати.
— Не мог букет поднять, — недовольно пробурчала Алена водителю, сладко дремавшему на переднем сиденье.
— Так я ж не был уверен, кому эти цветы, — виновато отозвался толстый, флегматичный Миша. — Может, еще куда поедем.
Алена схватила букет, почти бегом вернулась обратно.
На ее звонок дверь долго не открывали. Наконец послышались шаги, и перед Аленой вновь предстал Стивен. Видно, ее возвращения не ждали. Перед ней стоял совсем другой человек. Злое, капризное выражение изменило до неузнаваемости его лицо. Алена вздрогнула и инстинктивно сделала шаг назад.
Свою оплошность американец исправил мгновенно. Добродушная ослепительная улыбка далась ему одним движением мускулов.
— Цветы мне? — неуклюже пошутил он с галантным полупоклоном.
— Цветы… — Малышке самообладание далось не так легко. — Цветы передайте Кате от того самого Севки, которого вы боитесь.
В замешательстве она повернулась к стоящему на этаже лифту и вдруг услышала приглушенные рыдания, доносившиеся из открытой двери.
— Катя? — В два прыжка Алена очутилась у порога квартиры.
Стивен перекрывал дверной проем своим большим сильным телом и чуть насмешливо глядел сверху вниз на напружинившуюся Малышку.
— Конечно же не Катя. Она спит. В квартире наверху вчера были похороны. Вдова, совсем еще молодая женщина, безутешна. Я с утра уже оказывал ей помощь. Это же современный дом — слышимость или, как говорят в театре, — акустика превосходит все ожидания. — Стивен осуждающе покачал головой и прибавил: — Жду обещанного приглашения на юбилей.
— Нервы, нервы, нервы… — бормотала себе под нос Алена, спускаясь в лифте. — Немедленно брать себя в руки. Только что объясняла Севке, что, когда работаешь в детективном материале, вечно что-нибудь подозрительное мерещится…
В театре Алену поджидал очередной сюрприз. Около служебного входа стояла «неотложка», и рядом на скамейке устроили перекур монтировщики во главе с завпостом Золотухиным. Увидев Алену, они дружно вскочили на ноги и, переглядываясь, с трудом сдерживали смех. У Алены сразу отлегло от сердца, и она быстро спросила, обращаясь к Золотухину:
— Николай Петрович, к кому «неотложка»?
Коренастый неторопливый дядя Коля поправил заложенную за ухо сигарету и хмыкнул:
— Секс-символ Гладышев в глаз заработал!
— Севка? — моментально среагировала Алена.
Монтировщики дружно заржали. Дядя Коля усмехнулся и, с нежностью глядя на Малышку, успокоил:
— Да не волнуйся ты так, Алена Владимировна. Никакой не Севка. Женя Трембич так ему врезала, что сейчас у него вместо глаза какой-то экзотический плод.
— И все же раз понадобилась «неотложка», значит, там что-то серьезное?
— Ну да, как же, — иронично протянул один из монтировщиков, Митя Травкин. — Ему ведь главное вокруг своей персоны скандал организовать. Странно, что он еще фотографа не вызвал, чтобы тиснуть на обложку «ТВ ПАРКА» свою израненную физиономию. С очередной легендой, как актер, отказавшись от дублера, получил увечье в сложном каскадерском трюке… А от врачей ему нужно медицинское заключение. Во-первых, вид теперь не товарный, а у него съемки, а во-вторых, грозится Женьку под суд отдать.
— Та-ак… — Алена не спешила входить в театр. Она испытывала огромную симпатию к бригаде рабочих сцены. Все пятеро были молодые ребята, интеллигентные, тонкие, умные. Трое из них заочно учились на постановочном факультете, а ее любимец белобрысый Митя Травкин поступил в этом году во ВГИК на режиссерский. Когда от усталости и напряжения на репетициях у Алены заходил «ум за разум», она советовалась с Митей, и вдвоем они всегда отвоевывали у своей сложной профессии шаг вперед. — Так из-за чего весь сыр-бор разгорелся?
Самый младший из монтировщиков, Федор Бритиков, заканчивающий в этом году школу, потряс поднятой рукой и попросил:
— Я расскажу, ладно? — И, получив согласие окружающих, придвинулся поближе к Алене. — Вы когда уехали, Алена Владимировна, Гладышев совсем распоясался — стал нести всякую ахинею про Воробьеву, якобы она купила свою незаменимость, что на самом деле она как партнер на сцене оставляет желать лучшего. А как женщина вообще не может волновать, никакой, мол, сексуальности. Тут вскочила Женя Трембич и закричала, что, естественно, его она волновать не может, потому что он совсем другой сексуальной ориентации, и чтобы он вообще немедленно заткнулся и отправлялся к своей «подруге» Васе, который уже изнывает от безделья на служебном входе. Тут Гладышев схватил Женьку за волосы и стал орать, чтобы она сейчас же извинилась и что она сама в окружении Воробьевой, потому что та ее «гуляет» по заграницам и покупает ей шмотки в дорогих магазинах. Ну вот тут Трембич выскользнула из рук Гладышева, причем оставив добрую половину своего роскошного хвоста в его руках, и дала ему кулаком в глаз. Он взревел как бешеный, но тут уж мы кинулись его держать, иначе Женьке была бы хана… Глаз его сразу залился кровью и начал распухать, а Гладышев визжал как резаный и требовал вызвать милицию и «неотложку». Ковалева тотчас побежала звонить. Не знаю, сообщила ли она в милицию, но врачи приехали, сейчас его осматривают.
— Ясненько… Свет, конечно, не успели проверить?
— Обижаете, Алена Владимировна, — откликнулся зав. постановочной частью дядя Коля. — Хотя если бы не Севка, то вряд ли успели бы… Он на нервной почве так активизировался, что электрики только стонали. Все прошли, кроме финала. Но вы сами говорили, что там свет будет другой.
— Молодцы! Спасибо. А где сейчас Женя?
— Рыдает у себя в гримерной. А Гладышев с врачом — в кабинете Ковалевой, — с готовностью доложил Федор. — И еще у вас сидит художница по костюмам.
Алена перевела дух и с непоколебимым выражением лица решительной походкой вошла в здание театра.
Уже в коридоре ее окружили взволнованные сотрудники, заговорили вразнобой, но Алена коротко ответила всем сразу:
— Я в курсе. Всем цехам приготовиться к монтировочной репетиции. Актеров пока не отпускать. Ингу Ковалеву, пожалуйста, попросите пройти на сцену.
Алена поискала взглядом в группе людей Домового и кивком головы попросила его подойти.
— Я сейчас не хочу отвлекаться на посторонние разговоры, Сева, — тихо заговорила Алена, вместе с ним следуя в зрительный зал, — но так как памяти ни на что не хватает, чтобы не забыть, прошу тебя сделать одно дело.
Севка с готовностью кивнул.
— Ты должен узнать кое-что. Были ли в квартире, которая прямо над Катей, вчера похороны.
Севка в недоумении уставился на Алену, не задавая никаких вопросов, но и совсем ничего не понимая. Потом согласно затряс головой и шепотом произнес:
— Сегодня же спрошу у Кати.
Алена недовольно сдвинула брови:
— Ты плохо слушаешь! Кате ничего говорить не надо. — И прибавила тихо: — Ради ее же безопасности… Все, Сева. Развивать эту тему некогда.
Несколькими часами позже в театре появился Петр Сиволапов. Стараясь быть незамеченным, уселся в последнем ряду погруженного в полумрак зала. На сцене находились две актрисы: Инга Ковалева и Женя Трембич. Лица обеих девушек показались Петру заплаканными. Он удивился этому обстоятельству, припоминая, где по ходу пьесы существует повод для слез. О том, что стряслось с Воробьевой, ему поведала встреченная по пути в театр мадам Оболенская. Она брела по бульвару, вцепившись в высокого молодого человека так, точно боялась, что он испарится, словно мираж. Столкнувшись с Петром, Елена Николаевна, казалось, с трудом его узнала — глядела на Сиволапова, точно спускаясь с небес на землю, а когда коснулась ее, вздрогнула и воскликнула:
— Боже праведный, Петр Алексеевич, а я вас сразу и не узнала! — Ее голос был влажным от счастья, а глаза сияли, как два пылающих факела. — Разрешите представить вам моего внука Адама.
От пристального взгляда Сиволапова не ускользнуло легкое замешательство, промелькнувшее в глазах молодого человека. Петр сразу мысленно переодел его в костюм прошлого века — таким старомодным изяществом веяло от облика юноши. Он был высок и строен, во всем угадывалась какая-то нервная подвижность — в быстром испытующем взгляде бледно-голубых глаз, сильно увеличенных толстыми стеклами очков, в судорожных движениях нежной гибкой шеи, когда он привычкой, доведенной до чрезмерности, отбрасывал назад длинные пшеничного цвета волосы, в ломаных импульсивных метаниях затянутых в лайковые перчатки пальцев.
— Рад познакомиться, — с заметным акцентом произнес молодой человек, и Петр отметил чарующее обаяние его голоса, живущего по своим собственным законам музыкальности.
Мадам Оболенская, точно вынырнувшая из нирваны, взволнованно сообщила все события прошедшей ночи, и Петр заторопился в театр. Откланялся и сказал вспыхнувшей от его слов Елене Николаевне.
— Очень славный мальчик, ваш внук.
Следуя по привычному маршруту в театр, Сиволапов с удивлением обнаружил, что досадует на себя за то, что недостаточно пообщался с молодым человеком, по непонятной причине так мощно завладевшим его мыслями. Было такое впечатление, что он чего-то недоглядел в этом юноше, чего-то недопрочувствовал. Впрочем, это естественно при таком стремительном знакомстве. Но так как природе Петра было чуждо долго истязать себя непонятными ощущениями, он пришел к выводу, что внук Оболенской — персонаж и это обстоятельство сильно давит на воображение драматурга…
Микрофон на режиссерском столике Алены разразился гневной тирадой в адрес пошивочного цеха.
— Откуда берутся соображения, что если пьеса не костюмная, если в ней живут современные люди, то можно до самой премьеры перебиваться личным гардеробчиком, ну на худой конец позаимствовать необходимые детали из подбора? Я уже неоднократно говорила, что для данного спектакля форма — на первом месте. На первом месте для цехов! Остальное — мое дело. Короче, о безобразной работе пошивочного цеха придется говорить отдельно. И, честно сказать, я уже в отчаянии от перспективы работы над «Двенадцатой ночью». Там костюмы невероятной сложности…
По взвинченности Алениной речи Петр вычислил, что дело, конечно, не в пошивочном цехе. Раздражитель в другом… И Петр уже догадывался, в чем именно. Дождавшись перерыва, Сиволапов подсел к Малышке.
— Все знаешь? — коротко спросила Алена.
Петр кивнул.
Они помолчали, потом Алена заговорила шепотом:
— Понимаешь, Инга не может это играть… Не говоря уже про другие воробьевские роли…
— Почему?
— Потому что она не актриса, Петр! Актриса — самая загадочная профессия на свете. Ну почему красивая, обаятельная, даже обольстительная в жизни Инга Ковалева, стоит ей оказаться по ту сторону рампы, теряет и обаяние, и прельстительность, и привлекательность? У нее даже отрицательного обаяния нет, с которым можно было бы еще что-то пробовать в твоей пьесе… И почему некрасивая, долговязая, неуклюжая Катя Воробьева, преодолевая этот загадочный, мистический, я бы сказала, порог рампы, становится божественно привлекательной, манкой, сексуальной? Из бесцветной «моли», как она сама себя называет, превращается в яркую женщину — вамп. Что это? Не знаю. Никто не знает… То, что от Бога — не поддается раскодированию.
— Погоди, Алена, дай собраться с мыслями, — проговорил ошарашенный Сиволапов. — Я что-то не совсем врубаюсь. Если у Инги нет положительного обаяния, то почему же и отрицательного нет? А какое есть?
— Господи, Петька, ты как с луны свалился! Никакого нет! В ее природе нет предпосылок для того, чтобы быть актрисой. Я прекрасно к ней отношусь, и мне жаль, что ей с детства задурили голову, внушая, будто ее ждет необыкновенная актерская судьба. Ни у кого, и в первую очередь у мамаши, не нашлось мужества сказать девочке… что не надо ей заниматься этим неблагодарным делом! Хорош довод: она с пеленок на сцене этого театра! Да все дети очаровательны, каждый по-своему! Теперь что касается отрицательного обаяния. В мире есть сотни, тысячи великих актеров с отрицательным обаянием. Отрицательное обаяние — такой же допуск в профессию…
— Ну хорошо, — вдруг грубо оборвал ее Петр. — И что ты собираешься делать?
Алена какое-то время удивленно изучала лицо Сиволапова, точно увидела его впервые, потом прогудела низко и жестко, как пчела, решившая ужалить:
— Я нашла выход, и, если даже тебе это придется не по вкусу, придется принять его как состоявшийся факт. Два часа назад я позвонила в таллинский театр и связалась с Энекен Прайс. Как тебе известно, у них премьера твоей пьесы состоится через месяц, но Энекен уже три месяца в материале, они давно перешли из репетиционного зала на сцену, а какая она актриса, не мне тебе рассказывать! Томас, главный режиссер, отнесся к нашей проблеме с большим пониманием и сочувствием и отпускает Энку на неделю. Тебе от нее пламенный привет, говорит, что наш дипломный спектакль ей до сих пор снится…
— В кошмарах, — мрачно закончил фразу Сиволапов.
На сцене появился Севка и, с разбегу спрыгнув в зал, через секунду оказался перед режиссерским столиком.
— Катастрофа! Алена Владимировна! Маша не выключила трансляцию, и все, что вы сейчас говорили, было слышно в гримерках. У Инги началась истерика — как полоумная вылетела из театра.
— Ну и что? — хладнокровно отозвалась Малышка. — Ничего нового для себя она не услышала. Я беседовала с ней сегодня.
— Ты соображаешь, что говоришь! Теперь это стало достоянием всего театра! — Смуглое лицо Сиволапова исказилось такой ненавистью, гневом и болью, и все эти эмоции, которыми он не умел сейчас управлять, так однозначно свидетельствовали о том, какое чувство он испытывал к Инге, что бедный Севка готов был провалиться сквозь землю. Однако непредсказуемая Алена расценила это по-своему.
— Отлично! Вот в таком состоянии праведного гнева ты крайне убедителен. Найди Ингу и приведи ее в себя.
Сиволапов рванул из зала на предельной скорости, а Алена, откинувшись на спинку стула, протерла очки и устало спросила Севку:
— Трансляцию отключил? — И, получив положительный ответ, шепотом поинтересовалась: — Ну как? Узнал?
Севка не успел открыть рта, как в зал влетела заведующая труппой, бывшая актриса театра Лидия Михайловна Синельникова. Всегда сильно накрашенная, с длинными яркими ногтями и волосами цвета синьки, за что и сподобилась прозвища Мальвина, она отличалась не только высочайшим профессионализмом в своей сложной, нервной, требующей особого дипломатического дара должности, но также была большой искусницей в плетении изощреннейшего рисунка кружев интриг и сплетен. В ней непостижимым образом сочеталось искреннее желание служить интересам театра с непреодолимой потребностью умело сталкивать актерские амбиции, ловко подставляя под удар невиновного и всегда выходя сухой из воды. Если Перегудов терпел и прощал своей старой сотруднице ее так называемые слабости, то Алене эти игры были отвратительны.
— Вы отвлекаете творческих людей от их прямых обязанностей: играть, репетировать, улучшать качество своей жизни в театре, — жестко сказала ей как-то Алена, когда одна из актрис пожаловалась, что ей чуть ли не устроили бойкот из-за того, что она взяла бюллетень и вместо нее в детских утренниках выкручивались другие, тогда как ее якобы видели в роли Снегурочки на детских елках в каком-то Дворце культуры. Актриса в самом деле была больна, ни в каких елках не участвовала и остро переживала происходящее. Алена, к всеобщему изумлению, собственноручно докопалась до того, откуда ветер дует, и устроила Мальвине выволочку. Да еще при свидетелях. Синельникова возненавидела Алену и, поняв, что перед ней мощный противник, на время затаилась, ушла в подполье, одновременно оттачивая и шлифуя свое мастерство в другом столичном театре, только что рожденном, куда ее пригласили поработать по совместительству и передать начинающей зав. труппой свой могучий опыт. Но сегодня, после того как встал вопрос о замене Воробьевой, а весь театр собственными ушами убедился, что Ингу Ковалеву совсем сбрасывают со счетов, Мальвина ощутила сильное возбуждение и знакомое покалывание в области солнечного сплетения. А тут еще после перевязки и обследования к ней заявился Гладышев с сообщением, что, помимо травмы глаза, у него лопнула барабанная перепонка и он не слышит одним ухом, поэтому возбуждение Лидии Михайловны перешло в такое экстатическое состояние, что пришлось накапать валокордина. Сейчас, когда она предстала перед Аленой, только трепещущие, как у гончей перед командой: «Ату!», ноздри выдавали ее азарт.
Алена вопросительно взглянула на Синельникову.
— Алена Владимировна, кем будем сегодня заменять Гладышева в «Сирано»? — кротко спросила зав. труппой.
— Почему заменять? — удивилась Алена. — Есть полноценный второй состав. Они с Савченко играют Кристиана в первую очередь.
Теперь неподдельное изумление мастерски выдавила на своем лице Синельникова.
— Вы же отпустили Савченко на съемки в Сочи!
Севка в ужасе схватился за голову и уставился на главного режиссера, чтобы немедленно куда-то бежать, что-то делать, — одним словом, рыть землю, только чтобы спектакль этот состоялся.
Но Алена рассудила иначе. Искоса бросив мимолетный взгляд на Синельникову, она уловила своим проницательным взглядом злорадное торжество, поселившееся затаенно в толстых морщинах вдоль плотно сжатого рта Мальвины. Вздохнув прерывисто, Алена мысленно в который раз пробежала список возможных кандидатур на эту должность — нельзя допускать, чтобы над хрупкими, ранимыми актерскими душами витало это темное существо, полное недоброжелательства и злобы. Так подумала Алена, а вслух спокойно сказала:
— Лидия Михайловна, пожалуйста, объявите замену «Сирано» на «Двое на качелях». Владислав и Маша в театре, я еще никого не отпускала. Они, кстати, только вчера жаловались, что спектакль редко идет, а пьеса на двоих требует более частой проверки на зрителе.
В глазах Синельниковой на мгновение вспыхнули и тут же погасли волевым усилием потушенные искры бесовской неукротимой ярости. И это не укрылось от Алены.
«Прямо как у Панночки из «Майской ночи» — прикидывается благопристойной тихоней, а из глаз молнии вселенского зла рассыпают свои колючие брызги…» В следующую секунду всегда бодрствующее воображение Малышки раскидало до пят синие волосы зав. труппой и водрузило ее верхом на метлу — два длинных клыка вывалились из плотно сомкнутых губ ведьмы, перламутровые тени на веках засветились фосфорическим отливом, и дождь бенгальского огня хлынул из-под полуприкрытых век…
— Побежал готовить реквизит, — вернул главного режиссера к реальности радостный вопль Домового.
Алена, собирая со стола раскиданные во время репетиции вещи, не поднимая головы, попросила:
— Лидия Михайловна, позовите ко мне Гладышева.
— Здесь я, — отозвался из зала недовольный голос раненого секс-символа.
Алена оглянулась, увидела в полумраке зала обмотанную бинтами голову актера.
— Маша, дай свет в зал! — крикнула она помрежу.
— Это что, обязательно надо было так тебя перебинтовывать? — присела к полулежащему в кресле Гладышеву.
— Обязательно-необязательно, а мне завтра сниматься… Пусть уж видят, что я совсем вышел из игры, — чуть слышно пробурчал Валерий.
— Надеюсь, все быстро заживет. — Алена сочувственно положила руку на плечо Гладышева.
— Ну конечно… Если в глазу не начнется отслоение сетчатки. — Сам Гладышев понятия не имел, что это такое, он лишь повторял сейчас то, что, нагнетая панику, вложила в сознание Синельникова. — Вот потеряю зрение, тогда уж Трембич точно всю жизнь будет на мое здоровье работать! Паскуда! Жаль, что милиция так и не приехала, — я бы эту дрянь непременно сдал! — взорвался Гладышев и принялся яростно кусать ногти, выплевывая их, как шелуху от семечек.
— Прекрати! Что за дурацкая привычка! Смотреть противно! — Алена шлепнула Гладышева по руке. — Тебе от природы дана аристократическая внешность — рост, манеры, пластика… А когда ты засовываешь, будто уличный разгильдяй, палец в рот и начинаешь творить эдакое, да еще плюешься, как верблюд… Ужас какой! Соображать надо! Нет привычек, от которых нельзя себя отучить.
— А я и не собираюсь, — нагло заявил Гладышев. — Полюбите меня черненьким, а беленьким меня всякий полюбит… Есть люди, которые меня всяким обожают…
— Не сомневаюсь… — Алена с тоской подумала, что нудными нравоучениями преобразить плебея в подлинного аристократа вряд ли возможно. Для этого надо быть как минимум доктором Хиггинсом, да и материалом должен быть такой человек, как Элиза Дулитл, — с доброй душой и нежным, отзывчивым сердцем. И хорошо бы ума поболее, чем природа отпустила чертовски красивому, обаятельному Гладышеву.
— Ладно, Валера, с Трембич я разберусь, — миролюбиво пообещала Малышка.
— Не думаю.
— Что ты не думаешь?
— Что разборка будет суровой. Она же закадычная подружка вашей обожаемой Воробьевой! Вы, Алена Владимировна, отнюдь не дипломат. К некоторым откровенно пристрастны, а кое-кому от вас никакого житья… Извините, возможно я излишне резок, но если бы вы не распустили таких, как Трембич, может быть, сегодня и спектакль отменять не пришлось бы. Я забыл вам сказать, что от удара этой идиотки у меня лопнула барабанная перепонка, и теперь, помимо того что я ничего не слышу этим ухом, в голове постоянно шум водопада. Это не способствует хорошему настроению. — Гладышев вскочил на ноги и заорал истерично: — Гнида поганая! Лучше не показывайся на глаза! Допрыгаешься — пришьют в темном переулке и не пикнешь!
Слова, изрыгаемые Гладышевым, относились к Жене, которая появилась на неосвещенной авансцене.
— Так… — Алена резко поднялась, пытаясь удержать разъяренного Гладышева. — Эту сцену вы сегодня, по-моему, уже сыграли. Хотите на «бис»? Аплодисментов не будет! Валерка, выбирай слова! Ты же мужчина!
— Кто мужчина? — не задержалось за Трембич. — Ой, не смешите, Алена Владимировна!
— И ты помолчи! Закрыли рты оба!
Низкий голос Алены пророкотал предвестьем страшной грозы. И они оба затихли, подчинившись не человеку, желающему ликвидировать конфликт, а их признанному творческому лидеру. Таким вот Алена ставила все точки над «и» на репетициях — властным, не терпящим возражений или дискуссий тоном.
— Передай Лидии Михайловне, что я просила дать машину отвезти тебя домой. Отдохни, полежи… подумай. Вечером я позвоню. Договорились?
Гладышев молча кивнул и, покидая зал, продемонстрировал Трембич из-за спины огромный, плотно сжатый кулак.
— Иди сюда, Женя, — вздохнула Алена и вернулась за режиссерский столик.
Актриса опасливо покосилась на микрофон и, округлив и без того огромные глаза, прошептала:
— Они специально микрофон не выключили. Я видела, как около пульта Мальвина крутила задницей. Маша уходила кофе пить, когда вы с Петром Алексеевичем разговаривали… Я думала, говорить вам или не надо… Вам и так трудно…
Женя замолчала, искоса поглядывая на Алену. Та выдержала паузу, потом ответила бодрым, уверенным голосом:
— Будем считать, что ничего нового ты мне не сказала… И я тебе не скажу ничего нового, если устрою выволочку за оскорбления, нанесенные Гладышеву. И все же… Выбор сексуального партнера — это неотъемлемое его право, тыкать в нос тем обстоятельством, что у него не так, как у всех, — недостойно и унизительно. В первую очередь для тебя. Что ты знаешь о тех двоих, между которыми любовь?! Это — запретная зона для всяких обсуждений. Не имеешь права, Женя! И вот за это было бы нелишним попросить у Валерки прощения.
Трембич наморщила хорошенький носик, осторожно коснулась роскошных пушистых волос:
— Вообще-то он тоже мог бы извиниться. До головы больно дотронуться. Я что, свои волосы холю и лелею для того, чтобы какая-то скотина своей граблей выдрала с корнем половину?! И потом, что он нес про Катю…
— «Холю и лелею»… Надо же откуда-то слова такие вытащить, — улыбнулась Алена. И тут же стала серьезной. — Я позвала тебя, чтобы спросить вот о чем… Кстати, у тебя сигаретки не найдется?
— Найдется, — удивилась Женя, вытаскивая пачку сигарет. — Вы же не курите, Алена Владимировна.
— Вчера не курила, сегодня закурила, а завтра брошу, — задумчиво произнесла Алена, неумело прикуривая сигарету. — Катя никогда не говорила тебе о том, что она кого-то или чего-то боится?
Женя задумалась:
— Ну почему не говорила? Она жутко боится мышей. Когда видит мышь — теряет сознание.
— Я не об этом. Не казалось ли ей в последнее время, что за ней кто-то следит… может быть, преследует?
Женя какое-то время ошарашенно смотрела на Алену своими громадными серыми глазами, потом шепотом выдохнула:
— Ну да, да, конечно же говорила. Только… я совсем не придавала этому значения…
— Ну? — нетерпеливо и тоже полушепотом спросила Алена.
— Ее замучили какие-то непонятные телефонные звонки. Катька вообще спит не очень-то, а тут только заснет, как вдруг среди ночи звонок. Она всегда пугается: вдруг что-то с родителями. Хватает трубку, а там кто-то дышит и молчит. В последнее время Катька стала отключать телефон на ночь. Вроде бы стало все нормально. А несколько дней назад ей на капот машины положили мертвого окровавленного голубя, и одно крыло было зажато дворником, чтобы он не свалился. Катька таких вещей боится панически, я сама ей этого голубя выкидывала. А потом несколько раз — и около театра, и возле подъезда дома ей под дворник подсовывали голубиные перья. И всегда со следами крови.
— Ужас какой! И подлость! — Алена зябко повела плечами, потушила сигарету и, взглянув на часы, спросила: — Еще что-нибудь Катя рассказывала?
— Да вроде бы все… Хотя… У нее в квартире убирается тетя Люба — она всю жизнь у них убирается, еще когда родители здесь жили — к ним ходила. У нее свои ключи от квартиры, чтобы от Кати не зависеть… Мы были на даче, и она сообщила Катьке по телефону, что принесли какую-то бандероль. Катька про нее сразу же забыла, а когда мы вернулись, мне позвонила перепуганная тетя Люба, сказала, что ей совсем не понравилось, что бандероль принесли домой — обычно за ними на почту надо идти по извещению. И тип, который передавал, тоже не понравился… И она еще до нашего возвращения с дачи эту бандероль вскрыла. А там такой свежевыструганный маленький гробик, а на крышке приделана розочка с голубиным пером…
— Бред какой! — Алена нервно засмеялась. — Абсолютный бред. Насмотрелись, идиоты, бездарных триллеров и давят девчонке на воображение всей этой беспардонной безвкусицей.
— Так если бы было со вкусом, то было бы еще страшней, Алена Владимировна, — возразила Женя.
— Катя эту бандероль видела?
— Нет. Тетя Люба сказала ей, что произошла ошибка, бандероль якобы пришла соседям и просто перепутали дверь.
— Кстати, насчет соседей. Ты не знаешь, кто живет над Катей?
— Не знаю. А… почему вы об этом спрашиваете?
Алена сняла очки и по-детски, кулачками, долго терла уставшие глаза.
— Пока сама не знаю почему… — тихо ответила она. — Еще один вопрос, Женя, и пойдем заниматься делами. Ты хорошо знакома со Стивеном?
Лицо Жени вспыхнуло и залилось ярким румянцем. Она низко нагнула голову, чтобы скрыть свою реакцию. Алена тут же пришла девушке на помощь: рассыпала по столу испещренные страницы текста пьесы, а несколько листков даже спилотировало на пол.
— Ну вот, по народным театральным приметам, теперь еще посидеть придется на этом творении, — гудела Малышка, сползая вниз и усаживаясь на раскиданные страницы пьесы. — Не то, как говорят мудрые аборигены, успеха спектаклю не видать.
Пока Алена манипулировала с текстом пьесы, Женя вполне справилась с волнением и как ни в чем не бывало ответила, чуть улыбаясь:
— Он в общем-то знакомый Катиных родителей… Здесь, в Москве, консультирует в Центре пластической хирургии. Ну, конечно, не только консультирует — иногда сам делает наиболее сложные операции. Меня все время уговаривает сделать операцию, как он выражается, «ушки прилепить к макушке». — Женя опять отчаянно покраснела, даже слезы выступили на глазах, но Алена слушала ее, рассеянно восстанавливая разрозненную нумерацию листов пьесы. — Он, конечно, шутит… но какова наблюдательность! У меня всегда волосы закрывают уши и даже щеки, так он умудрился рассмотреть, что я слегка лопоухая. Впрочем, я не совсем отвечаю на ваш вопрос. Стивена я иногда встречаю у Кати. Вот и все.
«Ну да, вот и все, — думала Алена, делая вид, что занята своими бумагами. — Он в ее глазах безупречный мужчина, эдакий супермен. А что? Не далее как несколько часов назад сама плавилась под его волнующим взглядом».
Алена коротко вздохнула.
— Пойдем ко мне в кабинет — посмотришь эскизы костюмов к «Двенадцатой ночи». Для твоей Оливии художница такого напридумывала! И между прочим, с Гладышевым скорей восстанавливай отношения. Работать в конфликте очень трудно. А он, как ты знаешь, Орсино.
Пока восхищенная Женя Трембич ахала над эскизами, в кабинет Алены просочился Домовой и сообщил низким, полным таинственности голосом:
— Вчера в той квартире были похороны…
…— Наш род очень древний, солнышко мое. Много было воистину святых людей… мучеников. — Елена Николаевна, подперев рукой щеку, с обожанием смотрела на Адама, который, прихлебывая свежезаваренный чай, внимательно слушал то, что рассказывала его двоюродная бабушка. — Князья Оболенские происходят от потомка князя Рюрика — великого князя Черниговского Михаила Всеволодовича. Он принял мученическую смерть в Орде, в ставке хана Батыя, в 1246 году за отказ выполнить языческие обряды монголов. Позже князь был причтен Русской православной церковью к лику святых. От его младшего сына Юрия, князя Тарусского и Оболенского, появился на свет князь Константин Юрьевич, унаследовавший после отца город Оболенск. Сам он уже при жизни именовался князем Оболенским и передал это прозвание в виде фамилии своим потомкам.
Адам с аппетитом откусил пирожное и спросил:
— Нам сейчас по истории России про декабристов читают. Наши предки тоже были среди декабристов?
Елена Николаевна вытянула из стопки лежащих перед ней книг одну, полистала и протянула Адаму:
— Эта книжка издана в Париже, еще до войны. Жаль, что ты не читаешь по-французски. Вот видишь фотографию этого человека? Князь Евгений Петрович Оболенский, поручик лейб-гвардии Финляндского полка. Он был деятельным членом «Союза благоденствия» и Северного общества, принимал активное участие в восстании декабристов, за что был лишен всех прав состояния, провел долгие годы на каторге, затем на поселении и смог вернуться из ссылки лишь после амнистии 1856 года. Так что ты вполне можешь завтра рассказать студентам и вашему историку о своем предке.
Лицо Адама стало задумчивым и несчастным.
— Они не поверят. — Голос юноши прозвучал так подавленно, что Елена Николаевна с тревогой взглянула на внука.
— А… какие, собственно, у них основания тебе не верить?
— Я — бедный. А у нас, как назло, собрались в группе ребята из очень богатых семей. Для них фамилия русского дворянина — пустой звук. Важно состояние родителей.
— Какие глупости! — сердито воскликнула мадам Оболенская. — И, пожалуйста, даже не расстраивайся по этому поводу. Я должна тебе сказать, что среди князей Оболенских и членов их семей было немало лиц, занимавших достаточно скромное место в обществе… Между прочим, именно поэтому было решено создать «Семейный союз рода князей Оболенских». Вот, кстати, из этой же книжки, послушай. Союз этот учреждался «с целью объединения всех членов сего рода, для поддержания в них сознания семейной связи и истекающих из этого сознания обязанностей, для оказания нравственной опоры и денежного вспомоществования членам рода, оказавшимся в трудном материальном положении… а также для охраны чести и достоинства рода».
— А теперь он существует, этот союз?
— Ох, солнышко, это было очень давно. В 1913 году. Но не прошло и года, как нормальная деятельность этой организации была нарушена. Разразилась Первая мировая война… и многие князья Оболенские встали в ряды действующей армии и погибли, выполняя свой долг перед Родиной. Не остались в стороне и княжны Оболенские: Дарья Леонидовна и Зоя Алексеевна были сестрами милосердия. Княжну Зою Алексеевну за исключительное мужество наградили Георгиевской медалью и Георгиевским крестом 4-й степени.
После поражения белого движения князей Оболенских судьба раскидала по всему свету… Но Господь милостив! Он соединил нас, и разве это не чудо?! Мы всегда должны помнить о своих корнях, мой дорогой. Это придает силы. Знаешь, в эмиграции очень многие из нашего знаменитого рода оказались без средств к существованию, приходилось браться за любую работу, чтобы прокормить себя и свои семьи. Оставшиеся же в России до дна испили чашу страданий. С такой громкой фамилией трудно было укрыться и уцелеть. Многие Оболенские кончили свою жизнь в тюрьмах и концлагерях…
Поэтому, что бы там ни говорили твои друзья по университету, чем бы материальным ни пыталась жизнь подменить истинное достоинство, никогда не поддавайся на это, солнышко. Знаешь, мне, старой чудачке, так хочется уберечь тебя от ошибок, которые неминуемо совершает каждый, так хочется вдохнуть в тебя свой горький опыт, чтобы многое уже как бы осталось для тебя позади. Но так не бывает. Ты уже немало пережил… Я страстно буду молить Господа, чтобы эта чаша была тобой уже испита до дна. Прости, дорогой, мою высокопарность. Постоянное одиночество разучило меня легко и просто разговаривать…
— А почему вы никогда не пытались связаться с Дворянским собранием? Для вас, возможно, открылась бы новая возможность встречаться, вспоминать…
Елена Николаевна поморщилась:
— Упаси Господь! Мои воспоминания — как самый изощренный кошмар… Они не становятся с годами легче. Наверное, так уж я устроена. И потом… я трудно схожусь с людьми. А вот для тебя, милый, было бы совсем неплохо познакомиться с этим кругом людей, — Елена Николаевна с улыбкой провела рукой по пушистым волосам Адама. — Ты безумно напоминаешь мне Ниночку. Так жаль, что я стала плохо видеть, все через какую-то дымку. У нас в роду со зрением у всех были проблемы. Ты тоже носишь сильные очки. Это ведь не близорукость?
Адам взял руку Оболенской и прижался к ней губами. Ответил дрожащим голосом:
— Нет, бабушка. Это врожденная дальнозоркость. Я всю жизнь, с самого детства ношу очки.
— Как ты хорошо сказал: «бабушка»… Спасибо, солнышко. Я знаю, тебе это непросто далось — исполнить мою просьбу. Лиха беда — начало. — Елена Николаевна с беспокойством окинула лицо Адама. — Ты такой бледный, худенький… и такой нервный. Я тебе куплю витамины, сейчас рекламируют какие-то необыкновенные витамины специально для укрепления нервной системы.
Адам засмеялся:
— Нормальный я. Не надо меня лечить. Это я за вами должен ухаживать. Это я вам куплю витамины и вообще все, что нужно…
Адам внимательно осмотрел убогую, похожую скорей на келью комнату княгини Оболенской.
— Я только с точки зрения моих сокурсников бедный. Мне платят стипендию, и это вполне приличная сумма, чтобы покупать своей бабушке витамины, лекарства, продукты и даже одежду. Что вы меня так пристально изучаете? — смутился юноша.
— Петр Алексеевич Сиволапов все тебя вспоминает… Помнишь, мы его встретили на бульваре? Запал, говорит, мне ваш внук в душу. Такая внешность должна быть у какого-нибудь лорда, не менее. И еще сказал, что ты очень похож на меня. А я удивилась тогда и возразила, что ты — вылитая моя старшая сестра, а уж мы с ней всегда были словно от разных родителей. — Елена Николаевна усмехнулась. — Всякий видит по-своему. Я положу тебе еще пирожное, Адам? Боже, что с тобой, мальчик?
В бледно-голубых, неестественно огромных из-за сильных стекол глазах застыли слезы, и Адам, стесняясь их, неловко промокал уголки подушечками пальцев.
— Почему так трудно жить?! — горестно прошептал он, от волнения произнося слова с еще более сильным акцентом. — Мне иногда кажется, что человек изначально существует во враждебной ему среде обитания, и каков бы он ни был, плох ли, хорош ли, в результате жизнь убивает его, как хищная, против человека настроенная субстанция. Ее нельзя обхитрить, нельзя задобрить, нельзя купить, потому что она выше всяких намерений и волевых действий человека. Она беспощадно и неумолимо делает свое дело, перемалывает с одинаковой бесстрастностью и святого и подонка. Мои родители были верующие люди, они водили меня в храм, я молился и много слышал с детства о христианской любви и всепрощении, но у меня всегда было чувство, что речь идет о какой-то другой жизни, невидимой, и все это не имеет никакого отношения к тому, в чем мы варимся каждый день, каждую секунду, лихорадочно пытаясь выжить… Она так многолика, жизнь, у нее тысячи уровней, и ко всякому она имеет свой особый, изощренный подход, а на самом деле — особую приманку, чтобы, клюнув, прельстившись, человек оказался в западне и за ним захлопнулась наконец-то дверь в этот мир… Вы можете подумать, что мне страшно. Но это не так. Мне противно… Противно жить. Меня от этой жизни тошнит, от ее сладкого, удушливого зловония… — Взглянув на потерянное, побледневшее лицо Оболенской, Адам переплел тонкие нервные пальцы так, что они хрустнули в суставах, и произнес высоким отчаянным голосом: — Простите, что огорчаю вас. Я не имею права. Вы так радовались мне…
— Что ты, что ты, Адам, родной мой! Это ты меня должен простить… Какие-то альбомы, фотографии, никому не нужные нравоучения… Я… я просто растерялась… Я совсем разучилась нормально, по-человечески общаться… Это одиночество, оно задавило меня…
Мадам Оболенская неуклюже кружила по комнате, то и дело налетая своим сухоньким телом на немногочисленную мебель. Она сейчас напоминала вспорхнувшую перепуганную птицу, пытающуюся взлететь и не могущую поднять обессилевших крыльев.
Румяное лицо соседки Татьяны бесшумно возникло в дверном проеме:
— К телефону тебя, Николавна! Из театра… — Она с откровенным любопытством оглядела по-праздничному сервированный стол и совсем беспардонно уставилась на Адама: — Ну как? Привыкаешь помаленьку к бабке? — И, пользуясь отсутствием Елены Николаевны, свистящим шепотом заговорила торопливо: — Ты, милок, ей хоть телефонный аппарат купи. Все бегает в коридор, а у нас тут каждое словечко слышно. Я-то ладно, мы с Николавной друзья, а вот Шишкиным, третьим нашим соседям, так и не терпится ее комнату заполучить. Поэтому они задались целью компромат собрать против нее. Он сам-то, старик Шишкин, старый кагэбист, и жена его еще в аппарате Берии работала… Вот и живут старыми представлениями, думают, кому-то сейчас их доносы понадобятся… Они от безделья маются, травят старуху, а Николаевне-то каково? Одним словом, милок, ты ей теперь заступник.
Вошедшая в комнату Оболенская прервала проникновенный монолог Татьяны:
— Ну совсем без памяти! И куда же меня угораздило их засунуть? — пробормотала она.
— Что стряслось-то, Николавна? Лицо такое, точно пожар где!
Елена Николаевна изумленно взглянула на соседку.
— Действительно горит, без шуток! А я, как на грех, ключи от боковых ворот к складу декораций куда-то задевала. Пожарной машине к порталу, где горят декорации, легче подъехать. А так через весь театр тянуть шланги. Я же хорошо помню, как вешала ключ на щит, — говорила словно сама себе Оболенская. — Вчера, как раз в мое дежурство, провезли из мастерских задник для спектакля, я открыла им, они загрузили… Ах ты, Боже мой, могла ведь в карман сунуть!
Елена Николаевна ринулась к вешалке, обшарила свой старенький плащ и со сконфуженной улыбкой с ключом в руках опустилась на стул.
— Не приведи Господь, так и весь театр выгорит! — ужаснулась Татьяна. — А что? Вон универмаг напротив нашего овощного как есть целиком выгорел!
— Пожалуйста, не надо нагнетать обстановку! — Высокий голос Адама с сильным акцентом прозвучал неожиданно забавно, даже побледневшая Оболенская улыбнулась, а Татьяна несколько секунд повизгивала, зажимая рот ладошкой.
— Дай мне вон те таблетки, Танечка, — виноватым голосом попросила Елена Николаевна, прижимая к сердцу руку и морщась от боли.
— Это сердце? Да? Давайте вызовем врача, — всполошился Адам. — Сердечную боль терпеть нельзя… Надо уложить бабушку в кровать, — обратился он к Татьяне.
— Ничего не надо. Со мной такое иногда случается. Пройдет. И ложиться не надо. Мне так лучше. Не волнуйся, солнышко. У меня к тебе будет только небольшая просьба. Не сочти за труд, Адам, отвезти в театр ключ. Это будет, конечно, с запозданием… Пожарные уже тушат огонь. Загорелись декорации, которые должны были поставить на сцену для завтрашнего прогона нового спектакля. Как же это могло случиться?! Бедная Алена Владимировна! И актриса из Эстонии приехала…
— Бабушка, теперь уже нечего убиваться по этому поводу!
— Правда что, Николавна. Раз пожарники там, значит, все потушат. Ты давай нервы свои не вскручивай. Иди, милок, двигай! Чем скорей ключи доставишь, тем лучше.
Адам взял ключи и, чмокнув мадам Оболенскую в щеку, попрощался с Татьяной.
— Не больно-то ему по душе пришлась твоя просьба. Ишь лицо какое недовольное стало! — проговорила Татьяна, когда за Адамом закрылась дверь.
Елена Николаевна тяжело вздохнула и не сразу ответила:
— Это от застенчивости, Танюша. В чужой стране, среди непонятных людей… Да еще с амбициями истинного Оболенского…
Декорации к премьерному спектаклю сгорели дотла.
Если буквально неделей раньше, когда театр был в ажитации по поводу болезни Воробьевой, люди ссорились, выясняли отношения, делились на группы сочувствующих и злорадствующих, то теперь все органы единого театрального организма дышали и функционировали в унисон.
В коридоре мирно беседовали Нина Евгеньевна Ковалева и Энекен Прайс, уже три дня репетирующая вместо Кати Воробьевой в спектакле, премьера которого теперь уже точно отодвинулась на неизвестный срок.
— Вы-то не хуже меня знаете, Нина Евгеньевна, что в театре, абсолютно так же, как в человеческой судьбе, случаются черные полосы, когда все сбоит, ничего не складывается, следует цепь досадных совпадений, недоразумений. Одним словом, другого выхода, как мужественно все пережить, и нет…
— Все правильно, Эночка, но у нас через неделю юбилей театра. Это даже не премьера. Его не перенесешь, не отменишь. Все согласовано и в Министерстве культуры, и в правительстве. Сцену, конечно, мы приведем в порядок — обгорел только левый портал, но у людей настроение какое-то упадническое… У актеров капустник никак не идет… Эта Воробьева словно заколдовала всех. Ее отсутствие остановило всю работу театра. — Ковалева усилием воли задавила в себе явную ненависть, и лишь легкая, вполне уместная досада прозвучала в ее словах.
— В капустнике она тоже была главной персоной? — уточнила с иронией Энекен.
— В том-то и дело. И теперь то, что легко удавалось ей, избалованной успехом, окруженной любовью… Короче, озорно, импровизационно, с юмором хулиганить в этом капустнике никому не удается. А она репетировала так, что от хохота стон стоял… Ну да ладно, все как-нибудь утрясется.
— Я очень вам этого желаю, Нина Евгеньевна! — с чувством произнесла Энекен.
Ковалева с симпатией окинула взглядом красивую, породистую эстонку.
— Так что же, заказывать вам билет на завтра? Может, задержитесь на юбилей?
— Что вы, что вы, Томас мне тогда голову оторвет. Он у нас так же крут, как ваша Алена.
— Да, ваша подруга сумела взять театр в оборот…
Энекен пожала плечами:
— Да уж и не такая она мне подруга. Просто учились на параллельных курсах. Мы с Женей Трембич на актерском, а Алена на режиссерском. Да еще потом я у нее в дипломном спектакле играла.
— Это я помню. Вы были очаровательны! — с восторгом воскликнула Ковалева. — Я тогда говорила о вас с Перегудовым, бывшим главным режиссером. Он ходил смотреть спектакль, и вы ему очень понравились, но… ваше решение вернуться домой, в Таллин, было непоколебимым. А так, конечно, он согласился со мной, что на такую героиню можно репертуар строить.
Энекен, благодарно улыбаясь и чуть приседая в книксене, думала: «Как же, позволила бы ты ему, хитрая лиса, пригласить другую героиню, когда в этот же год заканчивала институт Инга. Женьке обломилось, потому что она совсем другого плана, да и то помню, с каким скрипом удалось при активном участии Алены пролезть в труппу…
Ковалева прислушалась к коротким междугородным звонкам, доносившимся из ее кабинета.
— Извините, Энекен. Заходите попозже, приглашаю вас на чашечку кофе.
— Спасибо, зайду, — снова полуприсела Энекен и тут же ухватилась за шествующую в гардероб Женю Трембич.
— Женька, ты мне нужна позарез! — Красивые, необычного зеленого цвета глаза эстонки полыхнули азартом и страстью. — Мне срочно понадобился один телефон. Ты его точно можешь достать.
— Погоди ты… — Женя недовольно отцепила от себя возбужденную подругу. — Вообще в чем дело-то? Какой еще телефон?
Энекен оттащила сопротивляющуюся Женю в актерскую комнату отдыха и вместе с ней плюхнулась на диван.
— Женька, я влюбилась! До полусмерти!
Женя недоверчиво оглядела Энекен:
— Ты? Влюбилась? Ну это что-то… Ты же вообще к этому… как бы помягче выразиться… не предрасположена.
— Молчи, молчи! Я уже второй день хожу как ополоумевшая. Это ты считаешь, что не предрасположена, а я, может, ни в кого никогда не влюблялась потому, что точно знала, какой он будет…
— Твой принц! — цинично закончила Женя. И тут же пожалела: глаза Энекен стали быстро-быстро набухать слезами. Она закусила нижнюю губу и, резко вскочив, отвернулась к окну. — Точно влюбилась! — восторженно просипела Женя и обняла Энекен за плечи. — Ну прости меня, старую дуру, я просто настроена совсем на другую волну. Ты ведь приехала и уехала, а мне здесь жизнь куковать и проблем выше крыши… Не сердись. Я вся внимание и… Кто он, если не секрет?
— Он… Нет, я все по порядку. Вчера, когда весь этот переполох с пожаром уже закончился и пожарные уехали, я спустилась на проходную позвонить, а потом вышла покурить во двор. И тут… он. Он просто шел и смотрел на меня, а я покрылась мурашками, и вокруг вдруг стало все другое. Когда он подошел совсем близко, я неожиданно почувствовала, что стоять не могу — ноги не мои. И вдруг он заговорил с очень сильным акцентом. Его голос… Я помню каждую его интонацию… Он спросил, работаю ли я в этом театре, и попросил передать на проходную ключ. Я поняла, что его родственница забыла повесить этот ключ на место, уходя со службы… Я поинтересовалась, почему он говорит с таким акцентом, и он этим своим невероятным, сексуальным, волнующим до умопомрачения голосом довольно односложно рассказал о себе… Теперь я знаю его имя… Этот мужчина — первый человек на земле. Иначе и быть не могло… Его зовут Адам. Адам и Эне. Скажи, в этом что-то есть?
Несколько мгновений Женя мучительно вспоминала что-то связанное с этим редким для Москвы именем, потом воскликнула:
— Ну правильно! Катька мне говорила, что у нашей мадам Оболенской нашелся внук Адам.
— А она что, из тех Оболенских?
— Естественно, — пожала плечами Женя. — Других не держим.
— Грандиозно! — взвизгнула Энекен и тут же сникла. — В моем распоряжении одни сутки. Завтра вечером скорый поезд умчит меня от него, от моего первого человека.
— Слушай, Энка, это не от любопытства, а как близкому человеку можешь мне ответить на один бестактный интимный вопрос?
— Тебе — все, что угодно, — безапелляционно заявила Энекен. — Тем более что ты сейчас же добудешь мне его телефон.
Женя оценивающе оглядела роскошную фигуру подруги, задержав глаза на чувственном, немного крупном для ее тонкого лица рте, на слегка тяжеловатой для изящной тонкой талии груди, на высоких бедрах и стройных полных ногах. Затем тихо спросила:
— Золото мое, неужто до двадцати трех лет эта бесподобная плоть изнемогала в ожидании своего Адама? Ответь «да», и я зарыдаю от восторга и преклонения перед твоей чистотой и цельностью. — Женя достала носовой платок и приготовилась выслушать ответ.
— Уж эти мне характерные артистки! — фыркнула Энекен. — Убери платок — не пригодится. Хотя нет, не убирай. Сейчас ты им точно воспользуешься. Эта, как ты совершенно точно подметила, бесподобная плоть была подвергнута насилию… И произошло это в ту незабываемую для нашего курса ночь, когда мы в общаге праздновали окончание института.
— И кто же этот прохиндей?
— О-о, имя его в этих стенах можно сказать только на ухо.
Энекен откинула пушистую прядь Жениных волос и что-то прошептала.
Трембич какое-то время потрясенно молчала, потом произнесла задумчиво:
— Здесь носовым платком не обойдешься — простыня нужна… Так… напрашивается вопрос. И где же была в этот исторический момент Алена?
— У нее тогда умерла мама, и она ездила в Питер на похороны.
— Теперь помню. — Огромные глаза Жени стали узкими и злыми. — Я всегда чувствовала, что он насквозь фальшивый. Во всем. И в своей бездарной драматургии, и в отношениях… Алене-то это за что?
— За талант! — не задумываясь, объяснила Энекен. — Человек всегда за свой талант несет крест. Для Алены — это любовь к человеку, который недостоин с ней рядом стоять. А он облокотился на нее и использует в своих целях.
Женя вдруг тихо, по-детски заплакала, судорожно вздыхая и размазывая по лицу потекшую с глаз тушь.
— Птичку жалко, — передразнила ее всхлипывающим голосом Энекен. — Где твоя простыня? — и, вырвав из рук Жени платок, осторожно промокнула ее мокрые щеки. — Не реви, дурында. Еще не вечер. Еще все будут счастливы и умрут в один день с тихой улыбкой блаженства. Успокойся, детка. Давай подумаем о тех, кому сейчас намного хуже. А что касается меня… то мне уже давно все по барабану. Это тогда я была, как Чацкий. «Прочь из Москвы! Сюда я больше не ездок! Пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок…» Время, время, время — великий целитель. Теперь я и сюда «ездок», и куда угодно. Только вот с мужиками был полный напряг. Чем больше они на меня западают, тем яростней я их ненавижу. А в нем… в нем все другое. Этот Адам… я чувствую его обонянием или какими-то другими клетками неведомых нам органов, которые сигналят о своем наличии лишь в исключительных случаях… Все, Евгения, у меня мало времени. Мне нужен его телефон.
— Жди меня здесь. — Женя встала и повернула к свету лицо. — Очень заметно, что рожа зареванная?
— Тебе идет, — успокоила ее Энекен. — А то чересчур вид здоровый и благополучный. Зато теперь каждый увидит, что ты творческая личность — муки и страдания облагородили твою внешность.
— Вот балаболка! — улыбнулась Женя и протяжно вздохнула: — Бедный, бедный Адам, живет себе и даже не догадывается, какая ждет его участь!
Женя ловко увернулась от нацеленной в нее диванной подушки и скрылась за дверью.
Этажом выше, где располагались женские гримуборные, Инга Ковалева собирала свои вещи. Дверь в гримерную была распахнута, и в коридоре напротив сидел озадаченный Петр Сиволапов. Его всегда самоуверенное выражение лица непривычно заменила маска растерянности.
Нервными, торопливыми движениями Инга сгребала из ящичков стола коробочки с гримом, пудрой, просматривала какие-то тетрадки, рвала записки — одним словом, она решилась на поступок и теперь воплощала его в действие. Уложив все в изящный кожаный чемоданчик, Инга взяла ручку, разложила на столе чистый лист бумаги и задумалась.
— Заявление об уходе пишется главному режиссеру или директору?
Ее голос прозвучал так беспомощно и жалостливо, что Петр вскочил со стула и вошел в гримерку.
— Я же просила… — начала Инга, но Петр прервал ее.
— Ты просила не заходить, пока ты собираешь вещи. — Он положил руку на плечо девушки. — Не торопи события, Ингуша, прошу тебя. Никогда не надо рубить с плеча. Все еще устроится, вот увидишь. Мы же говорили с тобой, что Алена не может единолично ставить весь репертуар, в портфеле театра лежит пьеса Ануя, Тургенев, две современных пьесы. Придет другой режиссер — или на постановку или в штат. Алена так задумала «Двенадцатую ночь», что дай Бог выпустить спектакль до конца сезона. Она сама лихорадочно ищет еще одного режиссера, а это значит, что появится человек, который видит совсем по-другому, и у него возникнут другие приоритеты и пристрастия. Ты же понимаешь, детка, что в искусстве все субъективно… И мы уже обсуждали с тобой, что Алена на подсознательном уровне — а у нее оно развито до ясновидения — чувствует, что между нами… между мной и тобой…
— Я так тебя люблю, — горестно прошептала Инга, и огромная капля шлепнулась на лист бумаги.
— Деточка, родная, я тоже безумно тебя люблю… но потерпи чуть-чуть. Алена очень жесткий и непредсказуемый человек… В этой ситуации нельзя нарываться. Тем более ты видишь, как лихорадит театр — одно происшествие за другим, и все накануне юбилея. Сейчас пройдет юбилей, определится с премьерой, и посмотрим, какая будет ситуация. Никогда ничего не надо делать сгоряча. Я понимаю, как тебе трудно, но ведь я с тобой, ну пусть пока на нелегальном положении… Нас двое, а это уже много…
— Боюсь, что уже трое… — Инга развернулась к Петру и прижалась лицом к его мощному, рослому телу. — Вот видишь, ты молчишь… Это всегда неожиданно для мужчины и всегда ожидаемо для женщины. И что бы ты сейчас ни сказал, уж это-то решение я способна принять самолично. Я так хочу иметь от тебя ребенка.
Петр проверил в зеркале над гримировальным столиком выражение своего лица и счел его никуда не годным. Недовольство, легкий испуг срочно надо было стирать, пусть придет ему на смену тихое умиление и восторг предстоящего отцовства. Но менять ничего не пришлось: Инга не собиралась демонстрировать свое заплаканное лицо и прятала его на широкой груди Петра.
— Девочка моя, это прекрасно, только пусть пока — совсем недолго — это останется нашей тайной.
И, не давая ей возможности что-либо возразить, Сиволапов поднял Ингу на руки и зажал ей рот долгим жадным поцелуем.
В коридоре послышались торопливые шаги, и Инга с Петром только успели отпрянуть друг от друга, как на пороге возникла фигура Домового.
— Ой, извините, — Севка поспешно опустил глаза, — меня Катя попросила забрать из гримировального столика коробку с ее вещами. Можно?
— Конечно, проходи, Сева. — Инга взяла щетку и, усевшись перед зеркалом, начала приводить в порядок растрепавшиеся волосы. — Как она себя чувствует?
— Пока так же. — Севка присел на корточки перед Катиным столиком, открыл боковые шкафчики. — Еще слишком мало прошло времени. Контрольный снимок ноги вчера сделали. Все срастается как надо. Она, конечно, жутко переживает. К юбилею так готовилась — и на тебе.
— Ну уж на юбилей-то можно ее привезти — будет сидеть в кресле, — возразил Сиволапов.
— Нельзя ей сидеть. Сотрясение мозга лечится лежа и в полном покое. Никакого телевизора, никаких книг. — Севка вздохнул и растерянно произнес: — Какую она коробку имела в виду?! Их здесь целых три.
— А ты возьми все — они же маленькие, Катя отберет все, что нужно, и ты обратно их сложишь, — посоветовала Инга.
Севка согласно кивнул и сложил все в целлофановый пакет с ручками.
— Ну, я пошел.
Он бросил быстрый взгляд на чемоданчик рядом с сидящей Ингой, на приготовленный листок бумаги с уже написанным крупно словом «Заявление» и с добрым, понимающим сочувствием улыбнулся Инге одними глазами.
— Славный какой, — задумчиво говорила Инга ему вслед. — Катя, должно быть, очень комфортно себя чувствует, постоянно ощущая рядом такую заботу… и, главное, такую необыкновенную радость, я бы даже сказала, восторг самоотдачи… Это нечасто встретишь.
Из приемника, висящего над ее головой, послышался мягкий голос помрежа Маши:
— Петр Алексеевич Сиволапов, вас просит зайти к ней в кабинет Алена Владимировна. Пожалуйста, поспешите. Ей надо срочно уехать.
Сиволапов виновато взглянул на Ингу. Она какое-то время молчала с непроницаемым выражением лица, потом сказала сухо, глядя в сторону:
— Иди. На ковер вызывают.
Хотела добавить еще что-то обидное и горькое, но сдержалась.
В этот торжественный для театра день постоянно дождливая, сумрачная погода точно снизошла до земных утех и решила принять участие в празднике. Чистый сухой воздух с откровенным целомудрием открыл взглядам прохожих много дней запеленатые влажным густым туманом голые стволы деревьев. Ярко-голубое, без единого облачка небо казалось только что умытым холодной ключевой водой — таким до восторга свежим и обновленным преподносилось оно людям. Над зданием театра, как обычно, кружили стаи голубей, но сегодня их белоснежное парение под бирюзовым куполом было особенно торжественным.
Актеры, монтировщики, реквизиторы, осветители, занятые в подготовке вечера, то и дело выскакивали во двор, чтобы еще и еще раз зарядиться той бодростью и энергетикой, которую сегодня так щедро расплескивала природа.
Юбилейный день пришелся на дежурство мадам Оболенской, и она поразила всех своей элегантной наружностью. Волосы были тщательно уложены волнами и, как заметил кто-то из актеров, напоминали головку Греты Гарбо. Из-под черного шелкового костюма воланами легчайшего шифона выглядывали белый воротничок и манжеты, и даже непременные ажурные перчатки сегодня заменили тоненькие атласные.
Гости начали съезжаться к семи. Въезд в переулок был перекрыт милицией, и пропускали только по приглашениям.
После полагающихся официальных речей и поздравлений правительства Москвы, различных общественных организаций и коммерческих структур на сцену стали выходить представители других московских театров — директора, главные режиссеры, артисты. Сцена была оформлена с огромным вкусом — тут уж постаралась сама Алена. Смонтированные из разных спектаклей декорации являли своеобразный сценографический коллаж — яркое и дерзкое сочетание несочетаемого, что еще раз позволяло в полной мере прочувствовать мощную индивидуальность главного режиссера.
Капустник, за который так все боялись, прошел на редкость удачно — актеры находились в приподнятом настроении, а непрекращающийся смех зрителей раскрепощал и придавал легкую импровизационность их самочувствию. Больше всех насмешила Женя Трембич, показывающая Алену, — она была одета осой с длинным тоненьким жалом, которым время от времени колола нерадивых артистов, круглые черные очечки подобострастно протирал громадным шейным платком Миша Трифонов, фактурный молодой актер, точно схвативший пластику и слегка по-сибирски окающую речь Сиволапова. А гудящий с резкими перепадами настроений голос осы — Алены — составил с ним невообразимо колоритный дуэт.
После капустника на сцену вышла Инга Ковалева. Так хороша она еще не была никогда. Блестящее черное платье с глубоким вырезом облепливало чешуей ее гибкое сильное тело, две тонюсенькие бретельки пересекали круглые красивые плечи, на длинной шее скромно поблескивал бриллиантовый крестик на черной бархотке, волосы, гладко зачесанные в низкий пучок, придавали ее облику одухотворенную скромность. Ей зааплодировали. Инга слегка наклонила голову, улыбнулась и начала рассказывать, какие развлечения ждут гостей. В конце своего устного путеводителя по этажам театра Инга сообщила, что рядом с баром работает секс-кабинет. Внезапно возникла эротическая мелодия в исполнении Фредди Меркури, и Инга одним резким движением головы разметала по плечам длинные, роскошные, усыпанные блестками волосы и, вторым движением, скинув платье, предстала перед обалдевшими зрителями в таком же черном чешуйчатом купальнике-бикини и в длинных, закрывающих колени серебряных сапогах на высоченной шпильке. Тут на нее с колосников посыпался дождь конфетти и серпантина, и Инга, поклонившись зрителям, зазывно поманила их вытянутыми руками, словно обнимая и обещая море блаженства, и, нарочито виляя бедрами, скрылась в портале.
Алена изо всех сил сдерживалась, чтобы в момент появления такой немыслимо обольстительной Инги не повернуть голову в сторону Петра. Она вдруг увидела себя со стороны. Вчера вечером, когда она примерила перед зеркалом черный брючный костюмчик, несколько дней назад закупленный на скорую руку на вещевом рынке «Динамо», прицепила в качестве украшения старинную брошь в форме изящно изогнутой веточки, усыпанной бриллиантами и изумрудами, и надела замшевые лодочки на высоком каблуке, ей показалось, что выглядит она довольно элегантно. Теперь же, среди богато разодетых гостей и актрис, давно и тщательно готовивших туалеты к юбилею, Алена мысленно отругала себя за то, что не уделила костюму должного внимания. Хотя, с другой стороны, когда ей было этим заниматься? После того как сгорели декорации, у Алены появилось ощущение, что она попала в какую-то тщательно подготовленную западню. Но поддаваться такого рода чувствам было для нее непозволительной роскошью. И Алена заставила себя думать иначе: через неделю декорации обещали восстановить, а еще через неделю Катя сможет приступить к выпуску спектакля…
Алена скосила глаза в сторону ложи, где виднелась черная с серебряными висками голова Стивена. Когда Малышка навещала Катю, американца у нее не было. Катя сказала, что он заходит крайне редко, но постоянно держит ее под телефонным контролем. Он сейчас очень занят в клинике, потому что на днях возвращается в Штаты и прилетит в Москву только после Рождества.
Рядом со Стивеном Алена увидела незнакомое лицо молодого человека. Склоненная набок, изысканно посаженная на длинную шею голова с длинными пушистыми волосами показалась Алене знакомой. И эти руки со сцепленными гибкими пальцами, сложенные на красном бархате ложи… Она прошептала на ухо Петру:
— Кто это… в ложе? Рядом с Катиным американцем?
Петр так же шепотом ответил:
— Здрасьте, приехали. Это внук Оболенской. Она тебя с ним знакомила.
Алена тут же вспомнила, как Елена Николаевна представила ей своего внука. Это было буквально накануне, и он вот так же сидел за вахтерским столиком, чуть склонив голову и переплетя пальцы нервных кистей…
Сиволапов толкнул в бок Алену и с улыбкой указал в соседнюю ложу. Там торжественно восседал Гладышев, не пожелавший участвовать в капустнике и выступлениях молодежи театра якобы из-за травмы. Однако повязку на время юбилея он снял, и лишь легкая синева под глазом свидетельствовала о перенесенном увечье. Валерий не сводил глаз с внука мадам Оболенской и, чувствовалось, даже слегка нервничал.
Алена вздохнула и подумала, что еще одного напряженного сюжета ей не осилить…
Всех присутствующих попросили пройти в холл, где были накрыты столы со всевозможными закусками. Для любителей поужинать поплотней и выпить что-нибудь покрепче кока-колы и соков были открыты кафе и бар. Только уже за свои денежки.
Петр притащил Алене блюдо с двумя фужерами шампанского и различными закусками.
— Зайка, ты сегодня, по-моему, еще ни разу не ела. И давай выпьем за то, чтобы в этих стенах ты сумела воплотить все свои творческие мечты. За это!
Алена сделала несколько глотков и окинула взглядом переполненное людьми фойе. В самом углу, картинно облокотившись о рояль, Гладышев о чем-то возбужденно беседовал с внуком Оболенской. Отследив взгляд Алены, Сиволапов усмехнулся:
— Зря Валерка расслабился, Василий, по-моему, на подступах. Я вчера слышал, что он слегка припоздает…
Алена сделала вид, что не расслышала его слов сквозь гул голосов и музыку.
— Петр, знаешь, я так сегодня устала — ничего в рот не лезет. Отнеси, пожалуйста, всю эту еду Елене Николаевне на вахту. Даже если ее подменить, она постесняется прийти сюда и нормально поесть. И попроси кого-нибудь, чтобы ей принесли из бара чай или кофе… чего-нибудь горяченького. Она сегодня с утра в трудах праведных, а впереди еще ночь дежурства. Обратил внимание, как она сегодня особенно хороша?
— Сегодня все женщины необыкновенно хороши, — заметил Петр и, не прибавив, как обычно: «но моя зайка лучше всех», отправился выполнять поручение.
Два часа спустя, когда гости были сыты, посетили бар с крепкими напитками, потанцевали, поиграли в лотерею, поучаствовали в аукционе и уже слегка подустали, появился торжественный Домовой в белом смокинге с черной бабочкой, позаимствованном в костюмерном цехе, и провозгласил:
— Уважаемые дамы и господа! Мы приглашаем вас во двор нашего театра, где состоится праздничный фейерверк.
Гости дружно закричали «Ура!» и ринулись в гардероб за верхней одеждой.
На плечо Алены легла тяжелая теплая ладонь.
— Ты долго где-то отсутствовал, Петр, — не поворачивая головы, тихо сказала Алена.
— Зато я никак не мог пробиться к вам… Что естественно. Вы — главная персона на сегодняшнем празднике.
Резко обернувшись, Алена увидела улыбающегося во все свои сто ослепительных зубов Стивена.
— Я хотел поблагодарить вас за прекрасный вечер и попрощаться. Через три дня я улетаю домой.
— Надеюсь, не навсегда, — вежливо улыбнулась Малышка. — Как сегодня Катя? Она так переживала, что не может быть на юбилее.
— Сейчас спросим. — Стивен извлек из нагрудного кармана маленький плоский мобильный телефон и, ткнув несколько кнопок, ласково спросил: — Как себя чувствует мое сокровище? Полно сил и оптимизма?
К изумлению Алены, ответ Кати был таким продолжительным и, видимо, эмоциональным, что Стивен даже слегка поморщился и несколько раз безуспешно попытался прервать ее. Алена поежилась и почему-то вспомнила то, другое лицо этого человека, стоявшего на пороге воробьевской квартиры.
— Никаких сомнений! Все будет прекрасно! В твоем возрасте организм работает безупречно. Передаю трубку Алене Владимировне.
— Катюша, дорогая, от всего театра тебе огромный привет. И, пожалуйста, не расстраивайся.
Катин невеселый голосок без видимых на то причин почему-то встревожил Алену.
— Хочешь, я сейчас приеду к тебе? — неожиданно вырвалось у Малышки, и она сама несказанно удивилась своему порыву.
Стивен забрал у нее трубку и с легкой ласковой укоризной сказал Кате:
— Ну вот, не стыдно? Пожалуйста, возьми себя в руки.
И опять Алене почудилось за этими простыми, ничего не значащими словами нечто большее, и, проверив себя еще раз, она вдруг поняла, что сейчас в ее силах, пока еще не поздно, предотвратить что-то неумолимо надвигающееся, беспощадное и страшное. Она с тревогой взглянула на Стивена. Но американец смотрел поверх ее головы:
— А вот и приближается мой потенциальный убийца. По-моему, мой час пробил.
Алена быстро повернулась и увидела спешащего к ней Севку.
— Он сегодня загадочен и элегантен. — Стивен с иронией оглядел смокинг Домового.
— Алена Владимировна, я за вами, — издали заговорил Севка. — Давайте скорей. Без вас мы же не можем начинать.
Алена шагнула навстречу юноше, схватила его за руку. На нее глянули добрые, умные, блестящие глаза. Но сейчас, в предвкушении фейерверка, помимо всегдашнего всепонимания в них сверкал азарт.
— Что-нибудь случилось, Алена Владимировна? — нетерпеливо произнес Домовой.
— Пока нет, — опять непроизвольно выскочило у Алены, и она, не выпуская руки Севки, тихо спросила: — Скажи мне честно, все… в порядке?
Севка переступил с ноги на ногу, как готовящийся к скачке жеребец, и, мимолетно взглянув на Стивена, ответил:
— Не то слово! Полный о’кей!
В дверях, ведущих из фойе театра на улицу, появился недовольный Сиволапов с Алениным пальто в руках.
— Все, все, бежим! — Алена тряхнула головой, освобождаясь от неясной щемящей тревоги. — Пойдемте, Стивен!
Фейерверк превзошел все ожидания. От нескончаемого фонтана петард, серебряных зигзагов, цветных светящихся шаров и комет в переулке стало светло, как днем. Пальба выгнала жителей близлежащих домов на балконы. Полураздетые, ошалевшие от счастья дети носились с дикими воплями возле домов. Ополоумевшая армия бездомных кошек издавала звуки, наводящие на мысль о конце света. Казалось, этот грохот, свет, суета возродили в людях дремлющие варварские инстинкты. Гладышев лупил в воздух из экзотического ружья золотыми шарами, рассыпающимися водопадом брызг. Директор театра Пожарский подхватил на руки визжащую от восторга Мальвину и кружил ее в быстром вальсе, пока оба не рухнули на мягкий ковер устеленного листопадом газона. Молодежь театра, взявшись за руки, вертела с головокружительной скоростью хоровод, а в центре его Маша Кравчук, задрав до плеч юбку, лихо отплясывала канкан.
Стивен и Сиволапов, стоящие рядом с Аленой, хохотали от души, и Малышка слыша заразительный чистый смех Стивена, чувствовала, как отпускает стиснувшая сердце тревога.
Но до конца освободиться от тяжкого груза предчувствий ее вещему сердцу не удалось. Когда прогремели последние залпы фейерверка и все возбужденными группами обменивались впечатлениями, курили, смеялись, на крыльце служебного входа появилась долговязая фигура в смокинге. Севка шел к Алене странной подпрыгивающей походкой, накрахмаленная бабочка сбилась в сторону, в блестящих глазах плескался ужас. Ни о чем не спрашивая, Алена двинулась навстречу и, все ускоряя шаг, почти вбежала в театр.
За вахтерским столиком сидела мадам Оболенская. Ее руки, безвольные, как у брошенной куклы, висели вдоль тела, голова, неестественно вывернутая набок, лежала на столе, тусклые полуприкрытые глаза словно разглядывали что-то около двери, возле рта разлилась лужица розоватой пены.
Алена усилием воли подавила подступившую резкую тошноту, присела около Елены Николаевны, взяла ее за руку, чтобы проверить пульс, и вздрогнула. Тело мадам Оболенской давно остыло…
…За окном истошно закричала перепуганная ночная птица. Алена еще во сне услышала ее надрывный тоскливый крик. Она сбросила одеяло, села в кровати, прислушалась.
Было тихо, лишь тикал будильник на тумбочке да гулко стукалось в грудную клетку собственное сердце. Алена подумала, что этот крик, наверное, приснился. Снилась какая-то невообразимая белиберда, навеянная кошмаром последних дней. Но птица опять закричала так по-человечески отчаянно, что Алена зажгла настольную лампу и подошла к окну. Напротив, на ветке старого клена, Малышка увидела ее распластанное тяжелое тело. Свет лампы мешал разглядеть птицу в темноте, и Алена, прижав лицо к стеклу и отгородившись от света ладонями, встретилась глазами с неподвижным измученным взглядом старой птицы. Она с усилием попыталась поднять крылья, но не сумела, открыла клюв, чтобы закричать, и смогла издать лишь задушенный стон. Ее полуприкрытые глаза так страшно напомнили Алене последнюю встречу с мадам Оболенской, что Малышка сама с трудом проглотила застрявший в горле крик и, поспешно задернув штору, отошла от окна.
Ни о каком сне не могло быть и речи. Алена накинула халат, прошлепала на кухню, налила стакан воды и, вернувшись в комнату, уселась с ногами в кресло.
Сегодня в театре были поминки по Оболенской. Девять дней.
Следователь просил ее припомнить к завтрашнему дню все, даже на первый взгляд самые незначительные подробности. Вскрытие показало присутствие в организме смертельной дозы яда.
Алена поежилась, взяла с журнального стола блокнотик и ручку, чтобы для верности записать все, что вспомнится. Но мысли не выстраивались.
Сегодня на поминки в театр пришла даже Катя, которая рвалась на похороны, но ее отговорили. Она приковыляла на костылях: гипс должны снять завтра. Со слезами вспоминала, как незадолго до смерти Елена Николаевна ночью помогала ей на сцене, как рассказывала о своем внуке…
Алена задумалась и написала в блокноте: «Адам».
Когда над телом мадам Оболенской собралось столько народу, сколько было способно вместить небольшое помещение проходной, Алена глазами начала лихорадочно выискивать внука Оболенской. Но его в толпе людей не было. Она попросила срочно отыскать его, но не говорить сразу о происшедшем, а со стороны центрального входа провести к ней в кабинет. Пока ждали вызванную «неотложку», около тела Елены Николаевны находились два врача — муж одной из сотрудниц театра и Стивен. Медики зафиксировали смерть Оболенской, предположив, что она наступила не менее двух часов назад, и по их разговору Алена поняла, что смерть не была естественной — скорее всего, Елене Николаевне подмешали в пищу быстродействующий яд.
Сиволапов, услышав подобное заключение, придвинулся к Алене и сообщил:
— Поднос с едой я собственноручно поставил на этот стол. А кофе должны были принести ребята из бара.
— Кто именно? Хотя ты и отсутствовал практически весь вечер, было бы глупо подозревать тебя в том, что предназначенную мне отравленную еду ты отдал Елене Николаевне. Надо узнать, кто относил ей кофе.
— Пусть этим займется следствие, — посоветовал Сиволапов и бросил обеспокоенный взгляд на побледневшую, перепуганную Ингу.
Нина Евгеньевна Ковалева, пережив потрясение и быстро с ним справившись, взяла бразды правления в свои руки.
— Убедительная просьба всем освободить помещение. И… совсем необязательно, чтобы эта трагедия немедленно стала достоянием всего города. Пусть гости со спокойной душой разойдутся по домам. Поднимать всеобщую тревогу не будем. Так… кто ходил искать внука Елены Николаевны? Кстати, как его зовут?
— Адам, — тихо подсказала матери Инга.
— Так кто ходил его искать? И где он? А ты немедленно отправляйся домой, — обратилась она к Инге. — Деньги на такси есть? Бледная такая, что, не приведи Господь, в обморок грохнешься! — Она подтолкнула дочь к выходу.
— Я все обошел — его нигде нет, — сообщил монтировщик Митя Травкин. — Впрочем, я видел, как он уходил. Это было вскоре после начала банкета. И ушел он не по собственной воле… Его, так сказать, попросили покинуть помещение.
— Кто попросил? — спросила Ковалева.
Травкин молчал.
— В чем дело, Митя? Кто его попросил уйти?
— Кто попросил, тот сам пусть и скажет. — Митя пожал плечами и отвернулся.
— Ну я попросил! — подвыпивший Вася качнулся, но Гладышев удержал его и, заправив ракетницу за ремень, обнял друга за плечи.
— Я ему сказал, что его пребывание в этих стенах меня нервирует. Подоплеку своей просьбы я раскрывать не собираюсь.
— Ничего себе просьбы… — не выдержав, хмыкнул Травкин. — Гарун бежал быстрее лани!
— Ну хорошо, — поморщилась Ковалева. — Я надеюсь, обошлось без рукоприкладства.
— Еще не хватало! Я его просто предупредил, что он имеет дело с каскадером, пощадил его рафинированную внешность. Ну а пинок в зад он получил, не скрываю…
Ковалева с раздражением обернулась к Гладышеву:
— Валерий, вы бы вышли подышать во двор, здесь и так воздуха не хватает. — И посмотрела на Севку, сидящего на корточках в углу гардеробной: — Как все обнаружилось, Сева? Сева, ты меня слышишь? Ты первый увидел, что Елена Николаевна… мертва?
Севка обхватил руками голову и начал раскачиваться, как маятник, из стороны в сторону. Все терпеливо ждали. Через некоторое время он заговорил хрипло и путано:
— Я страшно виноват… Елена Николаевна всегда прощала меня, все мои дикие мальчишеские выходки… Я совсем недавно принес ей коробку леденцов… угостить, она открыла крышку, а оттуда — хлоп! — красный надувной язык… как в «Бриллиантовой руке», помните? И она сразу простила меня… я все время разыгрывал ее, а она… смеялась и прощала. Теперь уж не простит… Но сегодня я ее не разыгрывал… я хотел, как лучше. Она устала…
Севка замолчал и, не открывая лица, продолжал раскачиваться.
— Что ты несешь, Сева! Какая «Бриллиантовая рука»? При чем здесь это? Давай-ка соберись!
Севка потянул из кармана брюк носовой платок. Вместе с ним со звоном что-то выпало на пол, и он поспешно спрятал этот предмет в карман. Наверное, лишь от внимательных глаз Алены не укрылось это его перепуганное движение…
Впрочем, не тогда, а именно теперь цепкая профессиональная память Малышки восстановила этот факт. И то лишь потому, что, как позже установила экспертиза, в левой руке Оболенской был зажат какой-то предмет. Когда Алена оказалась рядом с телом, в руках Елены Николаевны ничего не было, хотя Малышка заметила, что левая кисть действительно противоестественно скрючена…
Алена написала в своем блокнотике: «Севка».
Потом… потом рассказ Домового стал более связным и все узнали, что в самом разгаре банкета он заглянул на вахту и увидел спящую Елену Николаевну. Недолго думая, Севка плотно прикрыл дверь, выходившую в коридор, и привесил на ручку табличку с надписью: «Просьба не входить. Идет репетиция», которую сам же изготовил для соседнего со служебным входом репетиционного зала.
— Возможно, тогда она еще… была жива, — заикаясь, бормотал Севка. — А я… отсек любую возможность кому-нибудь зайти и увидеть, что ей… нужна помощь. Теперь… она никогда… никогда не простит мне… Я виноват… Боже, как я виноват!
— Значит, вернувшись практически через три часа, ты застал ее в той же позе? — спросила Нина Евгеньевна…
Севка согласно затряс головой.
Алена подумала и записала: «И все же он волновался не только из-за совершенной оплошности».
…Она взяла со стола нераспечатанную пачку сигарет и, раскрывая ее, вспомнила, как впервые закурила в тот день, когда Катя попала в автомобильную аварию. Теперь уже никак не бросить…
Потом, потом… что же было потом? Ах, да, вскоре приехала «неотложка», и когда врачи приподняли Оболенской голову, под ней оказался лист бумаги, где почерком Елены Николаевны была написана странная фраза: «Человеку всегда мало…». Экспертиза показала, что слова эти были написаны после того, как Оболенская почувствовала, что ей плохо. На это указывали характерные изменения в почерке.
Потом приехала милиция, составляли протокол… Свидетелей стали вызывать только после похорон…
Мысли у Алены путались, но спать не хотелось — просто сказывалась накопленная усталость. Да, уже под утро из кабинета Ковалевой они позвонили домой к Оболенской. Чтобы Алена тоже слышала разговор, Нина Евгеньевна включила телефон на селекторную связь, и то, что они узнали, стало еще одной загадкой.
Заспанный голос произнес вялое «алле».
— Простите, с вами говорят из театра, где работала Елена Николаевна. Вы ее соседка?
— Соседка, — голос заметно оживился. — А почему работала? Ее что, уволили? За опоздания, наверное? Так ее сейчас нет. Она нарядилась вчера и ушла на юбилей.
— Простите, а ее внук?
— И внук пошел с ней… Он вообще-то здесь не живет. Он где-то в общаге… Подождите… Я что-то в толк не возьму. Он же звонил, уж поздно было. Сказал, чтобы бабке передали — приедет, как договаривались, через две недели. А в театр, мол, на вахту не дозвонился — никто трубку не берет. Я спросила, чего сам-то мало там побыл, а он говорит, что у него самолет…
— А вы случайно не знаете, где он учится? Общежитие-то от какого института?
— Мне это ни к чему. Случилось что?
— Да, случилось. Как вас зовут, простите?
— Татьяна Семеновна.
— Елены Николаевны больше нет. Она умерла, Татьяна Семеновна.
Соседка часто-часто задышала и проговорила задыхающимся голосом:
— Ах ты, беда какая… Так внуку-то радовалась! Это Шишкины извели, на их совести…
Когда Ковалева положила трубку, Алена спросила:
— Какие еще Шишкины? Может, это имеет отношение к убийству?
— Вряд ли! — решительно отсекла Ковалева. — Просто склочные соседи. Мне Зинаида говорила, она про Оболенскую всю подноготную знала. И где же теперь искать этого Адама?
… — В Таллине! — решительно заявила Женя Трембич, узнавшая о разговоре с соседкой. — Его надо искать в Таллине!
Алена попросила, если возможно, расшифровать это высказывание. Женя задумалась на мгновение и согласилась:
— Думаю, от вас секретов быть не может. Тем более дело нешуточное! Короче, Энка, Алена Владимировна, по уши втрескалась в этого самого Адама.
— Господи! Когда же она успела!
— Да уж на это времени много не надо. «Пришел, увидел, победил…» Сами знаете, Алена Владимировна.
— Без посторонних, может, все-таки будешь без отчества?
— Да ладно… Уже вошло в привычку. А потом, это создает необходимую дистанцию. — Женя засмеялась. — Впрочем, и не только в этом дело. У нас на даче живет один весьма любопытный тип, жутко умный… такой маленький вундеркинд. Ему восемь лет, а к нему даже взрослые иначе как Федор Петрович не обращаются.
— Ну спасибо — утешила. Ладно, Евгения Викторовна, так что Энекен?
— Энекен с моей легкой руки позвонила Оболенской домой, и Адам, к счастью, был там. Уж что она ему плела, я не в курсе, я — девушка тактичная и потому удалилась, но договорились они встретиться в этот же вечер. На следующий день Энка должна была уезжать, мне позвонила буквально перед отъездом. Адам был с ней и собирался ее провожать. Ну где ему сейчас быть, если не с ней? — с уверенностью заключила Женя.
Они тут же решили позвонить в Таллин. Дома у актрисы никто трубку не брал, в театре сказали, что идет репетиция и сейчас посмотрят, занята ли Энекен или сидит в зале. Через некоторое время Алена услышала запыхавшийся голос.
Объяснив в нескольких фразах суть дела и извинившись за вторжение в ее личную жизнь, Алена выяснила, что Адам в Таллине не появлялся, но звонил ей на другой день после юбилея из Рима, куда улетел на две недели. Энекен страшно разволновалась, что он ничего не знает о смерти бабушки. На вопрос Алены, где он учится, Энекен ответила, что вообще-то они на эту тему не разговаривали, но, если она не ошибается, в каком-то университете, где учатся иностранцы.
Женя буквально вырвала из рук Алены трубку и разъяренно прорычала:
— А о чем вы, пардон, сутки трепались, если ты даже не знаешь, где он учится?
— Какие сутки? — удивилась Энекен. — Встретились мы накануне моего отъезда буквально на пять минут: он торопился на какую-то важную встречу. А на следующий день он пришел провожать меня с огромной охапкой белых лилий — я ему накануне сказала, что обожаю белые лилии… И все…
…И все… Алена задумчиво обвела кружочком имя Адама, записанное в блокноте. Появление этого юноши так же загадочно и неправдоподобно, как и исчезновение. Хотя каких только невероятных ситуаций не преподносит жизнь! Надо дождаться его приезда. Очень странно, что не было никаких звонков в квартиру Оболенской. Впрочем, Татьяна бывает дома крайне редко, а те, другие соседи обозлены на весь мир, и, даже если он звонил, правды от них не добьешься.
Шутки шутками, но когда Алена узнала, что Оболенская отравлена, у нее от страха в животе стало холодно, а на душе мерзко — ведь это ей предназначался поднос с едой. Отлегло лишь после того, как стало известно, что Оболенская ничего не ела, только выпила кофе и именно в него была подмешана лошадиная доза лекарства от давления. Приготовил напиток для Оболенской бармен Сережа. Поставив чашечку на тарелку с пирожным, он попросил Севку отнести все на проходную. Севка честно признался, что донес кофе до служебного входа, но Оболенской за столиком не было, но там стоял поднос с едой. Севка поставил кофе, вышел в коридор, увидел Оболенскую с внуком около двери в фойе, где веселился и танцевал народ, крикнул, что «кофей подан», и потащил коробку с петардами на улицу.
Кому нужна была смерть Оболенской? Кому помешала эта милая пожилая женщина из старого дворянского рода с застенчивой улыбкой и большими тревожными глазами?
Севку уже трижды вызывали к следователю. У него все валится из рук, отвечает невпопад, и жалко его до слез.
Алена закурила, на страничке под Севкиным именем написала машинально: «Ну уж у него-то точно не может быть никаких причин убивать Оболенскую. Они обожали друг друга. И потом, Севка вообще никого не в состоянии убить, даже самого заклятого врага — если бы у него таковой имелся».
На улице стало светать. Малышка подошла к окну, отдернула штору.
С ветки клена на нее смотрели немигающие тоскливые глаза мертвой птицы. Алена задернула штору, поежилась от внезапного озноба и подумала: какое счастье закончить жизнь в родной стихии, на убаюкавшей ее ветви мощного старого дерева, а не быть затоптанной равнодушными ногами вечно спешащих прохожих…
Наконец-то начался полноценный выпуск спектакля. На сцене стояли приведенные в порядок декорации, Катя Воробьева лишь изредка опиралась на элегантную тросточку, подобранную Севкой в реквизите, костюмы были дошиты, и весьма удачно, благодаря постоянным угрозам Малышки разогнать половину пошивочного цеха и для «Двенадцатой ночи» шить все в мастерских другого театра.
Шел прогон второго акта. Алена предупредила, что останавливать не будет, даже если возникнут накладки — все равно актерские или технические. Прогон впервые был с музыкой, и рядом с Аленой млел от восторга молодой киношный композитор Глеб Сергеев, который никогда для театра не работал, и ему очень льстило приглашение такого замечательного режиссера, как Алена Позднякова. Глеб писал музыку для сериала, где снималась Катя, и Малышка, посмотрев фильм, отметила огромный талант композитора. Катя познакомила их незадолго до начала работы над сиволаповской пьесой, Алена произвела на Сергеева впечатление, и он согласился написать музыку для нового спектакля, несмотря на немереное количество работы в кино. Музыка получилась замечательная. Глеб очень точно уловил как бы подсознательное сквозное действие, то есть то, что давалось не впрямую, а как бы читалось «между строк» — в провисающих паузах, в, казалось бы, на первый взгляд ничем не обоснованной смене ритма, в пластическом выражении, перпендикулярном словам и поступкам героев. И совершенно блистательна была тема героини. Алена, лишь оттолкнувшись от бледного драматургического образа и виртуозно используя мощный драматический дар актрисы, сумела вылепить парадоксально существующую человеческую природу молодой женщины, терзаемой противоречиями больного преступного мира. В начале первого акта героиня Воробьевой являлась неброской, буднично одетой, негромко говорящей, а музыкальная тема, сопровождавшая ее необычную, плавно переводящую одно движение в другое пластику, была затаенно-яростной, порочно-плотской, тревожной.
В середине прогона Глеб наклонился к Алене и прошептал:
— Вы удивительно точно назначили на эту роль актрису с таким убойным обаянием, как у Воробьевой. Все внутри сопротивляется тому, что эта женщина может совершать дурные поступки. Она просто обволакивает. От нее нет спасения.
— Вот поэтому дерусь насмерть с нашим директором, когда он требует второй состав на все главные роли во все спектакли репертуара. Как говорит наша завлит: «А если это — штучный товар, эксклюзив?!»
Глеб придвинулся к самому уху Алены и, обдав ее горячим дыханием, спросил:
— Пообедаем после прогона?
Алена открыла рот, чтобы отвертеться от предложения провести время вместе, но, перехватив напряженный взгляд Сиволапова, сидящего наискось, мгновенно согласилась.
— Отлично! Свет в зал. Отлично в том смысле, что вместо предполагаемых двухсот замечаний будет сто восемьдесят два. Катя, как нога?
Воробьева, слегка опираясь на тросточку, спустилась к режиссерскому столику.
— На сцене — совсем не болит, как только ухожу в кулису — ноет, зараза. Но врач сказал, что пока так и должно быть.
Глеб, восхищенно глядя на Воробьеву, подошел к ней и поцеловал руку.
— Просто звезда!
— Ой-ой-ой! Ради Бога, не надо! — Катя испуганно замахала руками. — Что вы, Глеб! Это мы только первый акт прогнали. Еще работать и работать. Пожалуйста, не надо никаких слов. Я жутко суеверная!
— Все, все, молчу! — Он обратился к Алене: — Я видел распределение «Двенадцатой ночи» и был потрясен, что Катя будет играть и Виолу, и Себастьяна. И как это будет выглядеть, если не секрет?
— Конечно, секрет, — улыбнулась Малышка.
— Ой, а эскизы костюмов? Они у вас? Я ведь еще не видела, только макет успела посмотреть! — воскликнула Воробьева.
— Нет, Катюша, художница забрала их для доработки, надо по тканям определиться. Но обещала на днях принести, чтобы все посмотрели… Пятнадцать минут отдыхаем и так же, без остановок, идем в прогон второго акта. В чем дело, Петр? У тебя такое недовольное лицо… Кстати, кто-нибудь навещал в больнице Ингу?
— А что с ней? — Катя озадаченно покачала головой. — Что у нас за сезон такой! То одно, то другое!
Алена выдержала паузу и, поняв, что отвечать придется ей, а не Сиволапову, объяснила:
— Ей было плохо уже в день юбилея, точнее, когда обнаружили тело Оболенской. Не выдержали нервы… Хотя есть что-то еще. Мне показалось, что Нина Евгеньевна не хочет говорить на эту тему. Одним словом, ничего страшного. Ингу уже скоро выпишут… Так, какие ко мне вопросы? Да, Катя?
Воробьева опустила голову, покрутила поясок на платье.
— Я не по роли… Можно? — И красноречиво взглянула на Сергеева и Сиволапова.
— Понято. Удаляемся на перекур. Вам что-нибудь принести из съестного? — Сергеев вопросительно посмотрел на Алену.
— Если вас не затруднит, пожалуйста, сок или колу… все равно…
Катя подсела к Алене и тихо сказала дрожащим голосом:
— Алена Владимировна, ну хоть вы-то понимаете, что Севка абсолютно не виноват?
— А почему «я-то»? Все это понимают.
— Напрасно вы так думаете. Гладышев с ним даже не здоровается… А вчера Шкафедра… то есть Валентин Глебович, беседовал с ним о том, что у театра безупречная репутация и не надо ничего скрывать, чтобы следствие поскорей закончили, дело закрыли и так далее… Севка собрался уходить из театра.
— Это невозможно! — вырвалось у Алены. — Конечно, я поговорю с ним. Но ты… ты имеешь такое на него влияние. Надо подождать.
— Чего ждать-то? — уныло возразила Катя.
— Должен появиться внук Оболенской.
— И что?
— Пока сама не знаю. Он произвел на меня очень странное впечатление… Ты ведь его не видела?
— Почему это я его не видела? Они с Еленой Николаевной навещали меня. Их Стивен привозил. Посидели у меня с полчаса, и Стивен же их отвез. Нормальный парень, этот Адам. Ну нервный слегка, да еще этот дикий акцент. Видно, со слухом проблемы. Стивен вот вообще без акцента разговаривает.
— Не думаю, что у него проблемы со слухом. Мне показалось наоборот… У него поразительной музыкальности голос. Чересчур.
— Ой, вы, значит, итальянцев никогда не слышали. У них же вообще язык музыкальный… Алена Владимировна, это к вам, — осеклась вдруг Катя.
Алена обернулась и увидела в проходе Сколопендру. Вид у вахтерши был непривычно обескураженный, если не сказать пристыженный. Складывалось такое впечатление, что она только что получила от кого-то изрядную взбучку и теперь пришла виниться.
— В чем дело, Зинаида Ивановна? — неприязненно прогудел голос Малышки.
— Мне необходимо поговорить с вами, Алена Владимировна, — хрипло откашлявшись, начала Сколопендра. — По очень важному и срочному делу.
— Если вас устроит, то после прогона. Сейчас у меня голова на другое просто не работает… Надеюсь, ничего не случилось?
Сколопендра опять покашляла и глухо произнесла:
— Это касается Оболенской и ее внука.
— Кто-нибудь позвонил на проходную? — сразу встревожилась Алена. — Адам?
— Нет, никто не звонил. — Сколопендра искоса недовольно взглянула на Катю. — И разговор у меня к вам, Алена Владимировна, что называется, конфиденциальный… без свидетелей.
Катя презрительно хмыкнула и, развернувшись, пошла к сцене.
— Хорошо, Зинаида Ивановна, сразу после прогона я вас жду у себя в кабинете.
Алена достала из кармана платочек и, сняв очки и устало прикрыв глаза, машинально протерла стекла.
— Отвлеку на минутку, — раздался над ухом вкрадчивый голос Мальвины.
«Господи, надо же так бесшумно передвигаться, просто крадется, а не ходит», — раздраженно подумала Алена, а вслух спокойно прогудела:
— А больше у меня и не найдется. — И придвинула микрофон: — Маша, электриков, монтировщиков, радистов попроси на минутку спуститься в зал… Да, Лидия Михайловна?
— Я по поводу замены Инги Ковалевой во всех спектаклях.
— А что, она так надолго выбыла?
— Боюсь, да. — Синельникова понизила голос: — Она — на сохранении беременности.
Кровь прилила к лицу Малышки так внезапно и мощно, что даже загорелись уши под тоненькими дужками очков. К счастью, в это время прибыл спасительный сок, и Алена, пробормотав «спасибо» Глебу и Сиволапову, остановившимся рядом с Мальвиной, склонила голову и принялась извлекать трубочку, приделанную к коробочке сока.
— Мне кажется, что проблему с Ковалевой без особых трудностей можно решить усилиями репертуарной части. Заменить ее может любая актриса. И совсем необязательно дергать меня по любому поводу. — Голос Малышки звучал монотонно и скучно. — Я потом наведаюсь к Нине Евгеньевне — узнаю, чем могу быть лично полезна Инге.
Алена повернулась к Сиволапову, потянула из трубочки сок и спросила:
— Я забыла предупредить тебя перед прогоном, что поменяла кое-какой текст. По этой причине у тебя такой кислый вид?
— Естественно. Я все-таки автор!
— Но не Шекспир же! — И, не обращая внимания на возмущенные попытки Сиволапова что-то возразить, Алена обратилась к цехам: — Ребята, все подробности у меня записаны — это после второго акта. Погрешностей меньше, чем я ожидала, но достаточно для интенсивной и целесообразной работы. Радистов прошу микшировать звук перед началом реплик, а не налезать на текст. После текста — малюсенький люфтик, как вздох, — и снова пошла музыка. Это важно. Иначе получается грязь. То же со светом. Мягче, постепенней прибирать его, захватывая последние реплики. Да, вот еще… вылетело из головы… гримеры здесь? Ага, вижу. Валечка, сиди, сиди, я же в микрофон говорю — услышишь. У Жени и Кати сейчас почему-то получились одинаковые прически. Это не годится. Подумай что-нибудь с Женей, только обойдись без париков. Кате можно чуть поярче глаза, но совсем чуть-чуть. У нее глаза темные… возможно, тени поискать другие… Теперь монтировщики. Ребятки, родненькие, запомните: когда задник светлый, как у нас, любые ваши попытки прошмыгнуть незамеченными вызовут лишь смех в зале. Я раз пять видела контрастно-темную фигуру Бритикова на фоне задника и светлых порталов. То же к Севе. Сева, ау, откликнись!
Длинная фигура Домового появилась на сцене и застыла рядом с сидящей там же гримершей.
— Сева, все перестановки реквизита и легкой мебели делай откровенно… как прием. Тебя все равно видно. Так что двигайся, как полноправный участник всего происходящего на сцене. И еще. Начиная с первого спектакля, то есть со сдачи худсовету и труппе, цветы, которые дарит Гладышев Воробьевой, вернее Валентин — Яне, должны быть настоящими. Пока, естественно, пусть останется искусственный букет. Вроде бы все. Более подробные замечания — после прогона.
Алена откинулась в кресло, допивая сок.
Раздался голос помрежа:
— Внимание! Всех прошу приготовиться к началу прогона второго акта. Осветители, радисты, готовы? Актеров прошу спуститься вниз. Трембич, Воробьева, Миша Трифонов, приготовьтесь к началу. Валера Гладышев, не забудь в гримерной свой реквизит.
Зал медленно погрузился в темноту, лишь настольная лампа освещала фигуру Малышки за режиссерским столиком. Полилась нежная и одновременно мощная, волнующая музыка. Алена повернула голову к Сергееву и подняла вверх большой палец. Он в ответ счастливо улыбнулся. Алена почти сразу зашептала какие-то замечания в диктофон. Ей сейчас было и горько и радостно, как всегда бывает, когда спектакль, словно маленький ребенок, вынянченный до умения встать на ножки, обретает самостоятельность и принимается набирать силу, формировать свой образ и свои законы, начинает понемногу отторгать своего создателя, с каждым спектаклем заявляя о собственной самодостаточности. И надо иметь мужество вздохнуть поглубже и… пустить его в большое плавание.
«Это будет хороший спектакль, — подумала Алена без малейшего оттенка самодовольства и самолюбования, но с уверенностью истинного таланта в свои силы, — он, возможно, сослужит людям неплохую службу — заставит задуматься о том, что нет такого греха, которого не смогла бы искупить любовь… И еще о том, что, по сути, человек не имеет ни необходимости умереть, ни полноты, необходимой для бессмертия. Ибо сам по себе не укоренен ни в смерти, ни в бессмертии — потому что и то, и другое дается ему Богом… К чему «прислонит» он свое бытие — таким и станет…»
Время приближалось к началу вечернего спектакля. Перекусив наскоро в буфете, Алена поднялась к себе в кабинет. Успела сделать несколько звонков, когда в дверь просунулась голова Кати Воробьевой.
— Можно на минуточку?
Алена согласно кивнула, и Катя протолкнула в кабинет сопротивляющегося Севку.
— А я там подожду! — Она быстро юркнула за дверь и плотно прикрыла ее за собой.
Теперь при ярком электрическом свете Алена увидела, как чудовищно выглядит Севка. Из него словно ушла жизнь — таким серым было его лицо. Всегда живые, блестящие глаза провалились и смотрели как бы внутрь себя, лишь краешком сознания фиксируя то, что происходит вокруг. Он сильно похудел, и одежда висела на нем мешком. Алена отвела взгляд от его тонкой, худющей шеи, торчащей жалостливо из растянутого ворота свитера, и спросила жестко:
— Бриться когда будешь?
Севка не отвечал, молчал угрюмо, разглядывая носки своих ботинок.
— Кофе выпьешь?
Ироничная усмешка растянула бледные губы:
— Да нет уж, спасибо — с этим напитком я, по-моему, завязал надолго.
— Любые ошибки, в том числе ошибки следствия, исправляются, — тихо проговорила Алена.
— Да что-то не больно они торопятся их исправлять, — глухо возразил Домовой.
— Для всего требуется время… Потерпи. Объявится внук Оболенской — и многое сразу прояснится. Нам нужен Адам.
Севка вдруг судорожно сглотнул с каким-то странным гортанным звуком и, зажав руками рот, пробкой вылетел из кабинета.
Алена вышла следом, но ни его, ни Кати в приемной уже не было.
Зато в дверях показалась массивная фигура Сколопендры.
— Чуть с ног не снесли, чумовые. А эта… то на палочку опирается, то носится так, что ветер в ушах свистит!
Сколопендра прошла за Аленой в кабинет и решительным жестом молча выложила на стол маленькую диктофонную кассету.
— Что это?
Зинаида Ивановна засопела, и ее круглое лицо покрылось мелкими капельками пота.
— Здесь записан разговор Оболенской с внуком.
Алена изумленно взглянула на вахтершу.
— О покойниках дурного не говорят, но я давно предупреждала вас, Алена Владимировна, что весь этот род княжеский — гнилой, ничего от них полезного не дождешься. А как этот появился… интеллигентный такой… у меня сразу возникло предчувствие чего-то недоброго. И недаром…
— Вы что же… Нет, подождите… Ужас какой! Вы что же, таким образом подслушивали разговоры Оболенской? — Алена с недоверием и отвращением уставилась на кассету, словно перед ней лежала дохлая мышь или раздавленная гадюка.
— Все, как есть, — подтвердила Сколопендра. — В каждое ее дежурство в своем халате на вешалке оставляла диктофон. У меня внук в ФСБ, уж до капитана дослужился, так он мне самую сверхтонкую ленту достал, чтобы на все дежурство хватало.
Алена запрокинула голову и громко расхохоталась. На глаза выступили слезы, она сдернула хрупкие очечки и смеялась, смеялась и никак не могла остановить свой дикий, отчаянный хохот.
— Вот это сюжеты жизнь преподносит! — выговорила она с трудом, давясь смехом: — Никакая драматургия не сотворит.
— Между прочим, не вижу в этом ничего смешного, — обиженно поджала губы Сколопендра.
— А знаете, человек иногда смеется совсем не потому, что смешно, — сказала Алена, разглядывая Зинаиду Ивановну так, словно впервые в жизни увидела. — Я понимаю, профессиональные навыки — это, по существу, образ жизни… Вы много лет служили в органах, верней, вначале в театре, при его зарождении, потом поменяли место работы… а на пенсии решили снова вернуться сюда. И… как же… вот так спокойно вы прослушивали дома все, что говорила на дежурстве Елена Николаевна по телефону или с людьми, которые приходили к ней, чтобы, возможно, поделиться чем-то сокровенным?
— В том-то и дело, что практически ничего не прослушивала. Просто собирала материал. Ну, иногда, правда, когда казалось, что она явилась нетрезвая, тогда, конечно… Хорошо, внук надоумил прокрутить все. Старая стала… цепкость исчезла, и память подводит… Не во мне сейчас дело, Алена Владимировна. Ставьте вот кассету и слушайте. Вот вам диктофончик. Вот так. — Сколопендра вставила кассету в диктофон и предупредила: — Я в тот день халат повесила, видно, близко к радиоприемнику, поэтому, как на грех, целые предложения выпадают — музыка глушит и голоса разные. Да там они про всякие вещи, не имеющие отношения к делу, говорят, про погоду, про фильм какой-то. Я это промотала.
Из диктофона зазвучал удивленный голос Оболенской:
— …Погоди, дружочек, я что-то не до конца понимаю… У меня же ничего нет. Неправдой было бы сказать, что я умираю с голоду, тем более сейчас, когда ты покупаешь так много всего, но даже, как говорится, на «черный день» не удалось отложить ни копейки.
— Именно не понимаете, бабушка. — Музыкально вибрирующий голос Адама опять насторожил Алену. — Я же толкую вам просто про бумагу. На меня станут смотреть совсем другими глазами. Я буду тогда человеком из их круга… Наследником состояния князей Оболенских!
— Да уж. — Елена Николаевна тяжело вздохнула. — Состояния, которого нет. Изволь, солнышко, если тебе это так важно… Хотя в твоей придумке столько детского, мальчишеского… Ну да ладно! Действительно, у каждого возраста свои фантазии. Мы можем прямо завтра принять дома твоего юриста.
В диктофоне начались помехи — треск, скрип, потом заговорил еще какой-то женский голос:
— Рада познакомиться. Уже наслышана. Как вас зовут?
— Адам. Я тоже много слышал о вас от бабушки.
— Приходите, Адам, на наш юбилей. Елена Николаевна, я вам дам приглашение. Посадим Адама в ложу.
— Спасибо. Я обязательно приду…
— Узнаете свой голос? — спросила Сколопендра. — Теперь вы уходите — вон звук шагов, а Петр Алексеевич задержался, сейчас звонит по телефону.
И прежде чем Алена протестующе замотала головой, полный плохо скрываемой нежности голос Петра проговорил:
— Я сейчас подъеду. Не беспокойся — я отговорюсь как-нибудь. Все. Мчусь.
Алена с ужасом вспомнила, Петр догнал ее около лифта и сказал, что его ждут в Комитете драматургов — пообедать вдвоем не удастся.
Снова послышался голос Оболенской, прерываемый музыкой:
— …позвонишь и скажешь. …Ничего, что другая фамилия… Угостить чем-нибудь… солнышко мое… костюм для юбилея.
Сколопендра выключила диктофон, с торжествующим видом уставилась на Алену.
— Вот так. Дальше Адам, видимо, сразу ушел. Что скажете, Алена Владимировна?
Алена взяла сигарету, закурила, спросила Сколопендру:
— Если курите — пожалуйста, здесь можно… Скажите, Зинаида Ивановна, а почему вы, собственно, принесли эту кассету мне, а не следователю или Ковалевой?
Сколопендра усмехнулась и, опустив глаза, медленно проговорила:
— Я силу в человеке уважаю, а вы очень сильный человек, Алена Владимировна. К вам можно по-разному относиться: любить или не любить, но это другие категории. Следствию я тоже не очень-то доверяю. Безрукие они какие-то. Разучились работать, думать разучились. Зарплата опять же грошовая. За такие деньги теперь никто ломить не хочет… Привязались к Севке, а я сразу поняла, что не в ту дверь они лупят. Невиновный он. А у меня за него тоже душа болит… Знала я вашу реакцию на то, что я Оболенскую из поля зрения не выпускала… Даже заранее знала, какое сегодня лицо сделаете… Но, как говорится, истина дороже.
— Понятно, — задумчиво протянула Алена. — И все же мотива убийства в том, что я сейчас услышала, нет… Этому юноше действительно нечего наследовать, и если это не человек с больной психикой, способный оказаться жертвой собственных фантазий, то обвинить его абсолютно не в чем. И потом, раз он ее единственный наследник, то даже если бы у нее были золотые горы, чего волноваться! Все ему и достанется. Ну, составили завещание, что в этом противоестественного? Другое дело, что его отъезд совпал с убийством Оболенской…
— Вот именно! — Сколопендра убрала диктофон в сумочку и встала. — Завтра с утра мы с внуком пойдем с этой уликой к следователю: пусть-ка они свое внимание с Севки переключат на Адама. Ведь еще по отцу-то он и не Оболенский, а небось какой-нибудь… Висконти. Одна просьба к вам, Алена Владимировна, — чтобы ни одна живая душа не знала о том, что я была у вас по этому поводу.
— Да уж это понятно.
Алена встала и вместе со Сколопендрой вышла из кабинета. В приемной сидела, потирая больную ногу, Катя Воробьева.
Когда вахтерша скрылась за дверью, Алена недовольно заметила:
— Подслушивать, между прочим, нехорошо. Твое счастье, что Зинаида спиной к двери сидела, а то сейчас крику было бы на весь театр.
— Не сердитесь, Алена Владимировна, она ведь тогда при мне в зале сказала, что речь пойдет про Оболенскую, значит, и про Севку тоже. Мне же совсем небезразлично. Он и так уже не ест ничего, вы же видели — одни глаза остались! Его прямо наизнанку выворачивает.
— Господи! И что за поколение такое! Ну совсем не бойцы! Инфантильные, нежные… Жизнь ведь не одними пряниками кормить будет!
— А вы-то сами, Алена Владимировна? Вы вот и есть самый что ни на есть яркий представитель нашего поколения. Но не всех же природа наделила таким характером, как у вас. Это вы у нас несгибаемая, но ведь не всем дано… Кстати, Женька просила передать, что Адам связывался с Энекен и сообщил, что в Москве будет завтра. Я с этой вашей эстонкой незнакома, но она, видимо, жутко эмоциональный человек — собирается тоже лететь в Москву.
— Так ее и отпустили! — усмехнулась Алена. — У них спектакль на выпуске… Я вот о чем давно хотела поговорить с тобой, но никак не получалось… Все несемся куда-то, опаздываем и пропускаем массу важных вещей, и только потом, когда случится беда, понимаем: надо быть зорче, внимательнее друг к другу.
Катя настороженно взглянула на Алену, и в ее кофейных глазах промелькнул страх.
— О чем это вы? — Ее голос прошелестел подавленно и напряженно.
— Ну ты же прекрасно поняла о чем. Мне очень тревожно за тебя… Если ты действительно чувствуешь, что в твоей жизни происходит что-то для тебя опасное, то этим ощущением нельзя пренебрегать, тем более если есть какие-то конкретные пугающие тебя факты… Я сама еще совсем недавно уговаривала Севу не волноваться за тебя, полагая, что это напряженные нервы и усталость могли будоражить фантазию… Но последние события заставляют думать иначе. Я пока плохо понимаю, связаны ли все эти дурного вкуса знаки, которые время от времени ты получаешь, с убийством Оболенской… вроде бы даже отдаленной связи не существует… но если среди нас бродит убийца, то кто знает его логику, его мотивировки и, что самое главное, его цель.
Катя нервно засмеялась:
— Вы сейчас говорите, а мне кажется, что это вы очередную пьесу разбираете: мотивировки поступков, сверхзадача, сквозное действие… Но вообще правда страшно. Это же не на сцене, а в жизни, и не с какими-то выдуманными персонажами, а с нами… А вы, наверное, могли бы быть классным следователем, Алена Владимировна, — интуиция, наблюдательность и потом… способность анализировать, аналитическое мышление.
— Плюс генетический фактор. Моя мама была следователем по особо важным делам. Отец — судьей. Я с детства привыкла к разговорам о запутанных преступлениях. Мама советовалась с отцом, они часто ссорились… Отец сердился на маму, что она подозревает ни в чем не повинных людей, а потом, как правило, оказывалось, что мама была Права и эти самые что ни на есть неповинные совершали преступления, от которых волосы вставали на голове дыбом. Я хорошо помню, как она приносила домой фотографию нежного, хорошенького юноши, почти подростка, с ямочками на щеках и обворожительной улыбкой. Он убил мать и двух маленьких сестренок.
— Ужас какой! — Катя судорожно сглотнула. — За что он так с ними?
Алена не успела ответить — в дверях появился Максим Нечаев, считавшийся в театре одним из ее любимчиков. Некрасивый, с большим ртом, ранними залысинами и глубоким бархатным взглядом, Максим был, наверное, самым неожиданным актером труппы. Непредсказуемость его сценического существования была для партнеров тяжелым испытанием. Он не менял рисунка роли, не разрушал выстроенных мизансцен, не нес отсебятины, напротив — был, как никто, корректен к авторскому тексту, но его органика предполагала такие непредвиденные реакции, его способ существования на сцене был настолько по внутренней линии импровизационным, что многие актеры терялись. Вместо ожидаемого взрыва эмоций в «Бесприданнице», где он блистательно играл Карандышева, Максим потерянно затихал, и партнеры томились этой долгой удушливой паузой, которую абсолютно точно вдруг подсказала его никогда не допускающая подмен природа. Там, где он затравленно рыдал на предыдущем спектакле, на следующем вдруг разражался диким истерическим хохотом, и те же слезы обиды и боли делали мокрым его лицо в конце сцены. Единственной партнершей, всеми клетками откликавшейся на любое движение его души, была Воробьева. Они были замечательным примером актерского партнерства и, будучи необычайно интересны друг другу на сцене, были настолько заразительны и азартны, что благодарный зрительный зал щедро отзывался шквалом аплодисментов на такое доверие участвовать в процессе подлинного творчества. Сказать, что в жизни Катя и Максим так же обожали друг друга, было бы неправдой. Максим по совершенно непонятным для Алены причинам явно недолюбливал Катю, а она, чувствуя это, оборонялась иронично и чуть свысока.
— Да, Максим? Хотел поговорить? Проходи. — Алена встала навстречу молодому человеку, но он удержал ее.
— Нет, нет, я думаю, мой вопрос решается не сходя с места.
— Такой простой вопрос, что даже с моего места можно не сходить? Или все же мое отсутствие крайне желательно? — склонив голову набок, насмешливо спросила Катя.
— А это как удобней твоей ноге, — прохладно парировал Максим и, повернувшись к ней спиной, протянул Алене лист бумаги.
— Это официальное письмо, Алена Владимировна. О моей поездке на чемпионат по стрельбе.
— Я ужасно горжусь, что мой партнер — заслуженный мастер спорта по стрельбе, и всем об этом рассказываю, — встряла Катя. — Вот только когда ты в финале «Бесприданницы» целишься в меня из своего старинного коллекционного, отнюдь не бутафорского пистолета, я вся трепещу от ужаса. И как тебе разрешают с настоящим оружием выходить на сцену?! Наверное, лишь по большому блату.
Максим оставил без вниманий реплику Воробьевой и спросил Алену:
— Можно? С Синельниковой мы посмотрели все числа — я свободен.
— Ну тогда скажи Глебычу, что я тебя отпускаю, и пусть он подпишет твое заявление. — Алена вернула бумагу Максиму. — У тебя что-то еще?
— Да. — Голос Максима прозвучал неуверенно. — Я хотел давно вам сказать… но потом решил, что, наверное, неправильно вас этим грузить… Я собирался связаться со следователем, но теперь уже не успеваю до отъезда. В общем… у меня это чисто профессиональная цепкость взгляда, ну и зрение соответственно… Я ведь вошел тогда на проходную следом за вами. В сжатой руке Оболенской был малюсенький кусочек ворса, вы его, конечно, не заметили… После того, как собралось много народу, я вышел на улицу и вернулся, когда практически все разошлись, но еще до приезда милиции. Тогда уже ворса в руке Елены Николаевны не было. Кто-то забрал его как ненужную улику.
— Если это был ворс, то наверняка эксперты обнаружили его следы, — подала голос Катя. — Они даже невидимые волосинки и то определяют.
— Ну, короче, вот так… Я пошел.
Алена на прощание пожелала ему выиграть соревнование. Когда Максим удалился, в кабинете затрещал телефон. Звонил Глеб Сергеев из машины.
— Алена, дорогая, мы договаривались на пять, а сейчас уже половина шестого. Я у театра, во двор не стал въезжать потому, что не получил от вас установки на легальность нашего мероприятия.
— Бегу, извините, Глеб.
Алена схватила из шкафа пальто, на ходу надевая его, закрыла кабинет на ключ и виновато обратилась к Кате:
— Вот видишь, опять все на бегу… Так мы с тобой и не договорили. Но это важно! Поэтому пообщаемся завтра.
Катя, сильно хромая и опираясь на палочку, проводила Алену до лифта.
— Не волнуйтесь, Алена Владимировна. — И, лукаво прищурившись, добавила: — Сергееву — пламенный привет!
Красивая серебристая машина мчалась по подмосковному шоссе, оставляя позади пригороды, застроенные в лихорадочном беспределе архитектурными мутантами, и открывая израненному городской сутолокой взгляду ширь вечереющих полей и лугов. Алена давно не видела так много неба и с волнением всматривалась в покрытую таинственными сумерками природу. Она отвыкла от такого пейзажа и теперь, испытывая первобытное чувство сопричастности с тем, что бежало за окном, дивилась той торжественной многозначительной строгости, с которой готовила себя природа к подступающей зиме. Оголенные потемневшие березы с почти надменным одиночеством проживали свою наготу, и их смиренная стойкость ожидания пушистого белого одеяния вселяла надежду дожить до лучших времен, когда всегда верный заведенному обычаю Творец невидимым могущественным жестом снимет наложенный на природу обет безбрачия и жизнь выплеснет себя благословенной весенней вседозволенностью. И тогда отхлынет у берез кровь зимнего румянца, побледнеют они корой, заневестятся кудрями сережек… И трудно будет поверить, что совсем недавно гляделись строгими темными монашками…
Алена приоткрыла окно и вдохнула густой пряный запах — щемящий запах земли, несущий такую бездну информации человеку, что у Малышки внезапно закружилась голова. Она вдруг вспомнила день, когда хоронили Оболенскую. Было холодно, и на кладбище вот так же мощно, промозгло и неотвратимо пахло свежевзрытой горечью мокрой, тяжелой земли. Тогда было много хризантем, и они тоже горько и надсадно пахли…
— О чем вы? — прервал затянувшееся на много километров молчание Глеб.
Алена подняла стекло и вопросительно взглянула на его сглаженное сумерками лицо.
— О чем вам так тяжело вздыхается?
— Да так… Просто вспомнила запах хризантем и подумала, что они пахнут разлукой, расставанием.
— Возможно, — вежливо согласился Глеб. — А какие цветы пахнут счастьем?
— Ну, запахи — дело субъективное, я бы даже сказала — интимное. Лично для меня — фрезии. Все разного цвета, и никогда не угадаешь, какой из них ты предпочтешь на сей раз. Счастье — это же как пунктир — проживаешь коротенький миг, а дальше — разрыв, бездна, и главное — не ухнуть в нее, непременно дождаться следующего спасительного «тире». В запахе фрезий — дерзком, хмельном, чувственном — существует намек на эту мгновенность.
Алена внезапно почувствовала дикую усталость и затихла, а Глеб, чутко подчиняясь ее настроению и промолчав еще несколько километров, тихо сказал:
— Вы поразительная женщина…
— Почему? — так же тихо спросила Алена.
— Вы даже не спрашиваете, куда мы едем.
Алена, не поворачивая головы, ответила:
— Потому что я знаю, что мы едем туда, куда вы меня привезете. — И, помолчав, добавила с улыбкой в голосе: — И надеюсь, сдержите слово и накормите меня ужином.
Глеб тряхнул головой, что, видимо, означало обещание сдержать слово, включил фары и протолкнул диск, вставленный в магнитофон. Полилась тихая, грустная мелодия. Алена мысленно отдала должное тонкой организации Глеба. Эта музыка, она как бы порождала тот неяркий печальный свет, который отвоевывал у тьмы бегущую впереди машины дорогу. Эту музыку конечно же написал Глеб. Алена повернула к нему голову, и он утвердительно кивнул.
Впереди показался небольшой поселок, обнесенный высоким ажурным забором. Глеб пультом открыл раздвижные ворота, и автомобиль плавно въехал на территорию парка или хорошо ухоженного леса, ярко освещенного теплым, желтым светом. Около роскошного трехэтажного дома Глеб остановил машину.
— Приехали!
Алена вылезла на улицу и сразу ощутила сладкое бремя свалившейся тишины и покоя. Пахло хвоей и еще чем-то заморским, экзотическим.
— Так вот чем для вас пахнет счастье!
— Да, мне здесь хорошо, — согласился Глеб и пригласил Алену в дом.
То, что она увидела внутри, совсем не соответствовало ее представлениям о начинках богатых домов, которым казалось это роскошное сооружение снаружи. Было просторно, обстановка больших светлых комнат сводилась к минимуму, и весь дом буквально утопал в зелени. Каких только растений здесь не было! Чувствовалось, что все в доме подчинено необходимой жизнедеятельности этого зеленого царства. В нескольких комнатах цветы, расположенные вдоль стен на специальных деревянных стеллажах, умудрялись проникнуть даже на потолок, а те, что непременно должны были расти близко к свету, буйствовали возле каждого окна, окаймляя их живописными рамами и занавесями.
— Вы прямо ботаник! — восторженно подвела итог увиденному Алена. — Но ведь это же каждодневный труд. А если вы в Москве, кто же этим занимается?
— Сестра. Она живет здесь круглый год. В доме по соседству.
Сергеев провел Алену в гостиную, где был накрыт стол и даже горели свечи в старинных бронзовых подсвечниках.
Она вопросительно взглянула на Глеба.
— Да, это тоже Люся. Старшая сестра. Опекает меня, как маленького. — Глеб тяжело вздохнул. — Вообще-то я построил этот дом для мамы. Она очень тяжело болела последние годы. В Москве у нас квартира на Садовом кольце, мама там задыхалась и мечтала жить за городом. Я получил деньги за несколько работ в кино, остальное добавил Люсин муж — он банкир, и мы поселились здесь…
— А мама? — осторожно спросила Алена.
— Мама умерла год назад… Но успела развести все это зеленое хозяйство и до последнего дня не могла нарадоваться, что все так цветет. Она знала наперечет каждый бутончик, каждую веточку. И растения чувствовали ее. Когда ее не стало… и я вошел на следующий день в ее комнату, меня встретила… осень. Листья пожелтели, пожухли, многие из них облетели и скорбным ковром устилали пол. Я тогда написал музыку, — так меня потрясло то, что я увидел… Ну что же мы стоим, Алена? Все закуски на столе, а горячее — в духовке. Люся приготовила свое фирменное мясо.
— А сама она не придет? — спросила Малышка, усаживаясь за стол и с удовольствием окидывая взглядом изысканную сервировку и красивый сервиз из тонкого белого фарфора.
Глеб ответил не сразу, сначала поинтересовался, что гостья будет пить, разлил красное сухое вино, разложил по тарелкам салаты и закуску, потом сел напротив.
— Давайте выпьем за этот вечер. И за то, что наконец-то мне удалось вырвать вас из жадных объятий театра и увидеть в этом доме, который мне очень дорог. — Он отпил глоток, поставил бокал и, проследив взглядом за крупной каплей, сорвавшейся с края бокала и кровавым пятном расплывшейся на белой скатерти, словно нехотя произнес: — Нет, она не придет… Но это — другая история. Жуткая. Как говорится, пришла беда — отворяй ворота. После смерти мамы в Люсином доме случился пожар. Видимо, загорелось не само по себе — у Николая, Люсиного мужа, в банке тогда было непросто… Короче, сестра выпрыгнула со второго этажа, когда внизу уже горело. Дети, их двое, к счастью, вылезли через окна — их спальня была на первом этаже. Но в доме осталась собака, мамина любимица, и Люся, плохо соображая, в состоянии аффекта бросилась ее спасать…
— Спасла? — взволнованно спросила Алена.
— Собаку спасла… Но сама сильно обгорела, особенно лицо… Вначале было вообще кровавое месиво… Словом, она практически не бывает на людях. Живет как схимник.
— Ужас какой! А муж, дети? Они же с ней?
— Нет, — голос Глеба задрожал, и он резко наклонил голову, чтобы скрыть от Алены лицо. — Он теперь живет за границей, и дети пожелали уехать с ним. Они взрослые и самостоятельно приняли это решение. Я у нее теперь один. У Николая другая женщина. У детей тоже своя жизнь. А Люся живет здесь одна, со своим изуродованным лицом и необыкновенно добрым сердцем, переполненным жгучей, больной любовью к тем, кто выбрал не ее, а совсем других людей и другой мир… Недавно она получила от сына письмо… нет, не письмо, — коротенькое сообщение, что он женится. Приглашения на свадьбу не последовало. Они стесняются ее страшной внешности и даже не смущаются в этом признаться.
Алена резко отодвинула стул, подошла к Глебу и, обняв его голову, крепко прижала к груди.
— Теперь я понимаю, откуда в вас эта музыка… Глеб, дорогой… Ах, как все это горько и как банально. Сколько живут люди, столько задают себе и миру эти извечные «ну почему?», и, наверное, только искусство в своих высших прорывах к вечному в состоянии дать ответ. Ваша музыка… она трагически одухотворенна, и в ней живет боль и горечь, но, как все самое талантливое, она переполнена любовью и поэтому — я, правда, не люблю этого слова — оптимистична. Представляю, как гордится вашими успехами Люся, как она слушает то, что вы написали.
Глеб взял Аленину руку и прижал ее к губам:
— Видите, как получилось… Пригласил вас поужинать, а теперь вы утешаете меня…
— А вы не складывайте того, что происходит, в стереотипные формулировки. — Алена мягко высвободила руку и вернулась на свое место. — Вот сейчас я поем, наберусь сил и наглости и попрошу показать мне, где стоит тот счастливчик, посредством которого вы извлекаете бесподобные звуки. И вообще, Глеб, для меня совершенно непостижим процесс создания музыки. Вы ее сначала слышите или она, как слова у многих писателей, стекает с кончиков пальцев на лист бумаги? Вы можете не отвечать, если я неправильно спрашиваю.
Глеб улыбнулся:
— Я просто вряд ли сумею вам ответить. Но если хотите, могу рассказать, как случилось, что я начал писать музыку… Я, естественно, как любой другой ребенок из интеллигентной семьи, посещал музыкальную школу, но, надо признаться, часто пропускал занятия из-за болезни. У меня была очень странная болезнь, и врачи толком так и не могли поставить диагноза. Астма, или легочная недостаточность, или врожденный порок сердца — одним словом, я задыхался, у меня бывали страшные приступы удушья. Меня пичкали таблетками, возили дышать морским воздухом, но ничего не помогало. И однажды — я очень хорошо помню эту ночь, мне тогда было четырнадцать лет — я проснулся с диким приступом. Не захотел будить маму. Вышел на балкон. Увидел над собой небо, усыпанное громадными звездами, каждая из которых словно разговаривала со мной… И вдруг ощутил, как внутри меня точно что-то отозвалось на их мерцающий свет, что-то зазвенело… и на глаза выступили слезы. Я стоял, плакал и задыхался. А потом рванул к роялю, и из меня полилась музыка… Когда я закончил играть и обернулся, то увидел над собой заплаканное, счастливое лицо мамы. Приступа удушья как не бывало. И тогда я понял: для меня писать музыку — как дышать. Это она, моя ненаписанная музыка, спрессованным комком стояла в груди и стесняла дыхание. Но я должен был созреть душой, чтобы это осознать… Чтобы суметь выразить ее достойно, я должен был однажды, измучившись плотски, заплакать от красоты мироздания… Вот так я стал композитором.
— И… больше не задыхались?
— Нет. Когда я начинаю ощущать тревожные симптомы внутри грудной клетки, знаю — это зреет моя музыка.
Алена блестящими восхищенными глазами смотрела на Глеба.
— Я поняла, кто вы! Вы — Андерсен, вы грустный мудрый сказочник. И ваша музыка — это те сказочные истории, которые вы сочиняете для людей. Они бывают нежными, добрыми, бывают жестокими и надсадными, больными и сокровенными, наивными и трогательными, но никогда, поверяя их вашим слушателям, вы не изменяете себе. Поэтому в вашей музыке — безупречная мощная авторская честность. Вы пишете мир таким, каким он является вам, и иногда решаетесь поведать о своем бессилии постичь его, о своей растерянности и слабости перед его жесткими условиями игры. Но это замешательство проходит, и вы снова вступаете с ним в единоборство, иногда хитростью, иногда угрозами пытаетесь навязать свои представления… и тогда вашей музыке тесно в симфоническом исполнении… тогда только раскатам органа вы доверяете развернуть затылки сбившейся с пути толпы вспять, чтобы, увидев разуверившиеся глаза, еще раз попытаться убедить их, что не так все плохо, что все еще, может быть, будет ничего себе…
— Вы слышали мои органные концерты? — удивленно поднял брови растроганный Глеб.
— Я давно взяла себе за правило все знать о творчестве человека, с которым решаюсь бежать в одной упряжке. — Алена сняла очки, потерла глаза. — Боже мой! Сегодня какой-то сентиментальный рождественский вечер. По-моему, сейчас начнет хлопьями падать снег и за закрытой дверью окажется двухметровая елка в гирляндах и хлопушках.
— Подождите… Пожалуйста, не надевайте очки. Господи! Это надо же так замаскировать себя немыслимыми диоптриями. Алена! У вас, такой строгой и независимой, глаза маленькой беззащитной девочки.
— Это от близорукости! — засмеялась Алена, водворяя очки на нос. — И вообще, не лишайте меня моего главного орудия. У Кощея сила была в игле, а у меня, может быть, в очках.
Глеб с таинственным видом оглянулся на дверь, за которой, как предположила Алена, пряталась рождественская елка, и прошептал:
— Я хочу вам что-то показать.
— Рояль? — так же шепотом спросила Малышка.
Глеб отрицательно помотал головой и взял Алену за руку. Они подошли к двери, и Глеб, повернув ключ, распахнул ее.
Алена изумленно ойкнула. Она очутилась в маленькой домашней часовне. Здесь был купол, как в настоящем храме, и оттуда сквозь синь неба и белизну облаков скорбно и доверчиво смотрели глаза Богородицы. В углу под иконой Спасителя в тяжелом старинном окладе теплилась лампада. Такая же лампадка потрескивала возгорающим маслом у поминального столика. Возле других икон стояли в подсвечниках свечи, которые сразу зажег Глеб. У каждой иконы в напольных вазах — живые цветы. Каменное основание деревянной голгофы покрывали свежесрезанные белые розы в полураспустившихся бутонах.
— Андерсен, я не сплю? Ущипни меня, чтобы я очнулась, — прошептала Алена.
— Вот сейчас ты точно не спишь. А все, что было раньше, возможно, тебе и приснилось.
Глеб подошел к поминальному столу, где догорала одинокая свечка, и, задув ее, взял из кучки лежащих рядом еще одну, зажег, поставил в ячейку и, перекрестившись, беззвучно, одними губами произнес молитву. Обернувшись, протянул Алене свечу. Она поблагодарила Глеба глазами и, поставив свечку, спросила:
— А куда… если за живых?
Глеб широким жестом обвел пространство часовни, вмещавшее десятки икон.
— Это на твой выбор. Если кто-то из твоих близких болен, можно сюда, святителю Пантелеймону. Моя мама очень почитала его.
Глеб подошел к иконе, любовно вглядываясь в лик серьезного задумчивого мальчика с ложечкой какого-то снадобья в правой руке.
— Да, я читала про него. Когда умирала мама в Питере, меня отвели к батюшке в храм святой Екатерины в Академии художеств… Он соборовал маму и дал мне тогда иконку святителя Пантелеймона и акафист ему.
Алена долго молча стояла перед иконой, потом какое-то сильное волнение дрожью прошло по всему телу. Она даже побледнела — так была поражена тем, что внезапно осенило ее у лика святителя Пантелеймона.
— Что-то случилось? — Глеб осторожно дотронулся до ее руки. Малышка ответила ему слабым пожатием.
— По-моему, да… Это касается убийства Оболенской. Мне кажется, я что-то поняла… Но нужно проверить, я пока еще сама не понимаю как… Прости… Если можно, я бы хотела побыть здесь одна. Я должна сейчас успокоиться и попросить у Господа помощи и… прощения. Я очень любила эту женщину — Елену Николаевну Оболенскую, светлая ей память, и, конечно, у меня в душе особый счет за ее подлое убийство. Разреши мне побыть здесь…
— Эта часовня освящена в честь небесного покровителя моей мамы — святой мученицы Елены, — тихо произнес Глеб, направляясь к двери. — Это и твой небесный покровитель, и, волею судеб, покойной Оболенской. В совпадения я не верю…
Алена долго находилась в часовне. Показалась в гостиной с радостной улыбкой и сразу заявила:
— А как там поживает в духовке фирменное жаркое? По-моему, его пребывание на этом столе украсит сервировку.
— Его временное пребывание, — весело уточнил Глеб. — Оказывается, кое-кто из находящихся за этим столом хоть и маленький, но довольно прожорливый. Но лично я ничего так высоко не ценю в людях, как хороший аппетит.
— Да ладно, — усомнилась Алена, — я-то наивно полагала, что сказочники презирают плотские слабости.
— Отнюдь. — Глеб вихрем слетал на кухню и вернулся с блюдом, на котором аппетитно поблескивал румяной корочкой запеченный кусок мяса.
Алена повела носом и констатировала:
— С чесночком и приправами! Класс!
Когда уже было съедено мясо, сказаны друг другу нарочито высокопарные тосты-пожелания, когда догорели свечи в подсвечниках и вдруг иссякли слова, застигнутые врасплох глубоким, волнующим, как свершающееся таинство, молчанием, Глеб медленно встал, откинул тяжелую бархатную портьеру, скрывающую комнату, где стоял рояль, сел за него и долго-долго смотрел на Алену, как будто сводя воедино ее и то вдохновение, которым он сейчас жил…
Алена давно не плакала так легко и радостно, как в детстве, когда слезы даются облегчением прощенной мамой выходки и с каждой слезинкой внутри словно раздвигается большой белый просторный шатер, способный вместить взамен ушедших мук и терзаний, вины и усталости море ликующей свободы. Она чувствовала такую блаженную невесомость, что нисколько бы не удивилась, если бы вдруг ощутила макушкой твердую поверхность лепного потолка гостиной. И еще она понимала, что уже несколько часов безоговорочно любит этого неторопливого сказочника с его волшебной, пронизывающей музыкой и что сейчас он дарит ей эти звуки, непостижимым образом сколдовав воедино то, что было для них двоих порознь.
Глеб закончил играть, закрыл крышку, положил голову на скрещенные на рояле руки и нарочито буднично произнес:
— А тем временем… в кустах оказался рояль.
Оглушенные тишиной, они молча смотрели друг на друга. Потом Алена, двигаясь, как сомнамбула, подошла к Глебу, развернула к себе его лицо и медленно, подробно исследуя губами каждую клеточку, поцеловала лоб, глаза, щеки, шею, волосы. Он затих, не смея пошевелиться, а она взяла его тяжелые натруженные кисти и покрыла длинные пальцы такими же медленными поцелуями.
— Алена… я счастлив, — прошептал обессиленным от любви голосом Глеб.
Она поцелуем приказала ему замолчать. Когда стало нечем дышать, отодвинулась и тихо попросила:
— Сказочник, отвези меня домой.
Глеб тяжело вздохнул и горько прошептал:
— Понимаю… Я измучил тебя своей музыкой.
— Глупый, глупый до неземной мудрости сказочник! Я хочу проживать с тобой все по законам твоей музыки. У нас будет завтра… И этим можно гордиться.
Глеб вдруг нагнулся и обеими руками коснулся ног Алены. Его гибкие пальцы двумя плотными браслетами обхватили ее лодыжки.
— Когда я впервые увидел тебя, твою лодыжку обвивала тонюсенькая золотая змейка. Я ей так завидовал весь вечер. Я ревновал ее. А потом приехал сюда и был не в меру задумчив. Люська просекла «на раз» мое состояние и спросила: «Влюбился?»
— А ты?
— А я ответил: «Еще страшнее. Я нашел свою женщину, но она про это пока не знает».
— А Люся?
— А Люся… поступила так, как в таких случаях поступают любящие сестры, — она разрыдалась.
Уже в машине, когда показалась сверкающая ночными огнями Москва, Алена произнесла:
— В часовне на стене я видела дворянский герб. Это ваш?
— Да. Моя мама княжна Мещерская. И я знаю, что ты скажешь дальше. Но я все уже сделал, что касается дворянских корней Оболенской. Связался кое с кем и кое-что выяснил, а некоторые подробности буду знать на днях. Тогда ты получишь всю информацию. Она мне тоже запала в душу, эта ваша Оболенская. Когда я впервые оказался в театре и представился ей на проходной, она вслед мне тихо произнесла: «Да хранит вас Господь!» Меня так всегда напутствовала мама перед всеми моими начинаниями. В следующий приход я осмелился принести ей букетик фиалок, она смутилась и покраснела, как школьница. А на юбилее была элегантна и одухотворена — наверное, присутствием внука. Я даже пригласил ее танцевать (она стояла в дверях и с улыбкой глядела, как кружатся пары), она опять смутилась и отговорилась тем, что у нее заняты руки — как раз в этот момент внук передал ей чашечку кофе.
— Так… приехали! — Алена резко откинулась на спинку сиденья и до боли стиснула кулаки.
Спектакль «Столичная штучка» сдавали худсовету театра и труппе. Это был первый прогон на зрителе, и актеры нервничали.
Теперь уже шел конец второго акта, и Алена позволила себе слегка расслабиться и тайком проглотила таблетку от головной боли.
Глеб сидел ниже на несколько рядов, и Малышка время от времени с нежностью останавливала взгляд на его коротко стриженной круглой макушке. Поспать ей удалось всего лишь несколько часов, но уже давно она не чувствовала себя такой бодрой, уверенной, сильной, и лишь тупая боль в висках напоминала о бессонной ночи и волнении перед сдачей спектакля.
Спектакль шел прекрасно, без явных накладок, а Воробьева в очередной раз поразила даже Алену. Находясь в очень верном импровизационном состоянии, она к финалу вдруг сбросила все характерные приспособления и на прямом, мощном от природы темпераменте так сыграла последний монолог, что зрители разразились аплодисментами.
— Какая же наглая природа в самом прекрасном для актрисы смысле, — прошептал на ухо Алене Сиволапов. — Все сломала, снесла все, о чем договаривались, и не боится от тебя взбучки.
— Она сейчас об этом не думает. И правильно. Ее ведет, и она сейчас только себя слышит.
Сиволапов оглянулся назад, чтобы посмотреть на реакцию зрителей, и возбужденно зашипел:
— Вот-те здрасьте. Знаешь, кто пожаловал? Энекен. Стоит в задних дверях с абсолютно перевернутым лицом. По-моему, сейчас в обморок грохнется. Видно, здорово ее переиграла наша-то…
Алена резко развернулась назад, увидела потрясенное лицо Энекен, инстинктивно даже приподнялась с места, но в это время финальная тема спектакля вправила ее мгновенный импульс в нужное русло, и Алена зашептала в микрофон:
— Сережа, микшируй звук. Маша, актеров на поклоны не выпускай — они еще не выстроены. — И уже громко, после последнего звука музыки, словно звонкой каплей начала оттепели, завершившей спектакль, произнесла: — Свет в зал, пожалуйста. Всем спасибо. Замечания — перед завтрашним прогоном. Внимание актерам. В пять часов художница Ольга Белова принесет доработанный макет и эскизы костюмов к «Двенадцатой ночи». Желающих посмотреть и тех, кто занят в спектакле, прошу ко мне в кабинет. Повторяю: в пять часов.
К Алене подошли директор и завлит Галя Бурьянова.
— Нет слов! — Шкафендра взял руку Алены и несколько раз прочувствованно поцеловал ее. — Если бы лично не имел чести быть с вами, так сказать, в тесном знакомстве, никогда бы не поверил, что это сотворено женскими руками, да еще… — Глебыч опасливо повертел головой в поисках Сиволапова. — Ну что греха таить, пьесу-то все читали… Одним словом, от души поздравляю и вас, и нас, и театр, и будущих зрителей. Как старый театральный зубр, предвижу небывалый успех. Для обсуждения предлагаю собраться у меня. А труппу думаю завтра с утра вызвать. Да, а какова музыка! А уж Воробьева… Ох уж эта Воробьева! Пойду ее поцелую.
— Классно все собралось! — Галя притянула к себе Малышку и звонко чмокнула в щеку. — Теперь наша мечта о музыке как равноправном действующем лице сбылась, стала явью. Слушай, какой же талантище этот Сергеев! Как бы нам его удержать для театра, на него сейчас такой поток предложений ухнет!
— Да уж как-нибудь попытаемся, — улыбнулась Алена. — По крайней мере, от «Двенадцатой ночи» ему не отвертеться.
Малышку обступили со всех сторон, и она, пытаясь как можно скорее корректно завершить стихийно возникшее обсуждение спектакля, краем глаза видела, как поздравляют Глеба, жмут ему руки, а он, радостно улыбаясь, ищет ее взгляда… В груди стало жарко от мысли, что сегодня, после всех треволнений напряженного дня, они останутся вдвоем. И тут же Алена вздрогнула и стала напряженно выискивать кого-то в зале. Потом придвинула микрофон и сказала:
— Маша, если девочки меня не слышат, попроси спуститься ко мне Воробьеву и Трембич.
— Воробьеву, можно сказать, прямо из кулисы забрали на контрольный снимок ноги.
— Кто забрал? — насторожилась Алена.
— Да Миша же, наш шофер. Он ее доставит в больницу и к пяти привезет, чтобы она макет посмотрела. Замечания же вы перенесли на завтра.
— Хорошо, — облегченно выдохнула Алена. — Мне срочно нужна Женя Трембич.
Буквально через минуту перед Аленой появилась запыхавшаяся Женя. Ее хорошенькое лицо со следами нестертого грима было обеспокоено:
— Что случилось, Алена Владимировна?
— Может случиться. — Алена отвела ее в сторону. — Ты знаешь, что приехала Энекен?
— Вчера вечером узнала, что она явится на один день. Не на сдачу спектакля, естественно. Встретиться с Адамом.
— Но она была в зале. Я ее видела.
— Да? — удивилась Женя. — Странно, что она не зашла ко мне. A-а, знаю. Она же из Таллина для Ковалевой какую-то траву или настойку должна была привезти. Видимо, поэтому забегала… Да что с вами, Алена Владимировна? На вас лица нет.
— Слушай меня. Все очень плохо складывается. Ты должна немедленно, во что бы то ни стало найти Энекен. Где она могла остановиться?
— Не знаю. Возможно, нигде. Она же на один день, ей вечером на поезд. Хотя… я постараюсь ее найти.
— Это просто необходимо, Женя. Ее нельзя оставлять ни на одну минуту. Ты поняла меня?
Какое-то время Женя смотрела на Алену широко распахнутыми, недоумевающими глазами, потом недоумение вытеснил страх, и она прошептала:
— Я все поняла… Но ее-то за что?
— Этого никто знать не может. Поторопись, Женя.
Трембич сделала шаг вперед, обернулась и с тревогой произнесла:
— Я думаю, они уже вместе. И, кажется, знаю где… Я позвоню вам.
Женя пробкой вылетела из зала, чуть не сбив с ног Мальвину, спешащую к Алене.
— Только что позвонил Максим Нечаев. Просил передать, что выиграл соревнование и посвящает свою победу вам, Алена Владимировна. — Мальвина поджала ярко-малиновые губы и сухо добавила: — Завтра уже будет в театре. Видимо, вместе с лавровым венком.
— Здорово! Молодец Максим! — воскликнула Алена и не удержалась: — Как это вам удается так умело скрывать свою радость за успехи наших артистов, Лидия Михайловна? Просто редкое качество, позавидуешь.
Мальвина не сразу нашла ответную реплику, зато на ухо Малышке раздраженно пробасил Сиволапов:
— Тебе, оказывается, не только симфонии посвящают, а даже в мишени стреляют в твою честь.
— Это же прекрасно! Я этому безумно рада! — И, собрав со стола бумаги, Алена сообщила в микрофон: — Членов худсовета просил пройти к нему в кабинет Валентин Глебович. Теперь для тех, кто не слышал или не понял: прогон завтра, как обычно, в одиннадцать. Играем для пап и мам. Замечания по сегодняшнему спектаклю — в десять. Завтра вечером возможна замена.
— Не слишком ли большая нагрузка для актеров? Два спектакля — это круто! — снова подал голос Сиволапов.
Глядя прямо ему в глаза, Алена прогудела неприятным низким голосом:
— С актерами я как-нибудь сама разберусь! — И, неожиданно улыбнувшись ослепительной улыбкой и прихватив под руку Галю Бурьянову, Малышка покинула зал.
В половине пятого Катя Воробьева вылезла во дворе театра из машины и, перекурив напоследок с водителем Мишей, направилась к служебному входу. Она уже была около крыльца, когда Миша окликнул ее и помахал рюкзаком, который она забыла в машине. Вернувшись к машине и забрав свой рюкзачок, Катя, к своему удивлению, увидела вышедшую из театра художницу Ольгу Белову с огромной папкой в руках. Выглядела она чрезвычайно расстроенной.
— Оль, привет, что случилось? К пяти все приглашены смотреть эскизы и макет, а ты, по-моему, собираешься отказать нам в этом удовольствии.
Рыжеволосая, остроносая, вся усыпанная веснушками Ольга неопределенно хмыкнула и, прислонив папку к ноге, попросила у Кати сигарету.
— Позднякова сегодня сильно не в духе. Макет оставила, а костюмы завернула обратно.
— Интере-есно, — протянула Катя, пытаясь перекрыть ладошками от ветра непослушное пламя зажигалки. — Она же была в восторге от эскизов. Сама мне говорила, да и не только мне.
Ольге наконец-то удалось прикурить, и она благодарно кивнула Кате:
— Я кое-что переделала, естественно, сохранив все, что ей нравилось. Просто ужас какой-то! Я двести лет не видела ее в таком состоянии. Закрыла дверь перед носом у тех, кто пришел поглядеть эскизы! Мне даже показалось, что дело и не в костюмах. Ей-богу, неделю назад она видела практически то же самое. — Ольга в расстроенных чувствах с силой выдохнула струю дыма прямо Кате в лицо.
— Ой, извини, Катюш. Как нога-то? А мозги встали на место?
— Нога в порядке, а вот с мозгами и всегда были проблемы, а теперь подавно, — рассмеялась Катя и попросила: — Олечка, покажи эскизы. Мы можем сесть в машину.
Ольга отрицательно качнула головой:
— Алена так разозлилась, что никому не велела показывать. — Но, увидев Катины умоляющие глаза, тут же согласилась. — Ну ладно, тебя, я думаю, это не касается. Тебе все можно.
Они сели на заднее сиденье, и Ольга разложила на коленях листы с эскизами.
Через несколько минут Миша потребовал, чтобы они «закрывали лавочку», он еще не обедал и ему надо успеть в буфет, предварительно загнав машину в гараж.
— Я тебя поздравляю от всей души! Гениальное решение костюмов! — Катя чмокнула Ольгу в щеку. — Думаю, Алена недовольна сегодняшней сдачей спектакля, и поэтому тебе и досталось. Пока!
Воробьева махнула на прощание рукой и скрылась за дверью служебного входа.
Миша закрыл машину, задумчиво посмотрел на дверь, за которой только что исчезла Катя, и, вытащив из кармана мобильный телефон, набрал номер.
— Алена Владимировна, извините, если отрываю от чего-нибудь, это Миша, водитель. У вас там много народу, а мне необходимо сказать кое-что конфиденциально… Я на улице, возле служебного. Ну ладненько. Жду.
Миша снова открыл машину и сел на заднее сиденье.
Через несколько минут на крыльце показалась Алена. Поверх тоненького свитера была накинута теплая куртка. Она села рядом с Мишей, попросила:
— Если можно, скорей, а то у меня там полный кабинет народу. Макет смотрят.
— Я понимаю… Художница только что Кате эскизы у меня в машине демонстрировала. — Миша подозрительно огляделся по сторонам и вполголоса проговорил: — Если бы по пустякам, то я не стал бы отрывать вас. Дело вот в чем. Мы же дружим с Севкой, и он рассказывал мне, как Катя тогда в аварию попала. Я уж забыл про это, а сегодня… вспомнил, пришлось вспомнить. Чуть не поседел за рулем… — Миша подавленно замолчал.
Алена не подгоняла его, терпеливо ждала.
— Так вот, джип этот к нам пристроился почти сразу, как мы от театра отъехали, а когда в тоннель вошли, на полной скорости стал меня к бордюру поджимать. Я аж взмок, думаю, стукнет сейчас своей массой по нашему «жигуленку» и поминай как звали…
— А Катя? — прервала Мишу Алена.
— Катя, к счастью, как только в машину села, открыла сценарий — ей на проходной оставили — и стала читать. Я даже губу прикусил, чтобы не заорать… Она же пуганая, Катерина, жалко ее снова подвергать такому испытанию.
— А дальше?
— А дальше… Пробка спасла. Движение совсем остановилось, все тачки встали. Он, видно, этого не мог предположить, гад ползучий. И главное, стекла зеркальные — кто там сидит за рулем, ничего не видать. А чуть из тоннеля вышли, я сразу в правый ряд и к тротуару, вроде как за сигаретами. Ему только через квартал удалось в правый ряд перестроиться, а я от него в переулок оторвался… Подъехали к поликлинике, Воробьева посмотрела на меня и даже испугалась. «Ты, говорит, наверное, заболел, у тебя температура».
— А когда возвращались?
— Ну, во-первых, обратно мы только через два часа поехали. Катя вышла из поликлиники — предупредить, что очередь огромная. Мол, съезди куда-нибудь пока… Я кивнул, а сам за эти два часа едва-едва в себя пришел. И уж обратно-то огородами… Воробьевой сказал, что новые маршруты изучаю. Как к театру с другой стороны вывернуть.
— Понятно…
Миша поразился той строгой сосредоточенности, которую увидел на лице главного режиссера вместо ожидаемой растерянности и страха.
— Пока больше никому не рассказывай об этом. И сам ничего не бойся. Как ты понимаешь, тебя одного никто преследовать не станет.
Алена поднялась к себе в кабинет, где возле макета «Двенадцатой ночи» толпились актеры и любопытствующие сотрудники театра. Задержалась в приемной возле секретарши Милочки, возбужденно строчившей с кем-то по телефону.
— Трембич мне не звонила? — спросила Алена, и Мила, прикрыв ладонью трубку, замотала головой.
«Если даже кто-нибудь и пытается прорваться, разве можно прозвониться, — с раздражением подумала Алена и, зайдя в кабинет, устало опустилась в кресло.
Она глубоко задумалась, и по ее лицу тревожными волнами пробегали оттенки самых негативных чувств — от ярости до бессилия. Понемногу толпа у макета рассосалась, никто не решился задавать ей вопросов, делиться впечатлениями от работы художника, интересоваться эскизами костюмов.
Алена даже не заметила, как осталась одна. Заглянула румяная, вечно растрепанная Милочка, поправляя обеими руками непослушную гриву кудрей. Опасливо покосилась на странно оцепеневшую Алену, хотела тихонько испариться, но голос главного режиссера остановил ее:
— Да, Мила?
— Да нет… я, собственно, ничего… если вы заняты. Но Ковалева просила сообщить ей, когда вы освободитесь. Она хотела зайти к вам.
Алена с усилием вернула мысли к делам насущным:
— Позвони Нине Евгеньевне, я ее жду. Мила… подожди… откуда цветы? — И заранее зная ее ответ, кивнула на букет разноцветных фрезий, источающих тонкий аромат из вазы на журнальном столике.
— Пока вы заседали на худсовете, цветы принесли с проходной. Без обратного адреса. Велено передать — и все.
Мила снова удивилась резкой смене настроения начальницы. Мягкий румянец сделал лицо совсем девчоночьим. Она подошла к цветам, зарылась лицом в букет. Мила неодобрительно пожала плечами и, прошептав про себя: «Ну-у, ее, блин, сегодня кидает!», сообщила Ковалевой, что ее ждут.
Когда Нина Евгеньевна вошла в кабинет главного режиссера, за столом восседала как всегда собранная, деловая Алена.
— Я хотела поговорить с вами по личному вопросу.
Замдиректора протяжно вздохнула и тяжело опустилась в кресло напротив Алены. Малышка отметила нездоровый цвет лица Ковалевой, отсутствие всегда яркой губной помады и вообще ту неухоженность, которая в пожилом возрасте женщины всегда мгновенно бросается в глаза. Алене вдруг стало жалко ее, всегда четкую, организованную, ставящую интересы дела превыше всего. И она великодушно пришла к ней на помощь.
— Нина Евгеньевна, дорогая, ей-богу вы напрасно так убиваетесь. Жизнь все всегда расставляет по своим местам. И тут уж, как говорится, выбирать не дано. Остается лишь смириться и принять все как есть. Надеюсь, Инга чувствует себя лучше?
Ковалева кивнула и облизала пересохшие бледные губы.
— Вот и отлично. Ребенок — это самое главное. Это — здорово. — Алена придвинула Ковалевой пепельницу, и та сразу закурила, пряча в облачках дыма свою крайнюю растерянность. — У нас с Ингой, к сожалению, сложились непростые, напряженные отношения, но это творческие проблемы, отнюдь не личные. Ее сейчас ничего не должно угнетать. Много радости и любви — вот то, что должен чувствовать развивающийся в ней человечек. Я с удовольствием навестила бы ее, но это решать самой Инге. В любом случае передайте ей, что я абсолютно солидарна с ее мужественным решением и с моей стороны гарантирую ей любую помощь… Она ничем не должна огорчать своего малыша… Это самое важное.
Ковалева дрожащими пальцами затушила сигарету и недоверчивым взглядом проверила искренность слов Малышки. Чтобы заполнить возникшую неловкую паузу, Нина Евгеньевна обернулась в сторону макета и спросила:
— Трембич так и не приходила?
— Трембич? — Алена вздрогнула. — Она вам нужна?
— Я не успела повидать ее после сдачи спектакля. А ко мне забегала Энекен и оставила для нее телефон гостиницы, в которой она остановилась.
Алена порывисто вскочила, заговорила торопливо и взволнованно:
— Где он? Телефон? В какой гостинице? Нина Евгеньевна, мне необходим этот номер!
Ковалева извлекла из сумочки сложенный листок бумаги:
— Вот, пожалуйста. Гостиница «Россия». И телефон.
Алена тут же набрала номер и разочарованно прошептала:
— Никто не подходит… Мила! Быстро узнай, на месте ли Миша. Мне срочно нужна машина.
Алена лихорадочно натягивала куртку, уже не обращая никакого внимания на оторопевшую Ковалеву.
— Нет его, Алена Владимировна, уехал с Валентином Глебовичем. Может, подождете? Они скоро вернутся.
Мила растерянно проводила взглядом пролетевшую мимо нее Алену и пояснила Ковалевой:
— Она сегодня не в себе. Неадекватная какая-то… И все из-за Ольги Беловой…
Алене сразу посчастливилось поймать такси.
— Какой вход в «России»-то? — вяло спросил шофер, видимо к концу дня совсем обессиленный от дорожных пробок. — Там четыре въезда. Север, юг, восток, запад. Так вам-то какой нужен?
— Я не знаю, — почему-то рассердилась на таксиста Алена. — Везите к любому — там сориентируюсь.
— Ну да, — миролюбиво согласился шофер, — побегаете там по кругу… Вы небось тоже артистка, сразу видать — вся вон взнервленная. Я сегодня от вашего театра одну нервную артистку уже подвозил. Хорошенькая такая, большеглазая… я ее узнал по фильму. Недавно по телеку шел.
— Женя Трембич. И куда вы ее подвозили? Тоже к «России»?
— Не-ет. Ее я должен был на Олимпийский доставить, но проехали мы всего лишь вон до следующего светофора. Там ей в окно постучал какой-то мужчина, и она, извинившись, пересела к нему в джип.
— В черный?
— Ну вы прямо как следователь. А я почем помню? Темный, это точно. А уж темно-зеленый, «мокрый асфальт» или темно-синий — вот уж не разглядывал.
— А мужчина… он как выглядел?
Таксист притормозил и с подозрением уставился на Алену.
— Знаете, мадам, может, у вас там в коллективе какая-нибудь интрига плетется, а я сейчас буду девчонку подставлять. Это уж увольте!
Таксист преисполнился чувства собственного достоинства и громко возбужденно засопел.
— Послушайте, речь идет о человеческой жизни. — Алена умоляюще поглядела на таксиста. — Я не шучу. У нас в театре уже произошло одно убийство… Не тормозите, пожалуйста, мне надо как можно быстрей попасть в гостиницу.
— Так вы в самом деле следователь? Я-то не всерьез сказал, а так… от вашего тона напористого.
— Никакой я не следователь, — поморщилась Алена. — Я режиссер этого театра. Так что, не помните, как выглядел тот мужчина, с которым уехала Трембич?
— Да как его упомнишь, если он был в темных очках и воротник пальто поднят до ушей… На голове кепка… По-моему, клетчатая.
— Ясно… И что же, она сразу выскочила к нему?
— Не сразу. Он постучал, она опустила стекло, он что-то ей сказал — я не слышал что: в открытое окно один рев машин слышно. Тем более что мое окно тоже было приоткрыто, я курил… Кстати, можете покурить, я не возражаю.
Алена воспользовалась предложением таксиста, и дальше они ехали в полном молчании, утопая в клубах дыма.
— Приехали. Вот вам ваша «Россия». Это западный вход. Хотите, я подожду? Или с вами пойти… Вдруг свидетель понадобится или, может, одной опасно?
Алена благодарно взглянула на парня и, расплатившись, ответила:
— Правда что… подождите… Я недолго.
Набегавшись вокруг здания, как и предсказывал таксист, она наконец нашла бюро пропусков и спросила, в каком номере живет Энекен Прайс. Пожилая сотрудница быстро пролистала компьютер, сняла телефонную трубку и сообщила кому-то:
— Здесь эту эстонку спрашивают… — Потом наклонилась к окошечку и строго сказала похолодевшей от ужаса Алене: — Подойдите к восточному входу, вас там встретят.
Но встретили Алену значительно раньше. Ей навстречу, ежась и сутулясь на сильном ветру, двигался долговязый худой человек в одном костюме. Он молча, не реагируя на бессвязные вопросы Алены, ввел ее в вестибюль гостиницы, открыл дверь комнаты, где помещалась администрация, и пригласил присесть. Лишь мельком скользнув взглядом по предъявленному документу в красной корочке, Алена впилась глазами в лицо представителя органов.
— Кем вы приходитесь Энекен Прайс?
— Я — режиссер, Энекен — моя актриса и вообще близкий мне человек. Что с ней?
Долговязый человек предусмотрительно придвинул Алене стакан с водой и ровным, четким голосом произнес:
— Мне очень жаль, но несколько часов назад Энекен Прайс кончила жизнь самоубийством. Она выбросилась из окна девятого этажа, из номера, в котором остановилась. Вам придется опознать ее тело. Мои сотрудники отвезут вас. Примите мои соболезнования… Я не прощаюсь. Нам еще придется повидаться, и, думаю, не раз…
На ватных ногах Алена дошла до двери, потом вернулась, залпом выпила воду из стакана и, незряче глядя куда-то вбок, глухо прошептала:
— Человеку всегда мало…
Наутро пошел снег. За несколько часов он сделал неузнаваемыми улицы, скверы, площади. Все, что еще накануне царапало взгляд бурой неприбранностью голых торчащих ветвей, стылой неприкаянной земли, почерневших от осенней сырости фасадов домов, — все это, уже готовое разрыдаться от своей некрасивости очередным пронизывающим дождем с ветром, в одночасье стало надменно-роскошным и кичилось первозданной белоснежной непорочностью, словно невеста перед венчанием. Невесомые громадные снежинки завихрили такой хоровод, что прохожих шатало от навязанного этой круговертью головокружения.
Спешащей в театр Алене тоже казалось, что у нее кружится голова, и, только перешагнув порог театра и стряхнув, с капюшона целый сугроб снега, она с облегчением поняла, что кружились все же снежинки, а не ее и так разламывающаяся от усталости голова.
Домой она вчера попала только глубокой ночью… Возле подъезда ее ждал Глеб.
Как только она увидела его милое, встревоженное лицо и подрагивающий уголок по-детски пухлого рта — прижалась лбом к его груди и безутешно беззвучно зарыдала. Глеб целовал ее волосы, плечи, шею и ни о чем не спрашивал.
— Если можно, то все завтра, — успокоившись в его ласковых, добрых руках, прошептала Алена.
Он молча осушил губами ее мокрые щеки и тоже шепотом спросил:
— Ты хочешь побыть одна?
Алена благодарно кивнула и двинулась к подъезду.
— Если что — звони домой или на мобильный. И обязательно постарайся поспать, — услышала она за спиной его обеспокоенный голос.
Поспать, конечно, не удалось. Снова и снова всплывало в памяти мертвое лицо Энекен. Как сказали в морге, она упала на землю спиной, и лицо было чистым и спокойным. Слегка размазанная под глазами тушь и нетронутая губная помада оживляли ее лицо. Казалось, что Энекен просто притворяется и сейчас вскочит, засмеется и попросит прощения за ту недостойную шутку, которую сыграла со всеми. На щеке в крошечной ложбинке-оспинке лежала темная ресничка. Алена наклонилась и сдула ее…
На проходной торжественно восседала Сколопендра, которая теперь общалась с Аленой подчеркнуто многозначительно, всякий раз давая понять, что между ними — тайна. Алена сразу же спросила про Трембич, чей телефон безмолвствовал всю ночь.
— Все, все в сборе. Актеры пришли даже раньше положенного.
Алена не стала заходить в кабинет, разделась на проходной и сразу отправилась в зал. Поднялась на сцену, подозвала помрежа.
— Маша, актеров вызывать в зал не надо — я сама пройду по гримерным. А все цеха пусть подойдут через двадцать минут в комнату отдыха.
— Алена Владимировна, с пропусками просто катастрофа. Желающих оказалось больше, чем может вместить зал. Студенты набежали. Ковалева спрашивала: пускать их?
— Ну конечно же пускать. Поставьте побольше стульев в проходах и пусть садятся на откидные.
Алена двинулась в женские гримерные и первым делом заглянула к Жене Трембич.
Увидев Алену, Женя вспыхнула, пряча глаза, торопливо заговорила:
— Ой, Алена Владимировна, я вчера никак не могла вам дозвониться. То занято было, то никто не подходил. И вечером вас дома не было. Впрочем, ничего существенного я бы все равно вам не сказала. Я после спектакля позвоню в Таллин…
— Сейчас не надо про это, — прервала ее Алена. — Будем думать только о спектакле. Сегодня соберется очень благодарный зритель — ваши родные, друзья, знакомые. Поэтому главное — получать удовольствие от пребывания на сцене. Женя, когда происходит твое знакомство с Валентином, постарайся еще более подробно вникать во все, что он говорит, как ведет себя, поэтому не торопись. Вчера ты слегка загнала себя. Не надо. Хочешь помолчать — помолчи. Каждое слово должно рождаться… И не суетись. Если тебе надо сделать три шага на сцене, не делай восемь. А в общем, молодец, на правильном пути.
В соседней гримерке над лицом Кати Воробьевой трудилась гримерша Валюша. «Бубенчик» — так ласково называли ее актеры за высокий, мелодичный голос и заливистый заразительный смех.
— Валечка, книжку твою прочла. Получила удовольствие. — Алена остановилась в дверях, чтобы не отвлекать актрису и художника-гримера. — История с вводом Кравчук вообще уникальна.
— А что за история? — подала голос Катя, не имеющая возможности под руками Валюши повернуть голову.
— Да это было на гастролях в Риге, — зазвенела польщенная похвалой Алены гримерша. — У актрисы, играющей главную роль, между прочим роль Софьи Ковалевской, тяжело заболел ребенок, и она срочно вылетела в Москву. Спектакль отменять нельзя — открытие гастролей, все правительство Латвии будет в театре. Наш Перегудов бросается к Маше Кравчук как к признанному мастеру ввода. Ей действительно всегда с ходу удавалось вводиться за несколько часов на самые сложные роли. И всегда с триумфом. Но здесь случай из ряда вон. Во-первых, историческая фигура: портретный грим — на два часа работы, во-вторых, такое количество сложных мизансцен, приходов, уходов, психологическая насыщенность и так далее. Да и текста — немереное количество. Маша — в слезы, а Перегудов — на колени. Уговорил-таки! Короче, до спектакля два часа, Маша зубрит как ненормальная текст, а я работаю над ее лицом. Она от волнения даже в зеркало не взглянула. Костюмеры ее одевают, а она все текст бубнит. За кулисами уже наготове помрежи Перегудов, чтобы слова подкидывать, если забудет. И вот третий звонок. Маша идет на сцену по длинному-длинному коридору, который заканчивается огромным зеркалом, и видит там странную фигуру женщины в костюме прошлого века, с высоким лбом и гладко зачесанными волосами. А вы же знаете, что Маша в жизни, на сцене без своей знаменитой густой, как у лошади, челки вообще не показывается.
— Но-но, полегче на поворотах, — раздался голос из соседней гримерки. — Маша с лошадиной челкой — вся внимание.
— Так тебе же идет, дурашка, — засмеялась Катя. — Ну и?
— Ну, видит она чужое лицо, чужой костюм, останавливается у зеркала как вкопанная и говорит: «Господи! Ведь это же не я!» И дальше срабатывает гениальная актерская защита. «Если это не я, — говорит себе Маша, — то чего, собственно, мне волноваться!» Успокаивается и блестяще играет эту труднейшую роль без единой репетиции.
— Ага! Зато на следующий день не могла встать с постели — каждая мышца так болела, словно я отыграла раунд на боксерском ринге, — подала голос Маша.
— Ну все, с театральными мемуарами закончили. — Алена глянула на часы. — Меня цеха ждут внизу. Катя, не тиши в первом акте. В некоторых местах было очень плохо слышно. И не старайся вспомнить и повторить то, как было вчера. Живи только тем, что есть сегодня. Все, я ушла. Ни пуха…
— К черту! — дружно донеслось из обеих гримерных.
Спустившись этажом ниже, Алена не обнаружила в мужских уборных ни Гладышева, ни Трифонова.
— Они ушли выпить кофе, — сообщили костюмеры. — Прислать их к вам?
— Да. Я в комнате отдыха, внизу.
Электрикам, монтировщикам, радистам, реквизиторам Алена проговорила замечания, используя диктофон, куда по ходу спектакля наговаривала пожелания и ошибки.
— Что с вами сегодня, Алена Владимировна? Вы себя плохо чувствуете? — тихо спросил Севка, когда Алена отпустила всех и осталась одна, не имея сил даже встать из кресла.
— Да, что-то не очень… Нам, по-моему, есть о чем поговорить, Сева. Тебе не кажется?
— Кажется… — Севка тяжело вздохнул. — Вы в последнее время как будто специально не обращаете на меня внимания. Я знаю почему. И, наверное, должен быть вам за это благодарен. И за ту активную позицию, которую вы проявили, доказывая мою невиновность и предоставив неопровержимые доказательства и безупречного свидетеля. Но… нельзя бесконечно тянуть, надеясь непонятно на что… Поэтому я…
— Поэтому ты сматывай удочки, — раздался наглый, капризный голос Гладышева. — Получил напутствие — дай другим послушать. А вы сегодня уже не будете в зале сидеть, Алена Владимировна?
— Сегодня — последний раз. А потом — возможно, даже сегодня вечером, если будем играть заменой — уже все, уже большие.
Алена смотрела на Гладышева и в который раз поражалась причудам человеческой природы. В рамках своей профессии этот недалекий, недобрый, избалованный, но безусловно талантливый молодой человек мог обмануть на все сто процентов. И вот сейчас перед ней стоит уже не Валера Гладышев, а тот умный, ироничный, тонкий, изощренно-элегантный Валентин, который через несколько минут будет обольщать зрителей аристократической манерой носить костюм, двигаться непринужденно, светски вести разговор… Еще Алена подумала, что конечно же ярковат грим, глаза подведены сильнее, чем хотелось бы, но вступать с Гладышевым в очередную дискуссию бесполезно: со всем согласится, а потом втихаря опять нарисует на лице то, что было. К сожалению, домашняя режиссура в лице каскадера Василия вкуса Валере не прибавляет, но все не так страшно…
— У меня на прошлом спектакле напрочь вылетела из головы эта злополучная реплика… А она — как раз знак радистам на начало музыки. Я исправлюсь, Алена Владимировна, — смиренно произнес актер.
— Погоди… Какая реплика? — Алена изо всех сил старалась мобилизовать себя, преодолевая шум в ушах и дикую головную боль.
— Ну как же? Я говорю: «Она слишком плотская… такие отпугивают смерть» — и сразу музыка…
Перед глазами Алены вновь возникло мертвое лицо Энекен с размазанной тушью под глазами и ее роскошное тело, неряшливо полуприкрытое простыней. Упрямо всплывала в памяти застрявшая в оспинке черная ресничка. Эта оспинка, видимо, была следом от ветрянки. И, наверное, родители Энекен тщательно следили, чтобы девочка не сорвала невзначай корочку и не испортила своего нежного, красивого личика…
Алена с трудом выкарабкалась из кресла и, сделав Трифонову и Гладышеву несколько замечаний, окликнула Севку, маячившего в коридоре:
— Попроси, пожалуйста, у Лидии Михайловны из аптечки таблетку валидола. Я пошла в зал — пусть Маша дает третий звонок.
— Кому? — спросила Мальвина, протягивая лекарство.
— Алене Владимировне, — уныло ответил Севка.
— Ничего удивительного! — прокомментировала злорадно Мальвина. — А что будет, когда на ее глазах у Инги Ковалевой живот станет расти?! Боюсь, валидолом не обойдешься.
Севка вырвал из рук Синельниковой таблетку и, сжав кулаки, с яростью сверкнул глазами:
— Извините, Лидия Михайловна, если бы вы не были женщиной, я бы не отказал себе в удовольствии съездить вам по морде!
— Ах ты дрянь! Вот распустили! — визгливо запричитала вслед Домовому завтруппой. — Воображает из себя! Тоже мне! Фаворит героини!
— Фаворит! Да еще героини! Вот ведь добрая, великодушная душа. — Вошедший на крики Гладышев, грациозно изогнувшись, приложился к ручке Синельниковой. — Даже если оскорбить хотите, одними комплиментами так и сыплете. Радость моя! Лучше изобретите что-нибудь, чтобы нам вечером в замену спектакль не играть. Мне этот вечер позарез! Только ваш безграничный опыт и поразительная готовность всегда прийти на помощь дают мне надежду, что вдруг все же пойдет «Иванов». А? Уж я в долгу не останусь.
Мальвина кокетливо поправила голубой локон и шепотом пообещала:
— В антракте поговорим. Маша вон надрывается — на сцену тебя зовет.
И, проводив Гладышева плотоядным взглядом, достала зеркальце и освежила губы яркой помадой.
На режиссерском столике Алены лежала записка от Милочки.
«Алена Владимировна, Вам звонил Глеб Сергеев. Просил передать, что, к сожалению, на спектакле его не будет по очень уважительной причине. Он должен отвезти свою сестру к врачу в клинику. Обещал приехать в театр, как только освободится».
Алена прочла записку и с облегчением подумала, что очень хорошо, если Глеба сейчас не будет в зале. Ей категорически нельзя расслабляться, надо во что бы то ни стало выдержать второй прогон. Потом она расскажет всем об Энекен, и больше не надо будет делать вид, что ничего не случилось, что не произошло страшной, непоправимой беды…
В зале погас свет. Алена зажгла тусклую настольную лампу — наговаривать в микрофон замечания при зрителе было бы некорректно. Достала блокнот, ручку, поморщившись, выплюнула на бумажку остатки таблетки. Тут же за спиной услышала шепот Сиволапова:
— Мальвина сказала, что тебе понадобился валидол. Если тебе плохо, совсем необязательно сидеть в зале. Сделаешь замечания после следующего спектакля.
Алена слегка повернула голову и прогудела исчерпывающе:
— Мне очень хорошо!
Через небольшую паузу она шепотом спросила:
— У Инги был? Как она?
— Хорошо. Вроде бы на днях выписывают. Очень переживает, что опять вернется в театр, а играть нечего.
Алена пожала плечами и жестко ответила:
— В этом вопросе ничем не могу помочь.
Она съехала на кончик стула, чтобы лучше попасть в бледное пятно света от лампы, и придвинула блокнот.
Ее счастье, что люди не видят затылком, иначе она бы долго не смогла прийти в себя от тяжелого, ненавидящего взгляда Сиволапова.
За свои тридцать два года Глеб Сергеев никогда не проживал такой мучительной, ликующе-чистой, словно безупречно взятая нота, влюбленности. По сути дела, в его жизни была только одна женщина, если не считать стремительных, как лопающиеся воздушные пузыри, увлечений. Та женщина пять лет считалась его женой. Наполовину, по отцу, француженка, она родилась и четырнадцать лет прожила в Париже. Потом родители развелись, и мать привезла ее в Москву. Мать Патриции возвращалась к своему первому мужчине, который все годы ждал ее, но совсем не был в восторге от того, что она вернулась с уже взрослой дочерью. Патриции было неуютно дома, она испытывала массу проблем с новыми школьными друзьями, и только с мягкой, покладистой, доброй Люськой ей было хорошо и свободно. Глеб с детства привык видеть подругу сестры в своем доме. А когда начинались каникулы, Патриция неизменно выезжала с ними на дачу. Девочки были старше Глеба на восемь лет, но понемногу эта возрастная грань, в детстве казавшаяся непреодолимой пропастью, стала ощущаться все менее и менее заметно.
Глебу было шестнадцать лет, когда Патриция прочно заняла место в его жизни. Был знойный июльский день, и прохладный дачный пруд превратился в единственное спасительное место, где можно было прийти в себя от одуряющего влажного парения. Уже подкрались сумерки, но жара не спадала, и Глеб под бурные восторги Патриции и Люськи в тысячный раз, раскачавшись на ветке развесистого дуба, сиганул на середину пруда. Выбираясь на берег, он заметил, что из рассеченной коленки течет кровь. Девушки сразу переполошились, и Люська в одном купальнике помчалась домой за перекисью, бинтами и пластырем.
Патриция смочила свой носовой платок минеральной водой из бутылки и пыталась промыть ранку и остановить кровь. Всякий раз, когда она склонялась над его ногой, перед глазами Глеба возникала глубокая нежная ложбинка, разделяющая ее полную, тяжелую грудь. Мелкие капельки пота скатывались в эту ложбинку, и у Глеба перехватывало дыхание. Когда появилась Люська с необходимой медицинской помощью, Патриция встала, и Глеб словно впервые в жизни увидел ее. Рослая, с широкими бедрами, тонкой талией и длинными крепкими ногами, она точно была выточена из белой слоновой кости. Длинные рыжие волосы, небрежно заколотые в низкий пучок, спускались на нежную шею, слегка тронутую загаром. Зеленые глаза казались прозрачными и такими глубокими, что в них хотелось утонуть. На круглом лице с выразительным чувственным ртом и легкомысленно вздернутым коротким носиком он заметил разбросанные золотистой рассыпчатой пыльцой мелкие трогательные веснушки. В этом волнующем сочетании зрелого, оформившегося женского тела и милого детского лица оказалось для Глеба что-то роковое, в короткий миг решившее его участь.
На следующий день, когда уже стемнело и все разошлись по комнатам спать, Глеб, пренебрегая запретом купаться, пока не заживет нога, вылез из окна и спустился к пруду. И, очутившись на берегу, замер в восхищении. Из воды, подсвеченная мириадами ярких звезд, выходила, отжимая тяжелые мокрые волосы, обнаженная Патриция. Она шла навстречу Глебу, как идут навстречу неотвратимому и безоговорочному. Он стоял, не двигаясь и не дыша, как гениальное изваяние, олицетворяющее счастье. А Патриция приблизилась к нему своей волнующей, раскачивающейся походкой, прижалась мокрым, прохладным телом и резким движением головы, казалось, закрыла их своей роскошной рыжей гривой от всего белого света…
Потом, лежа на спине и задумчиво глядя на светлеющую предрассветную синеву небесного купола, она тихо произнесла:
— Теперь ты участвуешь в моем обмене… В моей крови — маленькие частички тебя.
Эти простые слова почему-то глубоко проникли в сознание Глеба и навсегда поселили какое-то неподдающееся объяснению чувство ответственности перед любой женщиной в его жизни. Но другие появились нескоро. Он любил Патрицию, как может молодой человек, совсем еще мальчик, любить свою первую женщину. Весь остаток лета они тайком встречались по ночам на пруду, и притихшая, полусонная природа была единственным свидетелем их любви.
В сентябре Патриция уехала на стажировку в Париж. Она училась в аспирантуре и, закончив факультет международной экономики, писала диссертацию на какую-то мудреную тему, доказывая, что французской экономике без сотрудничества с Россией нечего и надеяться на дальнейшее процветание. Вообще, за годы жизни в Москве Патриция стала ярой российской патриоткой. И теперь, вооруженная знаниями и прекрасным образованием, она собиралась перевернуть весь мир и сделать свою вторую родину богатой и благополучной. Глеб учился на первом курсе консерватории, безумно скучал по своей «рыжеволосой бестии», писал ей длинные письма, просаживал все деньги на телефонные разговоры и грозился уничтожить все мужское население Парижа. Патриция приехала на Рождество, и, как только они остались вдвоем, Глеб склонился, прижался лицом к ее крепким красивым коленям и, едва не теряя сознание от ужаса отказа, попросил ее стать его женой.
Прелюдия, с которой началась ответная речь Патриции, была обязательной и предсказуемой.
— Тебе только через год исполнится восемнадцать. Милый мой! Я старше тебя на целых восемь лет. Ты даже не представляешь, скольких прекрасных девочек ты встретишь… Впрочем, проблема совсем не в возрасте. Я обожаю тебя, Люсю, Москву… но сейчас так складывается, что в ближайшие годы я буду жить во Франции. У меня хорошие перспективы, и это для меня важно. Ты — возвышенный, ранимый, чутко воспринимающий жизнь и страдающий от всего несовершенного, иначе ты бы не смог писать музыку. Тот мир, куда ты хотел бы меня поселить, слишком хрупкий для моей грубой натуры. Я — реалист, практик, прагматик, если хочешь. Я имею дело с бизнесом, а это развращает человека, делает жестким, циничным. Я не хочу тебя погубить, родной мой, прекрасный мальчик…
Глеб напряженно пережидал весь этот набор расхожих слов и ждал то, пусть единственное слово, которое, утишив тревогу и ревность, подтвердило бы, что она — его женщина и он по-прежнему единственный избранник, участвующий в биологическом обменном процессе ее организма.
Патриция прочла его мысли и, страстно притянув его к себе, сказала горячим шепотом:
— Не слушай меня. Я несу бред. Это все неправда. Правда то, что я скучаю по твоему телу, по тому, как пахнет твоя кожа, твои волосы. Только с тобой я отключаюсь от всего на свете и знаю только одно — что Господь сотворил меня женщиной… и благодарю Его за эту мудрую милость, за это провидение, за все, что между мной и тобой…
Через год Патриция и Глеб стали законными супругами, но их жизнь оставалась по-прежнему такой, как была. Патриция жила в Париже, время от времени делая набеги на Москву, но и тогда они с Глебом виделись редко. Она стала настоящей бизнес-леди, и у нее абсолютно не хватало времени на то, что не касалось ее круглосуточной деловой свистопляски. Она торопилась и опаздывала, не успевала поесть и слушала неспешные рассказы Глеба о его музыкальных успехах с еле скрываемым раздражением. Он понимал, что жена искренне радуется за него, но совсем другой ритм его существования выводил ее из себя.
Немного спокойней их жизнь складывалась, когда он приезжал ненадолго в Париж. Тогда он как бы находился в статусе гостя, и нельзя было не считаться с тем, что он до сих пор не побывал в Версале или на скачках в Булонском лесу, а вечерами ему, может быть, одиноко из-за отсутствия друзей и родных. Патриция сказывалась на работе больной, и они сутками принадлежали друг другу.
Но постепенно его визиты в Париж становились все реже и реже.
— Не стоит тратить такие безумные деньги, любимый, — убеждала его по телефону Патриция. — Через пару недель я смогу выбить командировку в Москву. Ты говорил, что тебе нужен фирменный концертный фрак — разумней потратить деньги на него, а не на билет до Парижа.
И Глеб действительно, вместо того чтобы лететь во Францию, купил фрачный костюм для концертов. А спустя две недели они с Патрицией отправились в консерваторию слушать «Реквием» Моцарта, впервые исполнявшийся в Москве. Зачарованный Глеб не принадлежал ни себе, ни своей любви, ни жизни — его душу захватил в плен гений великого Моцарта, и она парила отдельно от тела где-то под сводами консерватории. Неожиданно его слух вычленил внятное шуршание. Повернув голову, Глеб увидел склоненную макушку Патриции, колдующей над какими-то цифрами на разложенной на коленях программке. Он вдруг почему-то вспомнил заметенный первым ноябрьским снегом дворик, себя, забившегося между огромными контейнерами с мусором и размазывающего по щекам горькие слезы обиды. Тогда отец, накануне пообещавший показать восьмилетнему сыну военный парад с трибуны Красной площади, взял с собой Люську. Они ушли, даже не разбудив его. Вспоминая, как готовился к этому дню, как собственноручно дважды погладил пионерский галстук и обежал всех друзей, чтобы они завтра после парада ждали его рассказов, зареванный Глеб, сидя меж мусорных контейнеров, поклялся даже через двести лет не прощать отцу и Люське такого страшного предательства… Выпроводив мгновенно вспыхнувшее детское воспоминание, Глеб жестко и больно выкрутил из рук Патриции карандаш и исчерченную программку.
Домой они тогда шли молча. И Глеб удивлялся тому абсолютному покою, который царил в его душе. Все вдруг каким-то непостижимым образом расставилось по своим местам. Или Моцарт коснулся открытой благоговеющей души прозрением своей гениальной мелодии и договорился с этой душой об иных отныне ценностях и бескомпромиссном духовном восхождении, или просто Глеб внезапно повзрослел.
Он понял, что в его жизни первенство всегда будет принадлежать его главной женщине — его музе, она станет производить отбор на совместимость и загадочным образом давать почувствовать, если третий — лишний. Она оказалась ревнивой, чувствительной барышней, его муза, с трудным, непокладистым характером. Но зато в отличие от прочих женщин всегда знала, чего хочет, и в результате была права.
Глебу и Патриции все труднее было надолго оставаться вдвоем. Тяжелое тягостное молчание давило своим почти физическим присутствием. Им было не о чем говорить. И чтобы не ссориться, они молчали.
Когда Патриция приезжала, они проводили много времени с Люсиной семьей. Дети — мальчик и девочка — обожали свою крестную, а она становилась с ними веселой, изобретательной в шалостях и нарушающей все взрослые запреты хулиганкой. Николай, муж Люси, уже тогда был преуспевающим экономистом, как только жизнь позволила, он встал во главе коммерческого банка, и они с Патрицией открыли совместную российско-французскую фирму. У Глеба начинала разламываться голова, когда они за столом во время ужина с азартом и упоением обсуждали текущие дела, предстоящие проекты, манипулировали незнакомыми терминами и баснословными суммами денег. Он откровенно скучал — в отличие от Люськи, которая с интересом вникала во все финансовые и экономические проблемы. В конце концов им становилось стыдно перед Глебом, и наступала художественная часть. Он играл им свои мелодии, но его бдительная «главная женщина» была всегда начеку, и, как только у кого-нибудь намечался хорошо замаскированный зевок, она легонько била Глеба по пальцам, путала ноты, вносила сумятицу в его отличную музыкальную память…
В двадцать три года Глеб оказался свободен от Патриции. Они разошлись мирно и вспоминали с юмором то, что еще недавно казалось горьким и непреодолимым. Если Патриция оказывалась в Москве, он, ставший уже известным киношным композитором, всегда брал ее с собой на премьеры, и на банкетах и фуршетах его неизменно спрашивали, откуда он «нарыл» эту рыжую породистую особь с царственной осанкой и надменным взглядом хорошо знающей себе цену женщины. Глебу не то чтобы льстило ее присутствие рядом, скорей оно освобождало его от назойливых притязаний молодых актрис на знаменитого богатого композитора.
Однажды Патриция пригласила всех на вечер во французское посольство. Люся осталась дома с тяжело больной мамой, а Глеб с Николаем и детьми отправились на вечеринку. В конце вечера знаменитого композитора попросили что-нибудь сыграть, и его «главная женщина» дала «добро». Он специально играл танцевальную музыку, и вскоре зал заполнился кружащимися парами. Искоса глянув на танцующих, Глеб неприятно поразился той доверчивой мягкой грациозности, с которой Патриция льнула своим роскошным телом к Люсиному мужу. Широкая ладонь Николая с короткими толстыми пальцами чуть заметно поглаживала спину Патриции откровенными, уверенными движениями собственника.
Глеб не замедлил объясниться с Патрицией и получил честный, исчерпывающий ответ, что только болезнь мамы и соответствующее состояние Люськи, не отходящей от ее постели, откладывали на время то, что уже было решено между Николаем и Патрицией…
Глеба спасала только музыка, и только работа помогла ему пережить смерть мамы, пожар в Люсином доме и отъезд Николая и племянников во Францию. Заказ написать музыку для спектакля «Столичная штучка» пришелся на тот период, когда у Глеба иссяк запас прочности и впервые в жизни он прочувствовал в полной мере черную депрессию. Ему не хотелось открывать утром глаза, он перестал бриться, рояль покрылся толстым слоем пыли, постоянно болела и кружилась голова, и, только когда приходила Люся, он пытался брать себя в руки. Люся долго молилась в часовне, а потом Глеб разжигал камин и они молча сидели на ковре и смотрели, как пламя плотоядно пожирало березовые поленья и на глазах превращало в золу и тлен то, что совсем недавно, победоносно искрясь и потрескивая, сулило бесконечный праздник огня и жизни.
Тогда в Доме кино должна была состояться премьера фильма, для которого писал музыку Глеб. Он не хотел идти, но продюсер звонил вновь и вновь, и Люська решила вопрос: она заставила его побриться, погладила рубашку, достала из гардероба костюм и в ответ на сопротивление Глеба тихо и серьезно попросила:
— Сделай это для меня… и для мамы.
Там, на фуршете, Екатерина Воробьева, игравшая в фильме, познакомила его с главным режиссером своего театра.
Глеб впервые в жизни видел такого главного режиссера. Она показалась ему худеньким, нежным, очкастым подростком, а голос — гудящим, низким и… слишком властным для такого хрупкого создания.
— Алена Владимировна, — представила ее Глебу Катя, а на ухо прошептала: — Подпольная кличка Малышка.
— Ваша музыка — лучшее, что есть в фильме, она тянет свой сюжет и ведет свой счет. Это очень обогащает все линии и делает картину возвышенней и одухотворенней, — серьезно сказала Алена, крепко пожимая руку Глебу. — Я поздравляю вас.
Она уселась в мягкое глубокое кресло, которое ей было явно не по росту, продемонстрировав стройные ноги с высоким изящным подъемом и тонкими щиколотками. Одну из них обвивала хрупкая золотая цепочка в виде змейки.
Алена была не одна. Ее сопровождал мощный синеглазый детина, рядом с которым она еще больше напоминала «мальчика-с-пальчика».
Глеб сидел напротив Алены и время от времени чувствовал на себе заинтересованный взгляд глубоких умных глаз за круглыми стеклами очков. Привыкший к интересу слабого пола к своей персоне, он сразу понял, что внимание со стороны этой обаятельной и ни на кого не похожей женщины носит совсем другой характер. Точно и глубоко почувствовав его сразу, она теперь словно пыталась разложить возникший в ней интерес по полочкам. Между ними как будто протянулась невидимая волнующая нить. Он ловил себя на том, что неприлично часто останавливает глаза на ее тоненькой лодыжке, обвитой золотой цепочкой… и этот его непослушный взгляд обнимал круглые девчоночьи колени, скользил по мягкому темно-синему бархату платья, плотно облегавшему бедра, высокую грудь, хрупкие узкие плечи…
Алена с кем-то разговаривала, и он вдруг понял, что уже влюблен в этот низкий, волшебный голос, так не вяжущийся с ее незащищенным трогательным обликом.
Глеб только еще продумывал, какой заход должен осуществить, чтобы еще раз увидеть Алену, как она сама пожелала повидаться, предложив написать музыку для спектакля.
Когда Глеб прочел пьесу «Столичная штучка», то первым побуждением было отказаться. Он отнюдь не считал себя вправе оценивать драматургические недостатки, эта пьеса просто не легла ему на душу. Но, будучи всегда честным с самим собой до конца, Глеб усомнился в объективности своего восприятия. Это произведение было написано тем самым Сиволаповым… и, возможно, для Глеба именно поэтому пьеса встала поперек горла. Он даже попросил Люсю прочесть сей опус, но и мнение сестры оказалось таким же.
— Удивительное дело, — пожала плечами Люся, возвращая пьесу, — такое ощущение, что у этого человека какие-то серьезные проблемы со слухом. Он все время фальшивит.
Глеб решил честно признаться Алене в том, что ему было бы крайне трудно писать музыку для материала, которым он не заразился. Но все получилось совсем иначе. Алена, не спрашивая мнения Глеба о пьесе, рассказала ему, о чем будет спектакль. Глеб слушал ее, затаив дыхание и с каждой минутой ощущая, какой энергетической мощью и фантастическим художественным даром владеет эта женщина. Она поведала ему совсем другую историю, в ней те же персонажи, чье блеклое и неубедительное существование сводилось к примитивным стереотипам на страницах рукописи, жили в полную силу, любили, ненавидели, страдали и, не находя выхода, совершали страшные смертные грехи. Уверенно вторгаясь в сферу, казалось бы для нее чужую, Алена буквально на пальцах сумела выразить то, что ей нужно от Глеба.
— Человеку не дано судить ближнего. Поэтому таким судьей в нашем спектакле станет музыка. Она не должна быть просто фоном или отдельными темами того или иного героя, она должна сама стать полноправным персонажем, интуицией, предупреждением, больным предчувствием, метанием совести — тем, что еще не оформилось в сознании человека, а только зреет и лишь на уровне бессознательного начинает проникать в душу. Поэтому музыка должна быть иногда перпендикулярной тому, чем живет герой. Она все время опережает человека. Как невидимый ангел-хранитель, пытающийся уберечь от ошибки, потому что ему одному ведома кара, которая будет неизбежной… но человек не слышит, он слишком упоен своей самостью, своим беспредельным эго… Я понимаю, это очень трудная задача. Но я чувствую вас как композитора и прошу не отказываться.
К концу их разговора в кабинете Алены появился Сиволапов.
— Зайка, я не помешаю? — спросил он, усаживаясь в кресло напротив Глеба.
Алена с откровенным обожанием окинула взглядом синеглазого красавца и теплым, влажным голосом ответила:
— А мы уже, собственно, поговорили.
У Глеба мучительно сжалось сердце. Уже готовый к тому, чтобы согласиться писать музыку, переполненный до краев восторгом и нежностью к этой женщине, он вдруг ужаснулся тому, что должен будет видеть ее ласковый лучистый взгляд, адресованный другому мужчине.
— Ну и как? Согласны? — самоуверенно поинтересовался Сиволапов. — Тогда бегу за шампанским.
— Не стоит спешить. — Алена мгновенно уловила смену настроения Глеба и вопросительно заглянула ему в глаза.
Глеб встал.
— Я должен подумать, Алена Владимировна. Если не возражаете, позвоню дня через три…
Однако его «главная женщина» распорядилась иначе. Вернувшись из театра, Глеб лег в постель и мысленно прокручивал разговор с Аленой. Поворочавшись без сна несколько часов, он вдруг почувствовал знакомую нехватку воздуха в груди. Быстро включив свет, он кинулся к роялю и, прикрыв веки, увидел перед собой милое серьезное лицо Алены с расширенными вдохновением зрачками пристальных глубоких глаз цвета меда, услышал ее обволакивающий глуховатый голос. Вдохнул всей грудью невесть откуда взявшийся острый, свежий, сводящий с ума запах черемухи, и из самой глубины трепещущей души полились страстными всполохами тревожных прозрений звуки основной темы спектакля…
На следующий день утром он перешагнул порог театра, не раздеваясь, в плаще и шляпе, с полей которой скатывались на белоснежную рубашку капли дождя, дождался Алену, спустившуюся по его просьбе в фойе, и, молча откинув крышку рояля, объяснился ей в любви. Когда он закончил играть и наконец поднял глаза, то с благоговением и трепетом увидел вместо ее лица прекрасное зеркало, в которое смотрелась рожденная им музыка…
С того дня прошло три месяца, и Глеб жил, как во сне. Он, до изуверства требовательный к своему творчеству, понимал, что написанная им для спектакля музыка выше планки, им самим установленной…
И вот теперь все. С сегодняшнего дня, когда придут зрители и услышат его музыку, она будет жить отдельно от него.
Глеб очень сожалел, что не смог пойти на спектакль для «пап и мам», но Люсе было необходимо появиться в клинике. Он ждал ее в машине, и перед глазами стояло заплаканное лицо Алены… Глеб достал мобильник и попросил к телефону госпожу Холгейт.
— Алло, тетя Наташа, это снова Глеб. Я практически с улицы. Жду Люсю в машине около клиники. Заехать вряд ли. Вы же знаете, что Люся нигде не бывает, а мне нужно будет сразу отвезти ее домой. Ну скажите в двух словах. — Глеб надолго замолчал, потом переспросил: — Скончалась? Давно? Я понимаю… Тетя Наташа, передайте Джону огромное спасибо за содействие. Нет, ну я же понимаю, что в посольстве у него дел невпроворот и заниматься отпрысками древних дворянских семей, развеянных по миру, — совсем не в его компетенции… Договорились. Я отвезу Люсю и вечером к вам заеду. Кстати, мамин портрет уже окантовали — я привезу. Обнимаю вас, Джону поклон от меня и Люси.
Глеб задумался, снова набрал номер.
— Добрый день, Мила. Это Глеб Сергеев. Спектакль закончился? А как Алена Владимировна? Ну, насчет успеха я и не сомневался. Вечером замена? Да, я постараюсь быть. Счастливо.
Через несколько минут на крыльце клиники появилась закутанная в шаль Люся. Плюхнулась на заднее сиденье и потребовала сигарету.
— Что сказал врач?
Глеб прикурил сигарету, отдал Люсе и чуть приоткрыл окно.
— Взяли все анализы. Окончательный разговор на следующей неделе. Тогда будут решать о дне операции. Обещают вернуть красоту и молодость. — Слова Люси прозвучали грустно и подавленно.
— Тебя нежно целует тетя Наташа. Я к ним вечером заеду.
— Та-ак, и что там с твоей Оболенской? Джону удалось связаться с Мещерскими?
— Все удалось. Но, к сожалению, поздно. Сестра Оболенской Нина Николаевна неделю назад скончалась от сердечного приступа. До этого долго болела и практически все время находилась в больнице… В какой-то особенной больнице типа дома престарелых. Там и умерла.
— Алена уже знает?
— Нет. Хотя, конечно, она знает много. По нашему короткому разговору я вчера понял, что она не сомневается в том, кто убил Оболенскую. Но случилось еще что-то, о чем она мне не сказала. Была в таком состоянии, что еле стояла на ногах.
— Возможно, нашли внука Оболенской, этого Адама? — предположила Люся. — Ты бы поехал прямо в театр, а потом уже к Холгейтам.
— Вообще-то я хотел наоборот. Все разузнать поподробней у Джона, а потом уже…
— Слушай! — перебила его Люся. — Ты должен взять с собой к ним Алену. Зачем этот испорченный телефон? И потом, почему бы ей не познакомиться с нашими родственниками…
Последней из театра ушла одуревшая от слез Женя Трембич. Сколопендра окинула взглядом гардероб и отметила, что на вешалке осталось лишь пальто Алены, которая, против обыкновения, разделась здесь, а не у себя в кабинете. Большие часы над дверью показывали ровно пять. Через час опустевший театр начнет заполняться народом. Долго обсуждался вопрос о возможности замены «Столичной штучки» на «Иванова», но в результате Алена, как всегда, настояла на своем, и было решено играть премьерный спектакль.
Весть о гибели Энекен Прайс была подобна грому средь ясного неба. После положенных замечаний актерам и цехам Малышка попросила собраться всех сотрудников театра. Сколопендра, никогда не покидающая своего поста, заняла место в дверях в зрительный зал, чтобы спиной чувствовать расположенный как раз напротив служебный вход. Она еще утром заметила на осунувшемся, потерянном лице Алены отпечаток бессонной ночи и поняла, что стряслось нечто крайне серьезное, если даже эта железная барышня не сумела обеспечить своему облику всегдашнее олимпийское спокойствие. Впрочем, когда Позднякова сообщала о трагедии, голос ее был ровным, тон уверенным, и только, возможно, от глаз одной Сколопендры не укрылось, что она прячет предательски дрожащие руки.
— Я не верю в то, что это было самоубийство, — подвела итог Алена. — Об этом я сказала вчера следователю. Но… не я одна видела в зрительном зале Энекен, и ее лицо свидетельствовало о каком-то сильном потрясении. Петр Сиволапов приписал это впечатлению, которое произвел на нее идущий на сцене спектакль. Не думаю… Тем более что Нина Евгеньевна, к которой заходила Энекен, говорит, будто она была в нормальном, даже приподнято-хорошем настроении.
Сколопендра вернулась на свое рабочее место и с предельным вниманием следила за всеми, кто уходил из театра. Женю Трембич пришлось уложить на кушетку, и Воробьева с Севкой отпаивали ее валокордином. Катя даже держала наготове ватку, смоченную нашатырем. Все уговаривали Женю взять себя в руки и успокоиться — ведь вечером надо выходить на сцену, но она рыдала, и сквозь всхлипы прорывалась одна и та же фраза:
— Эночка, прости… Если бы не я… Я могла бы… Прости меня, Эночка, я такая дура, я виновата…
Когда Требич удалось немного привести в чувство, Севка вдруг снял куртку и направился к двери.
— Ты куда, Сев? — окликнула его Катя.
— Мне надо повидать Алену, — мрачно отозвался Севка, глядя себе под ноги.
— Сев, ну ты же обещал… — укоризненно произнесла Катя. — Я ведь не могу без лифта подняться на пятый этаж. А они уйдут через полчаса. Алена никуда не денется. Она мне сказала, что ждет Сергеева и до спектакля будет у себя.
— Ладно. — Севка нервно напялил обратно куртку.
— Мы можем уйти, Женечка? Мне срочно надо передать письмо и посылку родителям. Эти люди улетают сегодня.
Женя всхлипнула и села.
— Идите, конечно. Мне самой надо обязательно до спектакля смотаться домой.
Сколопендра цепким взглядом проводила Катю и Домового и неодобрительно хмыкнула:
— Вьет из парня веревки!
Когда за Женей Трембич дверь закрылась, Сколопендра придвинула аппарат местной связи и позвонила Алене:
— У меня есть новости, Алена Владимировна. Не стоит, местные телефоны не прослушиваются. — Сколопендра на всякий случай прикрыла ладонью трубку и заговорила чуть тише: — Голубчик-то наш, Оболенский, все же засветился. Мой внук сейчас как раз на одном из объектов гостиницы «Россия». Связался он по моей просьбе с группой, которая вчерашнее самоубийство расследует. Так вот, этого Адама неоднократно видели в гостинице. Он там еще до приезда Энекен жил. Естественно, под другой фамилией, мы ее не знаем. Да, да, да. Высокий блондин, голубоглазый, с нервными манерами, в очках, с сильным акцентом. Наверное, он там поселился, чтобы незамеченным к Энекен в номер попасть. Гостям там пропуска выписывают. Но главное не это. Горничная убирала его номер, и так настойчиво звонил телефон, что она взяла трубку и услышала женский голос: «Адам, это ты?» Ищут его. И фамилию, конечно, теперь уж определят. Ну все. Отдохните. До спектакля-то еще время есть…
Алена положила на рычаг трубку местного телефона и, закрыв плотно дверь в кабинет, свернулась клубочком в кресле. Мысли в голове путались. Никакой Адам не селился в «России». Уж это точно. Другое дело, что его могли там видеть. Он мог бывать там в гостях до приезда Энекен. Очень многое пока непонятно, но ясно одно: уже завтра она сумеет произнести имя убийцы Оболенской и Энекен. Алена устало закрыла глаза и сразу провалилась в глубокий вязкий сон.
Она увидела солнечный луг, засеянный васильками, и бегущего ей навстречу Глеба за руку с прекрасной незнакомой женщиной. У женщины были такие же светло-карие, как у Глеба, глаза, короткая мальчишеская стрижка и гладкая, нежная, словно у ребенка, кожа. «Это Люся», — обрадованно догадалась Алена и протянула ей навстречу руки. Они взялись за руки и стали кружиться. А вокруг кружилось васильковое поле, кудряшки белоснежных облаков в синем небе, счастливо смеялся Глеб, и заливалась музыкальными трелями какая-то невидимая птица…
Сквозь сон Алена поняла, что заливается телефон у нее на столе. Она оторопело села и с минуту смотрела на трезвонящий аппарат. Опять местный. «Как же она мне надоела, эта Сколопендра!» — раздраженно подумала Алена, протягивая руку за трубкой.
— Алена Владимировна, — прорвался через помехи мужской голос, — это Митя Травкин. Если не отдыхаете, спуститесь на сцену — у меня возникла идея, как сделать, чтобы Гладышев не корячился в темноте, а сразу исчезал с кресла-качалки.
— Ты откуда звонишь? — засмеялась Алена. — Кудахчешь, как наседка.
— Из реквизиторского, — пробулькало в ответ. — Здесь всегда так слышно.
— Ладно, иду.
Алена достала из сумки пудреницу, сняла очки и щеткой пригладила растрепавшиеся волосы. Потом подумала, сняла трубку с городского телефона и положила рядом с аппаратом. Если позвонит Глеб — пусть знает, что она в театре…
Малышка вошла в лифт и через минуту уже стояла на слабо освещенной дежурным светом сцене в выгородке спектакля. Оглядевшись по сторонам, подошла к креслу-качалке и негромко позвала:
— Митя! Я уже здесь.
Уселась в кресло и, качнувшись, чуть громче произнесла:
— Ау, Митя, я жажду увидеть твое гениальное изобретение.
Услышала над головой на колосниках поспешные шаги и предупредила:
— Не торопись. Падать оттуда больно.
Сколопендра выключила радио и подошла к телефону:
— Театр. Да, да, это Зинаида Ивановна. День добрый. Нет, она никуда не выходила. Давно занят? Погодите, Глеб Александрович, я попробую по местному. Да, действительно, прерывать неудобно… Алло, Глеб Александрович, сейчас вот Сева пришел, наш реквизитор, я попрошу его подняться к Алене Владимировне и передать, что вы никак не можете дозвониться. А может, трубка плохо лежит. Всякое бывает. Да не за что.
Сдвинув очки на нос, вахтерша проследила за тем, как раздевается Севка, и снова включила радио.
— Сев, понял, что Алене сказать? Сергеев, мол, уже полчаса пальцем вертит, и все занято. А она ему нужна позарез.
— Ясно, — буркнул Севка и быстрым шагом направился к лифту.
Не обнаружив Алены в кабинете и положив на место лежащую на столе трубку, он спустился вниз и вдруг увидел, что на сцене горит свет. Пройдя портал, Домовой вышел на сцену и остановился как вкопанный. Прямо ему под ноги густым извилистым ручейком текла кровь. Севка врубил яркий свет и закричал так страшно, что гулкий зал отозвался диким эхом.
В кресле-качалке под рухнувшим штанкетом, гуттаперчиво изогнувшись, распласталось окровавленное тело Алены.
Природа творила неимоверные чудеса. Снег, обрушившийся на город, растаял так же мгновенно, как и появился. В голубом, без единого облачка, небе носились ополоумевшие, словно от предчувствия весны, птицы. Оттаявшая земля, как будто участвуя в каком-то заговоре, притворилась изнемогающей от распирающих ее весенних потуг и наперекор всем календарным соображениям порождала своей мнимой беременностью полный кавардак в четком раскладе времен года. Недоверчивым ознобом подрагивали вновь раздетые ветви деревьев и в бессилии разгадать обман невольно становились сообщниками, в полуобморочном страхе готовя к выстрелам набрякших почек свою неповинующуюся плоть. Рано темнеющее небо гримасами заката точно глумилось над сбитыми с толку людьми и природой. И лишь самому подозрительному в свежем густом запахе весеннего воздуха чудилась чуть уловимая едкая горечь обмана. Те, кто подоверчивей, сбросили теплую одежду и в упоении заходились прогнозами о глобальном потеплении климата и праздновании Нового года на зеленых лужайках.
Потерявший счет времени Глеб даже не замечал того бесстыдного раскардаша, в котором бесилась природа. Время для него остановилась с той минуты, когда он увидел отъезжающую от ворот театра «скорую». Четвертый день подряд утром, днем и вечером он слышал от врачей: «Она в коме, состояние критическое». В реанимацию не пускали, и Глеб, не находя себе места, исколесил все столичные и подмосковные монастыри и обители, храмы и часовни, простаивая на службах, заказывая молебны и на коленях испрашивая милости у Спасителя и Пресвятой Богородицы. Съездил вместе с Люсей в Лавру к мощам преподобного Сергия Радонежского, и только там ему стало легче. Словно какая-то невидимая сила строго и испытующе заглянула ему в душу и повелела не предаваться унынию, растерянности, отчаянию…
В тот день, когда с Аленой случилась беда, Глеба, как назло, словно водило дурное наваждение, не давая ему попасть в театр. Когда уже выехали за кольцевую дорогу, Люська вдруг обнаружила, что оставила рентгеновские снимки в клинике. Пришлось возвращаться. На обратном пути его остановил милиционер за превышение скорости и долго, никуда не торопясь, составлял акт, не пожелав получить штраф на месте. Глеб все время звонил Алене и с удивлением ощущал, как растет в нем необъяснимая тревога.
Когда он наконец добрался до театра, из двора на огромной скорости вылетела реанимационная машина с сиреной и мигалкой и вслед за ней выбежали перепуганные Севка, Сколопендра и Ковалева. Похолодевшее сердце подсказало Глебу, что изматывающее его целый день волнение было ненапрасным. И когда Ковалева с Севкой прыгнули к нему в «Фольксваген» и хором крикнули, что надо ехать за «скорой», его губы раздвинулись лишь для одного вопроса: «Она жива?»
По дороге Севка бессвязно рассказал о том, что случилось. А Нина Евгеньевна добавила, что штанкет не расплющил Алену насмерть только потому, что в момент падения Малышка резко качнулась назад в кресле и ручки, изготовленные из железа, смягчили удар. Голова практически уцелела, так как была откинута назад вместе с креслом.
— Кто в это время был в театре и почему она оказалась на сцене? — вытирая ладонью со лба выступившую испарину, спросил Глеб.
— Зинаида сказала, что, кроме нее и Алены, не было никого, я приехала почти одновременно со «скорой», — глухо отозвалась Ковалева. — Почему она очутилась на сцене, наверное, может объяснить только она сама.
— Человек, покушавшийся на ее жизнь, влез через окно реквизиторской. — Голос Севки прозвучал неожиданно злобно и определенно. Глебу показалось, что он сознательно вместо имени, которое ему прекрасно известно, сказал «человек». — Зинаида Ивановна бросилась вызывать «скорую», а я в полной прострации понесся за бинтами и йодом и увидел, что окно открыто. Преступник или прятался в театре, или заранее, уходя, оставил его незапертым, иначе бы с улицы проникнуть внутрь не удалось. Там на окне решетка, и ее можно сдвинуть только изнутри. Я все это сразу заметил… — Он спрятал лицо в ладони и зарыдал, как маленький. — И за что мне это? — выкрикивал он, давясь словами. — Тогда с Оболенской… я первый обнаружил… и теперь… Я чуть не сошел с ума, когда мне под ноги… потекла кровь… И потом она… в этом кресле… Нельзя допустить, чтобы она умерла! Что же это?! Господи, Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя грешного! Господи! Сделай так, чтобы она выжила! — бормотал Севка, рукавами свитера размазывая по лицу потоки нескончаемых слез.
В больнице они больше часа ждали врача. К ним вышел молодой человек и, кивнув в знак приветствия, немногословно объяснил, что критическое состояние больной не дает возможности делать какие-либо прогнозы. Объективно — состояние крайней тяжести, но медики сделают все, что в их силах. Звонить можно в любое время, приходить — не имеет смысла. В реанимацию все равно не пускают.
В театре, казалось, замерла вся жизнь. Только теперь в полной мере все поняли, какой мощной жизнеобеспечивающей энергетической пружиной была Алена. Актеры слонялись по коридорам, гримерным в ожидании очередной сводки из больницы. Даже разговаривать все стали тише, словно она находилась где-то здесь, рядом, и громкий звук голоса мог ее потревожить. Женя Трембич, уехавшая в Таллин на похороны Энекен, звонила на проходную театра каждые два часа. Севка впал в какую-то странную спячку. Вялый, с трудом передвигающий ноги, он приходил утром в театр и, засыпая в любом месте, куда присаживался, в результате сваливался на кушетке в реквизиторской и просыпался лишь к вечернему спектаклю. Но хуже всех выглядела Катя. Актриса была точно натянутый больной нерв, казалось, тронь ее, и она зазвенит высокой отчаянной, безысходной нотой. Худющая, с ввалившимися глазами, Воробьева бродила по театру, незряче натыкаясь на людей и странно подергивая головой с немытыми свалявшимися волосами. Она пришла в тот страшный день в театр еще до «скорой» и, увидев Алену, распластанную под штанкетом, который силились приподнять Севка со Сколопендрой, потеряла сознание. Приехавшие врачи отнесли ее в гримерную, привели в чувство и, оставив с ней фельдшера, увезли Алену.
Когда Глеб, Ковалева и Севка вернулись в театр, Катя все так же лежала в гримерной, но на щеках уже появился румянец. Увидев их, она приподнялась на локтях, но даже не смогла ни о чем спросить — губы скривились жалкой гримасой и только в глазах застыл немой вопрос.
— Она жива, — успокоила девушку Ковалева, не распространяясь о том, насколько сейчас Аленина жизнь держится на волоске.
Катя прошептала пересохшими губами:
— Слава Богу… — Румянец опять схлынул, и ей снова стало плохо. Пришлось вернуть фельдшера, уже одевавшегося в гардеробе.
Но самым странным было то, что милиция, прибывшая на место происшествия и обыскавшая Аленин кабинет, не обнаружила в ее сумочке ключей от квартиры. Прежде чем ломать дверь, попытались выяснить, у кого может быть дубликат ключей, стали звонить Сиволапову, который почему-то в театре до сих пор так и не появился. Телефон молчал. Нина Евгеньевна, кусая губы от досады, вынуждена была в присутствии коллег позвонить домой и спросить Ингу, не знает ли она, где Петр… Инга ответила, что он даже не позвонил после утреннего спектакля. Дверь в квартире Алены выломали, и у Глеба болезненным нарывом заныло сердце. Безупречный порядок никак не отражал того нервного состояния хозяйки, в котором она пребывала перед уходом из дома. Только повсюду лежали книги с закладками, раскрытые и перевернутые вверх переплетами, сложенные стопками…
— Небогато живет ваше начальство, — негромко заметил толстый обстоятельный лейтенант, оглядывая более чем скромное жилище Алены. — Видать, на режиссерскую зарплату не больно-то разживешься…
У Глеба опять защемило сердце, и стало вдруг ужасно стыдно за тот вечер, когда он привез ее в свой загородный особняк. Но теперь это были абсолютно второстепенные переживания. Главным была та беспощадная реальность, которая сразу обесценила все остальное.
Толстый лейтенант повернулся к Глебу и спросил:
— А вы, простите, кем ей приходитесь?
— Я… я просто… мы вместе работали… — Глеб растерянно подыскивал слова.
— Глеб Александрович Сергеев — очень известный композитор, — твердым, уверенным голосом вмешалась Ковалева. — Вы наверняка не раз слышали его музыку в фильмах, которые показывают по телевизору… А последние месяцы Глеб Александрович писал музыку для спектакля нашего театра. Премьера должна была состояться сегодня, но, как вы видели, ее отменили.
— Ясненько. — Лейтенант внимательно посмотрел на Глеба. — Вместе, значит, творили… Я думаю, что сейчас вы вряд ли будете нам полезны. Вернее, следственной группе, занимающейся всеми вашими последними происшествиями. Так что вы свободны. Если что — вам позвонят.
Глеб с тоскливым надсадным чувством еще раз окинул взглядом квартиру. Сейчас в ней начнут хозяйничать чужие люди — разбирать Аленины вещи, читать ее записи и письма… Он так и не вошел в спальню и только сквозь открытую дверь увидел аккуратно застеленную пледом широкую двухспальную кровать и небольшое трюмо с расставленными флаконами духов и косметикой.
В тесной прихожей на небольшом столике перед зеркалом валялись маленькие, почти детские белые шерстяные перчатки и такой же шарф с длинными кистями. Глеб глубоко прерывисто вздохнул. Встретился с умными, понимающими глазами Ковалевой. Она слегка пожала ему руку и ободряюще произнесла:
— Всегда надо надеяться на лучшее…
На пятый день Алене потребовалась кровь. У нее оказалась самая редкая группа, и больничных запасов не хватало. Из всего коллектива театра, по иронии судьбы, пригодной оказалась лишь кровь Мальвины, Инги Ковалевой и Мити Травкина. Все трое с воодушевлением согласились хоть этим поддержать Адену. Но в последний момент Мальвина предупредила врачей, что Инга беременна, и у нее брать кровь не решились. Инга прореагировала на это неожиданно бурно.
— Я вас очень прошу, пожалуйста, — умоляла она врача. — Ведь мне совсем недавно столько крови выкачивали из вены для анализа, и ничего… Ну вы же можете взять у меня хотя бы столько же.
И когда ей в категорической форме было отказано, Инга неожиданно расплакалась:
— Поймите, я виновата, очень сильно виновата перед Аленой Владимировной. И сейчас, когда ей так тяжело, возможно, вот эти самые капли окажутся самыми нужными… потому что в моей крови будет просьба о прощении и самое страстное желание, чтобы она выжила. Вы не можете недооценивать ту энергию власти прощения, которая бессознательно живет в человеке, даже если он без сознания… Ведь медицина про это тоже мало знает. Я читала… Короче, я не уйду, пока вы не возьмете мою кровь.
Что-то в словах и поведении Инги возымело действие на врачей, и, как ни странно, у нее взяли кровь.
Глеб страшно переживал, что не смог пригодиться Алене в этой ситуации, и очень глубоко прочувствовал то, что происходило с Ингой…
В тот день, когда весь коллектив театра был взбудоражен известием о том, что Алене необходима кровь, на служебный вход, робея и не зная, как себя вести, явился человек среднего возраста с симпатичным круглым лицом и раскосыми татарскими глазами. Он обвел взглядом возбужденно обменивающихся впечатлениями о поездке в больницу актеров и неуверенно спросил:
— А не подскажете, как бы мне найти вашего режиссера?
На проходной в одну секунду воцарилась гробовая тишина. Все повернулись к пришедшему и внимательно изучали его десятком подозрительных глаз.
— Я имею в виду… барышню. — Мужчина окончательно стушевался. — Молодую женщину в очках и с таким… низким голосом.
— А вы, собственно, по какому вопросу? — Максим Нечаев, ближе всех стоявший к незнакомцу, инстинктивно сделал шаг к входной двери, как бы перекрывая ее.
От мужчины не укрылось это движение, и он удивленно протянул:
— Ну-у вы даете! Таксист я. Подвозил вашего режиссера где-то неделю назад к «России»…
— К «России»?! — хором выдохнули все присутствующие.
Таксист недоумевающе пожал плечами:
— Она просила подождать, но почему-то не вернулась… Ну это ладно. Надеюсь, что с ней все нормально. Но я совсем по другому вопросу к ней…
— По какому? — Максим приблизился к таксисту.
Мужчина вдруг улыбнулся:
— Я около театра уж с час кружу — все никак не решался сразу-то… Вдруг слышу выстрелы, во двор заглянул, а там ты в мишень из пистолета лупишь. Понял, что тренируешься. А сейчас вспомнил: чемпионат по стрельбе недавно ты выиграл? У меня сын стрельбой занимается, рассказывал, что теперешний чемпион умудряется еще артистом работать.
— Ты давай зубы-то не заговаривай! — по-хамски прервал его Гладышев. — По какому вопросу Алена нужна?
Таксист обиделся и засопел.
— Это наш с ней разговор. Мы с ней кой о чем беседовали… Так вот у меня тема для продолжения этой беседы имеется. И я совсем не намерен каждому встречному об этом докладывать.
— Придется подождать в таком случае. Ей сейчас не до беседы… — Максим коротко пересказал события последних дней. Актеры начали разбредаться по театру.
Когда водитель уже садился за воротами в машину, его окликнул вышедший следом молодой человек. Интеллигентно представившись композитором Глебом Сергеевым, он попросил немного задержаться и ответить на несколько вопросов. Таксист согласно кивнул, и Глеб сел рядом с ним на сиденье машины.
Неожиданное исчезновение Сиволапова породило среди работников театра самые различные предположения, но следователь поначалу отнесся к его отсутствию довольно вяло. Однако на одном из спектаклей Митя Травкин обнаружил на колосниках забившуюся в щель запонку. В тот день, когда случилось несчастье с Аленой, вызванная Сколопендрой милиция самым тщательным образом обследовала колосники, но ничего не нашла. Видно, и у них бывают проколы, тем более что запонка завалилась в узкую щель, и, если бы не металлический блик от яркого света, лежать бы ей и покрываться пылью до скончания века. Глазастый Митя увидел, как сверкнуло что-то в щели, и выковырял гвоздем. Такие запонки с выбитой посередине цифрой пятьдесят и инициалами владельца дарили в день юбилея театра всем мужчинам. В точности такие же кулончики получили в подарок и женщины.
Буквы «П. С.» свидетельствовали о том, что запонка принадлежала Петру Сиволапову. Информация эта, естественно, мгновенно стала достоянием всего театра. Пожалуй, одной Инге ничего не было известно: по немому сговору ее было решено пощадить, хотя бы пока не выяснится до конца история этой странной находки. Выслушав сенсационное сообщение о найденной запонке, полуспящий Севка вяло сказал:
— Чушь собачья. Сиволапов с его габаритами разворотил бы все окно в реквизиторской, а решетка была сдвинута ровно настолько, чтобы пролез тот, кто у же его в два раза. — Потом вдруг словно спохватился и добавил: — Впрочем, не исключена возможность, что… убийца был не один и кто-то просто прятался в театре, чтобы потом, когда все соберутся к вечернему спектаклю, слиться с людьми и выйти незамеченным. Но не думаю, что это мог быть Сиволапов…
Еще и еще раз тщательнейшим образом вспоминали и рабочие сцены, и помреж, и реквизиторы, и электрики, не заносила ли Петра Сиволапова нелегкая каким-нибудь непостижимым образом на репетициях, на прогонах на колосники. С одной стороны, что бы там понадобилось драматургу, с другой — а почему бы и нет: фантазии и причуды творческих людей порой выглядят дико и непредсказуемо.
Милиция сиволаповскую квартиру тщательно обыскала, но второй запонки не обнаружили. Так же как следов его внезапного отъезда. Вещи все были на местах, одежда развешана по шкафам, на письменном столе лежала недавно начатая рукопись новой пьесы. На журнальном столике с фотографии в ажурной деревянной рамочке улыбалась Алена.
Не доверяя особенно следственным органам, Ковалева сама обзвонила все больницы, морги, отделения милиции, но Петра отыскать нигде не удалось. Инга практически не участвовала в той бурной деятельности, которую развила мать, и была уверена в том, что с ним ничего не может случиться. Нину Евгеньевну, с одной стороны, успокаивало отсутствие паники у Инги, с другой — ее поведение казалось странным…
— Я столько напсиховалась из-за него, что, наверное, лимит исчерпан, — объяснила Инга матери. — Для меня сейчас главное — сохранить ребенка… Я поэтому и в театре практически не бываю. Не хочу, чтобы моему маленькому передалась эта истерическая нервозность…
Нина Евгеньевна смотрела на дочь и все больше изумлялась. Перед ней словно была совсем другая Инга, такой она ее не знала. Собранная, серьезная, мудро готовившая себя к предстоящему материнству. Ковалевой даже пришло в голову, что за два года она многому научилась у Алены, несмотря на то что ходила в «нелюбимчиках» и просто сидела на репетициях, никогда не выходя на сцену.
Работы у Ковалевой было, как всегда, невпроворот. Наконец-то была назначена официальная премьера «Столичной штучки», и помимо своих прямых обязанностей — уточнить, все ли в порядке с приглашениями, организовать прием гостей, подготовить банкет после спектакля и многое другое — прибавились проблемы, которыми всегда занималась Алена. Завтра утром было необходимо пройти весь спектакль хотя бы технически: проверить световые и музыкальные переходы, повторить перестановки, вспомнить мизансцены.
Женя Трембич звонила на проходную и сообщила, что вечером выезжает из Таллина. Это не страшно — к концу прогона она появится в театре, пообщается с партнерами, проверит все необходимое для премьеры.
Сегодня наконец-то удалось вырвать информацию о заключении патологоанатома. На теле Энекен были обнаружены следы нанесенных ей телесных повреждений… То, что это не могло быть самоубийством, с уверенностью утверждала Алена. Несомненно, каким-то образом Малышке стало известно многое… о чем она ни с кем не успела поделиться. Ее постарались убрать как можно скорей. На сегодняшний день ее состояние стало хуже. Врачи разводят руками и надеются только на чудо, которое иногда способен сотворить непредсказуемый организм больного.
Декорации «Столичной штучки» ровно к одиннадцати утра были смонтированы, и цеха сообщили о готовности к техническому прогону с актерами.
Артисты чувствовали себя неуютно и дискомфортно без привычного присутствия Алены.
Провести репетицию решили поручить Мите Травкину: во-первых, он как-никак учился на режиссерском, а во-вторых, Алена доверяла его мнению и даже советовалась с ним.
Митя спрыгнул в зал и уселся в пятом ряду.
— Ну что? Начнем, помолясь? — обратился он к помрежу Маше.
Но начать не удалось. На сцену вылетел взбудораженный Гладышев.
— Стоп! Я не сяду в это кресло… Не могу. Вы видите, там на обивке даже кровь не отмыта! Можете считать меня психом или шизофреником, как вам угодно, но я не в состоянии… раскачиваться в кресле, в котором… убили Алену.
— Ты чего несешь! Совсем сдурел! — заорала на него Маша Кравчук, наступая своим крупным телом на Валеру. — Слова-то выбирай! Придурок! Алена жива! Слышишь, жива! И нечего здесь каркать! Барышня кисейная! Ты не псих и не шиз, ты — хуже! Разбалованный барчук с пролетарскими корнями!
Дело приближалось к рукопашной, и между ними, не помнящими себя и кричащими на весь театр, встала худенькая помреж Маша, пытаясь их разнять.
— Жаль, что тебе тогда Трембич полбашки не снесла! — Отпихивая помрежа, Кравчук пыталась вцепиться в набриолиненную, уложенную волнами голову Гладышева. — Тебе только с бабами воевать! Для мужиков у тебя другие методы имеются!
Из глубины сцены появилась Катя Воробьева с усталым, осунувшимся лицом, спутанными волосами и тусклым взглядом ненакрашенных кофейных глаз в белесых ресничках. Она резко взмахнула длинными руками, словно отгоняя привидение, и с недоброй странной усмешкой раскинулась в кресле-качалке. Задрав вверх подбородок, устремила напряженный взгляд на колосники, вцепилась в ручки и начала резко раскачиваться, рискуя опрокинуться и перелететь через спинку кресла.
Мизансцену завершило появление Севки, закутанного в клетчатый плед, в соломенной шляпе с круглыми широкими полями и облезлым веником под мышкой.
Травкин не удержался и разразился хохотом:
— Гениально! Театр абсурда! Нарочно не придумаешь! Сев, а твой наряд как понимать?
Севка недоуменно пожал плечами, сильным точным движением остановил зарвавшуюся качалку, вытряхнул из нее сопротивляющуюся Катю, закрыл пледом кресло, молча нахлобучил Маше Кравчук на голову игровую соломенную шляпу и пристроил возле камина бутафорский веник. Затем хозяйским внимательным взглядом окинул выгородку и, протяжно беззвучно зевнув, удалился.
Теперь уже хохотали все, хохотали как безумные над нелепым Севкиным выходом, не понимая, как выглядят со стороны сами. В этом ненормальном хохоте чуткий Митя уловил ту крайнюю наэлектризованность, от которой нечего ждать добра. И как в воду глядел. Лишь только пошла музыка и сцена начала наполняться розоватым светом, в осветительской ложе раздался взрыв и сцена погрузилась в полную темноту.
— Сереж, в чем дело? — перекрывая музыку, закричал Митя.
— По-моему, пульт вырубило, ядрен корень, — проорал в ответ электрик Сережа.
Маша дала свет в зал, радисты заглушили музыку.
— Этого еще не хватало! — раздался из глубины зала тенорок Шкафендры. — Ковалеву сейчас на месте кондрашка хватит! И за что нам все эти испытания?!
— Испытания не «за что», а «для чего». — Маша Кравчук спрыгнула в зал. — Это наказания — «за что»… Вообще-то странно. Нам же недавно новый пульт поставили.
— Вот то-то и оно! Сереж, если сам не понимаешь, в чем дело, надо срочно в «Сатиру» звонить — там сегодня работают эти наши компьютерщики по свету.
— Звоните, Валентин Глебыч, — отозвался расстроенный голос электрика. — Если бы на старой аппаратуре, я бы мигом все исправил, а здесь пока не до конца разобрался.
Глебыч понес свое мощное тело по проходу и, на секунду задержавшись около Кравчук, прижал ее к себе и что-то шепнул на ухо.
Гладышев, расположившийся на авансцене, миролюбиво поинтересовался:
— Машка, весь театр распирает от любопытства, когда вы с Шкафендрой поженитесь. А я, честно говоря, только намедни узнал про ваш роман. Ну и как он? Ничего? — Гладышев сжал кулак и выразительно постучал им по растопыренной ладони.
— Ох, Гладышев, вот к этому все твои скудные интересы и сводятся! Я же не спрашиваю, как твой Вася… — И Маша повторила жест Валерия.
— А я, между прочим, не скрываю. Васька — супер! — Гладышев покусал палец и смачно выплюнул огрызок ногтя в проход.
— Фи, Валерий! Лучше бы этот каскадер занялся твоими манерами.
— Лучше чего? — Гладышев опрокинулся на спину и заржал. — Представляю…
— Все, ребята, кончайте треп. Давайте без световых переходов двигаться дальше. — Митя Травкин озабоченно взглянул на часы. — Соберитесь, родненькие, а то как-то что-то…
Пройдя с музыкой и сценическими перестановками в дежурном свете половину первого акта, опять вынуждены были остановиться.
— Сева, срочно на сцену сервировку стола для третьей картины. Мы не можем идти дальше. Сева, пройди на сцену, — взывала по трансляции Маша. Но Севка не появлялся.
Митя взлетел на сцену, отодвинул помрежа, заорал в микрофон:
— Домовой, елки-моталки, где ты бродишь! Совсем озверел?! Кто-нибудь в реквизите есть? Найдите Севку и принесите скатерть, бутылки, приборы для сцены тусовки. Для вечернего спектакля не забыть купить букет цветов. И не какой-нибудь, а как просила Алена, роскошный… Реквизиторы, срочно на сцену.
Через несколько секунд появилась Севкина помощница Лариса. Она кинулась торопливо сервировать стол, опрокидывая стулья и сразу грохнув один из фужеров, заготовленных на подносе.
— Где Севка? — грозно спросил Митя. — И что у тебя все из рук валится?!
— Я же никогда не делала этой перестановки, — виновато поджала губы Лариса. — А Сева… он ушел…
— Куда ушел? — Травкин от негодования даже пустил «петуха».
— Не знаю… Зинаида Ивановна сказала, что он ушел…
Митя сел на пол в проходе и в отчаянии схватился за голову.
— Полный дурдом! Туши свет! Хотя что я! — свет давно погас, только музыка играет. Спасибо, Лариса. У тебя есть список реквизита, который потребуется для второго акта?
— Должен быть. Я сейчас поищу.
— Ага. Давай поищи, может, к вечеру что-нибудь найдешь!
Митя от досады и бессильной злости был готов разрыдаться.
— Хоть как-нибудь давайте доберемся до финала первого акта. Потом короткий перерыв… может, компьютерщики придут.
— Уже приехали. — За спиной Травкина возникла Нина Евгеньевна. — Им нужно пятнадцать минут, и они гарантируют, что премьера состоится.
— А вот это, к сожалению, вряд ли!
Все, кто был в зале и на сцене, резко обернулись к двери в зал.
Там в проходе стоял Петр Сиволапов. Вид у него был смущенный и очень усталый. Он обескураженно повертел головой и со вздохом сожаления произнес:
— В поезде ночью заболела Женя Трембич. У нее очень высокая температура… Я всю ночь провозился с ней. К счастью, в соседнем купе ехал врач. Но это, видимо, грипп, она не стоит на ногах, и я отвез ее домой…
Сергеева уже знал весь медицинский персонал отделения реанимации. Ему показали окно, около которого стояла кровать Алены, и он часами простаивал под ним, мысленно разговаривая с ней. Впрочем, забываясь, Глеб начинал говорить вслух.
— Сокровище мое… ты же знаешь… так уж сложилось, что мне без тебя никак… Я ждал тебя всю жизнь, и ты пришла и сделала мою жизнь такой… о которой я даже не смел мечтать. Малышка моя ненаглядная, мы с тобой вместе можем сделать много доброго в этой жизни, я не сомневаюсь, мы можем сделать ее чище, осмысленней, возвышенней… Аленушка моя драгоценная, у нас впереди огромность всего. Ты стала частью моего личного мира, и я не позволю тебе быть моим самым большим горем. Свет твоего огромного творческого дара только разгорается, и Господь не может позволить загасить его. Ты должна сейчас слышать меня. Я передаю тебе всю свою энергию, всю силу, всю любовь, которая необходима тебе сейчас. Я мысленно целую каждую твою клеточку… Я мечтаю состариться вместе с тобой и в глубокой старости умереть в один день…
Выглядывая в окно, медсестры видели неутомимо вышагивающего Глеба, который размахивал руками и говорил, говорил — с собой ли, с ней ли, с Богом ли? И они прониклись к нему симпатией и состраданием, стали приглашать в сестринскую комнату выпить чего-нибудь горяченького — чаю или кофе, а то разводили бульон в керамических кружках и заставляли его «восстановить силы и согреться».
В то утро, когда в театре прогонялся премьерный спектакль, Глеб привычно бродил под окнами больницы, с недоумением отмечая абсолютно весеннее бодрящее благоухание в воздухе и ощущая под ногами набрякшую, готовую выпустить на свет стрелки травы землю.
Накануне Алене вдруг стало хуже. Давление начало падать, нарушение сердечного ритма всерьез напрягло дежурную бригаду. Ночь прошла с реальной угрозой для жизни Алены, но Глебу об этом сообщили только сегодня, после того как удалось восстановить сердечную деятельность и нормализовать давление.
— Она по-прежнему в коме, но мне показалось, что она несколько раз пыталась открыть глаза, — шепотом сообщила Глебу хорошенькая миниатюрная медсестра Света, чем-то, возможно ростом и круглыми детскими очками в тоненьких дужках, похожая на Алену.
Охваченный суеверным ужасом, что нельзя было озвучивать то, что почудилось Свете, Глеб вышел на улицу. Его ноги без какого бы то ни было участия сознания перенесли его на противоположную сторону улицы и свернули к цветочному магазину. Там так же бессознательно Глеб купил букет фрезий и вернулся к больнице. Пробродив под окном Алены с полчаса, он умоляющим голосом попросил Свету поставить букетик рядом с кроватью Алены.
— Без разрешения не могу… но попробую, — сжалилась медсестра и через несколько минут появилась в «Аленином» окошке и с победоносной улыбкой продемонстрировала букет фрезий в маленькой больничной вазочке.
А еще через некоторое время Света вышла на крыльцо и изо всех сил замахала Глебу обеими руками. Сердце сотворило в груди невообразимый кульбит, и Глеб кинулся к крыльцу.
— Тихо, тихо, не надо так пугаться, — быстро заговорила Света, сама перепугавшись до смерти его безумного лица. — Ей лучше… Я же говорила, что утром у нее затрепетали веки. А сейчас она открыла глаза. Там сейчас — вся бригада. Не уходите. Даже если она сразу уснет, я попрошу, чтобы вас к ней пустили на минуточку. Понюхаете свои фрезии, они согрелись и творят чудеса. Все врачи просто балдеют! Знаете, вы — молодец. Запах — это же мощнейшая информация на самом тонком уровне.
Света исчезла, а Глеба вдруг покинули силы. Он опустился на холодную бетонную ступеньку и, прижавшись затылком к перилам, сквозь внезапный шум в ушах услышал рождающуюся в нем музыку. Накатывая глухими волнами, точно отвешивая поклоны направо и налево, навязчиво-могучими движениями она пробивалась сквозь гул его сознания запотевшим серебром надломленных, больных звуков. Глеб понял, что его «главная женщина», на время великодушно отдавшая пальму первенства, возвещает о незыблемости своих прав…
Прошло, наверное, много времени, потому что, когда в дверях вновь показалась Света, Глеб, пытаясь встать, почувствовал, что практически не ощущает пальцев ног и его знобило.
— Наденете халат и бахилы, — Света провела Глеба в пустую ординаторскую, проследила за его переодеванием и зашагала по длинному коридору.
Отделение реанимации оказалось огромным залом с полупрозрачными пластиковыми перегородками. В одном из таких боксов на высокой операционной кровати, опутанная невероятным количеством проводков и трубочек, соединяющих ее с какими-то мудреными приборами, лежала Алена. Она выглядела девочкой-подростком на этой большой больничной койке, и ее худенькое тело еле угадывалось под легким белым покрывалом.
Глаза Алены были открыты, и, когда подошел Глеб, она взглянула на него осмысленным долгим взглядом и глубоко вздохнула. Потом веки ее словно набухли и стали тяжелыми, и она, не в силах удержать их, нехотя прикрыла глаза.
— Устала, — прошептала Света и тронула Глеба за рукав халата, но Алена вдруг снова подняла веки, ее бледные, запекшиеся губы дернулись, потом уголки поползли в стороны, и она почти беззвучно выдохнула: — Фрезии… — И сразу провалилась в забытье, точно проделала непосильную физическую работу.
Света вытащила Глеба в коридор, возбужденно затараторила:
— Я же говорила, какой вы молодец. Для нее сейчас запах сильнее всяких слов. Тем более любимый запах, с которым связано что-то приятное в жизни… Из коматозного состояния человека надо тащить в жизнь всеми возможными способами. У нас замечательные врачи, они про вас все поняли и еще вчера хотели пустить к ней, чтобы она слышала ваш голос…
— А музыку? — встрепенулся Глеб. — Я же композитор, Светочка, я писал музыку для Алены и знаю, что ей может сейчас помочь. Можно, я сейчас съезжу за музыкой… то есть за магнитофоном?
Света задумчиво посмотрела на Глеба:
— К сожалению, я ничего не решаю. Лично я бы позволила послушать ей музыку, но не уверена, как отнесется к этому Борис Иванович. Думаю, что сегодня ее однозначно не разрешат перенапрягать. А вот завтра… Короче, я узнаю. — Света одобрительно улыбнулась своей мягкой, застенчивой улыбкой и спросила: — Скажите, а что такое штанкет? Алену ведь привезли в мое дежурство, и я заполняла ее карточку. На нее на сцене упал штанкет. Что это?
— Ну, это такая железная штуковина, которая держит под потолком над сценой осветительные приборы. К штанкету крепятся части декораций, иногда занавес. И он свободно ходит между сценой и колосниками, вверх-вниз, но, конечно, не сам по себе, им управляет особый механизм, и, чтобы штанкет рухнул вниз, надо было привести в действие этот механизм…
— Значит, кто-то хотел таким образом свести с ней счеты? — закусив пухлую нижнюю губу, покачала головой Света. — И кому же она могла мешать, такая маленькая?!
Глеб усмехнулся:
— Маленькая-то маленькая, но в кулуарах ее называют «железной леди». Ярко выраженный характер лидера, которому позавидует любой мужчина.
— Это хорошо, — обрадовалась Света. — Знаете, это просто замечательно! Такие характеры, как правило, одерживают победу… здесь, в нашем отделении. У нас ведь простых случаев не бывает. Сплошная рукопашная. Кто кого. Мы, конечно, очень помогаем, но наступает решающий миг, когда организм сам… И вот тогда так нужны характер и воля.
— Спасибо, Света, — благодарно произнес Глеб. — Спасибо за помощь и поддержку. А вот что вас привело сюда, в это трудное, жестокое дело, такую маленькую?
Света довольно рассмеялась и, слегка кокетничая с Глебом, таинственным шепотом сообщила:
— Я ведь тоже хоть и маленькая, но жутко волевая. Вот закончу институт, буду врачом-реаниматором, и тогда уж многие вопросы в отделении смогу решать сама. — Она серьезно поглядела Глебу прямо в глаза и твердо сказала: — Таких, как вы, буду пускать к самым тяжелым.
— А почему? — удивился Глеб.
— У вас… душа нежная… а значит, легкая, проникающая в биополе другого человека. Вы вреда причинить не можете тому, кто без сознания. Наоборот…
— Откуда вы про меня это знаете? — удивился Глеб той безапелляционной уверенности, с которой Света ставила ему диагноз.
— А у меня с детства способности такие. Ко мне даже родители прислушивались, когда я совсем ребенком была. И с запахами тоже… с детства. К нам приехал знакомый из другого города, и я не могла находиться с ним в одной комнате — я чувствовала, как от него исходит тяжелый, чуть сладковатый тошнотворный запах. Я буквально теряла сознание от этого запаха. Никто ничего не чувствовал, одна я. А потом покрылась сыпью. Врачи не понимали, что это за аллергическая реакция, а я-то точно знала, что это от запаха. В результате этот знакомый обокрал моих родителей и смылся. Так его и не нашли. А потом в Сочи… Мы с мамой познакомились на пляже с одной мадам, она отдыхала с дочкой. И меня сразу стало выворачивать от этого уже знакомого запаха, и на следующий день — опять сыпь. Оказалось, что девочка той мадам совсем не дочь, она украла ее для каких-то преступных целей, а когда девочка хотела сбежать — убила ее в гостинице…
Глеб потрясенно смотрел на Свету.
— Мною даже занимались исследователи из института судебной медицины. Но я ищейкой на запах работать не собираюсь — у меня в жизни другие цели и задачи.
— И… часто вас преследует этот ваш… запах?
— Естественно, в толпе я ничего такого не чувствую. Только в общении, когда начинается информационно-энергетический обмен.
— Но вы же феномен! — искренне вырвалось у Глеба.
— Я знаю. Меня же изучали, я говорила. — Света помолчала и грустно добавила: — Не очень-то это приятный дар. Если честно, то весьма обременительный… Ладно, идите… за своей музыкой, — Света толкнула Глеба к выходу. — Если сегодня не разрешат, можете магнитофон в сестринской до завтра оставить.
Во дворе Глеб столкнулся с Севкой, на всех парусах мчавшимся к больнице.
— Мне сказали по телефону, что ей лучше. Мне необходимо видеть ее!
— К ней не пускают, — остановил его Глеб. — Она пришла в себя, но сейчас спит.
— Должны пустить! — Севка нервным движением сдернул шерстяную шапку. — Мне на несколько секунд. Поймите, мне нужно от нее услышать только одно слово.
Глеб вздохнул.
— Попытайся, Сева, — сочувственно проговорил он. — Я ничем не могу помочь — меня самого только что оттуда выпроводили. Но учти — Алену нельзя волновать, нельзя утомлять… Это на твоей совести.
— Это на моей совести… — как попугай, глухо повторил Севка и, опустив глаза, совсем тихо пробормотал: — Как и многое другое…
Он вдруг взглянул на Сергеева так растерянно и жалобно, что рука Глеба непроизвольно потянулась к его вихрастой голове, чтобы погладить парня по волосам. Но Севка резко отстранился, в глазах промелькнул ужас.
— Нет-нет, вот уж чего мне не надо, так это жалости. Увольте!
Он втянул голову в плечи и, кивнув Глебу, почти бегом направился к больнице.
У Нины Евгеньевны упало сердце, когда в полумраке зала в дверном проеме возник мощный силуэт Петра Сиволапова. Мелькнула надежда, что и все остальное, возможно, объяснится так же просто, как и его исчезновение. Пользуясь всеобщим замешательством, она подошла к нему и тихо сказала:
— Никуда не уходите, Петр. Нам необходимо срочно поговорить.
— Инга? — Сиволапов с тревогой взглянул на Нину Евгеньевну.
— Потом, все потом. Будет лучше, если вы немедленно пройдете ко мне в кабинет. Вот ключ.
— Но спектакль…
— Идите, Петр, — твердо повторила Ковалева. — Через десять минут я расскажу вам все, что мы решим. — Ковалева вернулась к сцене.
— Что будем делать, Нина Евгеньевна? — запыхавшийся Глебыч никак не мог отдышаться. — Лифт, как назло, застрял между этажами. Давно я так по ступенькам не бегал! Так что же нам теперь остается? Отменять?
Ковалева резко мотнула головой.
— Ни в коем случае. Иначе это станет наваждением. Однажды отмененный спектакль нельзя отменять еще раз. Уж поверьте моему опыту. У родившегося спектакля, как у человека, складывается судьба. Нельзя ее калечить с самого начала. Я предлагаю сыграть заменой «Бесприданницу». Маша, — обратилась она к помрежу, — пригласи сюда Лидию Михайловну и пусть предварительно посмотрит, можно ли собрать на вечер состав «Бесприданницы».
— Ну что ж, возможно, это правильно, — задумчиво помял в пальцах сигару Глебыч. — Сейчас скоренько обзвонить всех официально приглашенных… А зал все равно пустовать не будет. Желающие прорваться на премьеру, думаю, с удовольствием посмотрят «Бесприданницу», даже если уже видели… Я справлялся об Алене — у нее, тьфу, тьфу, положительные сдвиги.
— Да, я тоже уже говорила с врачом. Дай Бог, дай Бог… — И Ковалева повернулась к появившейся Мальвине: — Ну что? Чем порадуете, Лидия Михайловна?
— Как ни странно, все сходится. Даже Максим Нечаев на месте. А то ведь вечно стреляет по городам и весям. — Мальвина иронично поджала ярко-малиновые губы.
— Что делает по городам и весям? Я что-то не понял, — переспросил Шкафендра.
— Ну как же, Валентин Глебович. — Глаза Мальвины вспыхнули плотоядным блеском. — Он ведь чемпион по стрельбе. И между прочим, на сцену с настоящим оружием выходит. Алена Владимировна совсем разбаловала его. А я так считаю: если ты актер, так и работай в театре, а то только и отпрашивается на соревнования… Позднякова всегда его сторону держит, а мне репертуар составлять. А играет он много и не везде второй состав имеет…
— Да, вот вопрос со вторыми составами так и остается открытым, — завелся было на свою больную тему Шкафендра, но Ковалева, поморщившись, прервала его:
— Давайте о текущих вопросах потом. Значит, пожалуйста, Лидия Михайловна, собирайте актеров на «Бесприданницу». Воробьева, Гладышев, Трифонов и Кравчук сейчас в театре. Остальных срочно обзвоните. Если что, я у себя…
Ковалева вошла к себе в кабинет и предусмотрительно повернула ключ в двери. Сиволапов нервно расхаживал из угла в угол.
— Петр Алексеевич, без лишних прелюдий… сразу о главном. Пока вы были в Таллине, вас успели определить на роль одного из основных подозреваемых в покушении на Алену.
Сиволапов тяжело рухнул в кресло и в недоумении уставился на Нину Евгеньевну.
— После покушения Травкин на колосниках обнаружил вашу запонку, забившуюся в щель, — одну из тех, что дарили на юбилее. С вашими инициалами. Милиция вскрыла вашу квартиру, но второй запонки им обнаружить не удалось. Хотя пафос этих поисков мне лично совершенно непонятен… Ну, положим, нашли они вторую запонку — и что? Но я отвлеклась. Очень нервничаю, потому что в любой момент вас могут арестовать.
— То есть как… арестовать? — Петр несколько раз провел ладонями по лицу. — Извините, я после поезда… Всю ночь не спал… Жене было плохо… Я что-то совсем плохо соображаю. Меня арестовать по подозрению? Но это же бред! — Сиволапов вскочил и тут же снова опустился в кресло. — Запонки… Ну да, их и не могли найти в моей квартире. Я их оставил у Алены. Даже помню где. Они были в коробочке, и эту коробочку я положил в верхний ящик туалетного столика в спальне. Там же лежала и коробочка с Алениным юбилейным медальоном… Надо им сказать, пусть проверят. Да я отродясь не ношу запонок. Это все полный бред!
Ковалева напряженно что-то соображала, не пропуская ни одного слова Петра и не сводя с него пристального взгляда.
— Та-ак! Все оказывается еще хуже, чем я предполагала.
— В смысле? Что вы хотите этим сказать?
Нина Евгеньевна молча закурила и устало откинулась на спинку кресла.
— Эти несчастные запонки искали и в Алениной квартире. Медальон в коробочке нашли, а ни запонок, ни коробочки из-под них не было… Подождите, Петр. Не дергайтесь. В сумочке Алены не было ключей от квартиры. Ежу понятно, что там успели побывать до приезда милиции. Но вся беда в том, что другой версии пока нет.
Ковалева резко встала и, обойдя стол, подошла к Сиволапову.
— Вам нужно немедленно, сейчас же исчезнуть, сгинуть, провалиться под землю. Чтобы ни одна живая душа не знала, где вы.
Сиволапов какое-то время мучительно соображал, потом сипло выдохнул:
— Тогда точно решат, что это я.
— Я объясню следователю, что вы никуда не прятались, а ездили на похороны в Таллин. Более того, все видели, что вы появились в театре открыто… Значит, так: вы только сообщили о болезни Трембич и сразу же ушли. О запонке ничего не знаете, так как ни с кем не общались. Можете позвонить в больницу и справиться о состоянии Алены. Не забудьте представиться. И еще позвоните откуда-нибудь на проходную и скажите, что несколько дней вас не будет в Москве, ведь премьера вашего спектакля так и так откладывается… А я вам сейчас открою центральный вход, чтобы не светиться на служебном.
— Но я же не могу скрываться бесконечно! — отчаянно воскликнул Петр.
— Поймите, время будет работать на вас. Даст Бог, встанет на ноги Алена. Убеждена, она на многое откроет глаза. Она явно что-то знает, поэтому ее и поспешили убрать… Затем органы ищут Адама. Объявлен всероссийский розыск. Есть его фотография — на юбилее он случайно попал в кадр.
— А… Инге я могу позвонить?
— Ни в коем случае. Категорически нет. Лучше напишите ей несколько слов… На большее нет времени.
— Скажите хоть, как она себя чувствует? — робко спросил Петр.
— С ней все в порядке. — Голос Ковалевой прозвучал резко и холодно. — Но чувствовала бы себя намного лучше, если бы вы потрудились хотя бы сообщить, что едете в Таллин на похороны.
— Я как раз и хотел объяснить…
— Некогда! — решительно оборвала его Нина Евгеньевна. — Вот вам бумага — пишите записку Инге.
Сиволапов неуклюже пристроился за краешком стола, и в этот момент раздался стук в дверь. Ковалева прижала палец к губам и замерла.
— Да нет ее, — сказала кому-то за дверью Мальвина. — Пойдемте, я провожу вас в буфет, она, видимо, там.
Шаги удалились. Ковалева, бесшумно повернув ключ, выглянула в коридор. Схватив Сиволапова за руку, быстро выпроводила его из кабинета и вышла за ним следом.
…Еще никогда «Бесприданница» не имела такого оглушительного успеха, как в этот вечер. Спектакль, который по праву заслужил высочайшую оценку театральной элиты и пользовался огромным зрительским успехом, казалось, обрел новое дыхание. Взнервленные, наэлектризованные трагическими событиями в жизни театра актеры несли в себе мощнейший эмоциональный и духовный заряд. Во время первого акта зал то замирал до ощущения полнейшего отсутствия зрителей, то взрывался бешеными аплодисментами. К удивлению и радости руководства театра, почти все официально приглашенные на премьеру не отказали себе в удовольствии еще раз посмотреть «Бесприданницу», и зал был переполнен.
Во время антракта Валентин Глебович пригласил к себе в кабинет наиболее почетных гостей. Разговор крутился вокруг Воробьевой.
— Сказать о том, что она выросла в этой роли, набрала мощь, — это ровным счетом ничего не сказать, — рассуждала Мария Алексеевна Давыдова, крупный театральный критик и автор книги об Островском. — Тот трагический надлом, в котором она начинает спектакль, казалось бы, не может иметь развития — настолько он неправдоподобно завышен для возможности растить его дальше. Но ее градус существования ломает все представления о границах возможного для актерской природы. Мы имеем дело с чем-то из ряда вон, господа. Вот уж воистину актриса Божьей милостью! А как прихотлива и изобретательна ее пластика. И ведь кажется, что она сама наперед ничего не знает, не подозревает о том, куда ее поведет. А голос! Когда она говорит матери: «Опять притворяться, опять лгать!» — этот невероятный голос трескается, как рассохшееся старинное дерево. Ничего подобного не слышала.
— А ее реакция, когда она узнает о приезде Паратова! — вступил в разговор гость из Питера, маститый режиссер и педагог Скобейников. — Когда она молча, враз надломленная, униженная начинает, точно слепая, кружить по комнате, сбивая и круша все на своем пути, и вдруг замирает… и перед нами — счастливейшая из женщин с сияющими, влажными в пол-лица глазами. И, главное, разная какая! Сидишь и не знаешь, что она такое сейчас вытворит! Но не могу не сказать, вашей Поздняковой она должна до конца дней своих молиться! Это Алена взорвала природу Воробьевой. Молодец Алена, ох молодец! Как она, Валентин Глебович?
Все сразу затихли, вопросительно глядя на Шкафендру. Сияющий, как блин на сковороде, словно это ему, а не Воробьевой поют дифирамбы, директор тоже моментально собрался, откашлялся в кулак и сообщил:
— У нас сегодня, праздник. Ей лучше. Пришла в сознание и даже, можно считать, приняла первого посетителя.
— Сиволапова своего? — тактично, но не без любопытства уточнила Давыдова.
— Да нет, — усмехнулся Шкафендра. — Посещения удостоился композитор Глеб Сергеев.
Немой вопрос застыл на лицах театральных зубров, которым ничто человеческое не было чуждо.
— Да-да, именно так. — И, давая понять, что тема личной жизни Алены закрыта, заговорил взволнованно: — Мы же за ее жизнь молимся непрестанно. Пострадала очень сильно: от удара произошел разрыв селезенки, переломы ключицы, ребер… Страшно подумать — штанкет рухнул! Но ангел-хранитель уберег от самого страшного: в момент удара она резко откинулась назад в качалке, сохранив таким образом голову. Вот ведь тоже отдельный сюжет: когда это кресло-качалку в мастерской сооружали, то почему-то приделали железные ручки. Естественно, покрыли древесиной, залакировали, но основа была металлическая. Я как это чудище увидел еще с незамаскированными ручками, спросил у заведующего постановочной частью, зачем эти железяки — некрасиво, мол. А он ответил, что кресло получилось очень легкое и без них будет неустойчивым: заденет его кто-нибудь из актеров невзначай — оно и опрокинется. И кто мог предположить, что эти самые подлокотники смягчат удар штанкета. Алена же очень худенькая, а кресло довольно глубокое. Вот штанкет и рухнул прямо на ручки, смял их, конечно, но зато Алена, даст Бог, выкарабкается.
— Да-а… — Мария Алексеевна Давыдова, написавшая несколько рецензий на спектакли Алены и с материнской нежностью относившаяся к Малышке, промокнула глаза и прерывисто вздохнула: — Бедная девочка! Когда можно будет ее навестить, не сочтите за труд — дайте знать, Валентин Глебович.
Третий звонок возвестил о начале второго акта, и все поспешно встали, на ходу допивая кофе.
…За кулисами Катя Воробьева, сидя за гримировальным столиком, пыталась замазать проступающие сквозь грим темные круги под глазами. Ее чуть подрагивающие пальцы двигались нервно и лихорадочно.
— Ты чего так психуешь сегодня, Катюш? — ласково спросила ее Валя-бубенчик, закалывая в изящную высокую прическу длинные пряди Катиных волос.
— Сама не знаю, — глухо отозвалась Катя, с мрачным неудовольствием всматриваясь в зеркало. — Я и всегда-то трясусь перед выходом на сцену, а сегодня от страха прямо кишки сводит.
— Самая раскрепощенная, самая свободная на сцене актриса — и вдруг говоришь такое. Первый акт прошел, как никогда. Я смотрела и из-за кулисы, и из зала несколько кусочков. И синяки твои под глазами никому не мешают — наоборот, ложатся на образ. Представляешь, какие бессонные ночи у твоей героини. А теперь еще Паратов вернулся! Так что прекрати терзать лицо — дай-ка я тебя лучше припудрю.
Костюмерша сняла с плечиков бледно-розовое кружевное платье, и Катя переключилась на переодевание.
— Похудела-то как, ужас. Платье ушивать надо. Вон вокруг тебя так и крутится, — добродушно ворчала костюмерша, застегивая крючки.
Катя оглядела себя в зеркало и, уставившись на Веру Петровну сильно увеличенными гримом кофейными глазами, прошептала, прижимая к груди руки:
— Страшно… Мне страшно…
Из приемника раздался оптимистичный голос Маши:
— Всех актеров, занятых в начале второго акта, просьба спуститься на сцену. Пожалуйста, не опаздывайте. Не забывайте в гримерных реквизит. Внимание! Даю третий звонок.
Вера Петровна легонько подтолкнула Катю к двери:
— Иди уже, труба зовет! Как выйдешь на сцену, сразу все страхи останутся за кулисами.
— Это точно, — пробормотала Катя и, побледнев так, что даже не помог тон на лице, двинулась к лифту.
Проводив актрису глазами, Вера Петровна тихо сказала Валюте:
— Ты обратила внимание, как у нее в последнее время стала странно подергиваться голова?
— Это после покушения на Алену, — отозвалась та, собирая шпильки с гримировального столика. — Еще бы! Такое увидеть! Тут затрясешься. Все. Я бегу в зал — хочу посмотреть второй акт.
Глеб приехал в театр к концу второго действия, чтобы посмотреть финал и завтра, если его пустят к Алене, рассказать о том, как принимали спектакль. Ковалева бесшумно открыла боковую дверь в зрительный зал и усадила его на резервный стул, всегда стоящий в боковом проходе. Глеб мгновенно погрузился в сцену объяснения Ларисы и Карандышева:
«— Я готов на всякую жертву, готов терпеть всякое унижение для вас, — говорил, преодолевая душившие его рыдания, Карандышев-Нечаев.
— Подите, вы слишком мелки, слишком ничтожны для меня.
— Скажите же: чем мне заслужить любовь вашу? Я вас люблю, люблю.
— Лжете. Я любви искала и не нашла. На меня смотрели и смотрят, как на забаву. Никогда никто… — Здесь Катин звенящий голос сорвался, и она замолчала надолго… А когда заговорила вновь, ее голос звучал неузнаваемо низко, точно она сразу состарилась на пятьдесят лет, и чужой потрескавшийся от возраста и бремени невзгод хриплый вопль с трудом складывал звуки в слова: —…не постарался заглянуть ко мне в душу, ни от кого я не видела сочувствия, не слыхала теплого, сердечного слова. А ведь так жить холодно. Я не виновата, я искала любви и не нашла… ее нет на свете… нечего и искать… — Катино лицо с горящими мрачным светом глазами исказилось, и она беззвучно зашлась истерическим, доводящим до озноба хохотом: — Я не нашла любви, так буду искать золота. Подите, я вашей быть не могу.
— О, не раскайтесь! Вы должны быть моей.
— Чьей ни быть, но не вашей!
— Не моей?
— Никогда!
— Так не доставайся же никому!»
Карандышев-Нечаев выхватил свой знаменитый, специально купленный для спектакля старинный пистолет и выстрелил. Зал замер. И тут произошло невероятное. На груди упавшей без единого звука Ларисы-бесприданницы стало расползаться по нежно-розовому кружеву платья ярко-алое пятно крови. Дальше должен был следовать ее текст: «Ах, благодарю вас!» Но Катя молчала. Молчал Карандышев-Нечаев, в недоумении застывший над ней с дымящимся дулом пистолета. Молчал зрительный зал.
Зловещую тягостную паузу взорвал истошный вопль театроведа Марии Давыдовой, вскочившей с места и бросившейся к сцене. Преодолевший столбняк Максим Нечаев склонился над Катей. Медленно пополз занавес, отгораживая зрителей от совершенного на их глазах убийства…
Глеб в два прыжка вскочил на сцену и оказался в толпе сгрудившихся над неподвижной Катей людей. Она лежала в луже крови, и ее уже осматривал всегда дежуривший на спектакле врач. Стояла гробовая тишина, прерываемая лишь тяжелым дыханием готового потерять сознание Нечаева. Он стоял как приклеенный в том месте, откуда выстрелил в Катю, и его побелевшие пальцы все так же умело и крепко сжимали рукоятку пистолета.
— Быстро реанимацию, — распорядился врач и, не поднимаясь с колен, тихо прибавил: — Хотя вряд ли ей уже помогут. Она мертва…
Все потрясенно посмотрели на Максима. По его белому, как стенка, лицу пробежала судорога, свела крепко сжатый рот, исказила ужасом лицо. Он ничего не мог сказать, только мелко-мелко, словно отрицая вину, тряслась голова.
— Ты что наделал, скотина! — нарушил тишину Гладышев. — Дострелялся…
— Он не виноват! — Высокий чистый голос Домового развернул все головы в его сторону.
Сева стоял, прислонившись к порталу, сложив руки крест-накрест на груди, и на его губах слабой тенью бродила странная полубезумная улыбка.
— Это я убил ее, — торжествующе произнес он. — Это я. Великая актриса должна умирать на подмостках.
«Домовой свихнулся» — таков был единогласный приговор потрясенного коллектива театра.
Севку держали в следственном изоляторе, и им должны были со дня на день заняться психиатры из института судебной медицины. В тот вечер он так и не подошел к распростертой на полу Кате, продолжая стоять прислонившись к порталу, и его мертвенно-бледное лицо имело выражение крайнего, небывалого облегчения… Чистые, блестящие, правдивые глаза без малейшего намека на панику или страх, слегка закушенная, точно в глубоком раздумье, нижняя губа, спокойный, расслабленный лоб и, как две багровых рябинины на белом снегу, пылающие мочки ушей, словно по ошибке прилепленные к бледному, неподвижному лицу. На вопрос милиции, прибывшей следом за реанимацией, он охотно ответил:
— Да, я признаюсь в убийстве. Я зарядил пистолет настоящими пулями. Вина Максима лишь в том, что он отличный стрелок и всегда попадает в цель. На это я и рассчитывал. Смерть должна была быть мгновенной и без мучений.
Нина Евгеньевна последовательно, убедительно и умно доказывала следствию, что Севка — абсолютно невменяем, ибо не мог быть в здравом рассудке человек, чья каждодневная жизнь на глазах всего театра была переполнена сумасшедшей любовью, нежностью и истинным рыцарским отношением к женщине, которую он убил.
Самым сильным качеством в характере Ковалевой было умение быть пристрастной. Она была готова на все ради того, к кому она благоволила. Севку она обожала. И теперь стояла насмерть, чтобы защитить его. Хотя самой большой помехой на намеченном ею пути был сам Севка. Свиданий с ним не полагалось, но Нина Евгеньевна имела огромное количество связей и нашла-таки адвоката, который тонко и умело взялся за защиту Киреева, и через него Ковалева теперь владела информацией, как себя вел подзащитный. А он словно присутствовал при разбирательстве дела, к которому имел отношение как свидетель. Легко отвечал на все вопросы, постоянно подчеркивал, что если Максим Нечаев и не проверил, чем заряжен пистолет, то только лишь потому, что он, Севка, сделал все, чтобы всучить Максиму оружие буквально в последнюю секунду перед выходом на сцену. Да вообще-то актер не обязан проверять заготовленный реквизит. Его дело играть, а не копаться в деталях вложенного ему в руки пистолета, тем более что Нечаев уже больше пятидесяти раз выходил с ним на сцену и играл этот эпизод. Все было бы ничего, но когда Севку спрашивали о его чувстве к Кате, на котором была построена вся стратегия Ковалевой, он пожимал плечами и заявлял, что на эту тему говорить отказывается. На вопрос, почему он совершил это дикое хитроумное убийство, он опять же пожимал плечами и отвечал: «Это уже случилось. Ее нет… Я признаюсь, что виновен в ее смерти».
…Алена выздоравливала на редкость быстро. Даже врачи удивлялись способности ее организма мгновенно откликаться на ту многопрофильную терапию, что они проводили. Послеоперационные швы уже были сняты, но в постели удерживали многочисленные переломы, которые еще беспокоили.
После первых двух более или менее продолжительных посещений Глеб с горечью убедился, что Алена многого не помнит. У нее в памяти образовались черные дыры, и она периодически проваливалась в них, тревожно прислушиваясь к себе и как бы догадываясь интуитивно, что что-то не так, но что именно — не понимала. Глеб поделился своими наблюдениями с лечащим врачом Алены, но тот отнесся к этому спокойно, утверждая, что это — следствие травмы, стресса и длительного отсутствия сознания и что со временем память восстановится.
Глеб не навязывал Алене никаких тем, он лишь осторожно поддерживал разговор, который она сама начинала. Она никогда не упоминала о театре, не спрашивала о злополучной премьере и об актерах, не интересовалась производственными делами. Зато много говорила о своем детстве, вспоминала какие-то смешные детские истории, интересовалась у Глеба, каким он был мальчишкой, и даже попросила принести его детские фотографии. Иногда она вдруг словно спотыкалась о какую-то мысль или внезапно посетивший ее сознание образ, и тогда замолкала надолго, и ее тоненькие гибкие пальцы лихорадочно скручивали и раскручивали концы простыни.
Посетителей, кроме Глеба, проводившего с ней по нескольку часов каждый день, к Алене пускали очень ненадолго и предупреждали, что пока ее нельзя загружать проблемами, требующими напряжения, и что желательно не приносить с собой негативных известий и сообщений. Впрочем, все визиты происходили в присутствии Глеба, и он умело манипулировал разговорами и информацией. Приходила Нина Евгеньевна. Алена очень мило побеседовала с ней о приближении Нового года, рассказала о процедурах, которыми ее замучили, об удивительном медицинском персонале больницы и не задала ни одного вопроса о спектаклях, не вспомнила ни об одном из актеров или сотрудников театра. Выйдя от Алены, Ковалева с трудом сдерживала слезы. Было отчего прийти в отчаяние. Она рассчитывала на Алену, и теперь все рушилось. Сиволапов, уже больше двух недель скрывающийся с ее подачи Бог знает где, время от времени присылал к ней своего дальнего родственника. Тот, соблюдая все правила конспирации, ждал ее в машине… причем всякий раз в весьма отдаленном от театра месте, и передавал сиволаповские депеши, полные отчаяния и злобных угроз легализоваться.
— Она хоть помнит, что с ней произошло и почему она в больнице? — спросила Ковалева Глеба, который вышел проводить ее в гардероб.
— В том-то и дело, что не помнит. Меня спрашивала несколько раз, как ее угораздило так искалечиться.
— А вы?
— А я говорю то, что велят врачи: неосторожно переходила дорогу и ее сбила машина. — Глеб с сочувствием пожал руку вконец расстроенной Нине Евгеньевне и постарался приободрить ее: — Врачи здесь замечательные, а они утверждают, что это пройдет, память вернется.
Несколько раз к Алене пытались просочиться представители следственных органов. Лечащий врач категорическим образом отказал в свидании:
— Поймите, она ничем вам не поможет. У нее полный провал в памяти. Я не могу разрешить вам посещение. Позднякова еще очень слаба, и присутствие незнакомого человека может ее встревожить. Наберитесь терпения и не надо приезжать, у вас есть номер телефона — звоните. Но не раньше, чем через две недели…
Алена подолгу слушала музыку, которую включал ей Глеб. Если в отделении реанимации ей приходилось надевать наушники, чтобы не беспокоить других тяжелых больных, то теперь, в отдельной палате, Глеб устроил ей маленький концертный зал. Он принес музыкальный центр и умело установил колонки так, чтобы Аленина кровать находилась в эпицентре звуков. Больше всего она любила Шопена и могла слушать его бесконечно. Однажды, после того как с упоением и огромным волнением слушала баллады Шопена, Глеб с тревогой заметил в ее глазах слезы. Он нагнулся к ней, чтобы губами промокнуть их, и услышал, как она тихо прошептала:
— Как подробно он рассказывает о себе…
Алена притянула к себе голову Глеба и нежно расцеловала его глаза.
— Мне иногда кажется, что я знаю тебя столько же, сколько знаю себя. Поэтому и просила тебя принести детские фотографии. Вдруг я узнаю на них мальчишку из моего детства.
— У тебя было питерское детство, а у меня самое что ни на есть московское — замоскворецкое. Я рос там, где было когда-то сорок сороков церквей, — улыбнулся Глеб.
— География не имеет значения… Как себя чувствует Люся?
Сердце Глеба резво скакнуло и ткнулось в грудную клетку. Это был первый вопрос о ком-либо, который задала Алена. Он попытался придать лицу самое нейтральное выражение и не спеша ответил:
— Люська в порядке. Пришлось чуть-чуть отодвинуть по срокам операцию, но теперь ее уже прооперировали, и она сейчас дома.
— Из-за меня… перенесли операцию?
— И да и нет. Конечно, она понимала, что я все время должен быть с тобой. А потом, тот хирург, который делал операцию, был в отъезде.
— А теперь как она?
— Лицо заживает. Операция прошла без всяких осложнений. Только всем — и в первую очередь ей самой — непросто привыкнуть к новому облику. Для этого нужно время.
Алена задумалась ненадолго и спросила:
— И что же, она стала совсем другая?
— Абсолютно. Но это естественно. Восстановить прежние черты оказалось невозможно…
— Мне бы хотелось поговорить с ней по телефону. Я соскучилась по ее голосу. Она такая славная.
— Солнышко, я же принес тебе мобильник, а он так и валяется без работы уже неделю. Хочешь, хоть сейчас поговори с Люсей. Она будет счастлива.
— Не сейчас… — Голос Алены прозвучал слабо, и Глеб встревоженно отметил, что она побледнела.
— Давай-ка отдыхать. — Он поправил подушку, подоткнул одеяло, взял руки Алены и нежно поцеловал ее маленькие, как у ребенка, ладошки. — Постарайся поспать, а я пока смотаюсь по делам и часа через два вернусь. Чего-нибудь вкусненького привезти?
Алена уже с закрытыми глазами еле заметно кивнула и тихо попросила:
— Если можно, очищенных кедровых орешков. В детстве мне мама их разгрызала и ядрышки складывала мне в ладошку. А теперь орешки уже очищенные продаются…
Она заснула на полуслове, и Глеб, отключив музыкальный центр, на цыпочках вышел из палаты.
В театре кричали «горько» Маше Кравчук и Шкафендре. В репетиционном зале были накрыты столы для фуршета, все расслабились, и каждый втайне радовался тому, что на сей раз судьба свела всех по случаю отнюдь не скорбному.
Роман пятидесятилетнего Глебыча с тридцатипятилетней актрисой продолжался два года. До этого Маша уже успела дважды побывать замужем, и у нее подрастали шестилетние дочки-близняшки. Пожарский никогда женат не был, до последнего времени жил со стареньким больным отцом, который не выходил из больниц и доставлял Глебычу много страданий. Когда он похоронил отца, на него было жалко смотреть. Всегда импозантный, громкий, вальяжный, он вдруг превратился в растерянного ребенка. Директора в театре любили, несмотря на деловую суровость, тщательно упрятанную в благодушие и демократичную манеру общения, и сопереживали его одиночеству.
Самым удивительным было то, что, проработав бок о бок в театре почти пятнадцать лет, Маша и Глебыч лишь два года назад точно увидели друг друга впервые. Это прозрение произошло на гастролях в Сочи, куда Маша взяла своих близняшек. Девчонки на пляже почему-то присмотрели себе в «кореша» добродушного, смешливого, толстого Шкафендру. Заходясь от восторга от его театрального прозвища, но будучи девицами воспитанными и благопристойными, они вежливо осведомились у Глебыча, можно ли им попросту называть его дядя Шкаф. Тот благосклонно согласился, и началась нежная дружба. Глебыч катал девчонок на лодке и на катере, втихаря от строгой мамаши подкармливал мороженым и водил в тир и в игровые автоматы. В середине гастролей близняшки свалились с гнойной ангиной, и Глебыч оказался опытной сиделкой и грамотным лекарем. Маша, очень плотно занятая в гастрольных спектаклях, дышала спокойно, только если знала, что в ее отсутствие с дочками сидит Пожарский. Наверное, тогда они и увидели друг друга по-новому. Дети оказались первопричиной возникшего между ними чувства, и это стало очень прочным замесом в их отношениях. Близняшки обожали Глебыча и вскоре начали обижаться на него всерьез, когда он проводил с ними выходные и, пожелав спокойной ночи, не оставался ночевать.
Маша понимала, что за Пожарским она как за каменной стеной, но оттягивала момент бракосочетания. Будучи по природе очень честным человеком, она пыталась не обмануться и не ввести в заблуждение Глебыча. Ей хотелось до конца разобраться в себе. И тогда пришла на помощь проницательная Нина Евгеньевна, для которой шеф был одной из тех персон, к которым она была крайне пристрастна. Организовав на лето путевки для близняшек в роскошный детский лагерь, Ковалева вытурила Машу с Глебычем на Кипр. Две недели они пробыли вдвоем среди немыслимой красоты моря, солнца, эротической атмосферы языческих легенд и преданий, и там, на острове Афродиты, точь-в-точь возле того места, где богиня, рожденная морской стихией, явила себя белому свету, они объяснились и назначили день свадьбы. Но потом горькие события, терзавшие театр с начала сезона, все откладывали и откладывали этот день. И вот теперь наконец все состоялось, и счастливый, сияющий Глебыч не мог отвести влюбленных глаз от своей подруги, уже два часа как ставшей его женой. От Маши и впрямь трудно было оторвать взгляд, так к лицу ей был элегантный, знаменитым модельером придуманный свадебный костюм из белого муара с длинным шлейфом, глубоким декольте, открывающим красивую полную грудь, и неровными, ниспадающими по бедрам фалдами длинного жакета. Голова с чуть приподнятыми над шеей густыми вьющимися волосами была украшена белой розой, с удивительной стойкостью сохраняющей первозданную свежесть уже несколько часов.
Слегка подуставших близняшек отправили в Аленин кабинет, располагающийся прямо напротив репетиционного зала. Там им выдали фломастеры, бумагу и усадили за журнальный столик, чтобы они пришли в себя и воспроизвели художественно приведшее их в восхищение венчание в храме.
Когда в очередной раз закричали «горько», в дверях зала остановился, смущенно улыбаясь, Глеб Сергеев с огромной корзиной белых лилий и подарочно упакованной коробкой. Его заметили только после того, как молодожены оторвались друг от друга, завершив долгий, подогреваемый аплодисментами поцелуй. И почему-то всем вдруг стало неловко, точно он явился напоминанием о том, что траур еще не кончился и не во власти самих людей отменять его, а надо, стиснув зубы, мужественно пережить его, отдать свою скорбь, свою свободу выбора, свою волю…
Но Глеб утихомирил все нравственные терзания:
— Я очень рад видеть в этом доме радость. Она совсем не отменяет то больное чувство утраты людей, которые сегодня по праву могли бы быть с нами… Но мы бессильны вернуть их обратно в жизнь. Нам дано только помнить о них и любить так же, как мы любим живых. Все они — и Елена Николаевна, и Энекен, и Катя — каким-то неведомым образом все равно с нами… Что касается Алены, она бы радовалась этому бракосочетанию, если бы болезнь не отняла у нее — временно! — способность помнить… Но это пройдет. И тогда она лично поздравит вас. А сейчас мне хочется пожелать Машеньке и Валентину Глебовичу долгой-долгой счастливой, радостной совместной жизни и от себя и Алены подарить то, что олицетворяет жизнь. — Глеб улыбнулся и, вручая молодоженам коробку, проговорил: — Здесь все очень хрупко и поэтому тщательно упаковано. Чтобы не вскрывать сейчас, рассказываю: это «Весна» работы итальянского скульптора Армани. Буду рад, если она понравится и украсит ваш дом.
Глебу налили шампанское, он чокнулся с Машей и Шкафендрой и встретился взглядом с грустными глазами Инги Ковалевой. Обойдя стол, она встала рядом.
— Глеб Александрович, простите, что я мешаю вам расслабиться… Я знаю — вы все время в больнице, вам необходимо переключаться…
— Да что вы, Инга, — прервал ее Глеб. — Я, наоборот, совсем не хотел бы переключаться, но жизнь велит… Что вы хотели сказать?
У Инги от волнения скривился рот и глаза подозрительно заблестели:
— Глеб, Александрович, возможно, Алене Владимировне нужен какой-нибудь другой врач… специалист по амнезиям… У нас много знакомых врачей. Извините меня, — Инга низко наклонила голову, чтобы Глеб не видел ее пылающего лица. — Мне так важно, чтобы к Алене Владимировне как можно скорей вернулась память.
— Это всем крайне важно, Инга, — Глеб почувствовал, что его слова прозвучали с легким упреком, и мысленно отругал себя. Все думают о себе — это так по-человечески понятно. Каждый в любой ситуации в первую очередь пытается обезопасить себя и любимого.
— Если возникнет такая необходимость, я сразу дам знать, хотя не думаю — в этой больнице первоклассные специалисты.
Маша принесла Глебу огромную тарелку с закусками. Только завела с ним разговор об Алене, как из коридора раздался взрыв смеха и какой-то грохот.
— Это девчонки мои в Аленином кабинете «передыхают». Пойду гляну, что они там учудили.
— Я посмотрю, Маша, — остановил ее Глеб. — Невесте положено пребывать возле своего суженого. А я хоть проведаю заодно Аленин кабинет и при случае ей доложу.
Взбудораженные близняшки встретили Глеба радостным криком.
— Ура! Здравствуйте! Поиграете с нами в кошки-мышки?
— Здравствуйте, барышни! — поклонился Глеб и обежал глазами комнату. По ней словно пронесся тайфун. Журнальный столик и кресла были перевернуты. Настольная лампа почему-то стояла на полу. Шкаф, в одно отделение которого вешалась одежда, а в другой половине на полках хранились Аленины бумаги, рукописи, пьесы, книги, был широко распахнут, и рухнувшие полки вместе со всем содержимым вывалились на пол.
— А это что за шурум-бурум? — поинтересовался Глеб. — Как вам это удалось?
— Случайно. Дашка спряталась в шкаф, а я с завязанными глазами открыла не ту створку, налегла на полку, и они грохнулись. Я нечаянно, — предупредила на всякий случай Наташа.
— Понятно, что не нарочно. Теперь давайте наводить порядок.
— Уу-у, — разочарованно протянули хором девочки. — А в кошки-мышки?
— Да какие кошки-мышки, когда здесь передвигаться невозможно. В кошки-мышки пойдем играть в коридор, а то вы здесь себе фингалов насажаете. Только сначала восстановим порядок.
Девочки уселись на пол и стали складывать стопками бумаги и папки, а Глеб начал возвращать на место полки.
— Ух ты, смотрите, что я нашла. — Довольная Наташа размахивала плюшевым слоненком с розовым хоботом, большими ушами и длинным ворсистым хвостом. — Дашка, это же Катин брелок. Помнишь?
— Чей брелок? — Глеб оставил полки и повернулся к Наташе.
— Это брелок из машины Кати Воробьевой. Она когда нас с мамой подвозила, мы всегда смотрели, как он смешно раскачивается возле руля. Катя сказала нам, что это ее талисман. Наверное, она подарила его тете Алене. Вы ей отвезите его в больницу — она обрадуется.
Глеб принял слоненка из рук девочки и, задумчиво разглядывая его, спросил:
— Где он лежал, Наташ?
— А вот здесь, между этих папок. Рядом со шкатулкой.
Он присел на корточки, поднял изящную перламутровую шкатулку, с трудом открыл тугую крышку. Поверх различных маленьких коробочек и полиэтиленовых пакетиков лежала тонкая ученическая тетрадка.
Глеб прочел первые строчки.
«Дорогая Алена Владимировна! Когда Вы обнаружите эту шкатулку, я буду далеко. По крайней мере, повидаться нам вряд ли позволят…»
Сергеев быстро пролистал тетрадь, исписанную убористым почерком, взглянул на последнюю страницу и похолодел. Крупными буквами была выведена подпись: «Всегда Ваш Севка».
Спустя несколько часов Глеб вернулся в больницу. Алена спала. Он, пытаясь не потревожить ее, пересыпал на блюдце очищенные от скорлупок ядрышки кедровых орехов, достал из пакетов фрукты и вышел в коридор. Присел возле пустующего стола сестринского поста и вскоре увидел Свету, выходящую из палаты.
— Ну как дежурство? Тяжелых много? — поинтересовался Глеб.
— Нормально. Как всегда. — Света взяла журнал и что-то записала. — У больного температура никак не падает. Прямо беда. Алена спит?
— Спит. Уж очень долго. Я уходил — она засыпала. Прошло больше трех часов.
— Да ничего подобного, — Света оторвалась от записей. — У нее был посетитель. Совсем, конечно, недолго, всего десять минут. Потом я его выпроводила.
— Кто же? — удивился Глеб.
— Да я практически его не рассмотрела. Впускал его к Алене Борис Иванович — я делала перевязку. Он мне сказал, что у Алены знакомый хирург из Штатов и чтобы через пять минут я его, что называется, попросила… Ну, я убедилась, что он прощается, и сразу ушла. Видела, как шел по коридору к Борису Ивановичу, видимо поговорить об Алене. Высокий такой, спортивный. До визита к ней он беседовал с палатным врачом. Так что не беспокойтесь, его, конечно же, предупредили и об амнезии, и обо всем.
Глеб с минуту наблюдал за тем, как Светины пальцы проворно сворачивали из кусочков ваты твердые продолговатые валики, а потом спросил:
— Помните тот день, когда Алена впервые открыла глаза?
— Ну конечно, — улыбнулась Света. — Фрезии, а потом музыка… Как в сказке.
— Ну да… Так вот, когда я поехал за магнитофоном, в отделение приходил молодой человек — симпатичный такой, вихрастый, с блестящими глазами…
— Помню. Это был тот самый Севка. Я уже позже догадалась, когда вы рассказали про него и про Катю… И что?
— Я давно хочу спросить вас и все время забываю. Вы не ощутили тогда этого вашего сигнала опасности? Не почувствовали запаха?
— Хороший вопрос, как говорит в институте наш патологоанатом… С вашим Севкой произошла какая-то тонкая штука… Он умолял пустить его к Алене, я категорически отказала. Он безумно расстроился, весь покрылся красными пятнами… Я ему пообещала, что завтра и его обязательно ненадолго пустят к ней. И тогда он спросил очень странным голосом: «Значит, она теперь уже точно выздоровеет?» Я заверила, что, конечно, теперь ей с каждым днем будет лучше.
— А почему вам показалось, что он «странно» спросил?
— Потому что в этих словах не было облегчения, радости, что она пришла в себя и станет поправляться. Наоборот, он был этим обстоятельством — как бы точней выразиться — подавлен, что ли… И, видимо, приехал потому, что ему лично, своими глазами надо было в этом убедиться… Так вот, возвращаюсь к вашему вопросу. Пока мы разговаривали с ним, я не чувствовала никакого запаха, зато к вечеру покрылась сыпью.
Глеб с восхищением глядел на Свету.
— Да что же это за природа у вас такая…
— Какая?
— Умная. Точно вам сигналит.
— В смысле?
Глеб вздохнул и медленно произнес:
— Севка — такой же убийца, как мы с вами.
— Но ведь убил же?
Глеб усмехнулся:
— Вы прямо как Сонечка Мармеладова… «Но ведь убил же!» — Он встал. — Посмотрю, как там Алена… Если еще спит, приду к вам жгутики крутить.
— Это называется турундочки, — поправила его Света. — Милости просим.
…В палате было совсем темно, только фонарь под окном освещал комнату неровным зыбким светом. Глеб сел в кресло напротив Алены, чтобы видеть ее лицо. Глаза ее были закрыты, дышала она ровно и спокойно. Несколько минут Сергеев просидел, улыбаясь в темноте собственному счастью. Потом решил отправиться на помощь Свете и, уже поднимаясь, услышал:
— Сядь, пожалуйста, Глеб, и очень внимательно меня слушай.
— Ты не спала? — удивился он, усаживаясь обратно.
— Нет. Я думала. — В низком голосе Алены Глебу почудилось яростное напряжение.
— Только учти: тебе нельзя волноваться, — поспешно предупредил он.
— Слушай меня и не перебивай. — Алена оставила без внимания его предупреждение и приподнялась в постели на локтях. — Теперь мне угрожает серьезная опасность… Даже в темноте вижу, что ты еще плохо соображаешь. Соберись. У нас очень мало времени. Повторяю. Моей жизни угрожает серьезная опасность. Но я пока здесь… и со мной ты. Гораздо хуже обстоят дела с Севкой. У человека, который сейчас попытается его убрать, нет проблем с деньгами, а в нашей обезумевшей стране на сегодняшний день деньги стали могущественным «сезамом», открывающим любые двери, с ними с циничной обыденностью можно купить любую жизнь. Севка в следственном изоляторе, и там он абсолютно беззащитен.
Потрясенный Глеб понимал только одно: Малышка всех обвела вокруг пальца и владеет ситуацией, как истинная «железная леди». Растерянным голосом он спросил:
— Ты в курсе всего?
— Безусловно. Это ты наивно полагал, что твой мобильник бездействует на тумбочке. На самом деле ему было очень горячо, нанесла приличный ущерб твоему бюджету. — Алена еще приподнялась на локтях и попросила: — Сделай мне, пожалуйста, выше подушку… У нас действительно мало времени. Симулируя потерю памяти, я выиграла две недели, но это не может продолжаться бесконечно. Я знала, что о моем состоянии справляются регулярно. Скоро я буду представлять кое для кого смертельную опасность…
Алена устала и задышала прерывисто и часто. Глеб сел рядом на кровать и взял ее руку.
— Может, позвать Свету?
— Ни в коем случае. Это потом. Сейчас главное — Севка. Слушай внимательно, Глеб. Когда произошло убийство Оболенской, пожар и над театром повисло что-то зловещее, я уже тогда догадалась кое о чем и связалась с маминым бывшим коллегой. Этот старый, прожженный Пинкертон теперь на пенсии и берется за сыскные дела исключительно редко. Живет на даче под Москвой и выращивает розы. Меня знает с детства, поэтому относится как к родной дочери. Я все эти дни была с ним на связи. Сегодня, как назло, телефон молчит. Видимо, что-то на линии, даже гудков нет. Ты должен немедленно к нему ехать. Включи лампу, я продиктую тебе адрес. Это сороковой километр Каширского шоссе.
— Почему тебя не устроил тот следователь, который занимается убийством Оболенской? — спросил Глеб, непослушными руками извлекая из папки блокнот и ручку.
— Наверное, потому, что это дело никогда не удалось бы распутать человеку, далекому от театра. А Егорычев… дядя Миша Егорычев в Питере блестяще справился с одним театральным преступлением. Я училась тогда на первом курсе и советовала из Москвы по телефону, что ему надо прочесть о мастерстве режиссера и актера, о психофизическом методе Станиславского. Немировича-Данченко, так же как Михаила Чехова, Вахтангова, Мейерхольда, он проштудировал досконально и сумел кожей почувствовать особенности и психологическую непохожесть мира театра… От меня передашь ему эту записку, накарябала, как смогла. И пусть срочно мне звонит… — Алена сказала адрес Егорычева, благословила Глеба в дорогу и тихо попросила: — А теперь позови Свету, наверное, мне нужен укол.
Уже в машине Глеб вспомнил, что забыл отдать найденную в шкафу шкатулку и плюшевого слоника. Ничего в этом удивительного не было: в душе и голове царил полнейший хаос, и он никак не мог собраться, как того требовала Алена. Он вновь подрулил к крыльцу и поднялся в отделение.
Когда со второго захода Глебу удалось покинуть двор больницы, ему посигналила въезжающая машина. Он не сразу понял, кто это, но притормозил. Из старенького спортивного автомобиля вылез Максим Нечаев.
— К Алене вас не пустят. Ей поставили капельницу, там сейчас медсестра, — сказал Глеб.
— Понятно, — разочарованно протянул Максим и, нагнувшись к окну Глеба, попросил: — Можно, я с вами проеду хоть докуда-нибудь… Я сейчас совсем не могу быть один.
Глеб согласно кивнул, и Максим, припарковав свою машину, уселся на сиденье рядом с Глебом.
— Я еду на Каширку — через всю Москву, — сообщил Глеб. — Захотите выйти — скажите.
Максим кивнул, и какое-то время они ехали молча.
— Извините, что навязал вам свое общество, — тяжело вздохнул наконец Максим. — Мне было необходимо повидаться с Аленой Владимировной. Даже если бы она не вспомнила меня…
— Думаю, что вас бы она вспомнила, — осторожно заметил Глеб. — Конечно, ее память сейчас непредсказуемо выборочна, но многих она узнает сразу, только связи нарушены. Она, предположим, может помнить, как вас зовут, но не знать, что вас связывает… что вы — актер, а она — режиссер…
— Это должно пройти, — уверенно заявил Максим. — У нас в команде был такой случай. Тоже после травмы.
— Будем надеяться, — уклончиво ответил Глеб. — Это может длиться долго.
Легкая, едва уловимая улыбка скользнула по лицу актера, но Глеб не заметил ее. Он выполнял требование Алены собраться и усилием воли пытался сконцентрировать внимание на дороге, забитой в этот час огромным количеством транспорта.
Возле светофора Сергеев впервые повернул голову к своему попутчику и с изумлением увидел белые, как снег, виски на черноволосой голове Максима. Нечаев, проследив за взглядом Глеба, горько усмехнулся:
— Вот так вот… Удивляюсь, как вообще жив остался. Знаете, у японцев есть такая пословица: «Когда стреляешь из лука в цель, твоя стрела не пробьет центра мишени, если одновременно не пробьет твоего сердца». Мне кажется, та пуля, которая убила Катю, разворошила и мое сердце… Чертовски жестоко обошелся со мной Домовой…
Поток машин наконец-то тронулся, и они опять долго молчали. Потом Глеб осторожно спросил:
— А как случилось, что на сцене фигурировал настоящий пистолет? Насколько я знаю, это запрещено.
— Ну конечно. Это моя вина. Я коллекционирую старинное оружие и перед самой премьерой «Бесприданницы» принес на репетицию этот пистолет. Все зашлись от восторга, особенно Алена Владимировна. Было решено премьеру сыграть с настоящим — уж очень выгодно отличался он от бутафорского, — а потом воспроизвести в бутафорском цехе такой же. Я это дело замял, потому что даже вес пистолета дает руке ощущение правды, не то что игрушечное папье-маше. Потом как-то Алена Владимировна сказала, что, если я продолжаю выходить на сцену с подлинным оружием, надо дуло залить свинцом. Так, мол, полагается по правилам безопасности. И опять этот вопрос растворился в груде других, более злободневных. Ведь жизнь в театре — всегда аврал, вы уже сами в этом убедились.
— Да уж… Высадить вас у метро? Дальше уже начнется шоссе.
Максим в растерянности поерзал по сиденью, спросил виноватым умоляющим голосом:
— А дальше мне с вами никак нельзя? Там ведь везде электрички, я могу сесть на любой станции.
Глеб удивленно взглянул на Максима. Хотя чему здесь удивляться, когда в жизни парня произошла такая трагедия. Может, ему в самом деле не к кому пойти, а одному с самим с собой оставаться тошно.
— Понимаете, Максим, я еду навестить давнего знакомого Алениной матери. Вы, конечно, можете отправиться вместе со мной. Подождете меня в машине или свежим воздухом подышите.
— Отлично! — обрадовался Нечаев. — Спасибо. А то как остаюсь наедине со своими мыслями, хоть в петлю лезь…
Машина, преодолев последние препятствия у забитых светофоров, вырвалась на шоссе. Было уже совсем темно. Шел мелкий противный дождь, и слякоть от колес проезжающих автомобилей залепляла лобовое стекло. Глеб притормозил, подрулил к кювету.
— Жидкость в стеклоочистителе кончилась. Сейчас долью.
— Помочь? — с готовностью отозвался Максим.
— Да что вы, это ж одна минута. Сидите. Музыку вот послушайте. — И Глеб протолкнул диск в музыкальном центре.
Залив в бачок жидкость, Глеб сел за руль и, тронувшись с места, несколько раз с беспокойством поглядел в зеркало. От актера не укрылось это движение, и он спросил:
— Какие-нибудь проблемы?
— Боюсь, что да. Этот джип сел к нам на хвост практически около больницы. Мне это не нравится!
— Кому ж это может нравиться! — Максим развернулся и стал напряженно всматриваться в заднее окно. — Осторожней, Глеб! Он на скорости и сокращает дистанцию… Ну, Алена! Это-то она и предвидела.
Глеб от изумления чуть не выпустил из рук руль.
— Как? Значит, вы… не случайный пассажир?
— Нет, запланированный. Алена Владимировна и это умудрилась срежиссировать. Так что я в курсе. И, кстати, знаю, что в этой машине люди, которыми манипулирует очень хитроумный и расчетливый мерзавец. Сомневаюсь, чтобы он сам был в джипе… хотя… чем черт не шутит.
С угрожающей быстротой джип сокращал дистанцию и, если бы в последний момент Глеб не вырвался крутым виражом в левую полосу, лежать бы им в кювете. Дальше все развивалось с головокружительной быстротой. Максим буквально перелетел на заднее сиденье и, опустив боковое стекло, высадил по колесам серию выстрелов. Затем стремительно перекинулся к другому окну, проворчал злобно:
— Туман чертов! Первый раз в жизни промазал!
Раздался страшный треск, и заднее стекло разнесло ответной очередью из джипа. Глеб почувствовал, как щеку обожгло чем-то горячим, видимо пуля прошла по касательной, повредив кожу.
— Из автомата жарят, гады!.. Оторвись чуть-чуть, начнем все же с колес.
Глеб переметнулся в правый ряд, нажал на газ, и вывалившийся буквально по пояс в окно Максим несколько раз выстрелил.
— Вот так, голубчик. Запетлял… — И, заорав истошно: — Пригни голову! — сам сложился вдвое на заднем сиденье.
Следующая автоматная очередь пробила лобовое стекло, ворвавшаяся струя воздуха охладила горящее лицо Глеба.
— Ну, держитесь! Сами себе приговор подписали, сволочи! — пробормотал Максим. Он припал к разбитому заднему стеклу и несколько раз выстрелил в упор по джипу.
— Впереди пост ГАИ. Я сворачиваю! — сообщил Глеб.
Но сворачивать не пришлось. На середину дороги на звук пальбы вылетел гаишник и изо всех сил размахивал светящимся в темноте жезлом. От здания поста выруливала машина с крутящейся мигалкой и завывающей сиреной.
В последний момент лихорадочно бьющееся сознание Глеба успело приказать ему повернуть руль резко влево и промчаться на бешеной скорости мимо поста. Джип на проседающих простреленных колесах заелозил зигзагами по шоссе, и милиция кинулась к нему.
— Молодец. Отличная реакция! — запыхавшийся Максим одобрительно хлопнул Глеба по плечу. — А эти попались… Удивительно, что они не обезопасили себя бронированным лобовым стеклом… Привыкли, видимо, иметь дело с хилой безоружной интеллигенцией. Боюсь, пришил я там какого-нибудь. Но Алена Владимировна никаких указаний насчет сохранения их драгоценных жизней не давала… — Максим обеспокоенно поглядел на молчащего Глеба и покачал головой: — Здорово вас царапнуло. Кровь не останавливается… Есть в машине аптечка?
— Не надо… Мы уже почти приехали. — Глеб промокнул носовым платком щеку. — Осталось несколько километров. А там уж как-нибудь справимся с этой ссадиной.
Примерно через полтора часа по Каширскому шоссе в направлении Москвы ехал на небольшой скорости старенький «жигуленок». На тридцатом километре возле поста Дорожно-патрульной службы, где стояли две милицейские машины и «скорая» с включенным маячком, машина остановилась на противоположной стороне шоссе, и оттуда вышли три человека. Они не спеша пересекли дорогу — впереди грузный пожилой мужчина в брезентовой куртке с капюшоном и резиновых сапогах, а поодаль — два молодых человека весьма интеллигентного вида.
Милиционер замахал им, запрещая приближаться к месту аварии. Молодые люди в нерешительности остановились, но мужчина в брезентовой куртке полез в нагрудный карман, извлек какой-то документ и, пренебрегая запретом подходить ближе, предъявил корочки старшине. Тот козырнул, заговорил что-то, и молодые люди снова нерешительно двинулись в их сторону.
— Эти с вами, что ли? — спросил старшина, с подозрением вглядываясь в лицо одного из них, залепленное возле уха широким пластырем.
— Племянники мои. Вместе рыбачили. Как видите, тоже без травмы не обошлось. Напоролся на куст. Слава Богу, еще глаз не выколол… Городские! Как в лес попадают, так вечно что-нибудь да случится.
— Это точно. Интеллигенты на природе — явление опасное и для природы, и для них самих… — Старшина, бывший, видимо, сам из деревенских, судя по его явно приволжскому выговору и веснушчатому круглому лицу с белесыми ресницами и бровями, с агрессивным недоброжелательством поддержал «дядю» злополучных «племянников».
— А всего-то их сколько в машине было? — продолжил тот начатый разговор с милиционером.
— Так всего двое и было. Этот иностранец на месте скончался, а второй вон в «скорой» корчится.
— А что ж за «Фольксвагеном» не погнались?
— Какое там! — махнул рукой старшина. — Нас всего-то на Посту трое, одна машина. Надо было хотя бы этих задержать, а то ведь, хоть и на спущенных колесах, а удрать пытались. Мы по рации всем постам передали, но дальше по Каширке машина не появлялась: видать, в стороне где-то затаились…
— Ну что ж! Удачи, старшина!
— Спасибо, товарищ полковник! В следующий раз рыбачьте в одиночестве. Рыба, она компании не выносит, это точно.
Старшина еще раз неодобрительно глянул на «племянников» и вернулся к исполнению своих обязанностей.
— Не опасно было машину у вас оставлять, Михаил Михайлович? — спросил Глеб, когда отъехали от поста.
— Не думаю, чтобы ко мне в гараж полезли, — усмехнулся Егорычев, закуривая и выпуская дым в приспущенное боковое стекло. — Стало быть, обоих уконтропупил. То, что твою жизнь Максим сберег, — это факт, — обратился он к Глебу. — Но больше всего меня Егоза поражает. Мозги работают у девчонки, точь-в-точь как у покойной матери.
— А Егоза — это детское прозвище Алены Владимировны? — поинтересовался Нечаев.
— Да я-то и по сей день только так ее и величаю. А прозвище, конечно, с детства приклеенное… Ох уж и непоседлива была! Двести дыр на месте провертит. И не терпела никакого сюсюканья, никакого снисхождения к своему возрасту, никогда не ныла, не жаловалась, что устала. Мать ее в моем отделе работала, замечательный была криминалист и первоклассный аналитик. Дочь с собой часто в командировки брала: дедушек-бабушек в наличии не имелось, с няньками Алена не уживалась… Одним словом, Егоза наша росла на глазах. И характерец, надо сказать, каков был заложен в детстве, так с возрастом не помягчал. Хотя девчонка добрейшая. Бывало, мать ей обновку какую-нибудь купит, а та втихаря соседке-сверстнице передаривает. Родителей той девочки, тоже сотрудников органов, убили в перестрелке бандиты, вот она и осталась с престарелой бабкой…
— Алена сказала, что ее жизнь находится в опасности, — прервал Глеб погрузившегося в воспоминания Егорычева. — Что мы имеем на данный момент?
— На данный момент… — Михаил Михайлович затушил сигарету и откинулся за рулем на спинку кресла. — На данный момент мы имеем убитого в целях самозащиты американца — им давно с моей, верней, с Алениной подачи, занимается Интерпол… Что касается Алены, то бдительность тут не повредит. Но думаю, что о реальной угрозе вопрос больше не стоит.
— А Сева Киреев? — взволнованно спросил Максим.
— С Севой дело обстоит сложнее. Он проходит по статье «преднамеренное убийство», и хотя в ходе следствия возникнет множество смягчающих обстоятельств, в любом случае парню придется нести жесткое наказание… — Егорычев внезапно оборвал эту тему и обратился к Глебу: — Что же теперь с вашей злополучной премьерой будет?
— Это уже Алене решать! Надеюсь, в ближайшие дни ей снимут гипс, а когда она начнет самостоятельно передвигаться, процесс выздоровления пойдет еще быстрее. Врачи и так диву даются той стремительности, с которой на ней все заживает.
— Сознание — мощнейший фактор в болезни, — заметил полковник, — а ей как можно скорее надо выйти из больницы… Ну что же, молодые люди, будем прощаться. В больницу к Егозе нас так и так уже не пустят. Ночь на дворе.
— Меня пустят, я «блатной», — возразил Глеб. — Она, я уверен, все равно не спит.
— Тогда целуйте ее от «Михаилы Потапыча». Спасибо за мобильник, Глеб. По крайней мере, теперь мы с Аленой на связи. — И, пожимая Сергееву на прощание руку, он добавил теплым, мягким голосом: — Я рад, что именно вы оказались с ней в этой ситуации. Завтра ее навещу.
Уже исчезли огоньки подфарников удаляющейся машины Егорычева, а Глеб и Максим еще долго стояли возле больничных ворот. Они стояли и молчали. Молчали о том, что вместе пережили за эти несколько часов, понимая, что эта ночь их, совсем чужих, отдаленно знакомых людей, сделала близкими и дорогими друзьями. То, что порой складывается между людьми годами, судьбой дано было осуществить в те мгновения, которые запросто могли оказаться последними в их жизнях.
Глеб поежился от холода, и Максим, заметив это, безмолвно притянул его к себе и бережно, пытаясь не задеть пораненное лицо, прижался к его щеке. Потом быстрой походкой отправился к своей одиноко припаркованной в больничном дворе машине и, открыв дверь, махнул на прощание рукой.
Глеб, пошатываясь, медленно побрел к крыльцу, но сил подняться на ступеньки не хватило, и он уселся на том самом месте, где совсем недавно его посетила «главная женщина» и серебряными звуками складывающейся мелодии сообщила о том, что отныне жизнь ее соперницы вне опасности.
В последний день уходящего года природа смилостивилась над жаждущими снега горожанами, и он повалил густыми пушистыми хлопьями, мгновенно преобразив все вокруг и вселив веру, что Новый год не отменяется.
— Андерсен, это опять ты наколдовал? — встретила Глеба радостным возгласом Алена.
Она стояла возле окна палаты и любовалась на больничный сквер, убеленный сединами в меру жестокого, в меру милосердного, но как обычно не потрафляющего слабостям человечества эдакого високосного старичка, передающего сегодня эстафету грядущему — полному надежд, упований и… иллюзий. Он-то точно знал, этот многоопытный уходящий в вечность мудрец, что астрологические прогнозы и увещевания плодящихся «Нострадамусов» — жалкие потуги в сравнении с той мощью, которой вооружил Создатель живую человеческую волю, предоставив свободу выбора своего пути, и что, лишь следуя предсказаниям Единственного Пророка, возможно достичь рая на земле и гармонии в душах. Но бороться за это уже не в его силах: он состарился, он немощен и, из последних сил украсив непослушную подурневшую землю белоснежным одеянием, уходит на покой, оставив спешащему навстречу преемнику свое исторически неизбежное неблагодарное дело.
— Красотища какая… — Глеб обнял Алену за плечи, зарылся лицом в сильно отросшие за время болезни пушистые волосы. — Нам сегодня прогулка полагается? Или как?
— Я думаю, «или как», — засмеялась Алена. — Борис Иванович оказался весьма злопамятной личностью. Я ему объясняю, что вчера даже не упала, а просто поскользнулась и плавно приземлилась на землю. А он мне в ответ: «А откуда тогда синяк на попе, многоуважаемая сударыня? Отныне до выписки никаких прогулок!» Я — ему: «А как же свежий воздух, Борис Иванович? Я же ослабленная». А он: «К вашим услугам — чистейший кислород, но только в условиях палаты». И самолично притащил мне эту красавицу. — Алена кивнула на огромную кислородную подушку, водруженную возле кровати.
— Вот сейчас и будем дышать! А ну марш в постель! — грозно распорядился Глеб и, подхватив Малышку на руки и осторожно провальсировав с ней по палате, бережно уложил ее.
Но подышать кислородом Алене не удалось. В дверь постучали, и на пороге явили себя Дед Мороз с огромным красным мешком в руках и Снегурочка.
— Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты! — вежливо поздоровалась Алена.
— Обижаешь, деточка, — огорчился Дед Мороз голосом Шкафендры. — Вату на елках давно отменили. Она относится к разряду огнеопасных материалов… Тьфу, сбила с толку. Давай, внучечка, запевай!
Рослая, крупная Снегурочка затянула голосом Маши Кравчук предновогоднее поздравление на музыку «В лесу родилась елочка», но со словами, сочиненными специально для Алены. Дед Мороз пытался подтягивать изящным тенорком, но получалось все время невпопад, за что он каждый раз получал локтем в живот от вдохновленной пением Снегурки.
— А теперь Дедушка Мороз будет вручать подарки, — сообщил торжественно Шкафендра.
— Это целый мешок мне? — взвизгнула Алена и в радостном предвкушении потерла ладошки. — Обожаю подарки.
Из мешка прыснуло, хихикнуло и захрюкало от сдерживаемого смеха.
— Вот это подарочек! — изумленно воскликнула Алена, а из развязанного мешка вывалилась Дашка в костюме бравого Нового года, но, обнаружив на голове отсутствие парика, снова утонула в недрах мешка.
Уже через несколько секунд парик был водружен на свое законное место, правда слегка задом наперед, и хорошенький кудрявенький херувимчик предстал перед Аленой, которая восхищенно зааплодировала. Даша торжественно прочла стихотворение, раскланялась и кинулась обнимать Алену. На этом официальная часть завершилась.
— А где же ты Наташу потеряла? — поинтересовалась Алена, прижимая к себе девочку. — Вы же такие неразлучники.
— У Наташки насморк, а у вас сейчас иммунитет ослаблен, поэтому контакты с больными запрещены, — серьезно доложила Даша. — Но вы не расстраивайтесь, тетя Алена, она вас навестит на Рождество.
— На Рождество я надеюсь уже быть дома, — с надеждой проговорила Алена, — и тогда милости прошу ко мне в гости.
— Ой, а подарки-то! — всплеснула руками Даша. — Вы думаете, таким подарочком, как я, все и закончилось? Нетушки-нет! А ну-ка, Дедушка Мороз, лезь в мешок!
Валентин Глебович и Маша извлекли огромного розового плюшевого поросенка с нахальным взглядом круглых пуговиц в белесых ресничках и смешным коричневым пятачком.
— Дарить свинтусов — к счастью! — объявил Дед Мороз. — Пусть себе лежит и похрюкивает и никакого другого свинства даже близко к порогу не подпускает.
Даша передала игрушку улыбающейся Алене и провозгласила:
— Подарок номер два! Теперь твоя очередь, Снегурочка, ныряй в мешок!
Маша вытащила упакованный в прозрачный пакет мягкий голубой плед с длинным ворсом.
— Какая прелесть! Спасибо! — довольно сказала Алена. — Очень кстати. Я ведь жуткая мерзлячка, буду теперь в него кутаться и вас вспоминать.
— Кутаться не придется, — Маша достала такого же небесного цвета махровый халат. — А вот это — чтобы ноги были в тепле, — и присоединила к халату теплые банные шлепанцы.
Глеб, стоя у окна, с улыбкой наблюдал, как радовалась подаркам Алена. Вчера он принес маленькую пушистую елку и целую коробку елочных украшений, и они весь вечер убирали палату. Алена была очень возбуждена, на ее бледном лице наконец-то проступил румянец, она сама распределила на елке игрушки, смеялась, шутила, но вдруг в какой-то момент, словно опомнившись, опустилась в кресло и закрыла ладонями лицо. Глеб подумал, что она плачет, встал перед ней на колени и тихо попросил:
— Только, пожалуйста, не преодолевай ничего. Если плохо или болит — я позову врача…
Алена отняла от лица руки. Ее сухие отстраненные глаза были устремлены сквозь Глеба, смотрели жестко и конкретно, словно перед ее мысленным взглядом вновь прокручивались события последних месяцев.
— Севка… — горестно прошептали ее губы.
— Михал Михалычу разрешили свидание с ним, ты же знаешь, — попытался успокоить ее Глеб, но Алена так же горестно покачала головой:
— Мне необходимо добиваться свидания с ним. Он успокоится, только если я приду к нему. Ах, как все жестоко…
Глеб осторожно дотронулся до ее руки, Алена вздрогнула и прерывисто вздохнула:
— Все! Решили же ничего не обсуждать, пока не соберемся все вместе в театре!
…Следом за Дедом Морозом и Снегурочкой в палату вошли Нина Евгеньевна Ковалева и Валерий Гладышев. Опять начались поздравления, вручение подарков, пожелания скорейшей выписки из больницы и, главное, возвращения в театр.
— Алена Владимировна, в качестве еще одного новогоднего подарка и в знак моей нежной к вам привязанности я совершил невероятное. — Гладышев самодовольно усмехнулся. — Сегодня с утра я посетил Женьку Трембич — она же после воспаления легких все еще на бюллетене. Подарил ей обалденный бальзам для волос — она уверяла, что я ей полхвоста выдрал, вот пусть восстанавливает, — ну и заключил мировую. Она, правда, поначалу хотела спустить меня с лестницы, но дело кончилось тем, что мы с ней даже выпили за ваше здоровье по рюмочке ликера. У нее, конечно, с нервами сильно не в порядке. Все время говорит об Энекен, о Кате… Начинает плакать… А действительно, почему никто из нас не имеет права узнать обо всем? Какими-то урывками доходят слухи… Следователь не больно-то разговорчив. Задает странные вопросы типа: «В каких отношениях, на ваш взгляд, находилась ваш режиссер Алена Позднякова с Екатериной Воробьевой? А с реквизитором Всеволодом Киреевым?»
— Ну все, Валера, мы же пришли поздравлять с Новым годом! — прервала Гладышева Нина Евгеньевна. — Вообще-то вас сегодня намерена посетить вся труппа, но врач предупредил, что визиты будут ограничены. Так что нам повезло.
— Какой спектакль поставлен на вечер? — поинтересовалась Алена.
— «Сирано». А завтра вечером — «Сон в летнюю ночь».
— А что же теперь с «Двенадцатой ночью», Алена Владимировна? — подал голос Гладышев.
Все молча переглянулись, словно он опять вторгся в запретную область. Но Алена отнеслась к его вопросу неожиданно эмоционально:
— Безусловно, как только смогу работать — начнем репетировать. Уж сколько я, лежа на этой кровати, прокрутила возможностей использования всех доступных театру приемов. Это должен быть спектакль-фейерверк, спектакль-праздник…
Гладышев снова открыл рот, но все присутствующие, предвидя назревший в нем вопрос, одновременно заговорили о разном, чтобы снять тему Кати Воробьевой. Врач настоятельно просил не поднимать до выписки никаких «больных» вопросов.
От Алены конечно же не укрылась эта игра, но она сделала вид, что ничего не заметила. Пусть до поры до времени коллеги пребывают в заблуждении…
Правда, неделю назад Ковалева все-таки нарушила правила игры. Не зная, куда девать руки, запинаясь от волнения, путая слова, она объяснила ситуацию с Сиволаповым, пребывающим из-за запонки на нелегальном положении. Алена неопределенно хмыкнула, прослушав историю с запонкой, найденной на колосниках, сообщила, что следователь, дважды посетивший ее, к сожалению, уходил ни с чем… ей становилось плохо, как только он пытался вернуть ее память к происшедшему в театре… Но она постарается хоть чем-то облегчить участь Сиволапова. Потом она вдруг развеселилась и, озорно глядя на Ковалеву, сказала:
— Ничего трагического в таком положении не вижу. Он действительно не виноват… а своей изоляции от мира должен радоваться — пусть сидит в тиши и творит. Для писателя уединение — высшее благо.
Алена позвонила Ковалевой буквально на следующий день и сказала, что пусть уж Петр потомится еще недельку-другую, ее выпишут сразу после Нового года, она даст следствию необходимые показания, и он будет свободен. Нина Евгеньевна не удержалась:
— Но ведь, насколько я знаю, он пока единственный подозреваемый… только эти улики свидетельствуют о том, что он покушался на вашу жизнь. Нужна другая версия…
— Будет вам другая версия, Нина Евгеньевна, — жестко закончила разговор Алена.
…Тактично выпроводив всех посетителей, Алена и Глеб остались вдвоем. Уже смеркалось, и Глеб зажег на елке разноцветные фонарики. За окном по-прежнему огромными хлопьями валил снег. Своей пушистой густой метелью он изолировал палату от внешнего мира, словно опустил белый занавес и скрыл жизнь этих двоих от любопытствующих глаз зрителей.
— Как ты доберешься под таким снегопадом? — тихо спросила Алена, теребя за уши розового плюшевого поросенка.
— Я бы хотел встретить Новый год с тобой.
— А Люся?
— Люся сегодня не одна.
Алена изумленно посмотрела на него, и он тут же ответил на ее немой вопрос:
— Сегодня утром из Парижа прилетела ее дочь… Ольга… Я не мог не сообщить им, что состоялась операция, хотя Люся этому очень сопротивлялась… Короче, Ольга будет встречать с Люськой Новый год, и самое интересное, мне показалось, что она вообще не хочет возвращаться в Париж.
— Господи! Глеб, Он услышал твои молитвы! — воскликнула Малышка, и ее низкий взволнованный голос прозвучал трагически-надломленно. На глазах Алены показались слезы, и она, сдернув очки, беспомощным близоруким взглядом окинула тумбочку в поисках платка. — Извини… Когда мне хорошо, всегда становится ужасно нервно…
Глеб промокнул глаза Малышки, сел рядом с ней на кровать и сказал:
— Это один сюрприз. Есть еще второй…
— Закрыть глаза и открыть рот? — серьезно спросила Алена.
— Наоборот. Рот закрыть, а глаза открыть как можно шире.
Алена поспешно водрузила на нос очки и вопросительно уставилась на Глеба.
Он полез в нагрудный карман пиджака и, вытащив оттуда продолговатый плотный конверт, положил его на колени Алене.
— Что это?
— Посмотри.
Алена подошла с конвертом к елке, чтобы при свете фонариков было виднее.
— Разобралась? — поинтересовался через некоторое время Глеб, потому что Алена подозрительно молчала, застыв спиной к нему, у празднично разодетой елки.
— Да, — ответила она дрогнувшим голосом и, не поворачиваясь, совсем тихо спросила: — Андерсен, ты приглашаешь меня в кругосветное путешествие?
— Я бы не хотел, чтобы ты отказала мне в этом.
— Андерсен, мне кажется, ты неправильно выбрал героиню для своей новой удивительной сказки. Она, наверное, должна быть Гретхен или Аннунциатой, а не русской занудной Аленушкой. Я же не смогу сдвинуться с места, пока за решеткой Севка… пока Петр мечется от свалившегося на него подозрения… пока дядя Миша «крутит роман» с Интерполом, наконец, пока в репертуар театра не вернутся «Бесприданница», «Укрощение строптивой» и «Столичная штучка»…
В палате повисла долгая пауза, нарушаемая лишь тиканьем будильника и посвистыванием за окном расходившегося ветра.
— Тебе все равно пока нельзя работать, — неуверенно произнес Глеб. — Так говорят врачи…
— Они просто еще не поняли, что я заболею снова, если не начну работать немедленно. Они же сами считают, что я не втискиваюсь в рамки «среднестатистического больного»…
— И что мне прикажешь делать?
— Терпеть, — глухо посоветовала Алена. — Мой дорогой Андерсен, меня можно только терпеть — до тех пор, пока не иссякнут запасы…
— Если любить и терпеть — синонимы, я согласен. А неполучившийся сюрприз… я переработаю в симфонию для фортепиано с оркестром. Так мне подсказывает моя творческая интуиция. Ты не против?
— Я настаиваю на ведущем голосе виолончели — в ней больше надрыва для больного самолюбия сказочника, — слабым голосом возразила Алена.
— Ошибаешься, любовь моя, у сказочников напрочь отсутствует самолюбие. Это пережитки устного фольклора, я бы даже сказал — шаманства. Когда у сказочника не складывается история, он сразу же начинает сочинять другую. В нашем деле самое главное — непрерывность…
В палату без стука ворвалась Света с бутылкой шампанского.
— Ура! Борис Иванович благословил всех на фужер шампанского… включая Алену.
— Отлично! Значит, я уже совсем здорова! — обрадовалась Малышка.
Глеб разлил шампанское по бокалам.
— За уходящий год! И за то единственное, что бессмертно. За любовь… которая, даже нечаянно сбившись с пути и обессилев, творит чудеса…
Спустя две недели молодежный театр вновь обрел главного режиссера. Слегка похудевшая, но по-прежнему уверенная, энергичная Алена своим появлением мощно изменила атмосферу уныния и разброда, царившую в коллективе. В первый же день она представила труппе очень известного, талантливого режиссера Дениса Троицкого, который был уже во всеоружии, чтобы с завтрашнего дня начать репетировать новый спектакль. Троицкий прочел труппе пьесу, вывесил распределение ролей и, попрощавшись, убежал к художнику работать над макетом. А Алена попросила собраться в зале всех, кто находился в данный момент в театре.
— Ну что ж, давайте поговорим, — задумчиво обвела Алена глазами сидящих в зале и, прислонившись спиной к авансцене, встала в центральном проходе.
— Может, стульчик поставить, Алена Владимировна? — предложил Митя Травкин.
— Пока не надо. Я столько належалась и насиделась, что теперь хочется занимать только вертикальное положение, — улыбнулась Алена и, продолжая всматриваться в зал, спросила: — Если я не ошибаюсь, из актеров нет Трембич, Ковалевой и Гладышева. Женя все еще больна, я в курсе.
— Гладышев здесь…
Появившийся в зале Валерий в свойственной ему беспардонной манере сразу привлекать внимание к себе врубился в разговор с ходу:
— Алена Владимировна, давайте поставим точки над «и». В конце концов, я на спор могу сейчас выиграть ящик коньяка. В машине, которая преследовала Глеба Сергеева, кроме убитого американца был Адам?
В зале наступила гробовая тишина. Так тихо бывало в этом пространстве, именуемом зрительным залом, только в самые напряженные и захватывающие моменты спектаклей.
Алена выдержала паузу, словно собираясь с мыслями, потом прогудела размеренно:
— Должна тебя огорчить, Валера. Это был не Адам. Более того, никакого Адама… вообще не существовало.
Алена замолчала, предвидя реакцию коллег. Все заговорили разом. Перебивали друг друга, изумлялись, что их считают за таких идиотов, которым можно все, что угодно, вешать на уши, кто-то смеялся, напоминая, что Оболенская лично представляла своего внука… Но, главное, произошло то, чего больше всего опасалась Алена, на нее смотрели как на сумасшедшую…
Петр Сиволапов с огорчением и испугом прошептал что-то на ухо Валентину Глебовичу.
Алена достала из сумочки банку с колой и, вскрыв ее, медленно начала пить. Потом под неумолкающий гул голосов не торопясь поднялась на сцену и рычагом на пульте опустила экран. Обыкновенный, небольшого размера экран, который использовали не так уж часто в спектаклях и при просмотре киноматериалов.
Вернувшись на свое место в зал, она запрокинула голову и вопросительно посмотрела в сторону будки, где сидел электрик Сережа. Он кивнул.
Алена подняла руку, и через какое-то время воцарилась тишина.
— Я хочу вернуть вас на месяц назад. Художница Ольга Белова принесла в театр макет и эскизы костюмов для «Двенадцатой ночи». Все помнят?
— Еще бы! Вы тогда были не в настроении и завернули ее с костюмами, — воскликнула Аленина секретарша Милочка. — И не велели никому показывать…
— А Ольга все равно показала эскизы Кате Воробьевой. Это было в моей машине, — грустно добавил шофер Миша.
Алена утвердительно качнула головой.
— Вот теперь я хочу, чтобы вы посмотрели эскизы костюмов Виолы и Себастьяна…
По залу вновь пронесся легкий гул недоумения.
Стал медленно гаснуть свет, и на экране высветился цветной слайд. Белокурая грациозная Виола с чертами лица Кати Воробьевой, с такими же глазами цвета кофе, с ее знакомой легкой полуулыбкой, всегда приоткрывающей лишь верхний ряд мелких ровных зубов, держала за руку своего брата-близнеца Себастьяна…
Зал ахнул. Чуть склонив набок длинноволосую пушистую голову в грациозном аристократическом полупоклоне, застенчивым взглядом сквозь стекла толстых очков смотрел Адам-Себастьян.
С фотографической точностью художница выписала их переплетенные нервные длинные пальцы с гибкими ломкими кистями, передала легко возбудимую одухотворенность в пластике двух одинаковых, от природы изящно сложенных тел.
— Боже мой!.. Невероятно! — раздался похожий на полувсхлип голос Валентина Глебовича. — Кошмар продолжается…
Люди в зале задвигались, зашептались, пытаясь отсечь малейшее подозрение по поводу собственного безумия, только что, казалось, повеявшего от Алены. Они снова и снова вглядывались в отличимые лишь полом и цветом глаз лица и изо всех сил противились тому, что становилось очевидным…
— Глаза… у него были огромные голубые глаза… — выдохнула потрясенно Мальвина.
В темноте раздался спокойный, ровный голос Алены.
— Вспомним еще один день. Мы сидели вот так же в этом зале и горевали из-за попавшей в аварию Кати. Решали, как быть с премьерой, с текущим репертуаром. Все находились в зале, лишь один человек выполнял массу ненужных дел в выгородке на сцене. Это был Севка. Мое сознание автоматически зафиксировало какое-то его странное движение. Он что-то нашел на полу, рассмотрел под светом настольной лампы, налил воды из графина и бросил туда свою находку. Профессиональные привычки иногда работают на подсознательном уровне: собираясь навещать Катю, я, уже одетая, вернулась на сцену и выловила из стакана… голубую линзу — ту, что вставляют в глаза близорукие или дальнозоркие люди. Или те, кто хочет поменять цвет глаз. Тогда я не придала этому значения — слишком много проблем свалилось на голову.
Когда Елена Николаевна Оболенская познакомила меня на служебном входе со своим внуком, меня слегка удивили две вещи: во-первых, какая-то неловкость его передвижения в пространстве — он поспешно встал, когда нас знакомили, и сделал шаг в сторону, а во-вторых, голос — неправдоподобно музыкальный, на тон завышенный голос. Мне хотелось, как в свое время говорил ученикам Станиславский, тоже сказать «не верю». Но… не верю чему? Субъективному ощущению, что он чересчур поспешно перекрыл собой окно, чтобы я, войдя, не смогла разглядеть его? Не верю тому, что нервный молодой иностранец может так своеобразно изощренно овладевать мелодикой чужого языка? В конце концов не верю тому, что у мадам Оболенской появился внук? Все это тогда лишь промелькнуло в голове, не задержалось надолго. Но наше подсознание копит и складирует все, что может казаться лишь ненужным хламом, засоряющим мысль. Тогда, перед юбилеем, не обратить внимание на подобные ощущения было легче легкого…
— Ваш диагноз как режиссера? — спросила Ковалева. — Я пока не затрагиваю криминальную сторону, тут пока все непонятно…
— Ее актерский гений позволил себе роскошь самоизвращения, — задумчиво ответила Алена. — Я специально в гримерной завела разговор с Валей по поводу ее книги со статьей: «А если это не я…» Что потом, после моего ухода, говорила Катя?
Голос Валюши-бубенчика прозвенел надтреснуто и печально:
— Мне показалось, она была чрезвычайно воодушевлена этим разговором и несколько раз спросила: «Так что же получается, если в чужом костюме, с чужим лицом, то все дозволено?! Это вроде бы и не я?!»
— Абсурд! Полный абсурд! — громко со стоном произнесла Галя Бурьянова. — За что? Почему? Убить троих людей… Ну даже если, предположим, некая темная личность втравила ее в эту историю с перевоплощением и в какие-то моменты присутствовал чисто актерский азарт, что было очень свойственно Кате… Да нет, не то говорю. Она же сломала ногу, попала в аварию… Где доказательства, что Адам — это она?
Алена попросила дать свет в зал. Когда контуры фигур на слайде стали размытыми и далекими, а яркий свет позволил людям увидеть друг друга, то все, что только что говорила Малышка, стало казаться не более чем очередной фантазией главного режиссера.
— Мне вчера разрешили наконец-то повидаться с Севой. Он позволил прочесть вам письмо, которое было написано за день до убийства Кати. Письмо и еще кое-что он оставил в шкафу моего кабинета. Все это случайно обнаружили дочери Маши Кравчук, и таким образом я получила письмо раньше — еще в больнице.
Все снова затихли до звенящей тишины, и Алена начала читать:
— «Дорогая Алена Владимировна!
Когда Вы обнаружите эту шкатулку и письмо, я буду далеко. По крайней мере, повидаться нам вряд ли позволят.
Наверное, Вы единственная, кто поймет меня.
Вам я доверяю рассказать обо всем следствию. Сам никогда не смогу давать против нее показаний, предъявлять улики, обвинять… Единственное, что я могу для нее сделать, — лишить унизительной грязи, в которой ей придется жить дальше… Если это можно будет назвать жизнью…
Я всегда говорил Вам правду, и Вы всегда понимали меня, постарайтесь понять — до самого дна — и на этот раз.
Я страшно виноват перед Вами. Я… желал Вам смерти. Потому что понимал, что только Вы знаете про Катю все, и был уверен, что если Вы не выживете, то вся вина в убийстве Оболенской, Энекен и Вас самой будет повешена на внука Оболенской — мифического, несуществующего Адама. Когда Вы пришли в сознание и врачи сказали, что самое страшное позади, тогда я решился. Простите, я так грешен перед Вами и Господом!
Первое. На юбилее я был слишком замотан, чтобы иметь возможность познакомиться с внуком Елены Николаевны, о котором она мне уже много всего успела понарассказывать… Пробегая за петардами и хлопушками в подвал, я вдруг услышал Катин голос. Он доносился из курительной комнаты возле мужского туалета. Я аж вспотел от ужаса: подумал, что начались слуховые глюки. Она говорила нервно, взволнованно, торопливо, но слов я не разобрал. Я откинул портьеру курительной комнаты — там стоял спиной ко мне молодой человек и засовывал мобильник в задний карман брюк. Он резко повернулся ко мне, и я вздрогнул и покрылся испариной. Получалось, что это он только что говорил Катиным голосом — этот парень с изнеженным девичьим лицом, огромными голубыми глазами, которые невнятно плескались за толстыми стеклами очков, чуть припухшими скулами и глубокой ямочкой на подбородке. Даже дикая паника в душе не помешала мне подробно разглядеть его. Я никогда не испытывал более смутного, непонятного чувства… как при виде этого человека. Странно, но в тот миг я испытал жуткую досаду, жгучую боль, даже обиду на Катю… В тот миг я ничего не понял, кроме того, что, возможно, у меня серьезные проблемы с нервами… Парень, казалось, слегка удивился моему ошарашенному виду, но учтиво кивнул, приоткрыв в улыбке белоснежные зубы с небольшой щербинкой. Потом я увидел этого незнакомца рядом с Еленой Николаевной и понял, кто он.
Позже, когда я обнаружил Оболенскую мертвой, в ее левой руке был зажат брелок от Катиной машины — тот знаменитый розовый слоненок. Не сомневаясь в правильности того, что делаю, я выдернул слоненка из руки Елены Николаевны, спрятал в карман и побежал звать Вас… Было такое ощущение, что мой мозг превратился в компьютер… Если Елена Николаевна, понимая, что умирает, стиснула брелок в руке, значит, хотела обратить на него внимание тех, кто ее обнаружит. Как, каким образом слоненок оказался у нее, нашла ли она его случайно в вещах Адама, выронил ли он его невзначай — об этом никто никогда теперь не узнает. Так же как никому не дано знать, что могла она чувствовать в эти минуты страшного прозрения. Так я думаю сейчас. Тогда мысли бешено крутились в голове. Катя лежала дома со сломанной ногой. Возможно, это Стивен воспользовался Катиной машиной? Но нет, я тут же вспомнил, как он пытался припарковать свой «Форд» в переулке, забитом автомобилями, и ему разрешили заехать во двор театра… Когда я выронил нечаянно брелок на пол и ключи зазвенели, только Вы своим проницательным взглядом зафиксировали этот момент, все остальные были слишком потрясены, чтобы прореагировать на звякнувший предмет. Тем более что не я сам — мои руки почему-то предусмотрительно завернули яркого слоненка в носовой платок. Я говорю «не я сам», потому что иначе не умею выразить то, что со мной творилось. Я словно действовал не от себя, а по чужому заданию, подсознательно осуществляя чужую волю. Теперь я, конечно, понимаю, что так и было. Я всегда подменял свою волю Катиной, свои желания и интересы — ее интересами и желаниями. Она обратила меня в послушный придаток ее самой. Я всегда был счастлив, что хоть как-то могу сделать ее жизнь менее замотанной, разгрузить от огромного количества текущих дел и бытовых забот… Я и теперь перед лицом Бога могу признаться: в моей жизни исполнилось высшее, что Господь может по великой милости даровать смертному, — я любил, люблю и буду до конца дней любить ее — единственную для меня женщину, абсолютную во всей полноте этого слова…
Уже позже, когда страх начал вытеснять кураж вседозволенности и упоения актерским разнузданным, извращенным перевоплощением, она конечно же догадалась, что я все знаю, и подарила мне свою близость. Я понимал, что этой ночью она покупает мое молчание, но все равно, обладая ею, был счастливейшим из смертных. Она спала, а я смотрел на ее раскиданное по постели обнаженное прекрасное тело и думал о том, что могу сейчас отнять у нее жизнь. Но не смог — не потому, что пожалел. О жалости, сочувствии, сострадании речь уже не шла. Как Вы бы, наверное, сказали, сюжет вырулил на иррациональность жанра высокой трагедии. Катя должна умереть смертью, достойной ее блестящего актерского дара. Не ее вина, что этим даром цинично воспользовались. Но, как бы то ни было, она убила Оболенскую, Энекен и лишь чудом не убила Вас.
Я опять сбился… Когда все стояли над телом Оболенской, я заметил, что в сжатой руке Елены Николаевны остался розовый ворс от Катиного брелка. Ковалева попросила всех покинуть помещение: вот-вот должны были появиться врачи и милиция. Я вернулся незаметно обратно и вытащил ворс из руки Оболенской. Я решил, что безопасней Катиному брелку — этой неоспоримой улике находиться в ее вещах, тогда это перестает быть уликой. Пробрался, пользуясь суматохой, в Катину гримерную и засунул слоненка в ящичек ее стола, в самую глубину. Буквально через несколько дней Катя попросила привезти ей шкатулку из гримировального столика. Выдвинув тот самый ящичек, я с ужасом обнаружил, что брелка там нет… Зато в шкатулке, которую я позволил себе открыть, я нашел стеклянную баночку с голубыми линзами для глаз. Вспомнил, как наутро после ночного Катиного посещения Вы пристально разглядывали ту линзу, что я нашел на сцене и бросил в стакан с водой. Сопоставив все, я сообразил: Вы наверняка вычислили, что если я что-то прячу, то это может касаться лишь одного человека на свете. Катин брелок был у Вас… Теперь я знал то, что было известно и Вам: в юбилейный вечер Катя приехала на своей машине, которую загнала в какой-нибудь близлежащий двор. Авария, сломанная нога, сотрясение мозга, черный джип, угрозы и предупреждения — все это было придумано, чтобы мог появиться Адам.
Буквально за несколько часов до того, как я обнаружил Вас без сознания под рухнувшим штанкетом, я решился на разговор с Вами. Но Катя не дала мне этого сделать… Если бы я знал, что она замышляет! Если бы я только знал! Она попросила меня передать посылку для родителей людям, улетающим в Штаты, и предупредила, что если дверь не откроют, то нужно будет подъехать по другому адресу. Понятно, что тянула время. Мы добрались на такси до ее дома, она ушла отдохнуть перед спектаклем, а я должен был отправиться с посылкой. Но я на самом деле никуда не поехал. За углом отпустив такси, я вернулся к ее дому и вошел в здание школы напротив. Минут через пятнадцать, кутая шею в пушистый шарф, из подъезда вышел Адам. В конце переулка его ждал черный джип. Мое сердце бешено заколотилось предчувствием новой беды. Только будучи Адамом, она могла с легкостью совершать преступления, только от его имени решилась бы поднять руку на Вас. Я почти уверен, что она была как бы закодирована на это.
Если бы я только мог знать, куда ее повез этот роковой джип! Все крепки задним умом… Я ведь видел, как Катя, якобы дожидаясь, пока я закончу свои дела, слонялась по реквизиторской, теребила штору на окне, открывала форточку. Именно тогда, вероятно, она сдвинула решетку, чтобы через несколько часов проникнуть в театр, и плотно задернула штору.
Дорогая Алена Владимировна! Если человеку дано в своей земной жизни познать, что такое ад, то я познал его.
Моя жизнь имела смысл, когда в ней были Катя и театр. Теперь передо мной черная пустота.
Я стою на коленях перед Максимом Нечаевым и молю, молю его о прощении… хотя понимаю, что такое простить невозможно.
Проклинаю того человека, который надругался над Катей, цинично превратив ее одновременно в палача и жертву. Я знаю, Вы во всем разберетесь до конца. Иначе это были бы не Вы.
С жизнью меня примиряет лишь возможность каяться и просить Господа о спасении Катиной души.
Вот видите, я, как последний мошенник, пробрался в Ваш кабинет и, вскрыв шкаф, сразу нашел там Катин брелок. Значит, все сошлось. В шкатулке — коробочка с линзами и очки с сильными диоптриями.
Думаю, что при обыске Катиной квартиры вряд ли милиции удастся найти что-либо еще: там побывают раньше. Как побывали у Вас дома, чтобы выкрасть запонки Петра Алексеевича.
Всегда Ваш Сева».
Алена опустила руку с тетрадкой и, глубоко вздохнув, обвела глазами встревоженные лица людей, болезненно переживающих за Домового, который по праву был всеобщим любимцем. Уткнувшись в широкую спину Шкафендры, тихо заплакала Маша Кравчук. Всхлипнула Валюша-бубенчик и, умоляюще глядя на Алену, попросила:
— Расскажите… все по порядку…
— Для этого мы сегодня и собрались здесь, — кивнула Алена. — Только сначала я бы хотела разъяснить еще одно. Адам… все же существует. Адам Ламберти, на имя которого написано завещание Елены Николаевны Оболенской.
— Господи! И кто же он? — воскликнула Ковалева, лихорадочно закуривая сигарету.
— Он — муж Воробьевой, американский пластический хирург с русско-итальянскими корнями. Это его Катя представила как друга своих родителей Стивена Страйда. — Алена переждала возбужденный гул в зале и продолжила: — Вернемся к Елене Николаевне Оболенской. Представителей этого старинного дворянского рода судьба раскидала по всему белому свету. Восстановить все в единую цепочку мне помогли родственники Глеба Сергеева. Его тетя, княжна Мещерская, замужем за мистером Робертом Холгейтом, который сейчас работает в американском посольстве в Москве, и он оказал неоценимую услугу в том, что касалось вопросов русских эмигрантов за рубежом.
Итак, Елена Николаевна Оболенская была убеждена, что во всем мире не осталось близких ей людей. Однако в Америке, в доме престарелых под Лос-Анджелесом, в таком же одиночестве и с такой же уверенностью в том, что все ее родные, и в том числе единственная младшая сестра Елена, погибли во время оккупации Франции, до последнего времени проживала Нина Николаевна Оболенская. Последний раз сестры виделись в Париже в самом начале войны. Елене тогда было лет пятнадцать, Нина старше на пять лет. Их мать благословила тогда старшую дочь на брак с итальянцем Марио Шнайдером. Его отец был евреем, что и определило в дальнейшем трагическую участь сына. Нина и Марио уехали в Рим, во время оккупации стали участниками итальянского Сопротивления. Оба попали в плен. Марио стал узником гетто для итальянских евреев и умер там, не дожив нескольких месяцев до освобождения. Нине удалось бежать, и друзья мужа переправили ее в Америку. Она была изумительно хороша собой, эта княжна Оболенская, я видела ее фотографию. Светловолосая, зеленоглазая русалка, нежная, женственная, с обворожительной застенчивой улыбкой. Елена Николаевна настаивала, что Адам — вылитая Нина. Каждому из нас он кого-то смутно напоминал, но невероятная наглость замысла уводила от соображения, что он мог, к примеру, быть похож на актрису Катю Воробьеву. Хотя и ямочка на подбородке, и припухлость скул, и щербинка на переднем зубе — все это пристрастным взглядом замеченное Севой отсутствовало в Катином лице… Но об этом позже…
Итак, Нина Оболенская, двадцатипятилетняя княжна, очутилась на американской земле, будучи нищей, как церковная мышь. Попытки связаться с матерью и сестрой не принесли успеха. В Париже их уже не было. В письме от бывшей соседки сообщалось, что они уехали из Парижа и не оставили никакого адреса. Было от чего прийти в отчаянье! Но решающим фактором в дальнейшей судьбе оказалась невероятной красоты фигура княжны Оболенской. Кто-то заметил на улице длинноногую русоволосую красотку и посоветовал ей попробовать себя в рекламе. Нина нашла фотографа, имевшего свое дело, и не ошиблась. Журналы охотно стали помещать ее фотографии на своих страницах, разворотах, обложках. Один из известных модельеров предложил ей участвовать в демонстрации моделей одежды из его новой коллекции. И вот здесь, на подиуме, началась блестящая карьера Нины Оболенской.
Госпожа Сара Форд, одна из богатейших особ Америки, имеющая самый престижный Дом моделей, отметила неординарность и изюминку русской манекенщицы и пригласила ее к себе. Новая супермодель пришлась американцам по вкусу. Госпожа Форд зарабатывала на ней огромные деньги. Но судьба Нины Оболенской опять сделала резкий неожиданный вираж. На приеме после демонстрации весенне-летней коллекции Дома моделей Сары Форд хозяйка салона подвела к Нине господина средних лет и с улыбкой представила их друг другу. Норис Баррент, нефтяной магнат и друг госпожи Форд, уже был влюблен в очаровательную супермодель по уши. Завертелся головокружительный роман, и спустя несколько месяцев Нина рассталась с Домом моделей и вышла замуж за миллионера Нориса Баррента. Их счастливый брак продолжался больше тридцати лет, но у них не было детей. Нина неоднократно склоняла мужа к тому, чтобы взять ребенка из приюта, но, видимо, у Баррента были на этот счет твердые убеждения, и они прожили всю супружескую жизнь вдвоем… Норис Баррент умер в возрасте семидесяти лет и все свое многомиллионное состояние оставил обожаемой жене.
Нина после смерти мужа большую часть времени жила под Голливудом, была продюсером нескольких фильмов, имевших успех и приумноживших ее и так огромный капитал.
В Голливуде судьба свела ее с очаровательной супружеской парой — Адамом и Джой Ламберти. Мать Адама была русской, и это еще более усилило симпатию миссис Баррент к новым друзьям. Адам работал на киностудии пластическим гримером и, несмотря на молодость, уже имел Оскара за грим в одном из голливудских боевиков. Джой была врачом-психоаналитиком, имела свою практику, писала статьи по психологии и об особенностях психики в момент актерского перевоплощения и работы над образом. Нина искренне восхищалась незаурядным цепким умом Джой и была одной из ее пациенток: она тяжело переносила потерю мужа и нуждалась в опытном психотерапевте.
Адам постепенно разочаровывался в своем деле и, одобряемый Джой, принял решение поменять профессию. Уже через несколько лет он получил диплом пластического хирурга. Многолетний опыт работы с лицами актеров дал замечательный эффект в его начинающейся хирургической карьере. Адам чувствовал материал, над которым трудился, он привык творчески воспринимать человеческое лицо и лепить его по-новому и вскоре сделался знаменитостью. Голливудские актеры, жаждущие изменить внешность, предпочитали его руки другим…
Джой помогала ему. Она проводила психологические занятия с актерами, решившими обрести новый облик. Особенно ей удавались сеансы гипноза. Возможно, дело было не столько в способностях Джой, сколько в том, что ее пациенты оказывались податливыми к внушению, легко и творчески отзывались на почти режиссерское задание. Привыкшие на экране и сцене транслировать чужую волю — ведь над актером всегда довлеет замысел драматурга и режиссерское видение, — они охотно отдавали себя в руки чуткой, талантливой Джой.
Время шло. Нина Николаевна Оболенская старела, и в ее душе, генетически предрасположенной к богоискательству, стали происходить естественные для любой исконно русской души перемены. Она полюбила одиночество, перестала участвовать в бурной жизни Голливуда, возвела в парке своего загородного дома православную часовню и стала поговаривать о том, что мечтала бы провести остаток жизни в монастырской обители, пожертвовав Богу все свое громадное состояние.
Тогда же судьба свела Адама Ламберти с Катей Воробьевой. Мать Кати, страдающая многие годы депрессиями и бессонницей, по рекомендации знакомых приехала с дочерью к Джой, чтобы пройти курс лечения. Все лето Катя провела в обществе Джой и Адама. Джой всерьез прониклась проблемой Катиной актерской невостребованности и за несколько сеансов добилась феноменальных успехов. Теперь Катя, поменяв под умелым руководством психолога стереотип восприятия себя как неудачницы, готовилась свернуть горы и заблистать на театральном небосклоне. Она даже внешне стала другой. Глаза приобрели уверенное выражение хорошо знающей себе цену женщины, смех стал громким и заразительным, голос глубоким и волнующим, а походка — легкой и притягивающей взгляды мужчин. Катя обожала Джой… и тайно была до полусмерти влюблена в Адама.
Как-то супруги собрались навестить Нину Баррент и взяли с собой Катю. Нина Николаевна была очарована русской актрисой и пообещала непременно поговорить с одним из режиссеров, как раз подыскивающим героиню для своего фильма. Сняться в голливудской картине, у замечательного режиссера — такое могло присниться Кате только во сне. Госпожа Баррент оказалась человеком слова, она тут же связалась с режиссером по телефону, и он назначил Кате время для встречи. Уже выйдя провожать гостей к машине, Нина Николаевна объявила им, что через месяц переезжает в так называемую богадельню, основанную при православном монастыре. Одиночество ей не грозит, так как вместе с ней в обитель перебирается ее верный друг и компаньонка Мария Кохановская, уже много лет жившая с ней. Решение это непоколебимо, поэтому не стоит попусту тратить время на попытки отговорить ее…
На обратном пути Джой рассказала Кате о судьбе княжны Оболенской. Катя была потрясена. Она, в свою очередь, поведала супругам Ламберти о Елене Николаевне и потребовала немедленно вернуться назад и сообщить госпоже Баррент о том, что ее сестра жива и тоже страшно одинока. Но, наверное, в это время в изощренном мозгу Джой уже зрел тот хитроумный замысел, который должен был принести ей миллионы.
Катю уговорили подождать с такой стрессовой для здоровья старой миссис Баррент новостью. Подобное сообщение требовало подготовки, и уж кто, как не Джой, сможет устроить все это в лучшем виде.
А Кате уже на следующий день было не до чего. Начались пробы в голливудский фильм. Русская актриса очень понравилась режиссеру, ей подбирали грим, делали фотографии, она встречалась и репетировала с партнерами, но в результате серьезный языковой барьер помешал утвердить ее на роль. Английским Катя владела слабо и терялась, когда надо было эмоционально и темпераментно играть сцену на чужом языке.
Перед ее отъездом в Москву Адам пришел к ней в гостиницу и объяснился в любви. Голова у Кати шла кругом. Княжна Оболенская, пробы в Голливуде, внезапно вспыхнувшая страсть Адама, Джой… А как же Джой? Адам ответил, что имел с ней накануне разговор, признался, что давно влюблен, но не мог нанести ей такой удар, а теперь он раздавлен, сокрушен своим чувством и дальше скрывать это не в силах. Джой оказалась на высоте, и Адам сделал Кате предложение. Вы понимаете, что все, что я вам рассказываю, собрано по крупицам из разных источников. Кое-что взято из Катиных записей, предоставленных родителями следствию. В ее дневнике нет ничего о том, почему, вернувшись в Москву, в театр, она ни словом не обмолвилась Елене Николаевне Оболенской о том, что совсем недавно встречалась с ее родной сестрой. Видимо, уже тогда Воробьева стала участницей дикого плана, который был запущен блистательно-изощренным мозгом Джой. Вполне вероятно, что Катя поняла, на каких условиях Джой уступает ей Адама. И деньги. Трудно отказаться от миллионов долларов, красивой будущей жизни. Но было еще кое-что…
В начале нашего разговора Валерий Гладышев спросил, кто был вторым в том самом джипе, кого ранил Максим. Это была Джой. Следовательно, она постоянно держала Катю под прицелом. Как она воздействовала на ее психику, использовала ли сеансы гипноза и медикаментозную терапию, пока сказать трудно. Она жива, поэтому надеюсь, что многое выяснится позже.
Алена задумалась, сняла очки, потерла кулачками глаза.
— И сколько же времени им понадобилось, чтобы подготовить осуществление своего плана? — подала голос с последнего ряда Сколопендра.
— Больше года. — Алена оглянулась в поиске стула, и Митя Травкин тут же услужливо придвинул его. Алена села, тяжело вздохнула. — Миссис Баррент перебралась в монастырскую обитель. Визиты Джой и Адама были очень частыми, так как здоровье их подопечной ухудшалось с катастрофической быстротой. Естественно, не без их помощи. О других врачах княжна Оболенская не хотела даже слышать: супруги Ламберти наблюдают ее столько лет, кому, как не им, знать все о ее организме!
Единственно, кто настаивал на тщательном лечении в хорошей клинике, была Мария Кохановская. Может быть, она что-то подозревала. Но миссис Баррент была слишком упряма, чтобы прислушаться к мудрому совету компаньонки.
Сердечные приступы стали повторяться с пугающей частотой. Когда после одного из них миссис Баррент просила священника соборовать ее, явилась Джой с письмом от Кати, в котором сообщалось, что сестра Нины Николаевны жива, бедствует, получая гроши за работу вахтером, и не имеет возможности даже купить себе необходимые лекарства. Реакция Нины Николаевны была незамедлительной. Она продиктовала письмо своей сестре, выписала чек на приличную сумму и поручила Адаму срочно переправить все в Москву. Ночью ей стало хуже. Она распорядилась послать за своим юристом. Мистер Стоун, всю жизнь ведший дела супругов Баррент, оказался настолько любезен, что несколько недель назад даже прислал подробный рассказ о последнем свидании с госпожой Баррент. Так получилось, что дядя Глеба Сергеева, мистер Холгейт, связался с ним по телефону из посольства ровно через неделю после смерти Нины Николаевны Оболенской.
Вот письмо господина Стоуна. Перевода нет, поэтому, как смогу, сделаю это сама. Начало пропускаю — тут поздравления мистера Холгейта с Рождеством и всякое такое, что не относится к делу. Он пишет:
«Госпожа Нина Баррент была очень плоха, когда ее друзья, замечательные врачи, опекающие ее после смерти господина Баррента, привезли меня к ней.
Как объяснили мне по дороге, у нее начался отек легких и жить ей оставалось совсем мало.
Миссис Баррент пожелала немедленно составить завещание на имя ее родной сестры Елены Николаевны Оболенской. Мне, как юристу, требовалось время, чтобы уточнить наличие ее сестры, узнать адрес, по которому она проживает. Но за меня уже сделали эту работу Адам и Джой. У них на руках оказались все необходимые документы, удостоверяющие личность Елены Николаевны Оболенской: копия ее паспорта, заверенная московской нотариальной конторой, справка с места работы и даже фотографии. Их было несколько. Одна растрогала меня до слез. Две прекрасных молодых девушки — одна из них, собственно, совсем девочка — обнимали друг друга за плечи на фоне Эйфелевой башни, и их сияющие радостные лица, казалось, кричали парижским прохожим и всему белому свету о неподвластности времени, о торжествующей не преходящести их вечной весны…»
Алена недовольно поморщилась своему неловкому переводу и перевернула лист исписанной бумаги.
«Госпожа Нина Баррент увидела эту фотографию впервые: чета Ламберти щадила ее сердце, но теперь ей все равно уже ничем нельзя было помочь. Миссис Баррент долго всматривалась в другую фотографию, с которой смотрели грустные глаза худой старой женщины. «Боже мой, боже мой… Леночка, какие же мы с тобой стали…» Это были ее последние слова.
Двадцать миллионов долларов госпожа Баррент завещала своей сестре. Пятьдесят миллионов — монастырю, в котором она провела больше года. И огромную сумму она оставила своей компаньонке Марии Кохановской, нежно заботившейся о ней до самого конца…»
Алена замолчала и пробежала глазами остаток текста.
— Ну вот, собственно, и все… Удача, как вы видите, сопутствовала задуманному, и, вероятно, они бы получили миллионы. Но эта своевольная «госпожа» не всегда только воодушевляет… иногда она развращает. Катя перешла грань… она была в упоении от своей вседозволенности. Но тут подвернулась Энекен…
— Да уж, этот дикий сюжет ни в какие ворота не лезет! — Гладышев встал и, размахивая руками, заговорил, как всегда, громко и развязно: — Я лично никогда не поверю, чтобы дохлая Воробьева сумела выкинуть в окно Энку, в которой было килограммов восемьдесят, не меньше.
— А ты ее взвешивал? — взорвалась почему-то Маша Кравчук.
— Взвешивал-не взвешивал… а Воробьева бы точно с ней не справилась. И вообще, что эта дурища нашла в хлипком красавчике, близоруком, как последний крот?
— А ты что в нем нашел? — тут же среагировала Маша. — На юбилее глаз с него не сводил, смотреть было противно. И потом, Гладышев, где твоя хваленая проницательность? Ты единственный, кто с Адамом… то есть Воробьевой, лицом к лицу беседовал. И где же была твоя интуиция?
Как ни странно, Гладышев не обиделся. Он тяжело, протяжно вздохнул и, примиряюще глядя на Машу, честно признался:
— Моя проницательность покоилась на дне литровой бутылки виски, которую я в честь праздника употребил единолично… А потом еще коньячком ее добил, мою интуицию…
Алена поймала себя на мысли, что была бы сейчас не прочь очутиться в опостылевшей палате, забраться под хрустящее от чистоты белье и уснуть крепко и надолго. Однако усилием воли заставила себя вновь заговорить:
— Энекен Прайс была единственным человеком, никогда не видевшим Кати Воробьевой. Именно поэтому соображения «на кого-то похож», «кого-то отдаленно, смутно напоминает» для нее отсутствовали напрочь. Она просто вошла в зал и остолбенела от того, что по сцене ходил… Адам. Надо признаться, на этом прогоне Катя действительно, как никогда, напоминала своего близнеца иного пола. Я попросила гримеров сделать ей поярче глаза, и Валюша не поскупилась на голубые тени. Белые волосы в розоватом свете той сцены, которую видела Энекен, стали золотистыми, а кожаные брюки и куртка делали ее облик мальчишеским. Мне сразу это бросилось в глаза, и поэтому, увидев потрясенное лицо Энекен и взгляд Кати, зафиксировавшей ее реакцию и даже слегка запутавшейся от этого в тексте, я поняла, что быть беде.
Здесь я вынуждена сделать небольшое отступление. Зная от Кати, что Стивен Страйд улетел в Штаты и вернется только после Нового года, к нашему Рождеству, я ошибочно исключила его из этой гнусной истории…
— Извините, Алена Владимировна, а почему именно к этому моменту вы уже были уверены, что Адам — это Катя? Ее брелок? — перебил ее Гладышев. — Ведь эскизы костюмов Виолы и Себастьяна были позже.
— Святой великомученик Пантелеймон помог, — усмехнулась Алена. — Брелок к тому времени я в самом деле уже обнаружила в Катиной гримерной. Но голубая линза пока никак не работала в цепочке Катя — Адам. Вечером накануне спектакля, на который пришла Энекен, судьбе было угодно так распорядиться, чтобы я очутилась в удивительной домашней часовне у иконы святого Пантелеймона — покровителя болящих и врачующих. Я напомню вам эту икону. На ней худенький кареглазый юноша с одухотворенным лицом держит ложечку в правой руке. Я стояла у этой иконы и молила Спасителя, Богородицу, всех святых помочь распутать тайну убийства Оболенской. И вдруг пламя свечи, стоящей перед ликом святого, качнулось, словно ветерок пронесся по часовне, и отсветом голубого оклада иконы затрепетал в глазах Христова врачующего мальчика небесно-голубым подрагивающим светом…
Кто ведает, какие невероятные контакты осуществляет Господь в такие минуты, какие знаки посылает нам Своей милостью… Или это душа Елены Николаевны Оболенской тихо откликнулась и прошептала имя своего убийцы. Так или иначе, но только тогда голубые линзы, призванные замаскировать истинный цвет глаз, сделались для меня неоспоримой уликой.
Не знаю, ответила ли я на твой вопрос, Валера, но на мой вопрос о том, кто помогает Кате, если Стивена нет в Москве, ответил тоже случай.
Я не очень уведу вас в сторону, если расскажу, что сестре Глеба Сергеева должны были делать операцию в Центре пластической хирургии. Она сильно обгорела во время пожара, и нужен был классный, опытный хирург. Люсина тетя, супруга того самого мистера Холгейта из американского посольства, нашла такого хирурга опять же через своего мужа. Люся мне взахлеб рассказывала об американском враче, консультирующем в московской клинике и изредка принимающем участие в наиболее сложных операциях, и я спросила его имя. Внешность, которую описала Люся, один к одному совпадала с внешностью Стивена. Но имя было другое. Хирурга звали Адам Ламберти. Адам! Тут уже пахло мистикой. Я попросила Глеба незаметно, чтобы хирург не узнал его, удостовериться в том, что это и есть Стивен Страйд. Он выполнил мою просьбу — и стало ясно, что Стивен не покидал Москвы. Он был здесь, рядом с Катей…
Мы остановились на Энекен. Ее всегда поражало все необычное. Почувствовав неординарность молодого человека, случайно встреченного во дворе театра, да еще нафантазировав про его имя — первого человека на земле, она влюбилась и сообщила об этом своей подруге Жене Трембич.
Можно себе представить, какой восторг испытала Катя, породив абсурдную ситуацию своим уникальным даром выдавать себя за другого человека, к тому же противоположного пола. Теперь ее вел чистый азарт. Азарт игры, азарт риска… Она скрыла и от мужа, и от Джой, что встречалась с Энекен дважды, и даже подарила ей на прощание букет белых лилий; чтобы красиво дополнить тот образ, который так гениально играла.
Алена вновь вспомнила маленькую нежную оспинку с застрявшей в ней ресничкой на мертвом лице Энекен и почувствовала, что ее знобит. Наверное, надо было подняться к себе в кабинет, выпить таблетку, прилечь на диван и отдохнуть. Но на нее смотрели с ожиданием и надеждой множество знакомых глаз.
— Катя опомнилась только тогда, когда услышала от Энекен по телефону, что та на следующий день будет в Москве, — продолжала Алена. — Пришлось признаваться Адаму и Джой в непозволительном авантюризме. Кате категорически запретили видеться с эстонкой. Только сообщить в Таллин, что ей заказан номер в гостинице «Россия», где в разных крыльях жили Адам и Джой, и исчезнуть.
Но Энекен забежала в театр передать Нине Евгеньевне настойку для Инги и увидела на сцене Катю. Их глаза встретились. Теперь надо было что-то срочно предпринимать. Сева недалек от истины, называя Катю великой актрисой. Та вера в предлагаемые обстоятельства, которой учат актеров, в ее природе была врожденной. Лишь слегка запутавшись в тексте, она ни на секунду не переставала быть тем персонажем, которого играла в «Столичной штучке». Это был исключительный дар, близкий к патологии. Думаю, Джой в ее лице имела легкого пациента. Надо было лишь умело подтолкнуть ее в образ внука Оболенской. Севка утверждал, что Катя была закодирована. Возможно. Я не знаю тонкостей психотерапевтической практики. Но как режиссер, работавший с этой актрисой, могу сказать точно: чувство правды, предлагаемой для образа, было для нее органичней и естественней правды жизни. Правда игры, театра, высокого лицедейства управляли ее актерским аппаратом, отсекая возможность малейшего сомнения в другой логике, в другом способе мышления, другом поведении для заданного персонажа, ставшего ее сутью, ее вторым «Я».
Вы не знаете еще одного обстоятельства, потрясшего меня до глубины души. В заключении патологоанатомов нет утверждения, что рана должна была повлечь смерть. Извини, Максим, я знаю, как больно тебе ворошить эту тему, но и не говорить об этом нельзя. Катя могла бы жить, если бы не приняла всей правдой своего уникального актерского дара неизбежность смерти бесприданницы Ларисы.
Я всегда говорю актерам на репетициях о том, что возможности и силы человеческой природы воистину безграничны, если тобой управляет безусловная вера. Вера в необходимость поступка, вера в другого человека, вера в себя… Примером тому служение апостолов Христу, других великих святых, верой исцеляющих плоть и поднимающих со смертного одра… Другое дело, когда такая вера направлена во зло, когда она извращена и устремлена против человечности.
Валера усомнился в том, что худая, слабая Воробьева могла выбросить в окно сильную, рослую Энекен. Но даже медицина признает тот факт, что в состоянии аффекта человек может совершать противоестественное. А Катя, безусловно, находилась в состоянии аффекта…
Моментально сообразив, какая опасность грозит их плану, поделись Энекен хоть с одной живой душой, как обвела ее вокруг пальца актриса Воробьева, во время паузы в спектакле Катя пишет Энекен записку от моего имени: «Эне, срочно возвращайся к себе в гостиницу. Я буду у тебя через час. Никому ни звука. Это крайне важно. Алена». Взбудораженной Энекен, ожидающей следующего появления на сцене своего «первого мужчины», передает записку прямо в зрительном зале Севка. Ни тот ни другой не придают этому особого значения, лишь обмениваются легким кивком головы в знак приветствия…
Энекен, привыкшая доверять мне неукоснительно, послушно едет в гостиницу, думая, что, видимо, Ковалева уже успела сообщить мне о месте ее обитания…
— Подождите секундочку, Алена Владимировна, — вдруг взволнованно завопил Гладышев. — Я настолько… я просто уничтожен тем, что вы сказали, я… даже не могу собраться и слушать дальше.
— А до тебя всегда, как до жирафа, — на третьи сутки, — не упустила возможности ввязаться в диалог извечный его оппонент Маша Кравчук. — Все давно все переварили — один ты пробуксовываешь… Тормоз…
— За «тормоз» ответишь, — охотно пообещал Гладышев. — Придется Трембич делиться с тобой бальзамом для волос.
— Трепещу от ужаса! — всплеснула руками Маша, но Шкафендра зыркнул на нее неодобрительно, и она замолчала.
«Ей-богу, как дети, — устало подумала Алена, опять не вмешиваясь в их мгновенную перепалку. — Ну какой взрослый будет вот так по-детски заводиться из-за ерунды, выяснять отношения, обижаться… Вот про то и речь, что актер сродни ребенку с его абсолютной верой в игру и предлагаемые обстоятельства… Они устали, и главным становится уже не главное, а какая-то пустяковина…»
— Это что же получается, Алена Владимировна, — продолжил Гладышев и опасливо метнул быстрый взгляд на Машу. — Вот-вот, правильно, вы свою супругу-то попридержите, Валентин Глебыч, а то у нее реакции неадекватные.
— Причем исключительно на тебя, — немедленно отозвалась Маша.
— К чему бы это? Учти, так долго подавлять свою страсть вредно для организма! Извини, но ответить взаимностью — не могу, — с удовольствием парировал Гладышев.
— Бог ты мой! Навоображал-то! Нарцисс полуденный!
Шкафендра перекрыл широкой ладонью нижнюю половину Машиного лица, и все невольно заулыбались, даже послышались редкие смешки.
Гладышев подошел к Алене и спросил отчаянным голосом:
— Получается… Катя могла не умирать?
Алена вздохнула, нежно взлохматила волосы взволнованного Валеры и тихо ответила:
— Да.
В зале вновь воцарилась тишина, от которой звенит в ушах. Казалось, люди перестали дышать и сердечная боль и недоумение подменили на время работу легких.
— Возможно, каким-то уголком угасающего сознания она понимала, что несет наказание… заслуженное наказание за убийства людей, желавших ей только добра. И… не сопротивлялась смерти? — Гладышев вопросительно глядел на Алену, как глядят пятерочники-первоклашки на свою учительницу.
— Возможно. — Голос Алены прозвучал так тихо, что все вдруг поняли, как она устала.
— Давайте устроим небольшой перерыв, — предложил Валентин Глебович.
Все согласно загудели, но Алена отрицательно мотнула головой.
— Давайте потерпим еще совсем чуть-чуть. Через час у нас назначен худсовет. Вот перед ним и передохнем. Вот только… мне бы полстакана воды — запить таблетку. Нет-нет, не потому, что я себя плохо чувствую, просто по времени полагается ее принять…
Мы остановились на том, что Энекен послушно отправилась в гостиницу ждать моего прихода. — Алена знобко передернула плечами и помолчала. Потом взяла из рук Мити воду и запила лекарство. — Перепуганная Катя позвонила по мобильнику Стивену… верней Адаму… короче, позвонила своему мужу и сообщила, что надо перехватить после прогона Женю Трембич: ей может быть известно, где остановилась Энекен, так как та ненадолго забегала в театр. Со всем остальным Воробьева предпочла справиться в одиночку. После спектакля Миша повез ее на служебной машине в поликлинику. По дороге их преследовал черный джип, которым мастерски управляла Джой, и это нагнало на бедного Мишу такого страху, что он в тоннеле мысленно уже попрощался с жизнью.
— Да уж! Когда на тебя такой танк прет на скорости, а справа лишь бетонный парапет, тут вспотеешь… А почему вы решили, что этим джипом баба управляла? — обиделся вдруг Миша. — Там же мог быть этот… американец?!
Алена отрицательно покачала головой.
— Стивен в то время охмурял Женю Трембич, высадив ее из такси, в котором она мчалась на Юго-запад к дальним родственникам Энекен в надежде на то, что она остановилась у них… По стечению обстоятельств я позже села в то же такси, и водитель мне поведал, как у светофора высокий мужчина в пальто с поднятым воротником и темных очках вылез из машины и, сделав знак Жене открутить боковое стекло, о чем-то переговорил с ней, после чего пассажирка в радостном возбуждении от встречи извинилась перед таксистом и пересела в машину незнакомца.
— Так это тот таксист, который искал вас, когда вы были в больнице?! — воскликнул Максим Нечаев. — Он приходил в театр… такой скуластый, с раскосыми глазами.
— Правильно, — подтвердила Алена. — Он хотел мне сообщить, что несколько дней спустя видел того же типа, поджидавшего на улице, как он выразился, «вертлявого паренька в очках и с длинными волосами».
— И кто же его расколол? — удивился Максим. — Нам он ничего не пожелал рассказывать.
— Ко всем свой подход нужен, — усмехнулась Алена. — Вы же ему сразу стали угрожать, а человек был не в курсе, кому что можно говорить, а для кого его информация будет иметь печальные последствия. Он все выложил Глебу Сергееву, который догнал его возле театра. По словам таксиста, тип довез паренька к задам театра, куда выходят окна реквизиторского цеха и пошивочных мастерских, высадил его там, и тут парень повел себя странно — вместо того чтобы, как все люди, войти во двор с противоположной стороны, перелез через изгородь…
— Это было, когда на вас штанкет рухнул! — вскрикнула Мальвина. — Ужас какой! Севка тогда видел, как она вышла переодетая из дома…
— Да, именно так. — Алена задумчиво поплескала в стакане остатками воды. — Сегодня Сева сказал мне то, о чем забыл написать в письме… Когда Катя, увидев меня без сознания под штанкетом, лишилась чувств (насколько подлинным был ее обморок, сейчас уже никто не узнает), так вот Севка заметил, что на переднем Катином зубе зияет та самая щербинка, которую в юбилейный вечер, тщательно изучая лицо молодого человека, вызвавшего в нем целую бурю ощущений, он заметил во рту Адама. Видимо, она забыла или не успела снять искусно смоделированный Стивеном ряд искусственных зубов, который изменял визуально прикус и демонстрировал такую запоминающуюся деталь, как слегка надломленный передний зуб. Катя спохватилась, проследив за Севкиным взглядом, и тогда последовала та ночь любви, о которой писал в письме Сева.
— Но ведь это… это уже не от лица Адама позволила себе Катя?! Это же гнусный, подлый, циничный расчет, — разразилась Валюша-бубенчик. — Он ведь боготворил ее!
Алена жестко прервала Валюшин эмоциональный монолог.
— Не будем раскладывать на составные морально-этический облик Кати Воробьевой. Оставим это.
— Да боже мой! Когда перед тобой маячат десятки миллионов долларов! Тут уж не до добродетели… в наше-то время, — глубокомысленно изрек Гладышев и покосился на Машу Кравчук, но та на сей раз великодушно промолчала.
— Ну все, все. Давайте продолжим, — сказала Алена. Она потерла виски и попыталась вернуть своему повествованию временную последовательность. — Миша доставил Катю в поликлинику якобы на контрольный снимок ноги, но она сразу выбежала предупредить, что очередь не менее чем на два часа, и предложила ему съездить пока куда-нибудь. Ей совершенно не нужно было, чтобы он дежурил у входа в поликлинику.
— Не поехал я никуда… У меня тогда руки тряслись полдня. Но от входа я, правда, отъехал — просто чтобы не мешать другим машинам. Да если бы и остался на месте, честно говоря, никакого Адама все равно не заметил бы. Потом — кто знает? Возможно, там и другой выход был…
— Скажи, пожалуйста, Миша, а когда спустя два часа Катя вернулась и села рядом с тобой, ты ничего такого… необычного… в ней не заметил? — спросила Галя Бурьянова и дрожащим голосом добавила: — Ведь у нее уже руки были в крови убитого ею человека.
— Никакой крови там не было, — восприняв образ завлита буквально, возразила Нина Евгеньевна. — По заключению, обнаружены следы на шее — она пыталась задушить Энекен — и сильный удар по затылочной части головы тяжелым предметом.
— Вот тяжелый предмет в ее рюкзачке был — это точно, — возбужденно проговорил Миша. — Подозрительного в ней я ничего не углядел… разве только села она почему-то не рядом со мной, а сзади и рюкзак свой в машине забыла, когда к театру подкатили. Я тогда схватил его, чтобы догнать Катю и отдать, и удивился его весу. Еще подумал: «Кирпичи, что ли, она с собой носит?»
Алена взглянула на часы и продолжила:
— Мы подошли к тому, что, когда убрали Энекен, главную опасность для этих троих людей стала представлять я.
В тот день, когда Ольга Белова принесла такое неоспоримое, внятное, наглядное доказательство тому, что Катя и Адам — это одно и то же лицо, я постаралась сделать так, чтобы никто не увидел этих эскизов. Тогда слишком многое было неясно. Единственный человек, который знал абсолютно все, был Михаил Михайлович Егорычев, и я сразу сообщила ему по телефону и эту новость. Он к тому времени уже вышел на Интерпол, и история княжны Нины Оболенской начинала обретать некоторую ясность. Я не успела ему сказать только одного. Хотела перезвонить дяде Мише позже — и оказалась на неделю вырубленной из жизни. Так вот, не сказала ему, что Ольга Белова показала эскизы Кате и теперь на очереди моя жизнь…
Хотя мне всегда были чужды какие-либо иллюзии, этот раз оказался исключением. Я не могла поверить тому, что Катина рука может подняться на меня. Наверное, наша с ней совместная творческая жизнь, та воистину уникальная связь, которая так нечасто возникает между режиссером и актрисой, может взорваться таким уродством…
Следующий день был для меня настоящим кошмаром. Перед глазами неотступно стояла Энекен — то живая, красивая, наивная мечтательница, то всплывало ее мертвое лицо, которое смерть еще не успела обезобразить. Я понимала, что сообщать об этой трагедии перед спектаклем никак нельзя, надо было держать это в себе. С другой стороны, на протяжении двух часов я видела перед собой на сцене ее убийцу. А Воробьева еще никогда так блестяще не играла свою роль в «Столичной штучке»; я глядела на нее из зала и вспоминала, как мы работали с ней над образом Яны, убивающей своего возлюбленного и его сестру. Я предлагала более мягкий рисунок для образа Катиной героини, даже преувеличенно мягкий, чтобы зрители испытали подлинный шок, узнав, что это милое, женственное создание — хладнокровный, безжалостный убийца… Катя не поддавалась мне до конца и находила в роли кусочки, где все же умудрялась насторожить и дать понять, что не так уж она проста. Но на том спектакле она целиком выполняла мои указания. Убойное обаяние, тихий обволакивающий смех, никаких резких ходов — все в полутонах, в недосказанности, в мягкой грациозной пластике… На предыдущих прогонах после совершенного героиней убийства ее глаза буквально горели торжеством и безумием зла, в этот раз она подняла вверх полные слез глаза и беззвучно, беспомощно что-то шептала неповинующимися, дрожащими губами. Выйдя на поклон, она встретилась со мной взглядом, и ее мокрые глаза благодарно улыбнулись…
Сообщая после спектакля всем вот в этом самом зале об убийстве Энекен — верней о самоубийстве, я боковым зрением все время видела Катю. Она сидела возле бокового прохода с опущенной вниз головой, и пряди распущенных волос скрывали лицо.
Когда все разошлись, меня покинули силы и я даже заснула в кресле в своем кабинете. Разбудил звонок местного телефона. Звонил Митя Травкин…
— Кто? Я? — Митя вскочил с места и ошарашенно смотрел на Алену вытаращенными глазами. — Да меня и в театре-то не было…
— Ну правильно, — успокоила его Алена. — Но я-то про это не знала… Я со сна, голос искажен помехами — все знают, что в реквизиторском телефон работает ужасно… Я спустилась на сцену, чтобы, по предложению якобы Мити, уточнить мизансцену с креслом-качалкой. Побродила в одиночестве по выгородке, крикнула Мите, что я на сцене, села в качалку и тогда услышала на колосниках шаги. Подняла голову. Последнее, что зафиксировало мое сознание, — обезображенное ненавистью и злобой лицо внука Оболенской…
— Да-а… Нет слов! — Голос Валентина Глебыча прозвучал глухо и хрипло. — Но ведь… какой же опасности вы подвергались в больнице… Стивен — известный авторитетный врач, потом эта Джой могла проникнуть к вам, прикинувшись хоть родной матерью…
Алена усмехнулась.
— Думаю, что это входило в их планы. Но мой дядя Миша Егорычев персонально с каждой бригадой реанимации, где я лежала, говорил об этом. Меня берегли, как зеницу ока. Я, правда, об этом ничего не знала. Из клиники Стивена справлялись о моем состоянии по нескольку раз в день. Отслеживали всех посетителей — поэтому и досталось Глебу и Максиму Нечаеву.
Когда я пришла в сознание, то сразу поняла, что надо тянуть время. Этим я облегчала работу Егорычева. Адам и Джой считали себя в полной безопасности, пока я была без сознания, а потом находилась в амнезии.
Визит доктора Ламберти, естественно, не застал меня врасплох, но я видела, что его что-то насторожило. Не знаю что… До сих пор не знаю. Каким-то своим обостренным чутьем он понял, что я симулирую отсутствие памяти. Не исключено, что Джой составила ему тест, и он, задавая вопросы, по моим ответам сумел докопаться до истинного положения вещей. Я почувствовала это, и вот тогда у меня началась паника. Как назло, вырубился телефон Егорычева. Пришлось отправлять к нему Глеба Сергеева под прикрытием вооруженного Максима… Дальше вы все знаете.
— А действительно ли этот Адам Ламберти — такой уж замечательный врач? Да и врач ли вообще? — спросила вдруг с подозрением Сколопендра.
— В самом деле врач. Пластический хирург и воистину имеет золотые руки, — утвердительно кивнула Алена. — Я вам рассказывала, что волею судеб сестра Глеба Сергеева попала в его руки. После пожара у нее вообще не было лица… обгоревший кусок мяса. Я видела ее вчера. То, что он сумел сделать, — это высший пилотаж. Люся теперь прекраснейшая из женщин.
— Это что же получается, — задумчиво произнесла Маша Кравчук, — все эти люди были наделены свыше потрясающими талантами. Они могли бы принести столько добра и пользы, а в результате объединились, чтобы совершить страшные преступления, причинить столько горя и боли… Невероятно… И что же, их мозговой центр — эта Джой? Она ведь жива?
— Она жива. Пока в больнице. Естественно, под охраной органов. Мне обещали свидание с ней. — Алена хотела еще что-то добавить, но почувствовала, что сейчас потеряет сознание. Перед глазами поплыли черные круги, во рту пересохло. Она резко откинулась на спинку стула… Максим Нечаев вовремя подхватил ее на руки и в сопровождении Ковалевой перенес на диван в актерскую комнату отдыха.
— Сейчас все пройдет, — слабо улыбнулась Алена. — Прожить весь этот кошмар еще раз оказалось не так-то просто…
…Был уже поздний вечер, когда Алена в сопровождении Максима, который никак не хотел оставлять ее одну, спустилась на служебный вход. Алена уговаривала его заняться своими делами и в доказательство, что прекрасно себя чувствует, даже пробежалась вприпрыжку по коридору, но Максим оставался непреклонен.
— Я дал слово Глебу до его возвращения из Питера держать вас в поле зрения, — упрямо повторял Максим. — Я и ночевать у вас собираюсь, — добавил он безапелляционно. При этом у него был такой смешной и трогательный вид, что Алена громко, заразительно рассмеялась.
На ее смех в дверь заглянула Ковалева.
— Очень хорошо, что я не упустила вас, Алена Владимировна. Мне бы хотелось вас на пару минут.
— Можно? Всего на пять минут? — просительным голосом с улыбкой обратилась Алена к Максиму.
— На пять, но не больше, — великодушно позволил Максим. — Я пошел греть машину.
— Алена Владимировна, — озадаченно произнесла Ковалева. — Вы уж извините, что я вовлекаю вас в чисто кадровый вопрос, но… дело в том, что после гибели Оболенской место вахтера так и пустует. Это осложняет жизнь остальных дежурных. И вот сегодня в отдел кадров явилась довольно милая пожилая дама. Хочет устроиться к нам вахтером.
— Ну так и о чем речь? Прекрасно.
— Прекрасно-то прекрасно. Но опять… как будто из бывших князей. Фамилия ее Шаховская. Я сразу поинтересовалась, имеет ли она отношение к знаменитому роду… Ну и оказалось, что имеет…
Алена покрутила головой и обняла за плечи Нину Евгеньевну.
— Ох, уж воистину у страха глаза велики. Значит, появится в коллективе интеллигентный человек… Дай Бог, чтобы всеми качествами походила на Елену Николаевну.
— Значит, благословляете?
— Безусловно. — Алена направилась к двери и уже с порога спросила: — Я правильно поняла сегодняшнее отсутствие Инги? Ей ведь надо избегать любых стрессов…
Ковалева благодарно улыбнулась Алене:
— Именно так.
Максим уже выгнал разогретую машину из двора, и она урчала, выпуская в холодный воздух клубы сизого дыма.
Алена двинулась к воротам и вдруг вздрогнула и остановилась. От заметенных снегом кустов отделилась длинная фигура. Тусклый свет фонаря выхватил из темноты раскиданные по плечам пряди прямых белых волос. Губы Алены судорожно дернулись, чтобы назвать имя той, чей мучительный, зловещий образ, вызванный, как в спиритическом сеансе, из преисподней, весь день трагическим ореолом царил над театром. Но девушка сделала шаг вперед и откинула волосы с затаенного темнотой лица. Из-под прямой челки диковатым светом полыхнули зеленые глаза с яркими тенями на веках. Слегка передернув плечами не то от холода, не то от досады, она заговорила низким хорошо управляемым голосом.
— Здравствуйте, Алена Владимировна. Извините за неожиданный визит… Меня зовут Ольга Соцкая. Я племянница Глеба Сергеева.
— Господи! — Алена от неожиданности даже поперхнулась и закашлялась. Из машины тут же показался Максим и в бдительно-выжидающей позе встал в воротах.
Девушка обернулась на возникшего Максима и вопросительно посмотрела на Алену.
— Не обращайте внимания, — глухо усмехнулась Алена. — У нас тут… небольшой дурдом. Все за всеми следят, все всех подозревают и, соответственно, охраняют. — Алена пристальным взглядом обвела красивое, чуть надменное лицо Ольги. — Почему вы ждали на улице? Хотите, вернемся в театр?
— Именно потому, что у вас слегка дурдом, я решила подождать вас здесь. Тем более я бы не хотела, чтобы о моем появлении узнали мама и Глеб… Я вас не задержу надолго.
— Да ничего, мне как раз полезно продышаться… У вас фамилия польская…
— Да, папа же наполовину поляк. Мне это оказалось выгодно — без звука взяли в знаменитую киношколу в Лодзи… Эти поляки, они о русских и слышать не хотят.
— А Глеб говорил, что вы мечтали учиться в Сорбонне.
— Мечтам свойственно меняться, — неохотно ответила Ольга. — Я проучилась год в Лодзи, потом сбежала оттуда и занималась в Париже в частной актерской школе при «Комеди Франсэз». Теперь понимаете смысл моего появления?
Ольга подпрыгнула, ловким движением сбила с пушистой сосновой ветки шапку снега прямо себе на голову и довольно рассмеялась.
Алена, с улыбкой наблюдая за девушкой, ответила через паузу:
— Теперь понимаю. А почему об этом не должны знать мама и Глеб?
Ольга слизнула с кончиков пальцев снег и удивленно заметила:
— Ну как же? Если я вам не подойду — значит, этого эпизода и не было… Зачем родственникам зазря нервы трепать?
— Понятно. Что вы можете показать? — спросила Алена.
— Если дадите в партнеры… ну хотя бы вот этого… — она кивнула в сторону Максима, — могу сыграть сцену из «Трех сестер» — Маша — Вершинин. На французском могу прочесть монолог Антигоны… это моя школьная работа, ну и еще сыграть Чудище из «Аленького цветочка» — это мой любимый образ с детства, и я осваиваю его актерски всю жизнь.
— И сколько лет всей вашей жизни? — поинтересовалась Алена.
— Да уж не первой молодости. Двадцать, — искренне вздохнула Ольга.
— Хорошо. Сейчас поговорим с Максимом, и как только сочтете возможным — приходите… Как себя чувствует мама?
Ольга поежилась.
— Никак не может привыкнуть к своему новому лицу. Я, честно говоря, тоже. Мама же была абсолютно другая… У нее после операции изменилось даже выражение глаз. Ну вы же видели?
— Да, я навещала ее. Но… я никогда не видела прежнего лица, поэтому мне проще.
— Ах да! — воскликнула Ольга. — Ну конечно же! Ее то… прежнее лицо было намного мягче, менее определенным оно было, что ли… Но он, конечно, блестящий хирург… хотя и оказался хорошей сволочью… Царствие ему небесное!
Алена подвела Ольгу к Максиму и, в двух словах объяснив ситуацию и обговорив день и час их встречи, предложила девушке сесть в машину.
— Мне здесь рядом, — отказалась Ольга. — Я лучше пройдусь.
Она махнула на прощание рукой и быстрым шагом направилась в противоположную сторону.
— Постарайся поскорей сделать с ней «Три сестры», Максим, — попросила Алена, провожая взглядом ее длинную тонкую фигуру с чуть подпрыгивающей выворотной балетной походкой. — Нам срочно нужна актриса. Чем черт не шутит…
— По-моему, в ней что-то есть… Забавная… — отозвался Максим.
— Ну, это посмотрим… — осторожно ответила Алена.
«Смотреть» пришлось совсем недолго. Уже на следующий день Максим доложил Алене, что если она отнесется к нему со снисхождением в роли Вершинина, то они с Ольгой могут завтра сыграть отрывок.
— Так быстро? — удивилась Алена.
— Больше не могу. Она меня замучила. Утверждает, что эта сцена настолько сексуальна, что надо отбросить всякие комплексы. Требует, чтобы я раздевал ее.
— Ну правильно, они же оба — и Маша, и Вершинин — с первого мгновения оказались заложниками сумасшедшей страсти, и это чувство усугубляется полной обреченностью… а от этого оно еще неотвратимей.
— Я понимаю, — уныло согласился Максим. — Но я же практически с ней незнаком. Как я могу раздевать ее, да еще как она того хочет — догола! У нее школа другая, ей проще.
— Школа здесь ни при чем. Привыкли, что я вас раскочегариваю месяцами. Ты же киношный артист. Представь себе, что ты на съемочной площадке.
— С ней не могу. — Максим в отчаянии покрутил головой. — Она как уставится своими зелеными «блюдцами» — я сразу текст забываю… К тому же и умная чересчур. Но придира. Единственное, в чем я ей не уступаю, — это в пластике. Она, оказывается, хореографическое училище при Большом закончила. А я Вагановское в Питере. Так что здесь она меня не обскочит.
Алена с изумлением смотрела на Максима. Всегда спокойный, уверенный в себе, он, казалось, никак не мог собраться. Может, влюбился — вот так, с первого взгляда, и уже несет этот крест, сам пока не догадываясь об этом…
На следующий день Ольга Соцкая была единогласным решением худсовета принята в труппу театра.
С утра они с Максимом сыграли для одной Алены отрывок из «Трех сестер», и она поразилась раскованному, почти бесстыдному существованию юной актрисы в этом сложном и для зрелых мастеров эпизоде. Ее Маша — порывистая, искренняя, страстная — так убедительно лидировала в любовном дуэте, что Алене даже стало жалко Максима, который никак не «догонял» свою партнершу. Впрочем, Вершинин вполне мог пасовать перед дорвавшейся до своего первого в жизни чувства Машей.
Темпераментно програссировав монолог Антигоны, в котором не владеющая французским Алена не поняла ни одного слова, Ольга перешла к Чудищу. Тут уж и Алена, и созванный ею двумя часами позже худсовет плакал и хохотал до слез. Используя густые низы своего сильного голоса, Ольга умудрилась сыграть одновременно и дикое животное, и нежного принца, живущего в его облике. Казалось, ей удалось воплотить всю свою детскую любовь и сострадание к заколдованному юноше. Она рычала, каталась в бешенстве по полу, нюхала и целовала бутафорский аленький цветочек, а потом, обратившись в принца, под «Песню Сольвейг» исполняла импровизированное адажио, протягивая тоненькие гибкие руки к воображаемому объекту своей любви.
Одним словом, Ольга Соцкая удивительным сочетанием зрелого страстного темперамента и абсолютно детской наивной трогательности очаровала весь худсовет.
— Да-а, — протянул задумчиво Шкафендра после того, как было решено вводить ее срочно на роли Воробьевой. — И ведь как на голову свалилась… Весьма провиденциально.
— Ну должно же нам хоть в чем-то повезти! — подвела черту Галя Бурьянова.
— Ты уверена, что тебе необходима эта встреча? — еще раз встревоженно спросил Глеб, минуя ворота с бюро пропусков и притормаживая у небольшого больничного корпуса.
— Уверена, — утвердительно кивнула Алена и засмеялась. — Это же больница, Глеб, а не тюрьма. Джой находится в палате, которая охраняется нашими бдительными органами по поручению Интерпола. Знаешь, как дяде Мише было трудно выбить мне это посещение? Не волнуйся ради Бога. Здесь не стреляют — здесь лечат… А ты давай расслабься, поброди по этим замечательным аллейкам. Помечтай, подумай о приятном. О том, что всего лишь через неделю твоя племянница будет царить на подмостках, запеленутая в твою музыку. Мог ли кто-нибудь предположить эдакое!
— Ты считаешь, что успокаиваешь меня подобным мурлыканьем, а на самом деле создаешь полную картину того, что, отправляясь в логово врага, ты усыпляешь мою бдительность, — мягко усмехнулся Глеб. — Иди, малыш, я жду.
Алена поднялась по крыльцу в просторный вестибюль, разделась, еще раз предъявила пропуск, выданный в прокуратуре, и направилась в указанное отделение.
Около палаты она помедлила и, оглянувшись по сторонам, перекрестилась.
Отворив дверь, она оказалась в просторной комнате, больше похожей на гостиничный номер, где в кресле у окна клевал носом над раскрытым журналом молодой белобрысый оперативник.
При появлении Алены он вскинул голову и уставился на нее покрасневшими подпухшими глазами.
— Слушаю вас? — привстал он. — Капитан Пантелеев.
Алена доброжелательно улыбнулась капитану и, протягивая свой пропуск, сказала:
— Добрый день. А я так удивилась, обнаружив в палате вместо больной симпатичного молодого человека.
Капитан неопределенно хмыкнул:
— Это вы, стало быть, от Егорычева? Пожалуйста. Он уже звонил с утра. Проходите… Только она, по-моему, спит.
Капитан кивнул на неплотно прикрытую дверь в смежную комнату. Алена перешагнула порог, так же неплотно притворяя ее за собой.
Изумленный возглас удалось сдержать лишь волевым усилием. Он застрял комком в горле, и от удушья на глаза выступили слезы.
На высокой хирургической кровати, упираясь спиной в большую взбитую подушку, сидела… Люся.
Алена опустилась на стул возле двери и какое-то время с волнением и досадой вглядывалась в знакомые черты этой женщины. Потом облизнула пересохшие губы и, стараясь говорить четко, спросила:
— Зачем… ему понадобилось повторить ваше лицо?
Американка подробно рассмотрела Алену лучистыми ярко-синими глазами и ответила по-русски с почти незаметным акцентом.
— Думаю, это была… его прихоть. Талантливый человек имеет иногда право на… подобные вольности. Не так ли?
— Не так! — Алена внутренне напружинилась, почувствовав едва уловимую издевательскую нотку, сквозившую и во взгляде, и в словах Джой. — На вольности имеет право человек свободной профессии — положим, художник или музыкант.
— Ну хорошо… Возможно, ему были так дороги эти черты, что руки сами сотворили подобие — без участия сознания. Мне не совсем понятен ваш пафос. Попробуйте отнестись к этому проще. Уверяю вас, никакого далеко идущего плана Адам не преследовал, когда случайно или умышленно, как вы сказали, «повторил мое лицо».
Алена подавленно молчала. Она смотрела на эту худенькую яркоглазую женщину с правильными, точно талантливым скульптором вылепленными чертами лица и думала о том, сколько вседозволенности несет в себе жизнь. Это лицо, рожденное на свет сложным путем генетических процессов, скопировал для другого существа своими уникальными руками хирург Адам Ламберти.
— Вас это застигло врасплох, — негромко произнесла Джой. — Вы пришли ко мне уж наверное не для того, чтобы обсуждать мое лицо или декларировать неправедность моего жизненного пути…
— Нет… Вам известно, что состоялась эксгумация тела госпожи Баррент? В Соединенных Штатах вас ждет обвинение в преднамеренном убийстве.
Черные густые ресницы Джой затрепетали, как крылья обессиленной осенней бабочки, и сомкнулись.
— Да… Мне это известно. — Ее глаза оставались закрытыми, и Алена поняла, что разговор отнимает у больной силы. — Ко мне никого не пускают, кроме адвоката и представителей американского посольства. Как вам это удалось?
— По блату. Мой родственник занимает крупный пост в Интерполе, — не задумываясь соврала Алена.
По телу Джой пробежала судорога, она открыла глаза и, взглядом что-то проверив в лице Алены, бесшумно придвинула к себе лежащие на тумбочке блокнот и ручку.
Покосившись на дверь, она начала что-то быстро писать, шепотом попросив Алену:
— Пожалуйста, что-нибудь говорите пока…
— В одной из ваших книг вы пишете о бездонности женского сердца, о том, что женщина жаждет целиком отдать себя другому. В этой жажде, как вы утверждаете, таится опасность порабощения, ибо ни один человек не в состоянии принять подобный дар. Только Бог может принять его без ущерба для личности отдающего… Катя очень любила Адама, и вы позволили этой любви встать на тот путь, который Воробьева прошла. Вы подтолкнули ее, и ущерб личности «отдающего» оказался оценен несколькими человеческими жизнями… Адам же всегда любил только вас…
— Да. — Джой осторожно вырвала исписанный листок из блокнота и знаком попросила Алену взять его. — Да, Адам любил меня… Но больше всего на свете он любил деньги. Этому идолу он был готов принести на алтарь любую жертву…
— А вы умело, извращенно потакали его главной слабости! — насмешливо сказала Алена, с напряжением вчитываясь в неразборчивый почерк Джой. Наконец подняла голову.
Их глаза встретились, и Алена отрицательно помотала головой.
Джой бессильно откинулась на подушку и вновь закрыла глаза.
В дверях бесшумно возник оперативник.
— Все в порядке. Она устала… Немножко отдохнет, еще поговорим, и я пойду, — пообещала Алена.
Капитан так же тихо вышел. Алена разгладила скомканную впопыхах записку, достала ручку и, подумав, написала несколько фраз на обратной стороне.
— Может, позвать врача? — Алена подошла к кровати и вложила записку в руку Джой. Та вздрогнула, подняла веки.
— Нет, нет, это просто от слабости. — Джой буквально впилась взглядом в листок.
Малышка приотворила дверь и с порога спросила оперативника:
— Можно от вас позвонить Михаилу Михайловичу?
Капитан молча сдвинул телефонный аппарат к краю стола.
— Алло, дядя Миша, это я. Да, еще в больнице. Джой себя неважно чувствует, мне бы не хотелось усугублять ее состояние. Сделаешь мне на завтра пропуск? Ну, пожалуйста… мне же ни о чем не удалось поговорить. Ну конечно…
Алена с очаровательной улыбкой протянула трубку оперативнику.
— Здравия желаю, товарищ полковник. Нет, завтра опять я. Он подменился на сутки. Так точно, товарищ полковник… Да я понимаю, искусство должно правдиво отражать жизнь… Тогда с вашей племянницы два билета на премьеру. — Капитан озорно поглядел на Алену. — Так точно, товарищ полковник.
Алена вернулась в палату, взяла из рук Джой новую записку. Прочла и, спрятав в карман, долго и напряженно смотрела на ее измученное, бледное, но от этого еще более красивое лицо. Джой также не сводила немигающих глаз с Алены.
— В начале своей медицинской карьеры, — заговорила негромко Джой, — я работала с крысами…
«Вот и продолжала бы и дальше с ними работать, — чуть не вырвалось у Алены. — Хищник с хищником — тогда никого не жалко…»
— Интеллект крыс ближе всего человеческому интеллекту. Только законы существования жестче, — продолжала Джой. — Когда одно семейство воюет с другим и силы уже на исходе, а позиции равные, тогда выходят два лидера — с одной и с другой стороны. Они встают на задние лапы и со смертельной ненавистью смотрят друг на друга, пока один из них не выдерживает направленной на него энергии и не падает бездыханно.
— Милая история. — Голос Алены прогудел жестко и саркастически. — Сожалею, что вы лежачая. У нас в России есть правило: лежачих не бьют, а то можно было бы уподобиться братьям нашим меньшим, тем более я с детства питаю симпатию к этим интеллектуальным тварям…
Она приблизилась к тумбочке Джой, склонилась к блокноту, нацарапала пару фраз и, отойдя к окну, отодвинула штору.
— У вас душно… Я приоткрою форточку… буквально пару глотков чистого воздуха.
Пока Джой читала, Алена скрылась за шторой и уже через минуту, заперев форточку на шпингалет, вернулась обратно, вынула из сумки какой-то предмет, предусмотрительно завернутый в мягкое полотенце, и бесшумно положила его под подушку Джой.
— В какое время мне лучше прийти завтра? — Алена вышла к оперу.
— Да хоть так же. Уже уходите? Давайте свой пропуск — отмечу… Товарищу полковнику передайте, что по этому завтра уже не пустят. Он разовый.
— Да, да, спасибо. Господи, сумку забыла.
Алена вернулась в палату, и капитан услышал, как посетительница пожелала американке поспать — это восстанавливает силы.
На следующий день точно в это же время Алена переступила порог комнаты, где, как и накануне, дежурил знакомый опер.
На сей раз капитан Пантелеев встретил ее без сдержанного неодобрения.
— Привет представителям искусства! — встал он ей навстречу и, взглянув на часы, заметил: — Ого! Точность — вежливость королей! Минута в минуту. — Он кивнул в сторону плотно закрытой двери в палату и с сожалением произнес: — Хуже ей стало ночью. Так что вряд ли ваше свидание состоится. Хотя из посольства американцы у нее с утра были. Недолго, правда.
— Как же так… — Алена присела на краешек стула рядом с капитаном. — Она вчера вроде бы была очень даже ничего. Слабость — это же естественно после ранения и операции. По себе знаю…
— Я в курсе вашей истории, — с явной симпатией сказал капитан. — И в общем-то мне понятен ваш интерес как творческого человека к этой американке… Пьесу будете сочинять?
— Ну да, попробуем, — неопределенно ответила Алена. — Значит, меня пускать не велено?
Капитан с сожалением развел руками:
— Без разрешения врача никак… Да и потом, есть ли смысл в вашей встрече, если она в полубессознательном состоянии.
— Вы правы! — Алена поднялась и, достав из сумочки листок бумаги, попросила у опера ручку. — Это вот мои телефоны — театральный и домашний. На любой спектакль в любом количественном составе всегда милости просим.
Алена попрощалась с капитаном, но через несколько минут снова просунула голову в дверь и спросила:
— Скажите, пожалуйста, а этот вот сегодняшний пропуск можно в следующий раз использовать, раз свидание не состоялось?
— Там указано число — поэтому вам его перепишут… Вы только предварительно звоните, чтобы впустую не ездить. Путь-то неблизкий. Знаете номер ординаторской?
Алена кивнула и еще раз поблагодарила капитана. Она оделась в гардеробе и вышла на улицу.
С высокого крыльца Малышка рассмотрела фигуру Глеба, вышагивающего по отдаленной заснеженной аллее. Она попятилась обратно к входу и, обогнув толстую колонну, спрыгнула сбоку прямо в сугроб. Прокралась вдоль здания больницы, торопливо повернула за угол…
Минут через десять Алена, запыхавшаяся и довольная, возникла перед Глебом, который стоял у машины.
— Ты что, по-пластунски по снегу ползала? — изумился Глеб, увидев, что она вся с головы до ног в снегу.
— Ага. Мы с опером Пантелеевым в партизанов играли, — радостно отозвалась Малышка. — Он изображал армию Колчака — ему по духу как-то гражданская война ближе, а я — мирное население, ушедшее в леса и пускающее под откос вражьи поезда… Отряхни меня, — и протянула Глебу маленькую пушистую варежку.
— Поворачивайся! — Сергеев сдернул с головы вязаную шапку и начал счищать прилипший к дубленке снег. — Ну и как успехи? Много составов удалось вывести из строя?
— Восемь! — не задумываясь ответила Алена и сделала поползновение влезть в машину.
Но Глеб вытащил ее за руку обратно.
— Ну-ка, ну-ка, партизан, дай-ка мне взглянуть… Ух ты, и что же это у тебя на ногах? А я-то думаю, с чего бы это ты вдруг изъявила желание на заднем сиденье прокатиться. Как же тебя в такой обуви в палату к больной пустили?
— А там сразу при входе в гардероб бахилы надевают. Для стерильности, — пояснила Алена, от растерянности нагло уставившись в глаза Глебу.
Она присела на заднее сиденье и, вытянув ноги в открытую дверь, постучала, стряхивая снег, огромными, на вид чуть ли не горнолыжными ботинками размера сорок пятого.
Глеб присел на корточки рядом с Аленой и нарочито кротким голосом спросил:
— Малыш, долго еще врать будем?
Алена молчала, сосредоточенно околачивая с ботинок налипший снег.
— А ботинки у кого напрокат взяла? — поинтересовался Глеб, выковыривая пальцем застрявшие между ботинком и ногой Алены ледышки.
— Ну это-то не проблема, — так же нахально ухмыльнулась Алена. — В мужской костюмерной, где же еще-то?!
— А возвращать собираемся? — Глеб осмотрел машину в поисках пакета с Алениной обувью.
— Это называется — наводящие вопросы, — уточнила Малышка и изъяла из-под сиденья коротенькие меховые сапожки. — Возвращать — ни в коем случае. Раз уж ты так рвешься в соучастники, выкинешь этих уродов в лесу — километров эдак в десяти от этого места.
— А может, в уличный сортир спустить… на даче?
— Не стоит рисковать. До весны еще далеко, и будет обледеневшая улика торчать в твоем частном хозяйстве.
— В нашем, — поправил ее Глеб. И, увидев непонимание на лице Алены, пояснил: — В нашем хозяйстве. Надеюсь, партизанский азарт и очарование опера Пантелеева в образе Колчака не отбили напрочь твою явно ослабевшую память… так же как и совесть. Напомнить дату нашего венчания? Это будет ровно через две недели… А если еще точнее, — Глеб сверился с часами, — через тринадцать дней и восемь часов. Так что предлагается слово «мое» поменять на «наше».
Глеб взглянул через Аленино плечо и, прошептав: «По горизонту противник», пропихнул ее в машину и захлопнул заднюю дверь.
Лишь только «ходячие» больные миновали их, Глеб снова открыл дверь. Алена развязывала слипшиеся от снега шнурки. Когда она подняла голову, ее глаза уже не смеялись, они были серьезными и очень грустными.
— На самом деле все это и печально, и противно, и… подло. Но у меня нет другого выхода, — тоскливо проговорила она, утыкаясь лбом в мокрый воротник куртки Глеба. — Я сейчас все расскажу тебе… и, возможно, ты отменишь наше венчание… и по-прежнему останешься единовластным собственником виллы… с уличным сортиром…
Спустя ровно сутки Алена после репетиции поднялась к себе в кабинет и увидела в приемной Егорычева, мирно распивающего чай с секретаршей Милочкой.
Сразу попытавшись проверить по лицу хотя бы легкие приметы его внутреннего состояния и конечно же натолкнувшись на совершенно индифферентное выражение, Алена поцеловала дядю Мишу в щеку и по тому, как Егорычев крякнул в ответ, поняла, что сейчас ей будет горячо.
— Пойдемте в кабинет? Или еще чайку? — неуверенно предложила Алена.
— А вы идите… разговаривайте, а чай я в кабинет перенесу… вот только заварю свеженький, — сказала Милочка.
— Мне кофе, пожалуйста, — попросила Алена и, пропустив Егорычева внутрь, плотно притворила дверь.
Михаил Михайлович прошелся несколько раз по комнате, потом развалился на диване, закурил и отрывисто произнес:
— Давай, Егоза, рассказывай. Здорово, я чувствую, напозволялась. Все в подробностях.
Алена метнула на Егорычева быстрый испытующий взгляд исподлобья:
— Она… умерла?
— Сегодня ночью. Я так понимаю, ты помогла.
Алена побледнела и, закусив губу, несколько раз отрицательно мотнула головой:
— Так говорить неправильно… Я просто вычислила ее и, когда шла в больницу, была уверена в том, что она попросит помочь. Я понимала, что для Джой это единственный выход. И ей не к кому будет обратиться, кроме меня. Но я не помогла ей умереть, это неверно, я поначалу, чисто эмоционально, даже отказалась, хотя в мой план это входило.
— А потом подумала и угробила американку? — резко продолжил Егорычев.
— Нет, — еще больше побледнев, ответила Алена. — Я обменяла ее жизнь, теперь уже ненужную и ей самой, на Севкину свободу.
— Ты понимаешь, что это не игра в дочки-матери и на тебя одну падает подозрение? Ты — единственная, кто мог принести ей лекарство, — зарычал Михал Михалыч, пропустив мимо ушей слова Алены о Севкиной свободе.
— Ничего подобного. Если капитан Пантелеев опытный сыщик, то обнаружит, что лекарство Джой получила через форточку. А под окном он найдет следы мужских ботинок с отчетливым рисунком — со вчерашнего дня осадков не было… Там же отыщется оброненная зажигалка — причем никакая не подделка, такие продаются только в Штатах… Ее посещала не одна я. Были сотрудники американского посольства — вот с ними пусть и разбираются. Тем более вчера меня к ней не пустили, а сотрудников посольства пустили. Потому что в американское посольство был звонок, что Джой Ламберти умоляет навестить ее, в каком бы состоянии она ни находилась, она хочет на всякий случай оставить им свою предсмертную волю.
— В письменном виде? — осведомился Егорычев.
— Естественно. В трех экземплярах. Один уже должен быть обнаружен капитаном Пантелеевым, другой — в руках американских граждан, а третий — так сказать, страховочный вариант — у меня в сумке.
Егорычев закурил новую сигарету, озадаченно взглянул на Алену.
— Ты в связи с чем-то упомянула Севу Киреева…
— Ну ты даешь, дядя Миша! — взвилась Алена. — Не «в связи с чем-то», а для чего я всю эту кашу заварила! Неделю назад театр обратился в следственный отдел с просьбой на несколько дней вернуть их вещдок — пистолет, из которого была застрелена Катя.
— Ну знаю… Сам содействовал… И не такой уж я старый пень, как ты полагаешь. Не думай, будто я поверил, что это для того, чтобы бутафорский цех изготовил один к одному такой же для текущего репертуара.
— Но они же поверили!
— Поверили! Потому что не знают, с кем дело имеют! И не предполагают, что главный режиссер театра — Алена Позднякова — авантюристка и криминальный элемент.
В дверь без стука протиснулась Милочка с подносом и удивленно застыла, услыхав последние слова полковника.
— Спасибо, Мила. Это Михал Михалыч с меня стружку снимает. Но мне с детства не привыкать…
Мила пожала плечами, напряженно улыбнулась и, поставив поднос на журнальный столик, удалилась.
— Ну вот, — вздохнула Малышка, — теперь всему театру будет доложено, что я авантюристка и криминальный элемент.
— Так тебе и надо, — проворчал Егорычев, протягивая Алене чашку с кофе. — Голодная небось с утра?
Алена махнула рукой:
— Потом поем… Так вот, дядя Миша, вещдок уже возвращен с благодарностью, и в том же целлофановом пакете. Теперь, после того как станет известно, что перед смертью Джой письменно призналась в том, что собственноручно осуществила убийство Кати Воробьевой, зарядив пистолет Максима Нечаева настоящими боевыми патронами, тебе надо будет только слегка подтолкнуть следователя, чтобы он поинтересовался наличием ее отпечатков пальцев. Уверена, что после ареста Севы им и в голову не пришло проверять отпечатки. Зачем? Чистосердечное признание в убийстве. Пистолет в целлофановый мешок — и дело с концом. Пускай себе лежит зафиксированным, как вещественное доказательство. Ну а если даже кому-то особенно ревностному пришло в голову проверить Севкины отпечатки и Максима, то ведь пистолет кто только не хватал. И сейчас среди множества отпечатков они найдут пальчики Джой. На всякий случай есть свидетель. Максим Нечаев недавно припомнил, что перед началом того рокового спектакля к нему в гримерную пришли американские студенты и педагоги какого-то театрального колледжа. Они интересовались, как обустроены гримерные в российских театрах, где находятся костюмерные, — одним словом, хотели успеть до спектакля обследовать закулисную часть. Реквизит для Карандышева лежал на соседнем свободном гримировальном столике, и эти иностранные граждане имели возможность потрогать все, в том числе и пистолет, который обычно Севка забирал в антракте. Если Максим очень постарается напрячь память, то наверняка вспомнит лица взрослых, сопровождавших студентов…
— А Севка?
— А Севка взял на себя вину, чтобы спасти лучшего друга Максима Нечаева, которому всегда было невыносимо видеть, как Катя измывается над ним. И, похоже, он мог что-то знать о покушении на меня.
— Погоди, погоди, не лезь вперед батьки в пекло. Эту версию надо так филигранно обработать, чтобы комар носа не подточил. Упрямый он, твой Киреев. Для него только один авторитет — это ты… Устрою вам завтра повидаться.
Егорычев встал, подошел к Алене, поднял ее за плечи и, долго любовно вглядываясь в ее бледное, осунувшееся лицо, тихо произнес:
— Ах ты Егоза, Егоза… Рано твои мать с отцом отправились в Царствие небесное. Жить бы им еще столько же да радоваться… — И, вернув голосу прежнюю строгость, отдал приказание: — Марш в столовую обедать! Одни глаза торчат! Да, еще вот что… Не надо тебе предсмертное послание Джой у себя хранить. Давай-ка его сюда. У меня ему понадежней будет.
Алена передала Михаилу Михайловичу уложенную в конверт записку от Джой и, уже стоя у дверей, спросила:
— Честно… не сердитесь, дядь Миш?
— Честно — сержусь, даже очень. Одно успокаивает. Надеюсь, на этом поставлена точка.
— Ну да, конечно, — неуверенно проговорила Алена и тихо продолжила: — Дядь Миш, мне позарез нужны сведения о компаньонке госпожи Бар-рент. Их можно получить только через Интерпол… Ее имя — Мария Кохановская, о ней писал в своем письме мистеру Холгейту адвокат семьи Баррент.
…Премьера «Столичной штучки» наконец-то состоялась.
Ольга Соцкая вошла в спектакль, по нецензурному выражению Гали Бурьяновой, «как свечка в попку». На репетициях она понимала Алену с полуслова, приходила за час и, на удивление всей труппе, разминалась в репетиционном зале у станка. Текст запоминала легко, но дважды обращалась к Сиволапову с просьбой внести кое-какие изменения.
Алена со своей стороны не старалась втискивать совсем другую актерскую индивидуальность в тот рисунок роли, который строился для Кати. Она старалась уловить любой дискомфорт в сценическом существовании Ольги, и они вдвоем решали, что нужно поправить для того, чтобы ее природной органике не было тесно или же, наоборот, чересчур вольготно в данных предлагаемых обстоятельствах.
С партнерами Ольга была предельно собранна и внимательна, не допускала по отношению к себе никакого панибратства, что особенно ущемляло разнузданное самолюбие Гладышева, не обижалась на замечания и претензии, но всегда пыталась до конца понять, чего от нее хотят.
Алена понимала, что Ольга, возможно, излишне рациональна, но судить о результате еще было рано. Молодая актриса пока только набирала, накапливала, и Алена не позволяла ей ничего «выдавать», пока накопленное, нажитое, осознанное не станет ею самой, Ольгой, носящей, правда, по пьесе другое имя и поставленной в другие обстоятельства жизни.
Естественно, Ольге было трудно. Какой бы змеей подколодной ни проявила себя в жизни Воробьева, актриса она была блестящая. На последнем перед премьерой прогоне Алена попросила прийти в зал побольше народу, чтобы актриса почувствовала наличие зрителей, реакции, проверила, везде ли ее хорошо слышно. Пришли все свои, лишь Люсю и Глеба Алена уговорила прийти на следующий день, уже на премьерный спектакль.
Прогон прошел нормально. И вот это самое «нормально» больше всего на самом деле и тревожило Алену.
Она с досадой отгоняла образ Кати Воробьевой, который нет-нет да и всплывал перед глазами, словно невидимой тенью следуя за новой исполнительницей своей роли. Все, что репетировалось, все, что обговаривалось, исполнялось Ольгой с поразительной четкостью. Катя же, идя на поводу у своей непостижимой природы, умудрялась, выполняя те же задачи, все делать «неправильно», как бы выворачивать наизнанку, нащупывать интуитивно самые парадоксальные проявления. Параллельно по вечерам репетируя «Бесприданницу», Алена признавалась себе в том, что, видимо, отсутствие человеческого женского опыта пока не позволяет Ольге ощутить ту глубину, то дно, по которому, извращенная жизнью, легко передвигалась Катя, то отталкиваясь от него из-за нехватки воздуха и всплывая на поверхность, то вновь позволяя мутным житейским омутам затянуть своих героинь в круговорот, чтобы барахтаться и выживать. Воробьева зачастую использовала запрещенные приемы — закатывала непредусмотренную истерику или вешала непозволительную по законам сценичности долгую паузу — и все по результату было «туда», в нужное русло сквозного действия спектакля — так драматичны и наполненны были ее выходки. «Самоволки», — называла их сама Катя. «Я опять сорвалась в «самоволку», — каялась она потом перед Аленой виноватым голосом, а глаза блестели восторгом одержанной победы.
Это было удивительно. Чем больше возвращалась Алена в материал, уже однажды проработанный, насквозь знакомый, тем неотвязней думалось ей о Кате. Человек, который покушался на ее жизнь, принес столько страданий, боли, смертей близких людей, маячил перед глазами с маниакальной навязчивостью. Алена чувствовала, что обожает ее, уже несуществующую, что больна ею, этим наваждением, как болен им Севка. Но ее болезнь была острей и опасней, потому что выявилась вслед Кате — уже ушедшей.
На премьере Алена смотрела спектакль из осветительской ложи и с ужасом ощущала, как мощно присутствует в спектакле Катя, своим невидимым параллельным существованием следуя по рисунку роли и всегда завышенным градусом и состоянием, подчас близким к аффекту, сводя на нет все жалкие усилия преемницы сделать образ живым и ярким. Наверное, ее мог понять только Севка, принимающий как дар Божий свою неразделенную любовь и, как никто, чувствующий ее извращенную… надмирность.
Впервые Алена лгала в своей профессии. После спектакля из нее выуживали какие-то оценочные соображения по поводу новой героини, и она, избегая встречаться глазами с Глебом, отделывалась ничего не значащими фразами типа того, что «еще предстоит много работы», «для молодой актрисы ввестись на главную роль в такие сжатые сроки — героизм», «Ольга проделала невероятную работу»…
После короткого фуршета, когда Алена, сославшись на головную боль, отказалась поехать за город и попросила закинуть ее домой, Глеб тихо спросил:
— В чем дело, Малыш?
Алена устало вздохнула и так же тихо призналась:
— Она сидит у меня в печенке… Катя Воробьева. Она болит, саднит… и никак не хочет заживать. Но я должна с этим справиться. Это входит в параметры моей профессии. Ни одна актриса, даже самая инфернальная, не имеет права так овладевать режиссерской волей. Просто у нас неравная расстановка сил. Оттуда — иная мощь… в этом единоборстве.
Глеб понял. Он все всегда понимал, этот удивительный сказочник.
Крещенские морозы так причудливо разрисовали окна московских домов, что хотелось выставить из рамы стекло, окантовать его и увековечить эту нерукотворную живопись.
На улицах под ногами бегущих прохожих снег скрипел на все лады, и эта животворящая музыка смягчала досаду на мороз за окоченевшие руки и покрасневшие носы. Застывшие в восторженном оцепенении от собственной красоты деревья тянули навстречу свои ломкие, серебристым инеем схваченные ветви, словно умоляя не проходить мимо и обратить внимание на их недолговечное хрупкое очарование.
Венчание Алены и Глеба было назначено в храме Малого Вознесения — небольшой уютной церкви прямо напротив консерватории. Этот храм выбрал Глеб. Сюда он приходил на службы, будучи студентом консерватории, сюда примчался на следующий день после знакомства с Аленой и, с сердечным трепетом стоя у иконы, попросил: «Господи, сделай так, чтобы она стала моей женой».
Алена ни в какую не согласилась накинуть на подвенечное платье шубку и, хотя в храме было прохладно, заявила, что ей просто жарко. Все присутствующие втайне были удовлетворены отказом невесты утепляться и с восхищением и некоторым удивлением взирали на словно выточенную из слоновой кости стройную, хрупкую фигуру Алены. Ее привыкли видеть в свитерах и джинсах, иногда в коротких юбках спортивного фасона, не дающих представления о том, что скрывается за этой свободного покроя одеждой. Теперь, туго обхваченная атласным платьем с глубоким декольте, она демонстрировала всему свету стройные высокие бедра, тонюсенькую талию и высокую нежную грудь.
— Ты — моя Барби, — восторженно шепнул ей взволнованный Глеб.
Губы Малышки негодующе изогнулись:
— Еще не хватало! Терпеть их не могу, этих рафинированных красоток!
— Что поделаешь! Терпи! С простоволосыми героинями афанасьевских сказок ты никак не монтируешься. — И Глеб легонько прикусил Алене мочку уха.
— Господин жених! Прекратите незаконные сексуальные посягательства! — прошипела сзади посаженная мать Маша Кравчук. — И вообще тихо. А вот и наш батюшка пожаловал!
Из алтаря появился черноглазый улыбающийся батюшка, все потянулись за свечками, стали перестраиваться в полагающемся для таинства порядке. Повернувшись за свечкой, Алена, улыбаясь всем, окинула взглядом гостей, и на мгновение ее глаза напряженно застыли…
Во время венчания невеста вела себя неподобающим образом беспокойно. Всегда предельно собранная и дисциплинированная в ответственные моменты, Алена вертела головой, несколько раз делала глазами какие-то непонятные знаки посаженному отцу Михал Михалычу Егорычеву, и возмущенный Глеб вынужден был даже несколько раз ущипнуть ее за локоть.
— А где Люся? Я что-то ее не вижу, — прошептала она, когда Глеб, преисполненный сознания торжественности момента, нанизывал обручальное кольцо на тоненький Аленин палец.
Сергеев недоумевающе и с легкой обидой взглянул на свою суженую и протянул руку, чтобы Алена возвела его в ранг супруга.
Малышка проворно пропихнула кольцо на палец Глеба, и ее голова снова развернулась в сторону гостей. Глеб недовольно проследил за ее взглядом.
— Люська у свечного ящика, — буркнул он, и тут все внимание жениха и невесты собрал батюшка, проводив новобрачных к алтарю. Он возложил венцы над их головами и передал шаферам, одним из которых, к явному удовлетворению Алены, являлась Люся.
Батюшка начал читать в Евангелии от Иоанна рассказ о чуде, совершенном Христом на браке в Кане Галилейской, и Глеб опять слегка дернул за руку Алену, повернувшую голову куда-то в сторону. Глеб не понимал странного поведения невесты, но видел, что ее что-то беспокоит, и это беспокойство невольно передалось и ему.
Священник поднес новобрачным чашу с вином, и в этот момент Алена, обнаружив, что за ее спиной нет Люси, резко развернулась назад и вдруг, чуть не сбив с ног близняшек Маши Кравчук и перевернув скамейку, стоящую у стены, рванулась к выходу.
В тот же миг от дверей храма отделилась темная фигура и опрометью вылетела на улицу.
После минутного шока все присутствующие на венчании бросились вслед за пулей пролетевшей мимо них на крыльцо церкви невестой.
То, что увидели случайные прохожие возле храма Малого Вознесения, не поддавалось никакому объяснению.
По Большой Никитской, скользя по тротуару и время от времени спрыгивая на мостовую, бежало странное, замотанное в непонятную одежду существо неизвестно какого пола, а за ним, с развевающимся шлейфом подвенечного платья, мчалась полуголая невеста, пугая оторопелых прохожих хриплыми выкриками: «Стойте! Вам нечего бояться! Остановитесь! Я вам все объясню! Это недоразумение! Вы погубите себя! Стойте! Задержите ее!»
На противоположной стороне Никитской высыпали из школьного двора дети и, визжа от радости: «Ура! Кинуху снимают!» — сгрудились вдоль тротуара. Пришедшие в чувство друзья и родственники во главе с батюшкой и алтарниками озирались по сторонам, не зная, что предпринимать, а Глеб и Максим Нечаев неслись за Аленой, подгоняемые не поспевающим за ними Егорычевым. Уже почти у самых Никитских ворот Максиму удалось, обогнав Алену, ловко подставить подножку и свалить в наметенный к обочине сугроб убегающего человека. Подбежавший Глеб сдернул на ходу пиджак, набросил его на голые плечи Алены и склонился над лежащей в снегу фигурой.
— Что… что все это значит? — спросил он, задыхаясь от бега.
— Осторожно, она вооружена! — так же запыхавшись, закричала Алена.
Максим точным движением скрутил человеку в сугробе руки за спиной. Теперь можно было разглядеть лицо, замотанное до бровей толстым оренбургским платком. Это была женщина средних лет с мелкими чертами лица, напоминающими какую-то птицу.
— Я же просила вас остановиться, госпожа Кохановская, — низким дрожащим голосом произнесла Алена. — Могли бы такой беды наделать… Помоги ей подняться, Максим, она замерзла.
Подоспевшие Люся и Ольга набросили на Алену дубленку, передали Глебу и Максиму их куртки.
Женщина с птичьим лицом подняла голову и, увидев Люсю, вздрогнула всем телом, ее лицо перекосилось страшной злобной гримасой. В этот момент Максим извлек из кармана ее нелепой шубы маленький блестящий браунинг. Женщина опять вздрогнула и, не сводя с Люсиного лица ненавидящего взгляда, рванулась к ней. Люся вскрикнула и спряталась за спину Глеба.
— Тихо! — властно и жестко скомандовала Алена. — Это ваша ошибка, госпожа Кохановская. Женщина, которую вы поклялись уничтожить, уже мертва. Не надо смотреть с такой ненавистью. Это не Джой Ламберти, а Людмила Соцкая, и не ее вина, что она обречена носить чужое лицо.
— Ах ты, Егоза, Егоза, — пробурчал Егорычев, когда гости расселись за большим столом в загородном доме Глеба. Дяде Мише положено было сидеть по правую руку невесты, как самому почетному гостю. — Даже замуж она не может выйти по-человечески. Это что же за свадьба такая! До седин дожил, а такого не припомню.
— Ты, дядь Миш, не бухта на меня, — отозвалась Алена, накладывая ему в тарелку все самое вкусненькое. — Сам учил с детства, что в нашем деле потеря бдительности — это шандец.
— Так это в чьем же деле-то! — засмеялся Егорычев. — Именно что в нашем — сыскном деле… хотя что говорить, видно, ты с молоком матери всосала в себя аналитическую смекалку.
— Выпьем за новобрачных, — провозгласила посаженная мать Маша Кравчук.
После того как все наконец-то согрелись, выпили, закусили, крикнули несколько раз «горько» и пожелали Алене и Глебу много всего замечательного, наступил тот неизбежный момент, когда все захотели, чтобы им объяснили, что творила бывшая невеста в храме и на Большой Никитской…
— Давай-давай, раскалывайся, Егоза, — усмехнулся Егорычев, — народ жаждет знать правду.
— Вот сами бы и поведали народу правду, дядь Миш. — Алена ласково взглянула на полковника. — А то я ведь сегодня как бы выходная…
— Да уж, не хотела бы я иметь такой выходной, — хмыкнула Маша. — Давно я такой стометровки не бегала. Новый вид развлечения для новобрачных и гостей — бег с препятствиями по обледенелому тротуару в сорокаградусный мороз без верхней одежды. Женщинам — желательно на высоком каблуке, лучше на шпильке. Очень полезно для здоровья и прекрасно развивает чувство юмора.
Все дружно начали смеяться и вспоминать, как кто выглядел в этой дикой ситуации. Потом все смолкли и снова вопросительно уставились на Алену.
— Помните, я в театре читала письмо от адвоката Нины Николаевны Оболенской господина Стоуна? Это письмо мне отдал мистер Холгейт, за что ему спасибо… — Алена наклонила голову в сторону сидящей напротив пожилой пары — тети Наташи и ее мужа Роберта Холгейта. — В конверт юрист госпожи Баррент вложил ее фотографию. На ней были две женщины: Нина Николаевна и ее верная спутница жизни и подруга, компаньонка Мария Кохановская. Письмо пришлось отдать следователю, а фотография осталась у меня. И, надо сказать, я частенько показывала ее друзьям, знакомым… Одним словом, оба лица отчетливо отпечатались в моей памяти.
Все в курсе, что операцию Люсе делал Адам Ламберти. После его смерти ее наблюдал другой врач. Как-то Люсе надо было в очередной раз показаться в клинике. Глеб уехал в это время с концертом в Калугу, Ольгу не хотелось отвлекать от работы — она зубрила текст, и в клинику повезла Люсю я.
Сидя около кабинета, я поразилась той… даже трудно сформулировать точно… какой-то безалаберной бестактности, что ли. На двери кабинета по-прежнему висела табличка: «Адам Ламберти, профессор». Человека уже не было в живых, а табличку даже не удосужились снять. Народу на этаже было мало, и я не могла не обратить внимания на женщину, которая подошла к кабинету и, внимательно изучив надпись, неуверенно присела напротив. Потом вскочила и начала нервно вышагивать по коридору, что-то лихорадочно соображая. Я не сразу связала ее лицо, показавшееся мне очень знакомым, с фотографией компаньонки госпожи Баррент. Но когда она в очередной раз, находясь в крайнем волнении, опустилась на краешек стула, я поняла, что передо мной конечно же Мария Кохановская. Я стала незаметно наблюдать за ней. Она открыла сумочку, что-то проверила там, достала бумажник и направилась к регистратуре. Я через некоторое время заняла за ней очередь.
— Я бы хотела записаться на прием к доктору Ламберти. Если возможно, на ближайшие дни, еще лучше… на сегодня.
Пожилая регистраторша, с удивлением взглянув на Кохановскую, ответила:
— К сожалению, он уже не ведет приемов в нашей клинике…
— А в какой? — нетерпеливо перебила ее Кохановская.
— Да ни в какой. Он погиб в автомобильной катастрофе.
Кохановская издала странный булькающий звук — не то засмеялась, но сдержала себя, не то закашлялась от неожиданности.
В этот момент дверь кабинета открылась и вышли Люся и доктор. Они о чем-то продолжали беседовать. Тут уже оторопела я: Кохановская не сводила с Люси неподвижного, тяжелого, ненавидящего взгляда. Этот взгляд настолько конкретно выдавал в ней, как в диком животном, готовность к прыжку, что я интуитивно сделала несколько шагов к Люсе. Но Кохановская вдруг вздрогнула, отвернулась и быстрыми нервными движениями водрузила на нос большие темные очки и надвинула на лоб шляпку с полями.
Я быстро схватила Люсю под руку и спустилась с ней в гардероб. Странная особа в темных очках и шляпе прошествовала за нами, низко наклоняя голову, точно опасаясь, что ее узнают.
Уже в машине я все пересказала Люсе и пожалела, что сразу, как только вспомнила эту женщину по фотографии, не подошла к ней. Но Люся расценила эту ситуацию иначе…
— Да, я тогда сказала Алене, что наверняка дело совсем в другом, — отозвалась Люся с противоположного края стола. — Я предположила, что, возможно, эта женщина просто очень похожа на компаньонку Нины Оболенской. А глядела она с ненавистью совсем не на меня, а на доктора… Я, пока лежала в клинике, таких историй наслушалась — не приведи Господь… Хирурги же тоже люди, у них случаются неудачные операции. Бывает, что им начинают мстить… Но, похоже, я не очень убедила Алену…
— Не очень. Потому что эта женщина схватила такси и ехала за нами до самого загородного дома… Счастье, что Люсе запрещалось месяц выходить из дома: коже был необходим постоянный температурный режим… Тем более на улице начались дикие морозы…
Через несколько дней, впервые увидев Джой, я все поняла. Это за ней охотилась верная подруга Нины Николаевны Оболенской. Я попросила дядю Мишу узнать, где можно в Москве отыскать Марию Кохановскую, а Глеба — на время усилить охрану дома…
Но по адресу, который удалось отыскать, Мария Кохановская не появлялась.
Конечно, трудно было предположить, что она появится в храме на венчании. Но ей оказалось все равно — свадьба это будет, похороны или просто ненавистная Джой отправится в магазин за покупками… Кохановская твердо решила свести с ней счеты за смерть своей подруги и благодетельницы.
Когда я увидела ее в церкви, первой реакцией было кинуться к ней и наконец-то все объяснить. Но рваться из-под венца было бы чересчур экстравагантной выходкой, хотя в результате все именно так и произошло. Я попыталась мыслить логически. Мария Кохановская после смерти госпожи Баррент не покинула монастырской обители, несмотря на то что теперь с ее деньгами можно было устроиться и пороскошней. Значит, она — верующий человек и никогда не позволит себе предпринять что-либо под сводами православного храма. В этом я конечно же была права. И что угораздило Люсю передать венец, который она держала над моей головой, и направиться к выходу?
— Но я же не знала, что выступаю в роли Эсмеральды и хранима тобой, как Квазимодо, и сводами пусть не собора Парижской богоматери, но не менее надежной защитой, — улыбнулась Люся. — Я отправилась, чтобы напомнить сидящим в машине, чтобы они приготовились бросать вам под ноги цветы, когда вы пойдете с крыльца.
— Одним словом, — прервал Люсю Глеб, — я хочу поднять этот бокал за самую удивительную женщину, которую судьба милостиво позволила мне сегодня назвать своей женой. Я знаю, что наш совместный путь будут устилать не одни розы, но знаю еще одно: мы исповедуем одну и ту же веру… «Встать рано, помолиться Богу и работать…» И еще: когда я познакомился с ней, то осознал, какое мне дано свыше благо — дар писать музыку. Если мне не хватает слов, чтобы объясниться ей в любви, в моей душе начинают складываться мелодии, которых я никогда не сумел бы создать сам… Если позволишь, Алена, я скажу тебе сейчас то, что целый день переполняет мое сердце.
Глеб выпил до дна фужер шампанского, подошел к роялю, и из-под его рук полилась страстная, тревожная, грустная музыка.
Алена слушала, опустив голову и перебирая тонкими пальцами бахрому нарядной скатерти. Крупные тяжелые капли слез тугими шариками падали на край скатерти, тут же расплываясь и рисуя на льняной поверхности замысловатые узоры.
— Ах ты Егоза, Егоза, — услышала она над ухом взволнованный шепот Егорычева. — Жаль, что родители не дожили…
Резкий звонок в дверь прервал музыку.
Ольга пошла открывать, и все головы выжидающе повернулась ко входу.
Спустя несколько минут на пороге гостиной появилась невысокая худая женщина, закрывающая лицо огромным букетом белых роз.
Алена вскочила с места и, промокая салфеткой мокрые щеки, обняла женщину за плечи, взяла из ее рук букет.
Было трудно узнать в этой элегантно одетой даме недавнюю оборванную незнакомку, лежащую в сугробе на Большой Никитской.
Застенчиво улыбаясь, Мария Кохановская извлекла из сумочки маленькую бархатную коробочку и протянула ее Алене:
— Эта вещь принадлежала семье Оболенских, и Нина Николаевна перед смертью поручила мне найти ее сестру и передать ей это.
Алена открыла футляр и, восхищенно ахнув, продемонстрировала всем сияющий на старинной броши изумруд, обрамленный бриллиантовой россыпью.
— Думаю, она сама с великой радостью вручила бы его вам, Алена, в день вашей свадьбы… Пусть я буду ее посланником. Уверена, души наших дорогих ушедших сестер Оболенских незримо, невидимо присутствуют здесь, на вашем торжестве, и молятся за ваше счастье. Пусть эта вещь иногда напоминает вам о том, как подчас тернист и неблагодарен путь тех, кто верен себе, тем корням, которые их породили, той чистоте и мужеству, с которым они несли свой крест. Господь соединил их навеки. Простите, что внесла грустную ноту в ваш праздник.
Госпожа Кохановская опустилась на стул и, закрыв ладонями лицо, беззвучно зарыдала.
После Алениной свадьбы Петр попытался дать ей почувствовать всю свою горечь по поводу этого так скоропалительно состоявшегося мероприятия.
— Могла бы, между прочим, предупредить. А то выгляжу, как дурак. Все в курсе, кроме меня. А мы с тобой… не так уж чтобы совсем чужие люди, — пробурчал он, целуя Алену в висок и невнятно присовокупляя свое поздравление.
— А я предпочитаю избегать лишних слов там, где и так все понятно. Будет неправдой, если ты скажешь, что тебе больше по душе путаница в словах, чем затянувшаяся пауза. Пусть даже непозволительно затянувшаяся. — И Алена тихо добавила: — Надо быть честнее в отношениях, Петр. Когда тебе врут, через эту боль теряешь достоинство…
Петр шумно выдохнул и спросил:
— Я так понимаю, свою новую пьесу я могу тебе не показывать?
— Это отчего же? — удивилась Алена. — У меня на твоих опусах рука набита. Приноси, почитаю.
— А может, как прежде, мне самому почитать тебе? Как-то привычней.
— Можно и так, — согласилась Алена, — только вот «Бесприданницу» и «Укрощение строптивой» закончу…
Последний прогон «Бесприданницы» с новой актрисой подходил к концу.
Работа была чрезвычайно сложной и для Ольги, и для Алены. Одно дело — сыграть на показе маленький отрывок из «Трех сестер», пусть эмоционально-насыщенный, но совсем короткий — эдакий всплеск чувства, темперамента, страсти, другое дело — за три часа прожить горькую судьбу Ларисы. Для благополучного юного создания, которое являла собой очень одаренная Ольга Соцкая, это было чрезвычайно сложной пробой, но в конце концов к этому и сводится смысл профессии — уметь интуитивно, чувственно постичь то, что никогда не довелось пережить в собственной жизни.
Неожиданно «помог» Петр Сиволапов, в очередной раз продемонстрировав роковое мужское начало для молодых актрис. Он сидел на многих репетициях «Столичной штучки», иногда Алена предоставляла ему право голоса, и тогда он, красивый, рослый, синеглазый, с волнующим взглядом и полнейшим отсутствием комплексов, дружески обнимая за плечи Ольгу, высказывал свои пожелания и советы. Несколько раз Алена видела их выходящими вдвоем из театра и неоднократно ловила настороженный взгляд Нины Евгеньевны Ковалевой, все чаще забегающей в зал якобы по неотложным производственным вопросам.
На сегодняшний прогон пришла Инга. Она очень редко бывала в театре и Ольгу Соцкую видела едва ли один раз — на премьере «Столичной штучки». Инга вошла в зал в тот момент, когда Алена делала актерам последние наставления, и, чтобы не мешать, опустилась в кресло у двери.
Ольга вздрогнула при ее появлении, и по лицу промелькнула боль и досада.
— Ты меня слушаешь, Оля? — мгновенно попыталась сконцентрировать внимание актрисы Алена, но по ее нервным напряженным реакциям поняла, что Сиволапов уже глубоко зазернился в ее сердце. — Итак, начнем. Забудь все, что я тебе говорила. Живи тем, что чувствуешь, — прогудела Алена и с раздражением отметила просочившуюся в зал Мальвину со знакомой, плотоядной улыбкой на ярких губах.
«Эта уже тут как тут. Сейчас подсядет к Инге, и пошло-поехало…»
Алена усилием воли заставила себя отключиться от всего, что вокруг, зажгла настольную лампу на режиссерском столике, придвинула бумагу и ручку.
«Эффект присутствия Инги» сотворил в актерской природе Ольги Соцкой предполагаемый Аленой переход в новое качество. Но то, что она явила присутствующим в зале, оказалось воистину чудом. Живая боль и страстная, отчаянная, граничащая с безумием жажда ответного чувства вытеснили инфантилизм и ту приблизительность осознания отвергнутости, с которыми так боролась на репетициях Алена…
Гневная, отвергнутая, но не униженная — такой предстала перед Карандышевым в финале Лариса. Ее зеленые глаза были переполнены таким натиском самых противоречивых чувств, таким сердечным брожением и мольбой хоть как-то спасти ее от невыносимости страдания и боли, что вместе с выстрелом Карандышева, казалось, с облегчением вздохнули все зрители.
«Милый мой, какое благодеяние вы для меня сделали! Пистолет сюда, сюда, на стол! Это я сама… сама… Ах, какое благодеяние…»
Боковым зрением Алена заметила присевшую рядом с ней крайне растерянную Ковалеву.
Уже понимая, что Ольга выдержала экзамен на пятерку, Алена повернулась к Нине Евгеньевне и спросила шепотом:
— Что-то случилось?
Та обескураженно покрутила головой и так же шепотом ответила:
— У нашей новой вахтерши, у Шаховской, отыскалась какая-то неучтенная внучка в Австрии. Она от радости сама не своя. Ожидает ее приезда со дня на день… Что будем делать?
— Если окажется, что ее зовут Ева, — угрожающе прогудела Алена, — я подам заявление об уходе. — И, протерев запотевшие стекла очков, нагнулась к микрофону: — Маша, занавес!..
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.