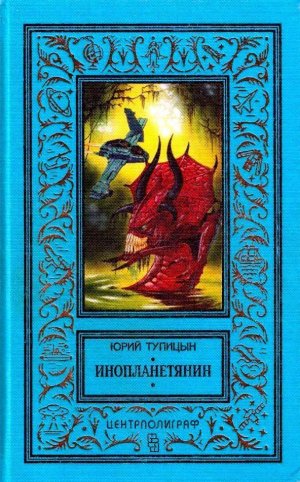
ТАЙНА ИНЖЕНЕРА ГРЕЙВСА
Глава 1
Вопреки обыкновению Рене Хойл, не очень известный, но подающий надежды журналист, не поехал утром в редакцию, а остался у себя дома, чтобы подработать начатую накануне статью. Не случись этого, жизнь скорее всего пошла бы по совершенно иной колее, но он остался, больше того — засиделся над ничем не выдающейся статьей непростительно долго. Статья никак не клеилась, черт знает почему! Может быть, потому, что вот уже третий день подряд, почти не переставая, шел мелкий-мелкий, холодный и противный осенний дождь. И, вместо того чтобы работать, Рене Хойл, облокотившись о письменный стол, скучающе смотрел в окно. Городской пейзаж, рисовавшийся за толстым стеклом, покрытым натеками дождя, был похож на кадр из сентиментального фильма.
Рене чуть вздрогнул, когда зазвонил телефон. Звонил он самодовольно, неутомимо и противно, как это умеют делать домашние телефоны, когда хозяину не хочется брать трубку. А Рене не хотелось, он даже не изменил ленивой позы, только скептически скосил глаза на явно выходивший из себя аппарат. Разговор с шефом, который, должно быть, интересовался причинами отсутствия Рене Хойла в редакции, ему вовсе не улыбался.
Залившись напоследок особенно продолжительным истеричным звоном, телефон наконец-таки выдохся и обессиленно умолк. Рене сделал телефону презрительную гримасу, только что язык не показал, отодвинул в сторону недописанную статью, спрятал в карман свой «паркер» и встал из-за стола. Но в редакцию ехать ему все-таки до чертиков не хотелось. Оглядев комнату, он переставил кресло поближе к журнальному столику, надел пиджак, висевший на спинке рабочего стула, и прошелся по мягкому ковру, делая энергичные разминочные движения, похожие на те, что делают легкоатлеты перед стартом. В этом не было ничего удивительного, Рене был известен в журналистских кругах как разносторонний и небесталанный спортсмен-любитель.
Короткий, энергичный звонок заставил его вскинуть голову. Это был уже не телефон, звонили у входной двери. Последовала тягучая пауза, во время которой Рене оставался неподвижным. Послышался осторожный и весьма своеобразный металлический шорох. Не нужно было особой прозорливости, чтобы догадаться о причинах его возникновения: кто-то пытался открыть дверной замок, а так как он не торопился поддаваться этим усилиям, можно было заключить, что отпереть замок пытались не добропорядочным путем, а легкомысленной пройдохой-отмычкой. Конечно, чтобы не обострять ситуацию, естественнее всего было попросту окликнуть непрошеного визитера, который, само собой, не замедлил бы ретироваться. Можно было поступить и более мужественно, хотя и рискованно: вызвать полицию и, выполняя свой гражданский долг, попытаться задержать жулика. Рене почти не сомневался, что за дверью орудовал представитель именно этой древней профессии. Но Рене Хойл не сделал ни того, ни другого. Наверное, он посчитал недостойным журналиста, имеющего отношение к уголовной хронике, столь глубоко тривиально прерывать зарождающееся загадочное преступление. Рене лишь беззвучно усмехнулся, бесшумно ступая по ковру, отступил к стене и спрятался за портьерой.
И вовремя. Солидный, но отнюдь не крепкий духом замок, уступая настойчивым домоганиям легкомысленной отмычки, потерянно щелкнул. Чуть слышно скрипнула входная дверь и снова, теперь уже смачно, щелкнул замок, окончательно склоненный на путь предательства. Наступила тишина. Прижавшись всем телом к стене и держа правую руку в боковом кармане пиджака, Рене Хойл напряженно ждал. Прошло несколько томительных секунд, и в комнату бесшумно, но совершенно непринужденно, отнюдь не тем крадущимся шагом, которым имеют обыкновение входить в квартиру воры, вошел крупный мужчина. Мягкая шляпа была надвинута на самые глаза, а руки глубоко засунуты в карманы легкого плаща. Остановившись посреди комнаты, мужчина спокойно огляделся. Рассеянный оконный свет упал на его редкие рыжеватые волосы и красное лицо с грубоватыми, четко вырубленными чертами. Лицо Рене вытянулось, а губы сложились так, словно он собирался присвистнуть от удивления. Но он не присвистнул, а нахмурился, отчего его выпуклый лоб прорезала глубокая вертикальная складка. Между тем мужчина, столь бесцеремонно забравшийся в чужую квартиру, еще раз огляделся, на короткое мгновенье задержав взгляд на портьере, вынул руки из карманов и все с той же солидной неторопливостью, которая отличала все его движения, принялся расстегивать плащ.
Лоб Рене Хойла разгладился. Откинув портьеру, он с беззаботной улыбкой шагнул вперед:
— Салют, Чарли!
Джентльмен в мягкой шляпе резко обернулся. Рука его скользнула было в карман плаща, но на полдороге замерла и медленно опустилась. После довольно натянутой паузы мужчина свободным движением сбил свою мягкую шляпу на затылок и улыбнулся в ответ:
— Салют, Рене. Как поживаете?
— Я-то хорошо. — Рене, засмеялся, весело оглядывая гостя с головы до ног. — А вот как вы?
— Да и я неплохо! — Краснолицый мужчина изо всех сил старался держаться непринужденно, и это ему почти удавалось.
— Пока неплохо, — журналист выразительно подчеркнул слово «пока». — Но, в принципе, те, кто нарушает святой британский принцип «ТУ КИП ПРАЙВЭСИ», должны жить плохо, даже отвратительно.
Чарльз Митчел владелец частной сыскной конторы, секунду испытующе смотрел на Хойла, потом натянуто, хотя и добродушно, улыбнулся:
— Всегда возможны исключения. Особенно, когда речь идет о старых знакомых.
Они и правда были старыми знакомыми. Когда Рене Хойл только начинал свою газетную карьеру, уголовно-судебная хроника обеспечивала ему более или менее сносный заработок. В ту пору он и установил с Митчелом довольно тесные контакты. В настоящую дружбу их взаимоотношения так и не перешли, хотя поначалу казалось, что дело шло именно к этому, а застыли где-то на том уровне, который детектив достаточно точно определил как «старое знакомство».
Разглядывая Митчела, Рене выразительно покачал головой:
— Ну уж нет! Вы допустили не мягкую бестактность, вы нарушили, можно сказать, основополагающий принцип самого британского бытия. Мой дом — моя крепость! О каких исключениях тут можно говорить? О каких компромиссах? Что я? Бог вам не простит этого, Чарльз! — Проговорив все это тоном пастора, читающего воскресную проповедь, Рене усмехнулся и деловито предложил: — Да вы раздевайтесь, раз уж пришли в гости, хотя и без приглашения, раздевайтесь и присаживайтесь.
Когда Митчел пристраивал плащ и шляпу на вешалку, Рене серьезно посоветовал:
— Не забудьте переложить пистолет. Вдруг понадобится?
— В пиджаке у меня есть другой, — ответил Митчел, приглаживая перед зеркалом волосы.
— Вы прямо-таки не человек, а ходячий арсенал!
Митчел повернулся к журналисту и развел большими сильными руками.
— Что поделаешь, такая уж у меня профессия. Ведь и вы, наверное, не расстаетесь со своей ручкой и записной книжкой.
— Это верно.
Рене усадил детектива в кресло, а сам присел рядом, на край стола.
— Плохи ваши дела, Чарли, — сочувственно сказал он, покачивая ногой. Представляете, какой поднимется шум, когда я тисну в своей газете соответствующий материал? Частный детектив в роли квартирного жулика!
Митчел вздохнул, вытер большим цветным платком лицо и осторожно согласился:
— Да, хорошего в этом мало. Такие сейчас времена.
— Вот именно. Даже министры сидят в тюрьме за тайное вторжение в дела конкурентов.
— Вы имеете в виду дело Уотергейта? Там большая политика на президентском уровне, а я человек маленький.
— Это верно. В тюрьму вас, наверное, не посадят, а контору вашу прикроют наверняка, это я гарантирую.
Митчел помолчал, внимательно глядя на Хойла, потом крякнул и полез в карман пиджака.
Рене внимательно проследил за тем, как Митчел достал из кармана сигару.
— Не возражаете? — спросил детектив, пристраивая ее в углу рта.
Рене молча пододвинул ему пепельницу.
— Вы напрасно меня опасаетесь, Рене, — миролюбиво проговорил Митчел, удобнее устраиваясь в кресле. — Я не собираюсь прибегать ни к пистолету, ни к каким-нибудь другим фокусам.
— Догадываюсь. Но на всякий случай страхуюсь.
Митчел одобрительно кивнул и снова затянулся сигарным дымом.
— Я реалист, попался как мальчишка и проиграл — чего же брыкаться? Но мне сдается, — в маленьких проницательных глазках детектива появилось хитроватое выражение, — умные люди всегда могут договориться и прийти к взаимовыгодному соглашению.
Рене скептически поджал губы и медленно проговорил:
— Не совсем понимаю, что вы можете предложить мне в обмен на молчание. Взяток я не беру.
— Это я знаю, я вообще очень многое о вас знаю. — Митчел пыхнул дымом, вынул сигару изо рта и описал ею в воздухе затейливую кривую. — Я имею полномочия сделать вам одно очень интересное и выгодное предложение.
Рене усмехнулся:
— И для этого вы прибегли к отмычке?
— Совершенно верно. — Митчел постепенно обрел привычную уверенность. Ибо прежде чем делать это предложение, мне поручили тщательно осмотреть вашу квартиру.
Хойл сделал большие глаза:
— Но зачем. Бог мой?
Покачивая головой, Митчел наставительно проговорил:
— Как вы еще молоды, Рене. Квартира — это своеобразная визитная карточка человека, очень емкая и глубоко индивидуальная. Можно изменить убеждения, внешность, голос, походку, манеру вести себя. За хорошую цену можно приобрести даже новую кожу на кончиках пальцев и натянуть нос самым опытным дактилоскопам. Но изменить привычки, которые мы впитываем в поры своей души и тела с самых пеленок, невозможно, поверьте. А эти привычки, неведомо для хозяина, отражаются на тех предметах, которые сопутствуют вам за обеденным столом, в постели, в ванной комнате и рабочем кабинете. Я уж не говорю о том, что, хорошенько пошарив, можно иной раз наткнуться на секретные и безотказные ключи к самым скрытым уголкам личности.
— Например? — с любопытством спросил Рене.
— Примеров сотни: оружие, наркотики, средства связи и тайнописи, такие находки разят наповал, как пуля из крупнокалиберного пистолета. А разве маловажно знать по-настоящему любимые сигареты, закуски и качество постельного белья? Аристократ от рождения днем еще может носить чужую личину и терпеть дешевые неопрятные костюмы, но у себя дома он порой не выдерживает и позволяет себе понежиться в привычном шелковом или батистовом белье. Квартира, дорогой Рене, часто говорит о человеке ничуть не меньше, чем тщательно заполненное на него пухлое досье. — Митчел искоса глянул на журналиста плутоватыми глазами. — Как бы то ни было, в данной ситуации можно считать, что детальный осмотр вашей квартиры состоялся и произвел на меня самое благоприятное впечатление.
Внимательно разглядывая его, Рене прищурился.
— Положа руку на сердце, Чарли, — доверительным тоном спросил он, — вы ведь не первый раз посещаете меня нелегально?
Митчел хмыкнул:
— С чего вы взяли?
— Уж очень легко вы отказались от осмотра моей квартиры и пошли на компромисс. Пожалуй, вам не хватало лишь деталей.
Митчел одобрительно хохотнул:
— А котелок у вас варит. Я обнаружил у вас небольшой потайной сейф, а насиловать мне его не хотелось. Вот я и решил посетить вас вторично, уже с ключом.
— А какое впечатление оставил ваш первый нелегальный визит? Понимаете ли, как и полагается репортеру, я ужасно любопытен.
Митчел помолчал, покусывая нижнюю губу.
— Должен заметить, что квартира ваша не совсем обычна, даже подозрительна. Но эта подозрительность, так сказать, не выходит за пределы британских допусков.
— Вот как!
— Именно так. Уж очень много у вас научной, причем специальной литературы. Математика, физика, кибернетика — право, это многовато для одного человека, даже такого неглупого, как вы. Тем более, что вы никогда не козыряете своей ученостью.
— С каких это пор скромность стала пороком?
— С тех пор, как восторжествовал американский образ жизни и старые пуританские идеалы канули в вечность. А потом, репортер и скромность понятия просто несовместимые.
— Что плохо для репортера, неплохо для главного редактора или владельца газеты, — спокойно ответил Хойл.
— Верно. И это единственное правдоподобное объяснение. К счастью, вы поделились своими мечтами кое с кем из друзей.
— У меня нет друзей, — холодно прервал детектива Хойл, — только приятели.
Митчел осклабился:
— Это мне тоже известно, тоже подозрительно и тоже не выходит за рамки дозволенного британскому подданному. Впрочем, большинство ваших оригинальных качеств не только не показалось предосудительным моим заказчикам, но и весьма их заинтересовало.
— Это должно меня радовать?
— Да, — серьезно ответил Митчел, — выполните их поручение, станете если не богатым, то, во всяком случае, не бедным человеком.
— А что придется делать? Революцию в Латинской Америке или взрыв в конторе конкурентов?
— Да я и сам не знаю. Мне лишь известно, что поручение будет связано с многочисленными разъездами чуть ли не по всей планете.
Хойл погрозил ему пальцем:
— Не темните, Чарли.
— Клянусь! — с самым честным выражением лица проговорил Митчел.
— Не клянитесь. Лучше будьте джентльменом: открывать карты, так уж до конца.
— Джентльменом? Зачем мне это надо?
— Ладно, будьте бизнесменом.
Митчел прищурил один глаз:
— И что я получу взамен?
— Похороны истории с отмычкой.
— Похороны и виски. Маловато, невыгодный бизнес.
Рене проникновенно улыбнулся:
— И рекламную статью о вашей конторе.
— Это уже деловой разговор. Несите виски.
Пока Хойл доставал бутылку, бокалы, укладывал на тарелку кубики прозрачного льда, Митчел проговорил:
— Надеюсь, вы понимаете, что я иду на некоторое нарушение профессиональной этики и что мои наниматели ни в коем случае не должны знать об этой части нашего разговора?
— Вы меня обижаете, Чарльз.
Наполнив бокалы золотистой жидкостью, Хойл сказал вполголоса:
— Пейте, Чарльз.
Митчел не заставил просить себя дважды.
— О-о! — сказал он тоном знатока, осторожно опуская бокал и понизив голос. — Вам придется заняться поисками одного ученого, атомщика или что-то в этом роде. Он сотрудничал с фирмой наших нанимателей, а потом пропал. Не то скрылся, не то его похитили.
Осушив свой бокал, Рене спросил:
— Здесь, в Лондоне?
— Нет, в Габоне. Там урановые рудники.
— Мне казалось, они в Конго.
— И в Габоне тоже. Это ведь рядом.
— Имя ученого?
Митчел медлил с ответом. Рене прижал руку к сердцу:
— Чарльз, положитесь на мою скромность. Я буду нем, как катафалк.
— Вильям Грейвс.
Глава 2
Митчел внезапно и резко затормозил, отчего «понтиак» подался на рессорах вперед, а потом мягко закачался, как лодка на волнах от прошедшего вдали теплохода.
— Приехали. Вот дом, а вот ворота. Здесь живет сэр Дэвид Патрик Аттенборо — отпрыск разорившегося древнего рода, ныне процветающий в деловом мире юрисконсульт, адвокат и вообще приближенное лицо моих и ваших нанимателей.
Глядя на дом и на высоченный забор, его окружавший, Рене поежился:
— Скажите, Чарли, а какого черта эти люди выбрали меня? Именно меня, а не кого-нибудь другого?
Митчел выдвинул пепельницу, взял из нее окурок своей вонючей сигары.
— Ну, прежде всего потому, что я дал вам достаточно лестную характеристику. А потом, — Митчел пожевал сигару, — не буду темнить, Рене. Немалую роль сыграло и то обстоятельство, что вы не коренной англичанин. В случае чего плакать о вас будет некому, а самое главное — некому будет поднимать шум.
— Это в каком же случае? — с некоторой нервозностью поинтересовался Хойл.
Митчел выразительно поднял очи к небу:
— Все в руках Божьих! Вы же не на воскресный пикник поедете, Рене. А деловые люди даром денег не платят. — Он покосился на хмурое лицо журналиста и дружески положил свою красную лапу на его плечо. — Но не думаю, что дело чрезмерно рискованное, во всяком случае, вам оно по плечу. А потому торопитесь, Рене. Фортуна капризна, я знаю это. Она редко бывает щедрой дважды.
— Она редко бывает щедрой и однажды, — вздохнул Рене, подумал и вдруг задорно вскинул голову. — А впрочем, не боги горшки обжигают!
— Вот это правильно. — Митчел слегка сжал его плечо и требовательно проговорил: — О деле с отмычкой и наших приватных беседах — ни слова! Взамен вам добрый совет, старина. Если дадите согласие, не вздумайте потом вилять, давать задний ход, а тем более, — в голосе детектива послышались хмурые нотки, — вести двойную игру в пользу вашей газеты или кого-нибудь еще. Это кончится для вас очень плохо.
— Меня лишат премиальных?
Митчел не ответил, лишь дружески подтолкнул журналиста в спину. Рене понимающе кивнул ему в ответ и неторопливо выбрался из машины.
— Удачи, — сказал ему вслед Митчел. — Попутного ветра и три фута под килем.
«Понтиак» приглушенно-благородно рявкнул мотором, резко взял с места, а Хойл остался перед высоким забором. За ним скромно возвышался двухэтажный, очень аккуратный дом с типично британскими черными натеками сажи на фасаде, которые придавали ему древний утомленный вид. Сделав несколько шагов вдоль забора, Хойл оказался перед калиткой, словно циклоп, строго глянувшей на него единственным оком, через которое было удобно рассматривать визитера. На полтора фута ниже глазка располагалась длинная и широкая щель почтового ящика, отделанная сияющей надраенной медью. Это делало щель похожей на полногубый, хищно приоткрытый рот. Подмигнув суровому дверному оку, Хойл деликатно нажал кнопку звонка. Калитку открывать не торопились. Выждав, по его понятиям, довольно долго, Хойл позвонил еще раз, теперь уже без особой деликатности. И снова никакого результата. Рене собрался позвонить в третий раз, но в это время калитка с приличествующей такому дому солидностью отворилась, открывая за собой газон, ласкающий своей зеленью глаз, печальные оголенные кусты роз, ухоженную дорожку, тянущуюся к дому, и литого мужчину с неподвижной и плоской, как фотография, физиономией. Расплющенный нос сразу выдавал его былую принадлежность к славной когорте боксеров-профессионалов.
— Меня зовут Хойл, Жюльен Рене Хойл, журналист, — непринужденно проговорил Рене.
В оловянных глазах, которые, не мигая, равнодушно разглядывали Рене, промелькнуло нечто вроде ленивой усмешки. Но бычья шея почтительно, с натугой склонилась.
— Сэр Аттенборо ждет вас, — прозвучал бесцветный голос.
Пальто, шляпу и зонтик приняла у Хойла пожилая женщина, такая же молчаливая и невыразительная, как привратник-телохранитель. Попросив подождать, она скрылась за массивной резной дверью из красного дерева. Через несколько секунд она вновь появилась.
— Сэр Аттенборо ждет вас.
Не без некоторого волнения Рене вошел в большой кабинет, уставленный тяжеловесной, находящейся в идеальном порядке, старинной мебелью. Аттенборо сидел за массивным столом и любовно укладывал на специальную подставку в форме китайской пагоды курительную трубку, чашечка которой была сделана в виде баварской пивной кружки с крышкой. На подставке красовались и другие трубки, очевидно, Аттенборо коллекционировал их. Бросив взгляд на журналиста, Аттенборо бережно спрятал трубки в шкафчик, встал из-за стола и направился навстречу приостановившемуся Рене. Двигался он непринужденно, но со странной развинченностью во всех суставах, напоминая марионетку, управляемую не очень опытным кукловодом.
— Мистер Хойл? Рад вас видеть, — сказал он, протягивая вялую холеную руку.
— Я тоже рад, сэр, — склонил голову Рене.
Усадив журналиста, Аттенборо пододвинул курительный столик:
— Сигару, сигарету, трубку?
— Не курю.
— О-о! Похвально! Я юрисконсульт, представляю интересы фирмы Невилла. Пригласил я вас сюда по одному весьма важному и конфиденциальному делу.
У Аттенборо был безукоризненный оксфордский выговор. Поколебавшись, он выбрал длинную египетскую сигарету.
— С вашего разрешения я закурю, мистер Хойл.
Аттенборо щелкнул зажигалкой и с наслаждением затянулся.
— Чарльз ввел вас в курс событий?
— Он меня заинтриговал.
— Да?
— Он сказал, что я могу бесплатно попутешествовать чуть ли не по всему земному шару. А нелюбовь к курению у меня, по-видимому, компенсируется любовью к путешествиям.
— И это все, что он вам сказал?
— Нет, он добавил, что за это путешествие я вдобавок получу кругленькую сумму.
Аттенборо тихонько засмеялся:
— И вы ему поверили?
Журналист пожал плечами:
— Отчасти. Мало ли какие странные фантазии приходят в голову богатым людям.
— Например?
— Н-ну, некоторые из них коллекционируют трубки, а курят сигареты.
Аттенборо снова негромко рассмеялся, благосклонно и вместе с тем очень внимательно разглядывая собеседника.
— Вы говорите по-английски с легким, но все-таки уловимым акцентом, мистер Хойл.
— Естественно, я вырос в Канаде, и моя мать была француженкой.
— Стало быть, вы говорите по-французски?
— Так же превосходно, как по-английски.
Аттенборо оценил шутку, благосклонно кивнул головой.
— А как обстоит дело с немецким?
— Я владею им свободно, но, — Хойл засмеялся, — немцы сразу догадаются, что имеют дело с британцем.
— Пусть себе догадываются. — Аттенборо неторопливо погасил сигарету, размял ее в пепельнице и поднял на журналиста острые черные глаза. Митчел вас не обманул. У вас есть возможность совершить увлекательное путешествие и заработать кругленькую сумму.
— Чем я заслужил такую честь?
— Н-ну, — в раздумье проговорил Аттенборо, — главным образом, своим журналистским, лучше сказать, репортерским талантом, умением сходиться с людьми, заставить их разговориться и так далее. И достаточной образованностью, которая, в противовес общественному мнению, вовсе не характерна для людей вашего круга.
— Никогда бы не подумал, что меня могут оценить так высоко.
— Разумеется, мы потребуем от вас определенного рода услуг.
Рене сокрушенно покачал головой:
— Как жаль, что невозвратно канули в вечность времена Гарун-аль-Рашидов и графов Монте-Кристо! Как скучен наш рационалистический мир, в котором все продается и за все нужно платить. Какого же рода услуги вам требуются? — уже деловито закончил он.
— Весьма деликатные и квалифицированные, — все с той же тонкой улыбкой ответил Аттенборо.
— Надеюсь, речь идет не о шпионаже? — с некоторым беспокойством спросил Рене. — Уверяю вас, в рыцари плаща и кинжала я не гожусь.
— А что вы называете шпионажем?
Хойл удивленно взглянул на него:
— Достаточно неделю посидеть у телевизора, чтобы получить об этом некоторое представление.
Аттенборо вежливо улыбнулся в ответ:
— Вы хотите сказать, что это слежка, стрельба, погони, мгновенно действующие яды, обольстительные женщины и супермужчины?
— Антураж, во всяком случае, именно таков. Но дело не в этом, дело в том, что за шпионаж сажают на электрический стул, вешают или расстреливают, в зависимости от национальных традиций. В лучшем случае, надолго сажают в тюрьму.
— Да, когда речь идет о государственном шпионаже, и решительное нет, когда одна частная фирма интересуется делами другой. Именно такого рода поручение мы и хотим вам дать.
— Какой же фирмой придется интересоваться мне?
— О подробностях вы узнаете, когда дадите согласие сотрудничать с нами, мистер Хойл.
Хойл задумался. Аттенборо предлагал ему не совсем то, о чем говорил Митчел. Но, возможно, Митчел знал лишь о первом этапе задания — найти Вильяма Грейвса. Может быть, даже он сам пытался решить эту задачу, но безуспешно. А после того, как Грейвс будет найден, встанет и задача сбора сведений.
Рене покачал головой.
— Вы предлагаете мне кота в мешке, — произнес он вслух.
— Я предлагаю вам стать если не счастливым, то достаточно обеспеченным и независимым человеком.
— А если я стану покойником?
— Что ж, покойником можно стать и в Лондоне.
— Ну, знаете ли, — глубокомысленно заметил Рене, — в Лондоне я стану солидным покойником-джентльменом, за моим гробом пойдут друзья, шеф скажет над могилой прочувствованную речь, а газета посвятит моей светлой памяти хвалебный некролог. А кем я стану на чужбине? Бездомным покойником-бродягой?
— Если бы дело было опасным, мы бы обратились к профессионалам, — мягко возразил юрист.
— Почему же вы к ним не обратились? Почему обратились именно ко мне?
— А вот это я объясню, когда заручусь вашим принципиальным согласием. Глаза Аттенборо спрятались в складках тяжелых век. — Мистер Хойл! Если вы пришли лишь за тем, чтобы вытянуть из меня максимум сведений, а потом устроить на этой основе дешевую газетную сенсацию, лучше не трудитесь понапрасну, расстанемся, как полагается деловым людям и джентльменам. И не забывайте, впрочем, как и во все другие времена, тайны, которые не созрели для раскрытия, пребольно кусаются.
Хойл глубоко задумался. Аттенборо, нимало не стесняясь, внимательно разглядывал его.
— Н-да, — сказал наконец Хойл и нервно потер руки, — что и говорить, вы меня заинтриговали. Но играть втемную? Согласитесь, с моей стороны это было бы опрометчиво, а с вашей — не по-христиански.
Аттенборо тонко улыбнулся:
— Считайте меня магометанином. На сегодня.
— Велик аллах и Магомет — пророк его? Боги и боги — Бог с ними. Бога поминали, кажется, и перед бомбежкой Хиросимы. Я имею в виду не религиозную, а деловую христианскую мораль, мораль бизнеса.
Глядя на журналиста с явным одобрением, Аттенборо мягко проговорил:
— Хорошо, мистер Хойл, вы так убедительны, что я пойду вам навстречу и приоткрою карты. Только прошу учесть, что все услышанное от меня должно остаться абсолютной тайной. Это прежде всего в ваших же интересах.
— Не считайте меня идиотом, — вздохнул Хойл, — мне вовсе не хочется стать покойником, даже респектабельным.
Аттенборо чуть склонил голову в знак того, что принимает к сведению слова журналиста.
— На первых порах, дорогой Рене, ваша задача будет предельно проста: вам придется отыскать одного человека и уведомить нас о его местонахождении. Затем вступить с ним в контакт и получить от него некоторые сведения научного и технического характера.
— А если он не захочет их дать?
Аттенборо предупреждающе поднял руку:
— Не будем забегать вперед, мистер Хойл.
Рене погладил подбородок, в его обычно спокойных глазах юрист с удовлетворением заметил азартные огоньки.
— Что же я получу в случае удачи, сэр?
— Мы поможем стать вам совладельцем газеты, в которой вы работаете сейчас.
— А если неудача?
— Мы оплатим все ваши расходы. И еженедельно будем выплачивать сумму, равную вашему тройному репортерскому жалованью.
— А аванс?
— За четыре месяца можете получить сразу.
— Тройное жалованье, — вздохнул Хойл, — не Бог весть какое богатство, но для простого журналиста не так уж и плохо. Предложение заманчиво, но вы понимаете, сэр, что большие дела не делаются наспех.
Аттенборо задумался, потом, не глядя на журналиста, сухо проговорил:
— Хорошо, мистер Хойл. Я даю вам сутки на размышление. Только сутки. Если вы завтра в это же время не придете ко мне, то можете вообще не приходить.
Глава 3
Отдохнув после обеда, часов в девять вечера Рене Хойл отправился прогуляться. Этот осенний вечер был на удивление теплым и безветренным, поэтому Рене не надел ни пальто, ни плаща, ни шляпы, но, конечно же, взял большой черный зонт, потому что англичанин без такого зонта — не настоящий англичанин.
До района Челси, куда собрался Рене, можно было добраться на такси, «подземкой» или даблдеккером. Такси было дороговато для простого журналиста, «подземка» — уж очень сера и мрачна для такого хорошего вечера, поэтому Хойл выбрал даблдеккер — красный двухэтажный автобус, красу и гордость фирмы «Лондон дженерал омнибус компани» и едва ли не самый популярный вид британского городского да и междугородного транспорта. По винтовой лесенке Рене поднялся на второй этаж, где были только сидячие места, да и вообще, как он отшучивался от коллег, знавших его «второэтажную любовь», второй этаж — ближе к небу и Богу.
В Челси Рене отправился в «Тоок» — популярный паб, в котором собиралась самая разношерстная публика, в том числе не прославившиеся, но рвущиеся к успеху артисты, художники, поэты и журналисты. Хойл прошел не в бар, где пили и спорили стоя, а в так называемый салон. Пиво здесь стоило на несколько пенсов дороже, но зато можно было посидеть за столиком, постучать костяшками домино и покидать медные стрелки в пробковый круг «дартс», стараясь набрать побольше очков.
Вероятно, по случаю хорошей погоды посетителей в пабе было немного. Хойл выбрал место поукромнее, заказал уже измученной, а потому не очень приветливой официантке сандвичей и пива, а пока бар-тендер с ловкостью фокусника выполнял заказ, незаметно, но внимательно огляделся.
Мистера Смита, или, как Рене называл его гораздо чаще, дяди Майкла, на встречу с которым он пришел, здесь еще как будто не было. Как будто? Дело в том, что Рене предупредил Смита о необходимости соблюдать определенную осторожность и конспирацию. Кто знает, какую личину дядя Майкл изберет сегодня? Тем более что опыта в такого рода делах у него столько, что впору бесплатно раздавать всем ищущим и страждущим. Вдруг ему придет в голову надеть рыжий парик или приклеить ассирийскую бороду? Журналист, удерживая смех, уткнул лицо в кружку светлого пива, которую вместе с парой сандвичей успела принести официантка. Когда Рене ставил кружку на стол, то увидел входящего в зал Смита. На этот раз он пренебрег маскарадом и явился сюда в строгом вечернем костюме. Костюм сидел на нем несколько мешковато, но все равно дядя Майкл выглядел несколько старомодным, респектабельным джентльменом. Правда, будь это не в Челси, а в каком-нибудь другом районе Лондона, его появление в пабе выглядело бы не совсем уместным и внешность бросилась бы в глаза. Но в Челси, в этом лондонском эквиваленте Монмартра, можно было встретить кого угодно. Говорят, что дождливым днем здесь появился на улице совершенно голый мужчина — очевидно, очередное экстравагантное пари. Никто особенно не удивился, во всяком случае, внешне этого не показал, только огромный бобби добродушно поинтересовался: «Надеюсь, вам не очень холодно, сэр?»
У Смита было массивное лицо с неожиданно маленьким упрямым ртом, тонкий с легкой горбинкой нос и близко посаженные темные глаза — типично валлийский облик. Да и в произношении дядюшки Майкла легко угадывались уэльские нотки. Жесткие, с заметной проседью волосы Смита были коротко острижены, лоб в крупных редких морщинах, возле рта — две тяжелые складки, а вот глаза смотрели неожиданно молодо, умно и насмешливо. Валлиец сразу же заметил Хойла и неторопливо подошел к его столику.
— Разрешите? — суховато спросил он, никак не афишируя их близкого знакомства.
— Прошу.
Смит вел себя очень скромно, но было в его манерах, выражении лица и взгляде нечто такое, что сразу ставило его в особое, привилегированное положение. Мигом появилась официантка с очаровательной улыбкой. Заказ валлийца был более чем скромен — виски с содовой и пачка сигарет (правда, и то и другое было первосортным), но ответное «йес, сэр!» официантки было столь почтительным, будто этот сухопарый кельт заказал ужин на десять персон с шампанским, трюфелями и икрой. С интересом наблюдая эту сцену, Рене мысленно позавидовал дяде Майклу и подумал, что ему самому еще многому предстоит научиться.
Равнодушно поглядывая мимо Рене, валлиец открыл пачку «Мальборо», зубами достал сигарету, щелкнул зажигалкой, однако попытка прикурить не удалась — зажигалка лишь напрасно выбрасывала пушистые снопики искр. Смит сердито шевельнул бровями, но, разумеется, не счел возможным докучать просьбой незнакомому человеку — для истинного англичанина такое поведение совершенно естественно.
Говорят, что когда четверо англичан после кораблекрушения попали на необитаемый остров и до того, как их спасли, пробыли вместе несколько суток, то они так и не обменялись ни единым словом: не были представлены друг другу! Как хорошо, что Рене Жюльен Хойл воспитывался не в Англии, а в Канаде!
— Не могу ли я помочь? — предупредительно проговорил Рене, вынимая из кармана зажигалку.
— Если это не затруднит вас.
— Рад быть полезным.
Прикуривая сигарету, Смит, не поднимая глаз, тихо, но очень внятно спросил:
— Что стряслось, сынок?
— Нужен ваш совет, дядя Майкл. Дело серьезное.
По-видимому, сигарета оказалась несколько влажной и никак не хотела прикуриваться.
— А что это за игры в сыщиков и гангстеров?
— За мной слежка, честное слово.
— Не начал ли ты баловаться наркотиками? Или синдромчик похмелья?
— Я застукал у себя на квартире рыжего Митчела.
В знак того, что он все понял, Смит опустил брови. Сигарета наконец-то прикурилась. Валлиец выпустил клуб дыма и, возвращая зажигалку, поблагодарил.
— Не будем говорить об этом, — ответил Рене, пряча зажигалку и снова принимаясь за пиво и сандвичи.
Подошла официантка, принесла скромный заказ валлийца и, вежливо осведомившись, не нужно ли чего-нибудь еще, удалилась. Покручивая пальцами бокал, так что в нем шуршали кубики прозрачного льда, Смит, не меняя равнодушного выражения лица, проговорил:
— Выйдешь отсюда после меня через пять минут. Поднимешься от Темзы до первого перекрестка, повернешь направо, отсчитаешь полсотни шагов и будешь ждать. Я подъеду на сером «ровере» и открою дверцу. Садись без приглашения.
Рене не сдержал улыбку.
— Операция дабл ю!
Отреагировав на эту фразу лишь недовольным движением бровей, Смит выпил свое виски, два глотка, в которых была всего унция спиртного, с пристуком положил на стол семиугольный пятидесятипенсовик, неторопливо поднялся и вышел.
Спустя пять минут Рене ловко вскочил в притормозившую на мгновение серую машину и сел рядом со Смитом. Валлиец с едва приметной улыбкой оглядел журналиста и не то попросил, не то приказал:
— Ну, жертва сыска, рассказывай.
Слушал Смит, казалось бы, с прохладцей, равнодушно, а на самом деле очень внимательно и почти не перебивал: за тридцать лет работы в лондонской полиции он научился слушать. Его руки в кожаных перчатках спокойно лежали на руле, взгляд был устремлен на темную ленту дороги, на силуэты и огни идущих впереди машин. Валлиец управлял автомобилем так, как это делают люди с большим опытом вождения, с крепкими нервами и хорошей сенсомоторикой.
Рене сказал, что когда он по чистой случайности заметил за собой слежку, то сначала все равно не поверил этому: кому да и зачем надо следить за простым журналистом? Но, видимо, подсознательно Рене тем не менее насторожился, потому что, вернувшись домой, с повышенным вниманием оглядел свою маленькую квартиру. И ему почудилось, что в квартире побывал кто-то чужой. Казалось бы, все вещи и безделушки стояли на обычных местах так, как они стояли всегда. Так, да не так! Упрекая себя за мнительность, Рене теперь уже внимательно обследовал свой письменный стол и почти уверился, что кто-то рылся в его бумагах. Последние сомнения исчезли, когда он обнаружил свежие царапины на замочной скважине миниатюрного сейфа. Призадумавшись, Рене вспомнил, что утром, когда он против обыкновения несколько задержался дома, раздался телефонный звонок. Незнакомый голос попросил к телефону не то Мэри, не то Мэнни, а затем извинился, сказав, что ошибся номером. Вся эта история со слежкой, обыском и телефонными звонками не столько напугала, сколько заинтриговала Хойла. Он решил устроить засаду.
— Уж эти мне самодеятельные пинкертоны, — проворчал Смит в пространство. — Вот так и получишь когда-нибудь пулю в живот.
Слушал он теперь Хойла не только внимательно, но и с профессиональным интересом. А Рене не без удовольствия и очень живо уже рассказывал, как он поймал Митчела на месте преступления, заставил его разговориться и выложить кое-какие сведения. Услышав имя Вильяма Грейвса, Смит насторожился, как старый боевой конь, заслышавший звук походной трубы. Он жестом прервал рассказ журналиста и переспросил:
— Вильям Грейвс? Ты не ошибся?
— Нет, Вильям Грейвс, — раздельно повторил журналист.
— Ты уверен, что речь идет об ученом-атомщике?
— Так мне сказал Митчел.
— Ну хорошо, продолжай.
Рене показалось, что Смит теперь слушал его рассказ не так внимательно, как прежде. Слушая, он еще и думал о чем-то, словно примерял, пристегивал сведения журналиста к своим данным и логическим построениям. Это несколько сбивало Рене с толку.
— Аттенборо так и не назвал тебе имя Грейвса? — спросил Смит, когда Хойл добрался до конца своей истории.
— Нет. Он сказал, что все подробности о деле я узнаю, когда дам официальное согласие на участие в нем.
Смит усмехнулся:
— Понятно, чего же еще от него ждать? Я хорошо знаю эту старую травленую лису. — Он помолчал. — Насколько я понял, сынок, ты сомневаешься, стоит ли тебе браться за это темное дело и тебе нужен мой совет?
— Вы абсолютно точно ухватили существо вопроса, дядя Майкл.
— Тогда посиди спокойно, помолчи и дай мне подумать.
Они миновали Вестминстер, Актон и выбрались на автостраду, ведущую к лондонскому аэропорту, тому, что возле Стенсского водохранилища. Несмотря на сравнительно поздний час, движение на автостраде было оживленным, в одном потоке катились лимузины и малолитражки, грузовики разных типов и габаритов, сундукообразные такси и солидные даблдеккеры. Только здесь попадались больше не внутригородские красные, а аэропортовские и междугородные, окрашенные соответственно в серый и зеленый цвета. Смит сидел за рулем со спокойным лицом, разве что крупные морщины на лбу обозначились резче обычного. Можно было решить, что он и не думает ни о чем, а просто ведет себе машину по ночной дороге, приглядываясь к плавающим в темноте разноцветным сигнальным огням попутных автомобилей. Но Рене, хорошо знавший дядюшку Майкла, понимал, что это не так, а поэтому, как и было приказано, сидел смирно и не мешал ходу мыслей опытного детектива.
Собственно, они не были родственниками, Рене называл Майкла дядей по прочно укоренившейся детской привычке. В годы второй мировой войны Эдвард Хойл, отец Рене, и Майкл Смит, канадец и англичанин, в разных ситуациях и в разное время попали в немецкий плен. А вот бежали из лагеря они уже вместе, бок о бок сражались в рядах французского Сопротивления и встретили союзные войска в Париже. Там же, в Париже, Эдвард Хойл познакомился с Жаннет Бланшир и вступил с ней в законный брак. В этом не было ничего удивительного, Эдвард был канадцем французского происхождения родом из Квебека. После окончания войны пути и судьбы боевых друзей разошлись. Эдвард Хойл с молодой женой вернулся на родину, получил техническое образование и работал на заводе электронного оборудования, не очень преуспевая, но и не испытывая серьезных неудач и провалов. Его доброжелатели говорили, что он был небесталанным инженером, но человеком слишком честным и щепетильным для большой карьеры. А Майкл Смит пошел служить в лондонскую полицию, проявил изрядный сыскной талант, стал видным инспектором Скотленд-Ярда, раскрывшим немало сложных и ответственных дел, разъезжал по всему свету. Несколько раз навещал он и семейство Хойлов, а однажды гостил целую неделю. С той поры Рене и стал называть его дядей Майклом.
— Рене, — Смит не отрывал взгляда от дороги, но чтобы привлечь внимание журналиста, положил тяжелую ладонь ему на колено, — забудь о том, что я тебе сейчас скажу. Во всяком случае, никогда и никому не говори об этом, а то у меня могут быть крупные неприятности. Обещаешь?
— Вы меня обижаете, дядя Майкл.
— Пустое. Просто учитываю, что ты еще молод, несколько самонадеян, вот и страхуюсь. Ты не сердись.
— Постараюсь.
Они обменялись улыбками.
— Последнее время, Рене, я нередко выполняю особые и, прямо скажем, деликатные поручения: расследую махинации в сфере частного атомного бизнеса.
— Разве есть частный атомный бизнес? — удивился Хойл. — Я считал, что атомные исследования и производство развиваются в рамках государственных проблем.
— Само собой. Но к выполнению этих программ подключены частные фирмы с их капиталами, специалистами и производственными мощностями. Именно этот альянс «государство — частный капитал» и позволил сравнительно быстро развернуть в Штатах и других промышленных странах сеть коммерчески выгодных ядерных энергостанций. Для частных фирм речь шла о сверхприбылях, а какой бизнесмен устоит перед такой заманчивой приманкой? — Смит помолчал и уверенно закончил: — А где сверхприбыли, там махинации, аферы и авантюры.
Рене покосился на тяжелое, равнодушное лицо старого детектива и усомнился:
— Так ли? Насколько мне известно, ядерное производство хорошо организовано и четко контролируется.
Смит снисходительно взглянул на журналиста:
— Ты недооцениваешь силы денег, сынок. А в мире бизнеса все продается и покупается, дело только в цене. Деньги срывают покрывало с любых тайн, открывают любые замки и двери. Скажи вот мне, какое вещество ценится сейчас дороже всего? Только не роняй себя в моих глазах и не говори мне ничего о золоте. Килограмм современного боевого самолета, обыкновенной серийной машины, стоит значительно дороже килограмма чистого золота.
— Это я знаю, дядя Майкл. — Рене ненадолго задумался. — Какой-нибудь из рабочих изотопов урана?
— Да, обогащенный уран стоит недешево, и его запасы охраняются не менее бдительно, чем сейфы форта Нокс. И тем не менее, — старый детектив ухмыльнулся, — с одного из обогатительных заводов в Штатах вывезли несколько сот тонн обогащенного урана. Говорят, что это сделали израильтяне и что они тайно изготовляют атомные бомбы.
— И это мне известно, дядя Майкл, — терпеливо заметил Хойл. — Как-никак профессия обязывает.
Наверное, валлийцу не понравился этот тон. Он покосился на Рене и проворчал:
— Профессия! Сегодня журналисты говорят одно, завтра забывают об этом и утверждают противоположное, а самый смысл своих слов не всегда понимают. Вы рабы фактов, а ведь нет ничего глупее факта, важен не самый факт, а его толкование. А вот самое дорогое вещество, сынок, сейчас — это лунный грунт. Ученые мужи трясутся над каждой пылинкой, — в голосе Смита появились суровые нотки. — И все-таки какие-то ловкачи обзавелись образцами лунного грунта! Держу пари, что они сейчас рядом с бриллиантами и древними манускриптами красуются в частной коллекции какого-нибудь финансового воротилы. А то и в медальончике на юной шейке его возлюбленной.
— Атомная энергостанция — не талисман, на шею ее не повесишь и в частной коллекции не спрячешь. Она должна работать, — возразил Рене.
Смит снисходительно взглянул на него:
— Вас, газетчиков, питают информационным обратом, который политики и дельцы сдабривают приправами на свой лад и вкус. А сливки оседают в их сейфах. Истина в наше время как амброзия, пища богов, недоступна простым смертным.
— А как же свобода слова и печати? — не без лукавства спросил Хойл. — У вас опасные красные мысли, мистер Смит. Вы клевещете на добрую старую Англию.
Валлиец шевельнул бровями и заулыбался.
— Но это лишь мысли, Рене, всего лишь мысли, не так ли? — Он удобнее перехватил руль. — Мне уютно живется в доброй старой Англии, сынок, у меня кругленький счет в банке и обеспеченная старость. Опасные мысли не мешают мне, как и многим другим британцам, добросовестно выполнять свой служебный долг. И этот долг заставляет меня видеть мир не в иллюзорном свете пропаганды, а таким, каков он есть в действительности. А действительность такова, что где сверхприбыли, там мошенничества и аферы. Думаешь, атомные энергостанции составляют исключение? Как бы не так! В погоне за этими самыми сверхприбылями многие из них сооружены без надежных систем обеспечения безопасности. Особенно в Штатах. На атомных станциях были уже десятки сбоев и мелких аварий. Но эту информацию стараются намертво хранить, прикрываясь интересами национальной безопасности. — Смит хмыкнул. — Национальная безопасность? Может быть. Но не это главное! Замораживая информацию об атомных неполадках и авариях, политики и чиновники охраняют интересы крупного бизнеса. И получают взятки за это!
— Так уж взятки? — подзадорил валлийца Хойл.
Смит посмотрел на него, как на ребенка.
— Ну а ты как думал? Вот всплыло дело фирмы «Локхид», и выяснилось, что взятки от нее получали и министры, и премьер-министры, и короли, и принцы. Атомный бизнес засекречен покрепче авиационного, поэтому до поры до времени ничего не всплывает наружу. А махинаций сколько угодно! Чтобы дело не заходило слишком далеко, государство подключило полицию, избегая всякой огласки, естественно. Вот так твой покорный слуга Майкл Смит познакомился с некоторыми тайнами атомного предпринимательства и злоупотреблений. Валлиец сердито шевельнул бровями и угрюмо закончил: — Переслушал я кучу экспертов, говорят они разное и высказываются очень осторожно. Настропалились в наше время профессора и соблюдать свою выгоду, и темнить, играя словами так, что не поймешь, где черное, а где белое. Иной раз мне представляется, что все в порядке, а иногда… Не хочется быть злым пророком, Рене, боюсь накаркать, как говорят простые люди, но чудится мне иногда, что некоторые промышленные реакторы вовсе не так уже надежны, как это расписывают. И что рано или поздно какой-нибудь забарахлит по-настоящему и рванет почище водородной бомбы!
Рене поежился:
— Вы не преувеличиваете, дядя Майкл?
— Может быть, и преувеличиваю, да разве в этих делах это большая беда? Но пока все идет более или менее гладко, ворошить эту предпринимательскую атомную грязь бесполезно: и делу не поможешь, и себя погубишь.
Майкл Смит и Рене Хойл взаимно доверяли друг другу. Не будь этого, детектив никогда бы не заговорил с ним о тайнах атомного бизнеса. Отец Рене Эдвард Хойл погиб в автомобильной катастрофе, когда сыну исполнилось пятнадцать лет. Внезапная гибель отца, здорового, полного сил, веселого мужчины, потрясла Рене своей нелепостью, несправедливостью и невозвратностью. Майкл Смит, прилетевший на похороны, несколько раз пытался поговорить с Рене, но тот словно окаменел, либо отмалчивался, либо ронял в ответ не всегда подходящие к разговору слова. После одной из таких неудачных бесед валлиец тяжело поднялся, подошел к Рене, положил ему на голову свою большую ладонь и заставил поднять глаза. «Сынок, — проговорил Смит, ненадолго замолчал и повторил: — Сынок, ты можешь на меня рассчитывать». Эта сцена произвела впечатление на Рене, врезалась в память. Но, может быть, он бы и не придал серьезного значения словам валлийца, если бы не напутствие матери. Она умерла через три года после смерти отца от быстро прогрессировавшего рака печени. Незадолго перед кончиной она сказала сыну: «Я написала Майклу, Рене. Это верный человек. В случае чего он тебе поможет». После смерти матери Рене пришлось покинуть Канаду и перебраться в Штаты, в Массачусетс, к дальним родственникам отца. Там он поступил в технологический институт… И когда ему действительно пришлось плохо, Майкл Смит не оставил его в беде и помог перебраться в Англию, где Рене Хойл начал новую жизнь — сотрудника газеты, а затем репортера и журналиста. Так что старый детектив имел все основания доверять Рене Хойлу и вести с ним откровенный разговор.
Серый «ровер» добрался до развязки на автостраде, что возле аэропорта, Смит съехал по одной из вспомогательных дорог и направился обратно, к Вест-Энду.
— Мы с тобой немного отвлеклись от главной темы, — сказал Смит, когда их машина влилась в основной поток автомобилей. — Ты полюбопытствовал, с какой стати Митчелу вздумалось потрошить твою квартиру?
— Митчел сказал, что у его нанимателей возникло желание узнать, что я за птица.
— Понятно. А как ты думаешь, докопались они, что ты побывал в заключении? И за какие грехи?
— Не знаю, расспрашивать я не стал.
— Полагаю, они до всего докопались, почти до всего. Но не придали этому значения. Подумаешь, участие в студенческих беспорядках! Эта грязная война во Вьетнаме не была популярна даже в деловых кругах. Может быть, сэр Аттенборо даже рад, что ему известны твои грешки. Это поможет ему держать тебя на крючке, если ты добьешься успеха.
Смит затормозил так резко, что Хойл едва не ткнулся лбом в переднее стекло. Впереди была пробка. Какая-то легковушка, кажется «фольксваген», зацепила на обгоне могучий рефрижератор, который скорее всего вез из аэропорта экзотические скоропортящиеся фрукты, вроде манго. Уже через несколько минут «фольксваген» оттащили влево, на обочину дороги.
— Моей первой мыслью, когда я услышал от тебя о деле Вильяма Грейвса, было посоветовать тебе держаться от него подальше.
— Почему?
— Это либо афера, либо авантюра атомного бизнеса. Скорее всего, хорошо организованная афера. А такие дела пребольно кусаются, когда в них суются посторонние.
Затор ликвидировали, и, когда плотная многорядная колонна автомашин, постепенно набирая скорость и растягиваясь как резиновая, устремилась дальше, Смит продолжил:
— Но несколько крупных фирм из разных стран клюнуло на это. Они стараются разнюхать об этом деле как можно больше, а еще сильнее озабочены тем, чтобы сведения не попали в руки конкурентов. Поэтому контрагенты этих фирм не столько продвигаются вперед, сколько старательно вставляют палки в колеса друг другу, исповедуя старый принцип светских блудниц: лучше видеть любовника на смертном одре, чем в постели соперницы. В подобной ситуации вместо хорошо известных профессиональных коммерческих агентов или детективов лучше использовать человека неизвестного, со стороны. Отсюда и интерес к такой темной лошадке, как журналист Рене Хойл.
— Судя по всему, меня собираются сунуть в настоящее осиное гнездо.
— О да, — спокойно согласился валлиец, — и у тебя немного шансов выбраться из него неужаленным. Скорее всего опытные конкуренты возьмут тебя на поводок и либо скушают, либо выдоят все, что тебе удастся установить.
— Скушают? Это в каком смысле?
— Не в буквальном, конечно. Конкретные меры зависят от обстановки и личных наклонностей исполнителя. Но, в принципе, все средства дозволены: подкуп, шантаж, обольстительные девицы, снотворное, на крайний случай пуля. И все-таки я советую тебе взяться за это дело.
— Где же логика?
— А логика в том, что это выгодно и перспективно в смысле твоей дальнейшей газетной карьеры. Пройти же по кругам этого ада помогу тебе я. У меня есть давние прочные связи во многих странах. Но дело не только в личной выгоде, сынок. Ты знаешь, что такое нейтронная бомба?
Удивленный этим неожиданным поворотом разговора, Хойл ответил не сразу.
— О таких бомбах заговорили, насколько мне известно, еще в пятидесятых годах. Чистые бомбы! Потом замолчали. А теперь начался новый бум под лозунгом нейтронного оружия. — Рене задумался, глядя на сигнальные огни впереди идущих машин. Они плавали и покачивались в темноте, словно крупные разноцветные светляки, помаргивали и нашептывали разные разности. — При взрыве такой бомбы образуется мощный поток нейтронов. Люди мрут, как мухи, а города, заводы и энергостанции остаются целыми и невредимыми. И по этой причине нейтронную бомбу называют гуманным оружием, хотя в чем тут гуманность, по-моему, и сам Соломон не разберется.
— И разбираться не в чем, все дело в бизнесе. Когда речь идет о крупном куше и сверхприбылях, наши парламентарии вкупе с черными котелками и вашей братией — журналистами — перекрасят сатану в самого Господа Бога. А уж о каком-то паршивом гуманизме и говорить не приходится! Бизнесмен остается бизнесменом независимо от того, что он строит, — тюрьму или театр. Запасы ядерного сырья растут из года в год, а ведь это потенциальные миллиарды долларов и фунтов. Они жгут души бизнесменов почище искушений святого Антония. Отсюда новый бум нейтронной бомбы и ее гуманность. А заговорил я об этом потому, что Вильям Грейвс, судя по всему, безусловно причастен именно к нейтронному бизнесу.
Биография у него путаная еще больше, чем у тебя. Сначала он работал в Лоуренсовской лаборатории, в Беркли. Потом в роли одного из ведущих инженеров занимался сооружением коммерческих ядерных энергостанций в Штатах. В конце шестидесятых годов неожиданно получил солидное наследство, службу бросил и занялся чистым атомным бизнесом. Сумел заинтересовать несколько фирм, в частности, твоего нанимателя Невилла, и получил от них финансовую поддержку. И вот тут началось самое интересное и загадочное. Около года назад Вильям Грейвс все свои договоры с фирмами расторг, через третьих лиц уплатил неустойки, а сам исчез. И тебе придется потрудиться в поте лица, сынок, чтобы найти его.
— Ищите и обрящете, толцыте и отверзнется, и дастся вам! — продекламировал Хойл.
— Вот именно, — спокойно одобрил валлиец. — Не забывай слово Божие, в конце пути оно может тебе пригодиться.
— Пугаете, дядя Майкл?
— Осаживаю, Рене, осаживаю. Все, что сейчас известно о Грейвсе, — это болтовня и слухи, полученные от третьих лиц, с которыми он не имел прямых контактов. Но если этот информационный мусор процедить и профильтровать, то вырисуется такая странная картина: Вильям Грейвс возглавляет небольшую, но хорошо организованную и отлично законспирированную террористическую группу. Того самого крайне левого направления, которое с равным успехом можно назвать и крайне правым.
— Нечто китайское?
Смит поморщился:
— Я не сторонник навешивания ярлыков, сынок. Конечно, это экономит мышление, но затуманивает реальность, а мне это ни к чему. И потом, знаешь, как говорят на Востоке? Черная собака, белая собака — все равно собака. Мне начхать на политическую окраску группы Грейвса, террористические организации плодятся сейчас как кролики, разве все упомнишь. Меня пугают возможности Вильяма Грейвса. Говорят, что Грейвс синтезировал какой-то новый элемент и дал ему собственное имя. Грейвсит будто бы обладает чудовищной энергией и при взрыве излучает чертову уйму нейтронов. Говорят, что грейвситовая бомба может выжечь целое государство и погубить и людей и зверье на всех британских островах с побережьем Западной Европы в придачу.
Рене пожевал губами, точно пробуя это сообщение на вкус, и мягко сказал:
— Эти слухи хороши для газетной утки, для журнальной сенсации, наконец. Но не для серьезных опасений.
Валлиец вздохнул:
— Мои шефы думают точно так же. И ребята из секретной службы поют то же самое. А у меня болит сердце. Если грейвсит только блеф, какого черта частные фирмы так жадно тянутся к нему? Гуманизм, права человека, счастливое будущее… Да наплевать им на все это! Набить бы карманы, а там хоть всемирный пожар, хоть потоп.
— Да вы определенно не любите предпринимателей, дядя Майкл!
— Я ненавижу войну, Рене! — резко обернулся Смит к журналисту и угрюмо закончил: — И, как теленок, терпим ко всему остальному.
Они снова ехали в городской автотолчее, приближаясь к Вестминстеру, чтобы теперь миновать его с другой стороны, через Паддингтон.
— Иногда мне снятся развалины Ковентри, — вдруг сказал Смит, развалины, которые похоронили всю мою семью. Тогда я просыпаюсь и долго не могу заснуть снова. Разные мысли приходят в голову. Мне вспоминается проклятая тень на белой стене Хиросимы — все, что осталось от человека, испепеленного дьявольским огнем. Мне мерещится пухлое чрево термоядерного взрыва, со скоростью курьерского поезда взлетающее в стратосферу. Я видел, как растут эти смертельные грибы воочию, а не на киноэкранах. Сон долго не идет ко мне, а старое сердце болит и ноет.
Рене был тронут, он осторожно прикоснулся к руке валлийца, точно погладил ее.
— Я тоже ненавижу войну, дядя Майкл. И разделяю вашу тревогу, но, журналист замялся, — грейвсит — это утопия, блеф, афера, как вы говорите. Не может одиночка-ученый синтезировать сверхмощную ядерную взрывчатку!
Смит покосился на него и вкрадчиво спросил:
— А если не блеф? Веками твердили, что история о том, как Архимед сжег вражеские корабли солнечными лучами, — сказка. Оказалось, не сказка, быль! Иногда ученые намного опережают свое время, сынок. Я не мастер говорить громкие слова, но наш с тобой долг, долг перед людьми, разобраться в деле Грейвса. Понимаешь, разобраться! Тем более что подворачивается удобный случай и можно совместить приятное с полезным. Грейвсит — блеф! Ты получишь свои денежки от старой лисы Аттенборо, я протяну тебе руку помощи, и ты станешь солидным совладельцем газеты. Но если грейвсит не блеф? Ты представляешь, каких бед могут натворить бешеные террористы, располагая таким оружием?! Что если им придет в голову спровоцировать глобальную ядерную войну?
— Дядя Майкл! — увещевающе сказал журналист. — Что вы меня уговариваете? Я вовсе не собираюсь отказываться от дела Грейвса.
— Если бы ты отказался, я бы перестал тебя уважать. Я хочу, чтобы ты не только взялся за это дело, но и выполнил его успешно. Это будет достойная игра, сынок, и, может быть, тебе придется походить по самому краешку обрыва, да еще с завязанными глазами.
— Но ведь у меня будет надежный поводырь, не так ли?
— Вот это я тебе обещаю твердо. Давай на этом разговор и закончим. А когда ты дашь свое согласие и получишь информацию от сэра Аттенборо, встретимся еще раз, а может быть два или три, и обмозгуем твою операцию по всем правилам.
Смит высадил Рене из машины за два квартала от дома. Заметно похолодало. Рене поежился и ускорил шаг. Хорошо бы выпить виски или так модной сейчас водки. Но пабы закрыты и бар-тендеры уже проговорили свою сакраментальную тривиальную фразу: «Тайм, джентльмены, плиз». Рене поежился и торопливо зашагал навстречу редким прохожим. Городские огни впереди тускнели и исчезали один за другим, словно кто-то невидимый и страшный, как бесплотная и яростная тень нейтронной бомбы, гасил, задувал их один за другим. Страх шелохнулся в сердце Рене. Но он тут же улыбнулся — это был самый обычный лондонский туман.
Глава 4
Вода в бассейне, только что покинутом пловцами, постепенно успокаивалась; поверхность ее курилась легким паром, каким курится влажная вспаханная земля в теплый и солнечный весенний день. Вода была подогретой, тренироваться в таком бассейне в промозглую осеннюю погоду, когда из серых туч того и гляди посыплют первые снежинки, конечно же, было особым шиком; и стоили такие тренировки дороже, чем в крытом бассейне.
Под козырьком навеса на краю бассейна, куда с мягким шорохом подавался через решетки теплый сухой воздух, расположилась разновозрастная и разноликая группа любителей-спортсменов. Тренер с типичной для пловцов полноватой фигурой говорил что-то, подчеркивая слова мягкими, но весомыми движениями руки. За невысоким ограждением бассейна виднелись яркие здания с высокими крышами, метлы и веники обнаженных деревьев и до оскомины острая зелень лужаек. Все это дрожало в струях теплого парного воздуха, то таяло, то проявлялось снова, отчего город казался не настоящим, а театральной декорацией, на фоне которой вот-вот должно было разыграться сказочное действие.
Рене сидел на краю бассейна, болтая ногами, и с бездумной улыбкой поглядывал по сторонам — у него было прекрасное настроение. Оно и понятно, сегодня, на пятый день пребывания в Копенгагене он таки добрался до Бенгта Серлина, не зря он часами просиживал в местном шахматном клубе и внимательнейшим образом прислушивался ко всем разговорам.
Когда Рене Хойл изъявил желание сотрудничать с фирмой Невилла, подписал заранее заготовленное обязательство и получил оговоренный аванс, Аттенборо ввел его в курс дела. Начал он с довольно подробного рассказа о Вильяме Грейвсе и попросил быть внимательным, подчеркнув, что в том деликатном деле, которое поручено журналисту, любая мелочь может оказаться существенной и в нужный момент сыграть свою роль.
Есть предположение, что Вильям Грейвс совсем еще молодым человеком в начале пятидесятых годов начал работать на каких-то второстепенных должностях в знаменитой Лоуренсовской лаборатории радиации в Беркли, что в Калифорнии, неподалеку от Сан-Франциско. Чтобы Хойл лучше себе представлял ситуацию, Аттенборо коротко рассказал и об этой лаборатории. Лоуренсовской она называлась потому, что в 1930 году Эрнст Лоуренс впервые в мире сконструировал и построил в Беркли циклотрон, предназначенный для ускорения заряженных частиц. Затем были созданы и более мощные ускорители, в том числе знаменитый 184-дюймовый синхроциклотрон. Постепенно, особенно после того как в 1947 году в США была создана комиссия по атомной энергии, лаборатория Лоуренса превратилась во всемирно известный центр ядерной физики и химии. Она дала научному миру несколько лауреатов Нобелевской премии, в ней было синтезировано и выделено большинство трансурановых элементов, начиная от нептуния и плутония и кончая нильсборием и ганием. Соперничать с Лоуренсовской лабораторией может лишь Объединенный институт ядерных исследований, размещенный в Советском Союзе, в Дубне, что под Москвой. Именно Дубна, опираясь на свой синхрофазотронный ускоритель с энергией выхода частиц до 10 млрд. электрон-вольт, а затем и на еще более мощный Серпуховский ускоритель, перехватила у Беркли инициативу и, начиная с 1964 года, первой выполняла синтез все более далеких трансуранов.
Фортуна благосклонно глянула на Вильяма Грейвса где-то в середине 50-х годов, когда американская комиссия по атомной энергии привлекла к решению атомных проблем частные фирмы. Достоверно известен факт, что Грейвс принимал участие в строительстве промышленной атомной электростанции, которая оказалась наиболее удачной с коммерческой точки зрения: себестоимость ее электроэнергии была практически равна себестоимости электроэнергии обычных тепловых станций. Видимо, тут впервые в полной мере проявился инженерный талант Грейвса, его способность оригинально и эффективно решать сложные технические проблемы. Его приметил председатель крупнейшего атомного концерна, впрочем, это мог сделать и кто-либо из его ближайших заместителей. Так или иначе, но Грейвс начинает принимать участие в работах лаборатории этого концерна по выделению трансуранов в макроколичествах, достаточных для выполнения ординарных физических, химических и ядерных экспериментов. В 1958 году он работал над выделением девяносто восьмого элемента, калифорния-252, а в 1961 году — над выделением последующего трансурана, эйнштейния.
Аттенборо заметил, что при упоминании о трансуранах по губам журналиста скользнула легкая улыбка, и спросил:
— Наверное, вы немного знаете о трансуранах, мистер Хойл?
— Примерно то же, что и любой другой образованный газетчик. Уран — это девяносто второй элемент менделеевской таблицы, последний из тех, что встречаются в природе. Ну, а все остальные элементы за ураном, более тяжелые, — девяносто третий, девяносто четвертый и так далее — это и есть трансураны. Их получают или на атомных реакторах, или на ускорителях в ходе каких-то хитроумных ядерных фокусов.
Аттенборо покивал.
— Ну, а что вы можете сказать об их экономическом значении?
— По-моему, такое значение имеет лишь один плутоний. Его производят многими тоннами и используют для начинки атомных бомб и загрузки энергетических и ходовых реакторов. В общем, это своеобразный эквивалент урана-235.
— Верно.
— Что же касается остальных трансуранов… — Рене задумался и без особой уверенности продолжил: — По-моему, они имеют, так сказать, лишь высоконаучный, может быть, престижный интерес. А с практической точки зрения они — что-то вроде мертворожденных детей. Получают их в таких мизерных количествах, что и в микроскоп не всегда углядишь. Да и живут они сутки, секунды, а то и ничтожные их доли! И распадаются — будто их и не было.
Аттенборо скорбно вздохнул:
— Свое невежество в этом вопросе, дорогой Рене, мягче об этом не скажешь, вам надо ликвидировать основательно и как можно скорее. Мы перешлем вам подборку специальных, но вместе с тем достаточно популярных и емких в информационном отношении статей. Проштудируйте их основательно. Юрисконсульт помолчал, морща лоб. — Вы жестоко ошибаетесь, утверждая, что далекие трансураны производятся в таких мизерных количествах, которые невозможно усмотреть невооруженным глазом. Калифорний сейчас производится десятками килограммов! Один из его изотопов весьма стабилен, период его полураспада более двухсот пятидесяти тысяч лет. Время, более чем достаточное для создания сколь угодно больших запасов, и его реальные запасы действительно растут год от года. А ведь это потенциальные миллиарды долларов прибыли! Складывается парадоксальная ситуация. Мертвый, недвижимый капитал — в деловом мире явление в высшей степени необычное, беру на себя смелость сказать, — нетерпимое. Нонсенс! Свободные предприниматели — трезвые реалисты, их гибкая мысль не может не искать путей выгодного применения далеких трансуранов. Некоторые области такого рода хорошо изучены и освоены, — голос юрисконсульта приобрел скучающую окраску. — Иглы и щупы с наконечниками из калифорния — превосходное средство для локального лечения раковых опухолей. Трансураны применяются для создания своеобразных «вечных» источников энергии, которые устанавливаются в автоматических приборах. Но я буду откровенен, все это жалкие крохи того роскошного пирога, который давно испечен и который осталось лишь разрезать и съесть.
Аттенборо передохнул и продолжил уже наставительно.
— Мы должны думать о безопасности свободного мира, — в голосе Аттенборо послышались елейные нотки. — Не без некоторой скорби, с сожалением и горечью в сердце, мы должны вооружиться, чтобы не оказаться беззащитными перед бронированной лавиной, которая готова хлынуть на нас с Востока. Даже пламень ядерного взрыва далеко не всегда может разрушить броню современных танков. Единственное средство, которое, как меч Господень, способно рассечь любые преграды и поразить посланцев зла, — это незримый и могучий нейтронный поток, его не способна существенно ослабить самая мощная защита. В этом отношении трансураны вне конкуренции! Чем больше атомный вес трансурана, тем больше у него избыток нейтронов. Даже в своем естественном состоянии калифорний-252 излучает в триста раз больше нейтронов, нежели другие, самые лучшие источники. Небольшие количества этого элемента по своей нейтронной мощности сравнимы с целым ядерным реактором.
Бледные щеки Аттенборо слегка порозовели, глаза заблестели, в голосе послышались вдохновенные нотки.
— Трансураны незаменимы для создания нейтронных боеголовок. И что очень важно, критическая, самовзрывающаяся масса у них невелика, у калифорния это единицы граммов против сотен граммов урана и плутония. На основе калифорния можно создать мини-ядерные боеприпасы: гранаты, компактные мины, может быть, даже ядерные пули!
Юрисконсульт сделал рукой энергичный широкий жест и чуть не сбил со стола курительные принадлежности. Это несколько погасило его пыл, и он продолжал уже в своей обычной сдержанно-вкрадчивой манере.
— Вернемся, однако, непосредственно к Вильяму Грейвсу. Он был человеком незаурядным. Я говорю был, потому что не знаю, что он представляет собой сейчас. Его интересовали, помимо ядерной физики, философия, социология и теология. Религиозным, а тем паче набожным человеком он не был, но верил в существование вселенского космического разума. Периодически увлекался игрой в шахматы и… м-м… теорией игр вообще. Когда весьма неожиданно в конце шестидесятых годов получил довольно крупное наследство, немедленно расстался с Лоуренсовской лабораторией и решил заняться научными исследованиями на свой риск и страх. Он покинул Штаты, хотя и сохранил американское гражданство, обосновался во Франции, часто наезжал в Англию, несколько раз побывал в Габоне. — Аттенборо поднял тонкий длинный палец. Обратите на это внимание. Вильям Грейвс сумел заинтересовать нашу фирму, предложив нам участие в финансировании предприятия, связанного с разработкой дешевого и эффективного метода получения далеких трансуранов в крупных, промышленных количествах, но в один прекрасный день Вильям Грейвс порвал дела с нашей фирмой и канул в неизвестность. Нынешние сведения о Грейвсе туманны и противоречивы. По одним — он возглавил некую террористическую группу, по другим — он содержится в этой группе на положении пленника. Так или иначе, почти не вызывает сомнений тот факт, что эти экстремисты хотят вооружиться нейтронным мини-оружием, провести с помощью его несколько громких акций и на этой основе начать крупный шантаж. Ядерное оружие в руках террористов! Это ужасно!
— Они что же, хотят производить нейтронное оружие частным порядком?
— Именно так, мистер Хойл.
— Разве это возможно?
— Вы недооцениваете силы денег, Рене. С их помощью можно все или почти все. Мы консультировались, сделать нейтронную бомбу на основе калифорния не так уж сложно. Заказы на отдельные части можно через третьих лиц разбросать по разным фирмам так, что об их общем назначении догадаться будет невозможно. Все дело в наличии трансуранов. А судя по всему, Вильям Грейвс сумел разработать неожиданно простой и дешевый метод их получения. Современные террористы имеют собственные самолеты, вертолеты, бронемашины, ракеты и другое оружие. Почему бы им не предпринять попытку нейтронного вооружения? Такая возможность существует, вы должны принять ее к сведению и преисполниться серьезности к поручаемой вам операции.
— Когда такие требовании подкрепляются чеками, они легче доходят до сердца и сознания, — усмехнулся журналист.
— Разумеется, солидное финансовое обеспечение всегда придает бодрости. — Аттенборо умолк, повернув голову в сторону курительного столика. Его сухое интеллигентное лицо было в этот момент столь значительно и сосредоточенно, что можно было подумать — он решает некую сложную проблему всемирного значения. Однако Аттенборо всего-навсего гадал, что ему взять, сигару или сигарету. Остановившись наконец на сигаре, он осторожно извлек ее из ящика, аккуратно обрезал кончик и, не торопясь, принялся раскуривать.
— Итак, мистер Хойл, повторяю: вы поедете в Данию, в Копенгаген. Поедете под собственным именем, как журналист и корреспондент своей газеты, разумеется, с вашим шефом этот вопрос будет отрегулирован. Там вы отыщете Бенгта Серлина, вступите с ним в контакт, пустите в ход свою ловкость и обаяние и выведаете все, что ему известно о Вильяме Грейвсе и его делах. Прикрытие у вас просто отличное: журналист ищет встречи со знаменитым шахматистом, претендентом на мировую шахматную корону — разве это не естественно?
Рене недоуменно поднял брови:
— Подождите, так это тот самый Бенгт Серлин? Какое же отношение может иметь шахматист к инженеру? А ядерные боеприпасы — к этой древней игре?
— Вот это вам и предстоит выяснить! — с видимым удовольствием проговорил Аттенборо. — Учтите, с Серлином уже не раз беседовали, и наши представители, и, м-м, наши конкуренты. Серлин кое-что рассказал, но не все, я убежден в этом. Говоря юридическим языком, он говорил правду, но не всю правду. Чтобы он выложил ее полностью, надо ему понравиться, он человек гордый и самолюбивый. Надо зацепить какую-то струну его личности, влезть к нему в душу, образно говоря, заинтересовать его в деловом плане. Понимаете?
— Понимаю, — без всякого энтузиазма сказал Рене, — но это не очень приятно — из корысти лезть в чужую душу.
— Верно, — серьезно согласился юрист, — но любое серьезное дело требует если не жертв, то компромиссов. Не так ли?
— Что еще известно о Серлине?
Аттенборо ответил не сразу.
— Мы долго колебались, что вам сообщить. И решили — ничего. Это не недоверие. Просто иногда выгоднее заново построить дом, чем ремонтировать старый. Начиная с пустого места, вы будете естественнее. Это так важно, когда речь идет о чужой душе. Адреса, телефоны и другие технические мелочи вы, разумеется, получите.
Аттенборо замолчал, но Рене чувствовал, что разговор еще не закончен и юрист приберег напоследок нечто важное. Он не ошибся.
— И последнее, мистер Хойл, — с особой четкостью выговаривая слова, начал Аттенборо. — Помимо всего прочего, у вас будет доверенность на ведение дел от имени фирмы Невилла. Это очень-очень большое доверие.
— Понимаю, сэр, — склонил голову Рене.
— Да, это надо и понять и оценить. Но эта доверенность будет козырем, который вы пустите в ход лишь в решающий, переломный момент игры. Когда вы почувствуете, что чаша весов колеблется, когда вы уловите, что недостает лишь последней соломинки, чтобы сломать спину вашего противника.
— Понимаю, сэр, — чуть улыбнулся журналист.
— Мы не знаем, кто конкретно финансировал предприятие Грейвса, но имеем достоверную информацию о том, что оно заморожено и приносит не доходы, а убытки. В такой ситуации бизнесмены уступчивы. Если вам удастся выяснить, что предприятие Грейвса перспективно, вы можете попытаться его перекупить или, во всяком случае, добиться участия в нем. Не скупитесь на обещания, но окончательное оформление дел, разумеется, возможно лишь после консультаций со мной. Несмотря на доверенность, — Аттенборо заглянул в глаза Рене, — мы всегда сумеем расторгнуть дело, попутно скомпрометировать вас, и весьма основательно.
— Я не собираюсь быть легкомысленным.
— Мы верим в это, иначе не облекали бы вас доверием. Просто я почел нужным лишний раз предостеречь вас — серьезные дела требуют большой осмотрительности. — Аттенборо подумал и добавил: — Без острой, крайней необходимости доверенность в ход не пускайте. Расшифровав себя как представителя нашей фирмы, вы вызовете противодействие конкурентов. А оно может принимать самые разнообразные формы, в том числе, м-м, и насильственные. В общем, будьте осмотрительны.
Сидя на краю бассейна и разглядывая пловцов, Хойл еще раз сопоставлял сведения о деле Грейвса, которые он получил от Смита и Аттенборо. Совпадая в общих чертах, они сильно разнились в деталях и, если можно так выразиться, в масштабах: в одном случае речь шла о возможности чуть ли не глобальной катастрофы, а в другом — о производстве каких-то паршивых нейтронных пуль и гранат. Такое несходство трактовок намерений и возможностей Вильяма Грейвса не очень удивляло Рене. Если в заурядном уличном происшествии разные люди усматривают различный смысл и массу несходных, а то и противоречивых деталей, то что уж говорить о таком темном и запутанном деле, как дело Грейвса. К тому же и нейтронная пуля, и бомба глобальной мощности могут быть всего лишь разными слепками одной и той же сущности — новооткрытого грейвсита. А вот несходство социальных оценок дела Грейвса Майклом Смитом и Дэвидом Аттенборо было поистине удивительным. Казалось бы, откуда взяться этому несходству? Оба они добропорядочные англичане: один — полицейский, стоящий на страже государственной законности, другой — юрист, сохраняющий интересы одного из столпов государственного механизма — крупного промышленника. И тем не менее один из них считает нейтронное оружие величайшим злом, а другой любовно называет его мечом Господним. Ну не сволочь ли этот ханжа и лиса Аттенборо? Уж если нейтронная бомба и меч, то это — меч дьявола, а уже никак не меч Господень.
Тренер закончил наконец свои наставления, попрощался и, слегка сутулясь и переваливаясь с ноги на ногу, пошел в душевую. Группа спортсменов зашевелилась и, флегматично переговариваясь, пришла в движение: часть потянулась вслед за тренером, а часть осталась. Одни из них принялись прохаживаться по краю бассейна, разминая мышцы, а другие, очевидно самые большие любители поплавать, без промедления кинулись в теплую воду. Среди других был Бенгт Серлин. Его большая светлая голова, то поворачиваясь направо для вдоха, то погружаясь лицом в воду, резала успевшую успокоиться дымящуюся водную гладь. По суетливому напряженному движению рук и неравномерному буруну под ногами чувствовалось, что опыта у него маловато и что плывет он если не в полную силу, то близко к этому. Рене прикинул на глаз его скорость — что-нибудь минута тридцать секунд на стометровке. А Бенгт азартен, это качество присуще не только его шахматной игре, это неотъемлемое свойство его личности. Наверное, это и есть та самая точка опоры, с помощью которой можно перевернуть если не мир, уж куда Рене до Архимеда, то по крайней мере сложившуюся ситуацию. В конечном счете он ведь ничего не теряет. Рене подошел к краю бассейна, на соседнюю с Серлином дорожку, которая, слава Богу, оставалась свободной, и стал ждать.
Бенгт Серлин сделал последний глубокий вдох, коснулся рукой стенки бассейна и довольно ловко вошел в поворот. Дождавшись его толчка ногами, Рене мягко взял старт. Он специально скользил под водой больше, чем нужно, с тем чтобы Серлин опередил его. Расчет оказался верным: повернув голову для вдоха, он увидел светлую голову Серлина ярдах в двух впереди. Подержавшись за ним немного, Рене прибавил скорость и постепенно вышел вперед. Его маневр не прошел незамеченным. Вскоре он увидел напряженное, даже злое лицо Серлина, который изо всех сил тянулся к нему. Внутренне усмехнувшись, Рене старательно замахал руками и в то же время незаметно убавил скорость. Через десяток секунд они поравнялись, ну, а дальше изобразить напряженнейшую борьбу рука в руку, голова к голове — труда не составляло. На финише Рене позволил опередить себя на мгновение, на крохотный сантиметр — это давало больше свободы, независимо от реакции Серлина, например, можно было разыграть обиду и потребовать реванша. Но ничего такого не понадобилось. Серлин заговорил сам.
— А я вас все-таки обставил!
Рене покосился на него, выбросил свое тело из воды и уселся на край бассейна. Серлин плескался на спине, лицо его светилось неподдельным торжеством.
— Обставил, дружище, уж не сердитесь!
Хойл помотал головой, выливая из уха воду, и хмуро заявил:
— Я не в форме. А потом вы плеснули мне в рот водой и сбили дыхание.
Лицо Серлина окаменело, а светлые глаза стали похожи на льдинки.
— Вы хотите сказать, что я это сделал специально? — зловеще спросил он.
Некоторое время Хойл мерялся с ним взглядами, потом рассмеялся:
— Как вам могла прийти в голову такая глупость? Другое дело, что мне просто обидно.
Серлин мгновенно оттаял:
— Это я понимаю. Хотите реванш?
— А если я вас обгоню?
— Это мы посмотрим. Только я передохну, не возражаете?
Рене не возражал, поэтому Серлин выбрался из воды и уселся рядом. Сгоняя ладонями воду с массивного торса, Серлин поглядывал на соседа. Глаза у него были такие светлые, что радужка плохо контрастировала с белком глаза. Хойлу подумалось, что по таким вот светлым глазам очень трудно определить и характер, и настроение человека. То ли дело, когда глаза черные! Тут все на виду, все читается, как в открытой книге: грусть, гнев, любовь или подозрительность.
— Вы ведь не датчанин?
— О нет.
— И не немец, — продолжал гадать Серлин, — не похожи и на англичанина. Наверное, вы из России, там множество самых разных человеческих типов.
Рене засмеялся:
— Не угадали. Я канадец.
Серлин махнул рукой:
— Не могу понять, почему канадцы не любят играть в шахматы?
— Я люблю.
В прозрачных глазах Серлина мелькнуло подобие насмешки, той самой снисходительной насмешки, которая неизбежно сопровождает взаимоотношения профессионала и дилетанта. Он даже хотел сказать что-то, скорее всего о шахматах или о себе, но передумал и сообщил:
— Я передохнул.
— Тогда вперед!
Рене не составило большого труда повторить спектакль-соревнование. Со старта он вышел вперед, потом позволил Серлину догнать себя и, наконец, изобразить напряженнейшую борьбу за каждый сантиметр на финише. Их руки одновременно коснулись стенки бассейна. Серлин тяжело переводил дыхание, лицо его было сердито.
— По-моему, ничья? — осторожно спросил Рене.
Датчанин мгновенно просиял.
— О’кей! Я думал, вы будете спорить. Мы можем повторить, — предложил он великодушно, хотя нетрудно было догадаться — большого удовольствия ему третий старт не доставит.
— Не стоит, — столь же великодушно отказался Рене и с легкой улыбкой добавил: — Ничья с таким гроссмейстером, как вы, разве это не почетно?
— Вы меня знаете?
— Разумеется. По-моему, вы недооцениваете свою популярность.
Серлин нахмурился. Нет, он не обиделся на Рене, его слова были ему приятны. Просто Серлин переживал полосу неудач в своем шахматном творчестве. Дело было не в отсутствии шахматного таланта, а в чрезмерной азартности, в неумении собраться и держать спортивный режим. Не каждому дано быть Капабланкой, а он, увы, после первых по-настоящему блестящих успехов возомнил себя равным гениальному кубинцу. Теперь приходится расплачиваться за легкомыслие и даже заниматься плаванием по совету врача-психолога.
— Шахматисты — не боксеры и не футболисты, — сказал он вслух, — их знают не все, а только любители шахмат. Да еще газетчики.
Он покосился на Хойла и с неожиданной проницательностью спросил:
— Вы репортер?
— Угадали, — не стал скрывать Рене.
— Надолго к нам?
— Это зависит от вас.
Серлин задержал на журналисте взгляд, и Рене подумал о том, как трудно догадаться, о чем думает человек, когда у него такие светлые глаза.
— Предупреждаю, — в голосе гроссмейстера появились холодные нотки, — я не даю никаких официальных интервью. До ближайшего шахматного турнира.
— Но мне нужно от вас совсем не интервью.
— Что же вам нужно? — не без любопытства спросил Серлин.
Ведя этот разговор, Рене с интересом разглядывал плотного рыжеватого мужчину с добродушным и даже глуповатым лицом, сидевшего напротив них. Тело у рыжего было хотя и грузноватое, но тренированное, судя по форме плеч и посадке головы, в недалеком прошлом он занимался или боксом, или борьбой. Плавки у рыжего наимоднейшие: с рисунком, кармашком и широким поясом. В таких плавках проще простого спрятать микроаппаратуру для звукозаписи и фотографирования, если бы это вдруг понадобилось.
Рене улыбнулся:
— Мне хотелось сыграть с вами в шахматы. Я ведь имею право на реванш? Вот мне бы и хотелось перенести его из воды на шахматную доску.
Серлин смотрел на него недоверчиво и оценивающе.
— Если откровеннее, то я бы хотел услышать ваше мнение о моих шахматных способностях. Стоит ли мне дальше проводить вечера за разбором партий и учебниками по дебютам? Ну а после того как вы оцените мои способности, можно будет и посоревноваться. С соответствующей форой, разумеется.
— Что ж, позвоните мне вечером. Если не произойдет ничего экстраординарного, я устрою вам экзамен.
— А достигнет ли ваших ушей мой телефонный звонок? — усомнился Хойл.
— Что, уже пробовали звонить? Разумеется, я вынужден принять меры к тому, чтобы меня не беспокоили. Но я позабочусь, чтобы все было в порядке. Простите?
— Рене Жюльен Хойл, — представился журналист, — если не возражаете, просто Рене.
Из бассейна они вышли вместе. Серлин предложил воспользоваться его машиной, но было видно, что это не более чем обычная любезность, которую порядочные люди отклоняют. Хойлу очень хотелось выглядеть в глазах Бенгта порядочным человеком, а поэтому скрепя сердце он отказался.
Глава 5
Приостановившись, чтобы купить завтрашнюю газету, Рене незаметно оглянулся и вздохнул. Нет, он не ошибся, шагах в тридцати позади, у витрины, торчала рыжая голова того дюжего парня, который так внимательно разглядывал его в бассейне «Бишлет», когда он знакомился с Бенгтом Серлином. Хвост? Как бы то ни было, ни к чему тащить его к загородному дому Серлина. Хорошо, что до встречи остается еще добрых полтора часа, есть время подумать и что-то предпринять. Впрочем, полтора часа для такого остолопа, да еще и рыжего, — это слишком, хватит на него и тридцати минут. А пока можно спокойно побродить по городу, понаблюдать за чужой, незнакомой жизнью. Можно, да не хочется. Чтобы казаться спокойным наблюдателем или беззаботным туристом, нужен специфический настрой. А уж какой тут настрой, когда мысли сосредоточены на встрече с Серлином!
Побродив по Строгет, Рене направил свои стопы в «Тиволи», на эту ярмарку добропорядочных, стандартно-скучных развлечений. Мужественно проходя по всем семи кругам тиволийского рая, которые с не меньшим основанием можно было бы назвать и адом, Рене внутренне посмеивался. Посмеивался и с некоторой грустью думал о том, что мудрое человечество, проявив чудовищную изобретательность при сотворении средств убийства и разрушения, проявило полную беспомощность в сфере удовольствий и забав. Хотя в массе своей люди жаждут развлекаться куда больше, чем покорять космос или копаться в утробах атомов с помощью лазеров и синхрофазотронов. Право же, дикари, всякие там папуасы, пигмеи и бушмены умеют развлекаться естественней и полезней.
Наверное, Рене слишком увлекся воспоминаниями или попросту проявил легкомыслие, так свойственное всем французам, даже канадского происхождения, и поэтому не обратил внимания на просьбу пристегнуться, когда катался на цепочной карусели. Больше того, он еще принялся раскачиваться. Возмездие не заставило себя ждать: Рене потерял равновесие и вывалился из сиденья под хохот и насмешки любителей ярмарочных удовольствий. Правда, сказалась спортивная сноровка — Рене довольно ловко приземлился на ноги, шутливо раскланялся и удалился под одобрительный гул толпы.
Дурной пример заразителен. Не успела карусель сделать полный оборот, как этот же фокус, уже специально, попытался повторить другой развлекающийся. Но у него это получилось куда менее удачно: приземляясь, он споткнулся, упал, пропахав правым плечом землю, посыпанную мелким морским песком. Попутно он едва не сбил с ног невысокого, по-датски плотного парня с длинными девичьими волосами, но весьма увесистыми кулаками. Последовало бурное объяснение, доставившее немало удовольствия многочисленным зевакам. Впрочем, незадачливый акробат быстро остыл и сделал все возможное, чтобы как можно быстрее уладить дело миром. А за это время Рене бесследно растворился в толпе.
Бенгт Серлин сидел за шахматной доской, разыгрывая одну из партий претендентов на шахматную корону, когда услышал деликатный стук. Разбор вариантов шел со скрипом, Бенгт был недоволен собой, поэтому он сейчас же и без всякой досады оторвался от доски.
— Да!
Дверь, ведущая в святая святых — его личный кабинет, осталась недвижной, однако стук повторился. Бенгт недоуменно огляделся и увидел лукавое лицо Рене Хойла, прислонившегося лбом к оконному стеклу. Понадобилось некоторое время, чтобы Серлин хорошенько осмыслил это видение. Улыбка уже тронула его губы, но тут он вспомнил о своем сенбернаре, поспешно шагнул к окну и распахнул его.
— Где Вольф? — тревожно спросил он, игнорируя всякие приветствия.
— Здесь! — весело ответил Рене, он стоял на чурбаке и смотрел вниз.
Бенгт перегнулся через подоконник. И правда, Вольф стоял внизу, виновато поскуливая, открывая громадную пасть, усиленно работал мохнатым хвостом-помелом. Серлин выпрямился и перевел недоуменный взгляд на журналиста.
— Мы с ним подружились, — пояснил Рене и показал свою руку, с которой капала кровь. — Он не бешеный?
— Ничего не понимаю! Лезьте сюда. Сидеть, Вольф! Лезьте-лезьте. Вот так.
Серлин закрыл окно, но тут же снова открыл его и приказал послушно сидящему псу:
— Сторожи. Сторожить!
Реле успел сбросить туфли и теперь держал их в правой руке, с левой, поднятой на уровень груди, алая капелька крови успела упасть на паркет. Бенгт выглядел и растерянным и расстроенным.
— Как это вас угораздило? Он же никогда никого не кусал! Давайте сюда ваши туфли. Пойдемте.
Серлин направился было к шахматному столику, но Рене с улыбкой остановил его и показал на дверь:
— Наверное, сюда?
— Да-да. Я ведь один дома. Жена гостит у родителей, ей надоел мой спартанский режим. Сестра пошла куда-то развлекаться, кажется, в Валенсию.
Он провел Хойла в ванную и принялся неловко обмывать руку.
— Как это вас угораздило?
— Пустяки, царапина.
— Но все-таки? Он же никогда не кусается!
— Я сам виноват. По ряду обстоятельств мне не хотелось болтаться возле вашего дома, а сколько ни звонил — все напрасно.
— Отключил звонок и забыл об этом, — покаянно признался Серлин.
— Я догадался и перелез через забор.
— Насмотрелись вестернов. — Серлин огляделся. — Не знаю, где жена держит йод.
— А вы одеколоном, превосходный заменитель, когда речь о царапинах. Так я перелез через забор и, естественно, столкнулся нос к носу с вашим страшилищем.
— Вольф — добрейший пес.
— Сенбернар, этим все сказано. — Видя, что Серлин вознамерился замотать ему руку широченным бинтом, Рене возразил: — Не смешите людей, возьмите пластырь. Вольф, конечно, добрый пес, но он привык к уважению. Когда, поговорив с ним о погоде и о прелестях собачьей кухни, я направился к дому, ваш песик весьма сурово предупредил меня о том, что всю ответственность за последствия моего поведения он целиком возлагает на меня.
Серлин крутнул светлой головой и засмеялся. Чувствовалось, что он благодарен журналисту за шутливый тон и непринужденность. Он закончил обработку руки и выпрямился.
— Ну как?
— На уровне мировых стандартов.
Серлин присел на край ванны.
— Продолжайте, я вас слушаю. — Ему было явно интересно.
— Как только пес убедился, что я игнорирую его предупреждение, он цапнул меня за одежду и заставил остановиться.
— Он всегда так делает, — с удовлетворением прокомментировал Серлин.
— Мне очень не хотелось задерживаться, поэтому я попытался руками разжать его пасть и освободиться. Чего только ни сделаешь, чтобы встретиться с настоящим живым гроссмейстером. Мои попытки привели к тому, что песик цапнул меня за руку. Сделал он это довольно деликатно, просто придержал руку зубами, но впечатление было внушительным. Больше всего я боялся, что он чихнет, остался бы я тогда без пальцев.
Серлин не удержался от смеха, он уже избавился от неловкости и наслаждался рассказом.
— Представляю! Он иногда выкидывает такие шутки, когда мы с ним играем.
— Некоторое время мы соревновались с ним в перетягивании — кто кого. Руку я освободил, но, как вы видите, понес некоторый материальный ущерб. Я сам виноват, — поспешно проговорил журналист, — он меня предупреждал. К чести Вольфа, надо заметить, что он страшно огорчился, принялся извиняться и даже пробовал зализывать царапины. В общем, мы с ним подружились и вместе отправились искать возможности проникнуть в эту крепость.
Отсмеявшись, Серлин вытер платком глаза и с видом заговорщика сообщил:
— Я знаю, что нам нужно сделать — выпить! — И, деликатно положив ему руку на плечо, повел в гостиную. — Вам, конечно, уже осточертело и виски и бренди. Я вас угощу настоящим коньяком «Наполеон». Вам, как французу, это будет особенно приятно.
— Я не француз, а канадец.
— Боже мой, это же одно и то же! Французы играют в шахматы так же отвратительно, как и канадцы. Такие богатые культурные традиции и такая безликость в благороднейшем из искусств!
— А Филидор, Лябурдоннэ?
— Вы бы еще вспомнили эпоху Карла Великого. Садитесь и чувствуйте себя желанным гостем.
Гостиная являла собой ярко выраженный модерн. Не говоря уже о мелочах, здесь был и ковер во весь пол, и огромная софа, на которой при нужде можно было уложить взвод солдат, и медвежья шкура перед софой.
Кроме коньяка и холодной воды со льдом Серлин подал еще и маленькую, только что открытую баночку черной икры, а к ней хлеб ослепительной белизны и крохотные серебряные ложечки с витыми ручками.
— Подарок русских друзей, — с некоторым самодовольством пояснил он.
Хойл осторожно, двумя пальцами взял голубую крышку, которой была прикрыта икра, и долго рассматривал причудливые черные буквы.
— Не понимаю, — вздохнул он, водворяя крышку на место, — почему они не перейдут на привычный для всего цивилизованного мира латинский алфавит.
— А почему англосаксы никак не перейдут окончательно на метры и килограммы? Почему они ездят не по правой, а по левой стороне дороги? рассмеялся Серлин. — Потом у русских куча звуков, для обозначения которых латинские буквы надо расходовать горстями. Знаете, например, как у них называется овощной суп из обыкновенной капусты?
— Капустный суп? — предположил Хойл.
— Русские не любят таких простых решений. — Серлин поднял палец и старательно, протяжно прошипел: — Щ-щи!
Рене не выдержал и залился смехом, он даже вынужден был поставить рюмку на стол, чтобы не расплескать драгоценную жидкость.
— Я тоже смеялся, когда услышал это впервые, — Серлин был доволен тем, что повеселил гостя, — представляете? Овощной суп и вдруг — щи! Что-то вроде змеиного шипения. Попробуй-ка это изобразить латинскими буквами!
Серлин не оставил эту тему и после того, как они выпили по рюмке коньяку.
— Если вы хотите хорошо играть в шахматы, вам придется выучить русский язык. Нет, я не говорю о том, что вы должны овладеть живой речью, но читать со словарем русскую шахматную литературу вы обязаны. Не подумайте, что я красный, упаси Бог! Но я реалист и не могу не уважать русских. Космос, атомная энергия, эти птицы мелководья — суда на подводных крыльях, вы обратили на них внимание? Но настоящие монополисты русские в одном — в шахматах. Анатолий Карпов — о-о!
— А Корчной?
Лицо Серлина приняло холодное выражение.
— Люди, меняющие отечество с легкостью перчаток, не популярны. Даже если они очень талантливы.
— А Фишер? Говорят, своим мастерством он похож на Капабланку, вскользь заметил журналист и раскаялся.
Серлина буквально передернуло, он чуть коньяк не пролил.
— Это говорят глупцы, — резко бросил он, глаза у него побелели. — Хосе Рауль был благородным человеком и артистом. Он творил свои шедевры за доской. И приходил он на игру не из кельи тренера и консультанта, а из будуара любовницы. А Фишер — бульдозер с программным управлением. А потом Фишер — шахматный труп. Зачем заниматься эксгумацией?
Серлин постепенно оттаивал.
Он поднял рюмку, глядя прямо в глаза Хойлу, и опрокинул ее в рот. Журналист хотел последовать его примеру, но в последний момент спохватился.
— А как же наша партия в шахматы? Я не сажусь за игру даже после одной рюмки, а это уже вторая.
Серлин взглянул на него с удивлением, которое постепенно сменялось одобрением.
— Шахматы этого заслуживают. — Он улыбнулся и поощрил: — Пейте. Партию мы перенесем на завтра.
— Что же мы будем делать сегодня?
— Отдыхать и говорить обо всем на свете!
Рене кивнул в знак согласия, опорожнил рюмку и проговорил:
— Не хочу хитрить с вами, Бенгт. Меня вполне устраивает ваше намерение. Дело в том, что я пришел к вам не столько для игры в шахматы, сколько для того, чтобы поговорить о Вильяме Грейвсе.
Секунду Серлин удивленно смотрел на него, потом нахмурился и сухо проговорил:
— Мне следовало догадаться об этом раньше.
— Поверьте, я взялся за дело Грейвса не только корысти ради. Все гораздо сложнее.
Рене сначала торопливо и несколько сбивчиво, а потом уже более толково рассказал кое-что из того, что ему было известно о деле Грейвса со слов Смита и Аттенборо.
— Нечто в этом роде довелось однажды услышать и мне, — задумчиво проговорил гроссмейстер. — Но я не отнесся к этому серьезно. Ядерный терроризм! Это нечто новое. — Он поднял на Хойла внимательные светлые глаза. — А вы действительно журналист?
Рене развел руками, достал из кармана документы и протянул их через столик собеседнику.
— Прошу.
Тот взял их с неохотой, но просмотрел очень внимательно, а возвращая владельцу, заметил вполголоса:
— В наше время нетрудно подделать любые документы.
— Я дам вам телефон редакции. Он есть в официальном справочнике. Вы можете позвонить моему шефу хоть сейчас. Он всегда торчит вечерами в своем кабинете.
— Ну хорошо. Что вам конкретно от меня нужно? — после некоторого раздумья согласился Серлин.
Рене облегченно вздохнул и устроился поудобнее в кресле.
— Сведения о Вильяме Грейвсе. Любые, какими вы располагаете. В частности, о том, какое отношение имеют его ядерные изыскания к шахматам и шахматистам.
— Да я и сам этого не понимаю! — с сердцем воскликнул Серлин.
С Грейвсом Бенгт виделся лично всего один раз. Их представили друг другу на каком-то торжественном приеме, устроенном по случаю окончания очередного зонального турнира. Серлин выступил на нем успешно, вошел в число участников межзонального турнира, а поэтому был в отличном настроении. И Вильям Грейвс был в отличном настроении. Он просто очаровал гроссмейстера меткостью характеристик, небанальным остроумием и какой-то зверской беспощадностью суждений о проблемах, которые принято либо замалчивать, либо как-то приукрашивать. Видно было, что это всесторонне образованный человек. Но самое главное, он очень интересно, по-своему, говорил о шахматах. Он утверждал, и Серлину это было близко и понятно, что шахматная игра — это своеобразный динамический слепок бытия, слепок условный, но многогранный и неисчерпаемый, как сама жизнь.
— Мне трудно сейчас вспомнить теорию, которую он мне изложил тогда так живо и увлекательно, — рассказывал гроссмейстер, — но суть ее сводится к тому, как реальные события переводятся на машинный язык, скажем, на алгол или фортран, так эти события можно перевести на язык шахмат, закодировать их с помощью шахматных фигур в той или иной композиции. Задачи, сформулированные на машинных языках, решают компьютеры, а возможности их ограниченны, логика примитивна. Они не могут прыгнуть выше алгоритма, вложенного в них программистом.
— Вы уверены, что компьютеры так уж ограниченны?
Серлин кивнул, показывая, что понимает сомнения журналиста.
— Я тоже в этом усомнился, но, понимаете ли, Грейвс довольно легко меня убедил. Я не помню всей его аргументации, однако ж одна фраза засела у меня в мозгу как заноза. Грейвс сослался на крестного отца всех нынешних компьютеров, на Винера, который назвал логические машины безумцами, наделенными гениальной способностью к счету. Неплохо сказано, а? Кроме того, Грейвс сказал, что если машинным программированием занимаются, вообще говоря, ординарные люди, то для решения программных шахматных композиций можно привлечь гениев — лучших шахматистов мира. В общем, Грейвс увлек меня своими идеями и уговорил заняться решением программных композиций — особым образом составленных задач и этюдов. — Серлин было замялся, но потом, глядя прямо в глаза Рене, твердо закончил: — Сыграло свою роль и то обстоятельство, что он предложил определенную и немалую плату за мои услуги. Я тогда нуждался в деньгах.
— Только тогда? — спросил Хойл. — А я вот нуждаюсь в них всю жизнь!
Серлин рассмеялся, согласился с тем, что понятие денежного достатка в атомный век очень относительно, и продолжил свой рассказ.
Их деловые взаимоотношения Грейвс обставил весьма таинственно и доверительно. Соглашение было чисто джентльменским, Грейвс назвал его мораторием, — никаких договоров или письменных обязательств, ни йоты юридического формализма. Важнейшим условием моратория, нарушение которого немедленно приводило к его расторжению, была полная конфиденциальность сотрудничества. Никаких почтовых сношений или телефонных переговоров! Задание Серлину доставлял доверенный человек, он же забирал готовые решения. Когда эта система обговаривалась, Бенгт не удержался и заметил, что организация дела очень напоминает ту, которая применяется в шпионаже. По-видимому, это не было новостью для Грейвса. Он нисколько не удивился, лишь заметил:
— Это не более как конвергентное сходство. — И добавил в раздумье: Постарайтесь быть добросовестным даже в тех случаях, когда задача будет выглядеть необычной. Когда, скажем, на доске будет не два, а три короля. Или когда короля два, но одному из них нужно поставить мат, а другому пат. Или если мат нужно поставить не королю, а слону, ферзю, другой фигуре.
— Боюсь, что без предварительных и подробных консультаций мне будет трудно справиться с такими необычными шахматами, — откровенно признался Серлин.
— Не беспокойтесь, — успокоил Грейвс, — все отклонения от классических правил шахматной игры будут детально оговариваться в условиях задачи.
Их сотрудничество продолжалось более двух лет, до самого исчезновения Грейвса. За это время Серлин перерешал сотни задач — от самых элементарных до самых причудливых и невероятных. Поначалу Серлину нелегко было ориентироваться в этом буреломе необычных правил и оговорок, но постепенно он вошел во вкус и даже обнаружил своеобразную эстетику в предлагаемых композициях. Ему представлялось, что их составлял одаренный человек, неуемный фантазер и выдумщик, отчаянно балансирующий на самой грани, отделяющей разум от безумия. Бенгт признался Рене, что некоторое снижение уровня его игры определяется влиянием этого необычного, все время трансформирующегося шахматного мира.
— Зато у меня есть хороший дом, счет в банке и нет долгов, — с некоторой грустью закончил свой рассказ Серлин.
— А что все это значит? Вы не пробовали выяснить? — с нескрываемым любопытством спросил Хойл.
Серлин усмехнулся:
— Как не пробовал, я ведь живой человек. Но нарочный, который привозил задания и деньги и увозил готовые решения, был похож на человека, которому отрезали язык. А других источников информации у меня не было.
— Вы могли поговорить об этом с друзьями.
Серлин покачал головой:
— Я слишком хорошо помнил о главном условии Грейвса — полная конфиденциальность.
— Но Грейвс исчез, — возразил Рене.
— Известие об этом мне привез все тот же молчаливый нарочный. Он вручил мне приличную сумму, потребовал, чтобы я хранил дело в строгой тайне, сказал, что могу еще понадобиться, и на всякий случай оставил парижский адрес — до востребования. И все-таки история Грейвса каким-то образом стала известной. Правда, в прессе об этом Не было ни слова, но тем не менее меня стали беспокоить всякие личности, и темные, и светлые. — Серлин поморщился, словно ему припомнилось что-то неаппетитное. — Мне сулили всяческие блага, угрожали, пытались подсунуть любовницу. Терпение мое в конце концов лопнуло, я написал письмо по известному мне адресу и потребовал или защиты, или свободы действий. Через неделю после того, как я отправил письмо, нарочный снова посетил меня. Только теперь он оказался куда более разговорчивым. После обстоятельной беседы, очевидно убедившись, что я понятия не имею о сущности изысканий Грейвса, он дал мне желанную свободу действий. Предупредил только, чтобы я не вздумал давать никаких официальных интервью для прессы. После этого мне стало легче. Тем любопытным, которые прорывались ко мне через все заслоны, я теперь говорил правду — что я решал для Грейвса шахматные задачи не совсем обычного содержания. У меня, как и у многих играющих шахматистов, хорошая память. Поэтому особенно настырным просителям, которые к тому же швырялись деньгами, я сообщал и содержание этих задач. — Серлин улыбнулся. Разумеется, я не стал давать особенно диких задач со всякой чертовщиной. Скажем, таких, где резко нарушались общепринятые правила шахматной игры, например у белых и у черных по два короля, причем одного из них разрешается бить, или когда мат нужно поставить не королю, а ферзю, причем король не матуется, а играет роль обычной фигуры. И все-таки от меня не отстали до сих пор. Почему-то надеются, что я храню Бог весть какие тайны. Вот и вы туда же.
— Я объяснил, Бенгт, — мягко заметил Рене, — что мной движет не праздное любопытство и не голая жажда наживы.
— Да, — согласился гроссмейстер, — вы не похожи на прежних визитеров по делу Грейвса. Они сразу же пытались купить меня. Меня!
Серлин выпятил подбородок и, хмуря свои белесые брови, сурово взглянул на журналиста.
— Я люблю пройдох не больше, Бенгт.
— Возможно, — Серлин вздохнул, и взгляд его несколько оттаял. — Ядерная война — ужасная вещь. Я разделяю ваше благородное беспокойство. Однако же не представляю, чем могу помочь.
— Вы не могли бы свести меня с этим молчаливым нарочным?
— Не думаю, что это даст результат. К тому же я связан словом, а мое слово — слово твердое. — Серлин проговорил это и добавил после паузы с хитринкой: — Но я могу свести вас с другим человеком, который, по-моему, может оказаться вам очень полезным.
Глава 6
К Парижу незаметно подкрадывалась зима: дожди становились все холоднее, ветер — злее, а в солнечные дни воздух обретал непривычную прозрачность, насыщая краски и растворяя полутона. Прошедшей ночью ветер и дождь похозяйничали вволю и основательно пощипали деревья. Вялые, размоченные дождем, терпковато пахнущие листья были рассыпаны по асфальту, зримо олицетворяя собой печаль неизбежного увядания всего живого. Полуоголенные кроны деревьев обессиленно плавали во влажном, затуманенном дымкой воздухе. Тяжелые облака с трудом тащились над самыми крышами, смазывая временами верхушки высоких зданий. Иногда они не выдерживали тяжести несомой влаги и сыпали на город мелкий и неожиданно теплый дождь. Дождь дремотно-лениво стучал по листьям и все-таки ухитрялся сбивать некоторые из них. Чаще всего это были не пожухлые, а тяжелые спелые листья, украшенные индейским загаром. Они обламывались у самого основания черешка и не плавали в воздухе, как это полагается уважающим себя осенним листьям, а беспорядочно валились вниз, и дождь равнодушно и деловито принимался вколачивать их в промытый асфальт.
Уже шестой день Рене Хойл болтался в Париже, ведя жизнь бездельника-туриста. Дело неожиданно застопорилось, хотя начало было весьма удачным. Воспользовавшись телефоном, который ему дал Бенгт Серлин, Рене без труда связался с Марселем Шербье и договорился с ним о встрече. Шербье был пышущим здоровьем сорокалетним холостяком. Квартира у него была совсем не по-холостяцки ухоженной, обставлена не крикливо, но с комфортом и большим вкусом. Шербье, типичный пикник — низкорослый, плотный, розовощекий, с большой сияющей лысиной во всю голову, — не переставая ни на секунду болтать, сноровисто сварил крепкий кофе и подал его к столу вместе с холодной водой.
С Бенгтом Серлином Шербье познакомился совершенно случайно, они оказались соседями в авиалайнере, летевшем в Нью-Йорк. Бенгт летел в Штаты на шахматный турнир, а Шербье — по делам, связанным с компьютерной техникой и машинным программированием. Конечно же, Марсель, утомленный однообразием трансокеанского перелета, не выдержал и быстро втянул Серлина в оживленный разговор. Он очень удивился и обрадовался, узнав, что летит вместе с известным гроссмейстером, пожелал ему блистательных успехов в турнире, расспрашивал о заработках, о турнирной обстановке и вообще о шахматном житье-бытье. Бенгт рассказал ему несколько анекдотов и совершенно правдивых историй о чудачествах известных шахматистов. Шербье хохотал и в ответ угостил Серлина анекдотами из сферы кибернетики и ученого мира.
В общем, они легко сошлись и весело и незаметно провели утомительные часы перелета. Но Серлин заметил, что Марсель нет-нет да и посматривал на него с каким-то странным, хитроватым выражением. Датчанину это в конце концов надоело, и со свойственной ему прямотой он поинтересовался — с какой стати его разглядывают, точно манекенщицу или музейный экспонат.
— Боже мой! Да я музеи терпеть не могу, а на манекенщиц, вы уж мне поверьте, смотрю совсем другими глазами. — Шербье обезоруживающе рассмеялся и покачал головой. — До чего же обидчивы шахматисты! Дело в том, что я тоже некоторое время занимался шахматами.
Серлин привык к такого рода признаниям и последующим просьбам сыграть хоть одну-единственную партию, поэтому без всякого интереса, лишь из вежливости спросил:
— И как? Успешно?
Шербье махнул короткой полной рукой:
— Вы знаете, что такое фортран, Бенгт?
— Вино?
Марсель затрясся от смеха.
— Минеральная вода?
Шербье замотал головой.
— Не гадайте, — сказал он, преодолевая смех. — Это либо знают, либо уж не знают. Фортран — это один из наиболее перспективных машинных языков, дорогой гроссмейстер. Тех языков, на которых ученые всего мира независимо от их национальности и специализации беседуют с компьютерами. Понимаете?
— Понимаю, — несколько суховато ответил Серлин (он не любил, когда над ним смеялись). — Но какое отношение к шахматам имеет этот ваш фортран?
— Самое прямое, — с удовольствием и оттенком таинственности сообщил Шербье. — Вместе с одним одаренным ученым, богатым человеком и, мягко говоря, большим оригиналом, я переводил содержание некоторых формальных операций с фортрана на язык шахматных задач. Получались какие-то идиотские композиции! Три, а то и четыре короля на нормальной шахматной доске, представляете?
Серлина так поразили слова Марселя, что он сначала спросил, а потом уже подумал:
— Этот оригинал-ученый — Вильям Грейвс?
Шербье широко открыл свои маленькие глазки:
— Он самый. А вы…
Серлин кивнул:
— Совершенно верно. Я тот самый шахматист, который потом решал эти идиотские композиции.
Они некоторое время ошарашенно разглядывали друг друга, а потом дружно расхохотались, заставив обернуться соседей по салону. Первый, случайный шаг и некоторая взаимная симпатия помогли им стать откровенными до конца. Выяснилось, что ни тот, ни другой ничего толком не знают о сущности изысканий Грейвса: один из них имел дело с необычными шахматными композициями, а другой — с формализованными задачами, действующими лицами которых являлись не реальные предметы и явления, а совершенно абстрактные символы. Правда, Шербье знал о делах Грейвса несколько больше: он работал на него не только в области шахмат, но и по ряду других направлений. Марсель знал, что главные усилия Вильяма Грейвса сосредоточены в области каких-то новейших ядерных исследований. Математическая логика, теория игр, шахматы и атомное ядро! Серлин и Шербье немало толковали об этом, но так и не пришли к каким-либо определенным выводам. Оба они в свое время обязались хранить в тайне свое участие в исследованиях Грейвса, об этом им напомнили, и весьма жестко, еще раз, когда Грейвс вдруг исчез и сотрудничество с ним прекратилось. Но тайна Грейвса занимала их, оказывается, гораздо больше, чем это им самим представлялось. Во всяком случае, они обменялись адресами, телефонами и пообещали информировать друг друга обо всем, что удастся узнать об этом странном ученом. Как известно, ум хорошо, а два лучше. Кто знает, может быть, сообща удастся набрести на что-нибудь любопытное? И если интерес Серлина был совершенно бескорыстным, то нетрудно было догадаться, что Марсель Шербье не терял надежды получить и материальные выгоды. Это обстоятельство, мимоходом упомянутое Бенгтом, Рене постарался крепко запомнить.
Разливая кофе, Шербье продолжал оживленно болтать обо всем и ни о чем и как-то вдруг, словно между прочим, очень деловито спросил:
— Вы ко мне по делу Грейвса?
— Верно, — не сразу ответил Рене, так был неожидан этот переход, — как вы догадались?
Марсель сделал неопределенный, довольно изящный жест.
— Мне намекнул гроссмейстер, я не в восторге от его неожиданной болтливости. Так вот, чтобы зря не тратить времени — я пас. — И, словно сдаваясь, Шербье поднял руки.
— Почему? — вырвалось у Хойла.
Шербье усмехнулся.
— Потому что я люблю жизнь. Люблю хорошую кухню, выдержанное вино, красивых женщин и комфорт. И очень не люблю кладбище: могилы, склепы и надгробные памятники. — Он залпом допил чашечку кофе, энергично, но вовсе не грубо поставил ее на стол и понизил голос: — Вчера меня еще раз предупредили, что если я не буду держать язык за зубами, то мне будет плохо. А я уж так устроен, что терпеть не могу, когда мне бывает плохо.
— Вчера, — пробормотал Рене, припоминая рыжего парня, который приклеился к нему в Копенгагене и таскался следом. Хойл сообщил об этом Смиту. Детектив ничего не знал о слежке, советовал быть настороже, но не очень волноваться: очень может быть, что этот хвост по указанию Аттенборо прицепил к нему Чарльз Митчел. Такие вещи нередко делаются для контроля и страховки, причем главного исполнителя не всегда ставят в известность о профилактике такого рода.
— Вчера, мой друг, именно вчера, — подтвердил ученый с несколько театральным, скорбным вздохом. — И это весьма симптоматично и многозначительно.
Шербье был этаким тугим и кругленьким, наверное, не только телом, но и душой. Журналист не видел никакой возможности как-то морально расшевелить его. И все-таки попытаться стоило.
— Дело Грейвса — дело особого рода, Марсель. Это не просто научное исследование, не рядовая предпринимательская операция и даже не обычная авантюра. Ходят слухи, что Грейвс обладает веществом чудовищной разрушительной силы.
Шербье помотал головой и с добродушной улыбкой сообщил:
— Мне об этом ровно ничего не известно!
— Но утверждают, что Грейвс хочет начать ядерный шантаж. Для демонстрации своего могущества он может испепелить нейтронами целую страну вроде Англии или Франции. А потом попытаться поставить на колени все человечество.
Марсель сделал скорбное лицо, оно вообще было у него очень подвижным, но его маленькие глазки сохранили прежнюю веселость и лукавство.
— Это было бы ужасно! Но все это слухи, неподтвержденные слухи, не так ли? — Шербье с сожалением развел короткими ручками. — И потом, я ведь не все человечество, а лишь крохотный атом его — мотылек, алчущий наслаждений и радостей. Человечеству в высшей степени наплевать на меня, с какой стати, черт побери, я должен заботиться о нем и ставить на карту не только свое благополучие, но и саму жизнь? Я не вижу в этом логики, уважаемый журналист.
— Логика не всесильна, Марсель. Есть ценности, лежащие за ее рамками.
— Но она полезна, не так ли? Логика говорит мне, что если Грейвс и обладает разрушительным оружием, если, не дай Бог, ему и придет в голову безумная мысль продемонстрировать его силу, то удар обрушится отнюдь не на Англию и не на Францию. Вильям — цивилизованный человек, дитя западной культуры. Он обратит свой взгляд на Восток! Так почему же я должен совать голову в петлю?
Рене крепко сцепил пальцы на колене, сдерживая закипающую злость.
— Гитлер тоже был порождением западной цивилизации, — негромко проговорил он.
— Совершенно верно! — охотно подтвердил Шербье. — Цивилизация — понятие всеобъемлющее и многогранное. У любой цивилизации есть свои полюсы, свои святые и грешники, свои боги и дьяволы. Смена одних другими столь же неизбежна, как смена времен года. Гитлер — дьявол, что из того? Но я должен заметить, что Гитлер делал различие между неграми, евреями, славянами и истинными европейцами.
Разглядывая самодовольное розовощекое лицо Шербье, Хойл неожиданно для самого себя сказал:
— Никогда бы не подумал, что вы научный работник, Марсель. Вы похожи на добропорядочного буржуа, стригущего купоны с папашиного наследства, но никак не на ученого, занятого поисками истины.
Шербье благодушно взглянул на журналиста.
— Хотите меня задеть? Напрасно! Я страшно толстокожий, когда дело касается мелочей жизни. Легче носорога убить зубочисткой, чем обидеть меня таким образом. К тому же, — Шербье доверительно понизил голос, — я и сам не считаю себя настоящим ученым, денно и нощно трудящимся в поте лица своего ради высоких и туманных идеалов. Я прагматик и скромный научный подмастерье. Это в благословенном девятнадцатом веке наука была делом священным и трепетным, доступным лишь избранным и посвященным! Ныне же адепты не в моде. — Шербье скорчил пренебрежительную гримасу. — Это такой же архаизм, как повозка, запряженная лошадью. Наука из священнослужения стала деловым предприятием, прочно срослась и с производством, и с капиталом. В науке есть свои организаторы и функционеры, свои аристократы, которым дозволено парить в заоблачных высях, не глядя на грешную землю, и свои чернорабочие, негры, как их иногда называют, которые по-настоящему-то и грызут зубами гранит неведомого. В этой иерархии я занимаю среднюю ступеньку и весьма ею доволен: я избавлен от хлопот небожителей и от каторжного труда чернорабочих. Золотая середина мила мне своей уступчивостью и определенностью.
С интересом разглядывая это весомое порождение науки атомно-кибернетического века, Хойл заметил:
— Однако же Вильям Грейвс не жаловал людей посредственных.
Шербье высоко поднял свои едва намеченные брови, так он изображал удивление, но физиономия его по-прежнему светилась не удивлением, а довольством.
— А кто вам сказал, что я посредственность? Для меня мыслить алгоритмами столь же естественно, как музыканту — нотами. Ну, а на фортране я изъясняюсь если не столь же легко, как по-французски, то уж наверняка лучше, чем по-английски. Должен сказать, — в голосе Марселя послышались нотки самодовольства, — капризный Вильям весьма и весьма ценил мой талант.
Рене только улыбнулся:
— Такое отношение требует откровенности, не правда ли?
Шербье погрозил ему пальцем:
— Вы все туда же? Нет, мой дорогой журналист, когда речь идет о деле Грейвса, я становлюсь нем как рыба.
— Но ведь есть и поющие рыбы, на Укаяли, в верховьях Амазонки. Почему бы вам ненадолго не превратиться в популярного шансонье и не спеть мне о Вильяме Грейвсе?
— Шлягеры приносят большие доходы, дорогой Рене.
Это было сказано мимоходом и в шутку, но было в тоне Шербье нечто такое, что сразу заставило Рене насторожиться. В его памяти всплыли слова Серлина о том, что Марсель Шербье вовсе не чужд бизнеса.
— Конечно, — вслух сказал он, — простому журналисту оплачивать популярного шансонье не под силу, но я ведь действую не самостоятельно, а по поручению редакции, а редакцию субсидирует влиятельная фирма.
Пожалуй, впервые за время их разговора глазки Марселя утратили присущую им веселость и взглянули на журналиста оценивающе.
— Вот как? Это что же за фирма?
— А вот это деловая тайна. Марсель, не такая глубокая, как дело Грейвса, но обязывающая. Да и разве суть в названии фирмы? По-моему, гораздо существеннее величина суммы, которую она ассигнует.
— Это, несомненно, очень существенно, — подтвердил Шербье. Он определенно ждал более открытых и конкретных предложений.
— У меня широкие полномочия, — солидно уведомил Рене. — И я гарантирую полную тайну нашей операции.
— Какой операции? — очень натурально и весело удивился Шербье.
— Не будем ходить вокруг да около. Марсель. Я думаю, что такому жизнелюбу, как вы, кругленькая сумма отнюдь не повредит.
— Это верно, — охотно согласился Шербье, поглаживая свою сияющую лысину. — У меня пошаливает печень, и врачи настоятельно рекомендуют съездить на воды. Но что вы называете кругленькой суммой?
— Как известно, цена определяется качеством товара.
— Не только, мой друг, не только! — живо возразил ученый. — Цена еще определяется уровнем спроса.
— Да, но если качество — категория постоянная, то спрос подвержен резким перепадам.
Эта словесная игра продолжалась довольно долго. Хойлу она быстро надоела, хотя он держал себя в руках и полегоньку, буквально по воробьиному шажку приближался к желанному финалу. Шербье же чувствовал себя как рыба в воде и явно наслаждался этим словесным сражением с многозначительной деловой окраской. Позже он признался, и в это можно было поверить, что, окажись Рене не таким легким и остроумным собеседником, то их сделка бы не состоялась. Даже на солнце есть пятна, что же удивительного, если у махрового прагматика оказались свои маленькие слабости? Выяснилось, что актив Шербье невелик: он мог свести Хойла с физиком-теоретиком, работавшим на Грейвса, кроме того, он мог сообщить, в какой стране и в каком городе располагался банк, услугами которого пользовался ученый-террорист. Запросил за это пять тысяч франков, но после длительной словесной баталии эта сумма была снижена до трех тысяч максимум, которым Рене мог располагать самостоятельно без консультаций с Аттенборо. Собственно, лишь из-за этого журналист и проявил такое деловое упорство и изворотливость, качества, несколько удивившие Шербье, однако отнюдь не уронившие Хойла в его глазах. Когда требуемая сумма была выплачена, Шербье дал Хойлу адрес и номер телефона Шарля Лонгвиля, в качестве обязательного условия оговорив, что журналист ни в коем случае не будет ссылаться на него, Марселя Шербье. Он посоветовал Рене начать контакт с физиком в амплуа чистого журналиста: Лонгвиль ведет какую-то игру, мечтает о популярности и охотно дает интервью представителям прессы. Что же касается второго пункта сделки, то он разочаровал Хойла: оказалось, что Вильям Грейвс был связан с банком, находящимся в княжестве Монако. Благодаря ряду существенных льгот, которыми пользовались финансисты на этой территории, в Монако имелись явные или тайные филиалы банков чуть ли не всех крупных стран мира. Поэтому ценность этого сообщения Рене считал не многим отличной от нуля, возлагая главные надежды на физика-теоретика Лонгвиля. Но Майкл Смит, с которым Рене переговорил по телефону, посмеялся и сказал, что вряд ли физик знает что-нибудь стоящее, а если и знает, то не выложит: Смиту хорошо известна эта порода ученых, в смысле покладистости ослы в сравнении с ними сущие ангелы. А вот банк — это несомненное средоточие если не всех, то важных обстоятельств дела Грейвса. Смит решил нажать на все доступные ему кнопки, чтобы выяснить конкретное название банка, попросил Хойла набраться терпения и подождать, а попутно и весьма осторожно поработать по линии физика.
И вот уже пятый день Рене бездельничал в ожидании звонка дяди Майкла. Нельзя сказать, чтобы он очень уж скучал — он был в Париже первый раз, а это такой город, в котором есть что посмотреть. Начал Рене с Марсового поля, именно с него потому, что над Марсовым полем возвышалась, взлетала к небу Эйфелева башня — это железное, тяжелое и в то же время изящное олицетворение Парижа. Эта башня была видна отовсюду. Не забравшись на эту башню, нормальный человек начинал испытывать смутное беспокойство, подобное беспокойству обывателя, которому предстоит неизбежный визит к дантисту.
За Эйфелевой башней последовал Лувр. Рене старался быть благоразумным и ограничивал экскурсии в каждый из его шести отделов двумя-тремя часами. Стоило это время затянуть, как осмотр из удовольствия превращался в изощренную пытку, в ходе которой тяжелую голову нет-нет да и посещала варварская мысль: какое, наверное, это неизъяснимое наслаждение расколотить и растолочь в порошок парочку-другую прославленных статуй!
Наконец в один из вечеров Хойл посетил Шарля Лонгвиля, день и час встречи были оговорены накануне. Лонгвиль принял его в большом кабинете, обставленном в строгом, подчеркнуто «научном» стиле: никаких украшений и излишеств, масса книг, внушительный письменный стол с вращающимся креслом, на боковом столике слева — почти бесшумная электрическая пишущая машинка, справа — диктофон, счетная машинка и еще какая-то аппаратура, назначение которой журналисту было неизвестно. Позади стола на стене висел большой портрет Марии Дирака, а на боковых стенах портреты Луи де Бройля и Шредингера размером чуть поменьше. Рене пошарил глазами в надежде найти и Альберта Эйнштейна, но величайшего физика современности в этом кабинете не было. Наверное, Лонгвиль не жаловал его потому, что Эйнштейн до конца своих дней так и не признал истинности квантовой механики: он считал ее удобным инструментом для расчетов, но никак не слепком реальности.
Лонгвиль встретил Рене с той холодной вежливостью, которая горше амикошонства, именуя «мсье Хойлом», усадил в кресло для посетителей, а сам взгромоздился на свой вращающийся трон за письменным столом. Не совсем осознанное чувство удивления, которое Рене испытал при встрече с Лонгвилем, теперь окончательно оформилось. Шарль Лонгвиль был и очень похож и в то же время разительно не похож на Марселя Шербье, как иной раз это бывает с братьями и сестрами, имеющими общие черты лиц, но совершенно разные их пропорции. Лонгвиль был также невысок, плотен и кругл, как и Шербье, но если полнота Марселя была подвижной и словно невесомой, то полнота физика явно отягощала его и сковывала движения, хотя он вовсе не выглядел тучным. Вместо румяной, подвижной как ртуть физиономии Шербье припухшая бледная маска с холодными бесстрастными глазами. И даже лысины у Лонгвиля тоже была обширнейшая лысина во всю голову — были разными! У Марселя лысина самодовольная, сияющая, как у Господа Бога во время очередного акта творения, когда, оглядев дело рук своих, он приговаривал: «Это хорошо!» А у Шарля Лонгвиля лысина тусклая, источающая хлад и презрение, не лысина, а… череп. Этот череп величественным куполом, этаким храмом науки, нависал над лицом и подавлял его.
Обменявшись с Лонгвилем несколькими фразами, Рене понял, что пытаться очаровать его или хитрить с ним совершенно бесполезно. Лишние слова отскакивали от ученого как горох, округлые, многозначительные обороты речи волшебно распрямлялись и обретали геометрическую прямолинейность — физик выцеживал смысл подобно фильтру. Поняв, а точнее почувствовав все это, Хойл сделал небольшую паузу и напрямик сообщил:
— Мсье Лонгвиль, я посетил вас не ради ординарного газетного интервью. Я пришел к вам ради дела Вильяма Грейвса.
Ни одна жилка не дрогнула на полном масковидном лице.
— К сожалению, мне ничего не известно о существовании такого дела.
— Но вы не можете не знать Вильяма Грейвса — это довольно известный физик-экспериментатор, работал в Беркли, в Лоуренсовской лаборатории в группе Кеннингема.
Полные, но бледные губы тронула улыбка.
— Мне встречалось это имя в специальной литературе, но повторяю, мсье Хойл, мне ничего не известно о некоем деле Грейвса.
— Ходят слухи, что ему удалось синтезировать сверхмощную ядерную взрывчатку и что он намерен использовать ее для глобального шантажа.
— О, каких только слухов не циркулирует! Вам, репортеру, простительно верить в небылицы. Но я не репортер, я ученый.
— Вы убеждены, что это небылица?
— Безусловно.
— Но научный прогресс — не простое фронтальное движение вперед. Наука нередко делает неожиданные зигзаги и скачки! Например, лазер. Разве было предсказано его изобретение?
— Принципиальная возможность создания лазера появилась уже после исследований Макса Планка, — холодно ответил ученый. — Остальное производное от уровня развития техники, потребностей практики и вульгарного везения.
В знак молчаливого согласия Рене почтительно склонил голову, и взгляд Лонгвиля несколько потеплел.
— Но частично вы правы, мсье Хойл. Наука иногда делает любопытные скачки! — Лонгвиль многозначительно поднял палец. — Однако такие скачки происходят в своеобразной «терра инкогнита» познания, между тем как ядерные реакции деления и синтеза ныне изучены досконально. Если угодно, лучше давным-давно известных химических реакций! Обозревая мир ядерных явлений и процессов, можно легко найти сверхмощную ядерную взрывчатку. Это антивещество, скажем, антиводород или антигелий. Теория не накладывает запрета на их синтез, но пока не видно надежных путей к разработке средств защиты их от аннигиляции, иначе говоря, средств накопления и хранения антивещества.
— А если Грейвс создал такие средства?
Лонгвиль устало вздохнул и сказал, сдерживая раздражение:
— Простите, но это невозможно, мсье журналист.
Рене помолчал, а потом со всей доступной ему деликатностью проговорил:
— Простите и вы меня, мсье Лонгвиль. Я с большим уважением и огромным доверием отношусь к вашим словам, но позвольте напомнить, что всего несколько десятилетий тому назад ученые с не меньшим скептицизмом относились к возможности создания ядерного оружия.
Рене выдержал паузу, но поскольку Лонгвиль молчал, продолжил уже несколько более живо и напористо.
— Простые люди накануне второй мировой войны попросту ни о чем не знали и не догадывались. Ученый мир в целом считал, что атомная энергия как таковая станет доступна человеку в далеком будущем, не раньше двадцать первого века. Сам отец атомной теории Резерфорд стоял на такой точке зрения! А вот узкие специалисты-атомщики сильно расходились во мнениях. И если Ферми взялся за создание ядерной бомбы, то группа немецких физиков посчитала этот проект практически невыполнимым. И в конце концов американцы создали атомное оружие в удивительно короткий срок!
Лонгвиль посмотрев на журналиста с интересом, как на редко встречающийся в природе феномен.
— Позвольте и мне напомнить вам, мсье Хойл, что атомную бомбу создали не одиночки, а целое государство, обладавшее громадным экономическим потенциалом и вложившее в это дело десятки миллиардов долларов! А, насколько я понял, вы полагаете, что Грейвс синтезировал сверхмощный ядерный материал в тиши своей лаборатории чуть ли не единолично. Нонсенс!
— Да, но с момента создания атомной бомбы прошло почти полвека. За это время наука шагнула далеко вперед.
На полном лице Лонгвиля появилось выражение усталости.
— Мсье Хойл, мы говорим о разных вещах и, как мне представляется, зря теряем время.
— Простите?
— Вас все время заносит в область вольных допущений и свободной фантазии. Может быть, это хорошо для газетчика, но плохо для ученого.
Рене на секунду задумался и обезоруживающе улыбнулся.
— А не могли бы вы позволить себе роскошь немного пофантазировать? Разве фантазия — не родная сестра творчества?
Лонгвиль, склонив голову набок, некоторое время переваривал слова журналиста.
— Ну что ж, — сказал он наконец, — небольшая интеллектуальная гимнастика для меня лишь полезна.
Рене хотя и не подал вида, но в душе искренне удивился своей удаче. Оказывается, и у этого цельнокованого человека были свои маленькие слабости. Он любил самый процесс мышления: обстоятельные посылки, неторопливое разворачивание силлогизма и неизбежный итог — крах заблуждений и торжество логики. Он любил мыслительный процесс сам по себе, как самоцель, даже в том случае, когда тот не вел к достижению реального результата. Ничего удивительного, истинные кокетки, например, кружево любовной игры ценят много больше ее примитивного грубоватого финала.
— О, я послушаю вас с удовольствием!
— Вы можете курить, мсье Хойл, — великодушно разрешил Лонгвиль.
— Благодарю, но я не курю.
— Похвально! Нет ничего глупее и вреднее этой варварской привычки.
Лонгвиль половчее угнездился на своем вращающемся троне и скучным голосом начал не столько рассказывать, сколько вещать:
— Пятнадцать миллиардов лет тому назад, мсье Хойл, нашей Вселенной не существовало. Не было ни звезд, ни галактик, не было привычного людям вещества и даже самого пространства и времени. Вневременное и внепространственное бытие, не подвластное пока нашему пониманию, составляло сущность мира. На месте нашей Вселенной находился кусок сверхплотной и сверхэнергоемкой материи. — Физик охватил ладонями незримый бильярдный шар. — А затем по воле высшего разума или в силу естественного развития событий, это несущественно, этот кусок взорвался. На его месте образовался файрбол — чудовищно разогретый и стремительно расширяющийся шар, который затем и трансформировался в привычную для нас звездно-галактическую Вселенную. Произошел биг-банг, большой взрыв!
Лонгвиль снова охватил ладонями незримый бильярдный шар и неловко развел руками, демонстрируя ход взрыва и трансформацию файрбола; для этого он шевелил коротенькими пальцами, точно печатал на машинке. Лицо его было таким торжественным, точно именно он сам произвел этот самый биг-банг. Рене с трудом удержал улыбку, но изображать на лице внимание и интерес ему было совсем нетрудно: рассказ физика и вправду вызывал любопытство.
— В существовании файрбола теперь практически никто не сомневается, потому что в пространстве обнаружены следы того первичного, реликтового теплового излучения, которое сформировалось в ходе биг-банга. Но что важно в схеме нашей беседы, — Лонгвиль дал понять, насколько это важно, энергоемкость протоматерии, из которой сформировался файрбол, была невообразимой, поистине уникальной! Целый ряд космологических процессов: само существование квазаров и радиогалактик, сверхмощные взрывы в ядрах галактик наводят на мысль, что за них ответственно именно это таинственное протовещество, вернее, трансформированные его остатки. Два русских ученых-геолога выступили с любопытной гипотезой. Они утверждают, что высокая плотность нашей планеты, да и всех планет земной группы, определяется наличием вовсе не железного, а сверхплотного ядра совершенно иной природы. Это гипотетическое ядро, обладающее огромной энергоемкостью, они назвали апейроном, отдавая дань античной мудрости. Совершенно очевидно, что апейрон некоторым образом перекликается с протоматерией файрбола. Любопытно, что, используя понятие апейрона, русские ученые прояснили несколько темных мест и неожиданных поворотов в геологической эволюции нашей планеты.
Рене видел, что Лонгвиль увлекся, насколько это вообще было возможным при его темпераменте, поэтому, воспользовавшись небольшой паузой, он решил повернуть руль беседы в нужном направлении.
— Мсье Лонгвиль, а не мог ли Грейвс так или иначе синтезировать этот апейрон? И именно из него, апейрона, изготовить свои сверхмощные боеприпасы?
Физик вздохнул, по всей видимости сожалея о невежестве и наивности Хойла.
— Поверьте, это невозможно.
У Рене вдруг мелькнула догадка, мысль настолько простая, что он удивился, как она не пришла ему в голову раньше.
— Хорошо, — сказал он, — я готов поверить вам, что синтез этого самого файрбольного вещества, апейрона, сейчас невозможен. Но не мог ли Грейвс найти его залежи, его выходы к поверхности земли? Нечто вроде апейроново-кимберлитовых трубок?
По полному масковидному лицу Лонгвиля пробежала какая-то тень, Рене мог поклясться в этом, но голос его был по-прежнему сух и снисходителен.
— Если апейрон и существует, то он находится на глубине нескольких сот километров. Пытаться организовать его добычу при современном уровне техники бессмысленно.
— Но Вильям Грейвс несколько раз выезжал в Габон и вел там какие-то геологические изыскания! Какие?
Это был неосторожный и явно ошибочный ход. Лонгвиль выпрямился в кресле и холодно отчеканил:
— Я еще раз повторяю, мсье Хойл, что никакого понятия не имею о деле Вильяма Грейвса. И я был бы весьма благодарен вам, если бы вы больше не возвращались к этому вопросу.
По существу беседа на этом и закончилась, все остальное были лишь фразы, дань вежливости перед прощанием. И все-таки Рене не зря посетил Лонгвиля: он уверился, что Грейвс что-то экстраординарное нашел или, по крайней мере, искал в Габоне. А разве это так уж мало? Вдруг Грейвс каким-то образом докопался до залежей этого таинственного апейрона и, само собой, назвал его грейвситом!
На шестой день пребывании в Париже Рене ранним утром разбудил телефонный звонок и незнакомый голос, предварительно осведомившись, с кем имеет честь говорить, попросил его между десятью и одиннадцатью часами навестить известное ему кафе. Известное кафе? Рене замешкался с ответом, не понимая, о чем идет речь. Обладатель незнакомого голоса, очевидно, знал, что может поставить Рене в тупик, потому что очень ловко, говоря обиняком и намеками, пояснил, что речь идет о том самом кафе, которое было оговорено как своеобразный явочный пункт дядей Майклом. Телефонный звонок и обрадовал и обеспокоил Рене. Обрадовал, потому что кончились дни томительного ожидания и впереди замаячил огонек грядущей удачи. Визиты к Шербье и Лонгвилю, конечно же, никак нельзя назвать настоящим успехом промежуточное звено, не более того. А обеспокоил своей осторожностью, конспиративностью. Неужели он, Рене Хойл, под наблюдением и дело зашло довольно далеко? Обо всем этом и размышлял Рене, шагая по мокрым осенним листьям, щедро устилавшим пестрым шуршащим ковром парижские улицы.
Глава 7
Кафе, которое было названо в ходе телефонного разговора, Рене Хойл нашел без труда. Это было, наверное, популярное кафе, но в сравнительно ранний час посетителей тут было немного. Несмотря на дождь, они предпочитали сидеть не в зале, а за круглыми, прикрытыми общим тентом столиками, что стояли под великолепными раскидистыми каштанами и длинной цепочкой выбегали прямо на тротуар. Никто не торопился, совмещая завтрак с чтением газет и созерцанием, только за одним столиком гудела группа юношей, обсуждали что-то очень оживленно, но вполголоса — какие-то свои молодые секреты.
Рене выбрал крайний уединенный столик, от которого хорошо, в оба конца, просматривалась улица, обсаженная старыми каштанами и липами. Объединенными усилиями влажная дымка, дождь и деревья так хорошо скрывали дома, что можно было подумать — бар находится в парке. Правда, это впечатление разрушал негустой поток автомашин, с приглушенным шорохом кативший по асфальту.
— Что пожелаете, мсье?
Рене обернулся: возле его столика стоял гарсон. Сухощавый, с густой шевелюрой седеющих волос, худым добрым лицом, грустными глазами и маленьким жестковатым ртом — типичный француз, больше того — парижанин как по облику, так и по выговору.
Рене заказал листинг — литровую кружку светлого пива, дюжину дешевых устриц и картофельный салат с оливковым маслом, уксусом и красным перцем. Взглядом дав понять, что заказ принят и одобрен, гарсон мягко, с намеком на улыбку спросил:
— Мсье любит осень? — И, отвечая на вопросительный взгляд Рене, пояснил, чуть склоняя набок голову: — Мсье легко одет, он мог бы занять столик в зале.
Журналист улыбнулся в ответ:
— Вы угадали. Я люблю осень, даже такую.
— И мсье прав. — Гарсон сделал легкую паузу и, так как Рене благожелательно смотрел на него, продолжил свою мысль: — Лето в Париже далеко не лучшее время: жарко, пыльно, даже зелень кажется не зеленой, а серой. А вода в Сене к вечеру начинает пахнуть псиной — увы, гниют городские отбросы.
Он умолк и сделал движение, чтобы уйти, но Рене остановил его репликой.
— Есть еще и зима.
Гарсон улыбнулся, он хорошо улыбался, его темные глаза не теряли при этом грустноватого выражения.
— О, мсье, парижская зима — испорченная осень, а кто же любит испорченное? Извращенные, пресыщенные люди! Да еще китайцы, я имею в виду китайскую кухню, разумеется.
— А весна?
— Весна — всюду весна, мсье; весною всюду хорошо. Стоит ли за тридевять земель ехать в Париж, чтобы посмотреть, как пробуждается природа и сходят с ума люди? Нет, мсье прав, приезжать в Париж надо осенью, только пораньше, когда еще не так надоедают дожди.
Гарсон был разговорчив, но предупредителен, как только Рене отвел взгляд, он тактично отошел от столика. Рене посмотрел ему вслед. Как быстро этот симпатичный гарсон разглядел в нем приезжего! Интересно, в чем тут дело? Легкий акцент? Чепуха! В Париже живут тысячи выходцев из Прованса, Оверни, Нормандии, говор которых отличается от столичного куда больше его собственного. Одежда? Она теперь стандартна во всей Европе. Не хватает парижской легкости, лоску, элегантности? Хм, разве другие посетители кафе так уж легки и элегантны? В этом угадывании определенно есть что-то мистическое. Впрочем, разве не мистично то, что человек способен угадать знакомого, особенно кого он очень любит или ненавидит, по силуэту, походке, звуку шагов и дыханию? Можно обойтись и без мистики. В том случае, если предположить, что этот интеллигентный гарсон попросту получил о нем заблаговременно некую сумму информации.
Рене неторопливо глотал устрицы и запивал их пивом. Когда он выжимал в очередную раковину лимонный сок, нежные края моллюска съеживались. Сочная масса еще живого тела, заполняя рот, ощутимо отдавала морем и чем-то еще: легким и трудноуловимым, знакомым и забытым, как желания розового детства. Светлое пиво было чудесным, во всяком случае, оно было для Рене привычным и нравилось куда больше, чем прославленное, но тяжеловатое датское пиво. А может быть, все дело было в том, что Париж нравился Рене больше, чем Копенгаген?
Рене несколько раз рассеянно, как его и наставлял дядя Майкл, оглядел кафе, ненадолго фиксируя взгляд на посетителях-одиночках. Но никто не попытался перехватить его взгляд, никто не проявил заинтересованности по отношению к его персоне. Судя по всему, человека, к которому он пришел на встречу, в кафе еще не было, а может быть, он был тут, но по каким-то неизвестным журналисту причинам пока не объявлялся.
— Еще пива, мсье?
Рене взглянул на гарсона, который стоял в спокойной, но предупредительной позе.
— Я слышал, вас называют мсье Пьером?
— Просто Пьером. — Гарсон слегка поклонился. — Лиц моей профессии называют по имени независимо от возраста, мсье.
— Откройте мне тайну, Пьер. Как вы догадались, что я приезжий?
Гарсон на секунду задумался, слегка склонив голову набок и приподняв брови, отчего его высокий лоб собрался мелкими морщинами.
— Множество мелочей и ничего конкретного. Легкий акцент, штрихи одежды и прически, манера двигаться и сидеть… Право, догадаться гораздо проще, чем объяснить, как это делается. — Словно извиняясь, Пьер подарил журналисту свою симпатичную грустноватую улыбку. — Например, редкий француз завтракает без сыра. Могу, кстати, порекомендовать отличный камамбер, деревенский.
— Что ж, принесите камамбера, а заодно и еще кружку светлого, неизвестно, сколько времени ему придется проторчать в этом кафе. Гарсон хотел отойти, но журналист взглядом удержал его. — Значит, вы решили, что я не только не парижанин, но и не француз?
— Нет, мсье. У вас не французская артикуляция, хотя в чертах лица и есть нечто галльское.
Хойл заулыбался.
— Верно! Моя мать была француженкой. Знаете, Пьер, с такими способностями вы могли бы подыскать себе более интересное и доходное занятие.
Гарсон в знак согласия склонил седеющую голову.
— Вы правы, мсье. Но мое нынешнее занятие — временное. Я собираюсь открыть собственное заведение и работаю здесь для практики, чтобы изучить будущее дело, так сказать, изнутри.
— О! Так вы богатый человек?
Интеллигентное лицо гарсона погрустнело.
— Увы! Мой капитал более чем скромен — это лишь сбережения, накопленные за тридцать лет безупречной службы. Недавно я получил очень интересное предложение: хороший район, недурное помещение, постоянная клиентура. Пьер заглянул журналисту в глаза и доверительно понизил голос: — Не хватило каких-то несчастных десяти тысяч франков.
— Обидно! — не сразу ответил Хойл, последняя фраза заставила его насторожиться.
— Обидно, мсье. Когда тебе подставляет ножку случай, всегда обидно. Простите, мсье, но я должен отлучиться.
Итак, корректный гарсон неожиданно и довольно грубовато намекнул, что нуждается в десяти тысячах франков. Как понять это? Выложив эту информацию, гарсон удалился и дал возможность Рене осмыслить и оценить ситуацию. Может быть, симпатичный Пьер и есть то самое лицо, ради которого Рене явился в это кафе? Почему же тогда гарсон действует инкогнито? Вовсе не исключено, что это происки, а то и прямая провокация каких-то третьих лиц, заинтересованных в деле Грейвса и компрометации Хойла. Надо быть настороже!
— Пиво и сыр, мсье. Салат чуточку опаздывает, — подавая заказ, гарсон добавил, понизив голос: — Вам поклон и наилучшие пожелания от дядюшки Майкла.
Это был пароль. По мнению Рене, он был слишком прост, но, когда он рискнул вслух высказать свое мнение, Смит рассердился и сказал, что это лишь в детективных романах агенты имеют возможность обмениваться условными репликами в духе шекспировских комедий. На деле все гораздо проще и надежнее: и времени бывает в обрез, и никому не интересно расхлебывать двусмысленную ситуацию, которая может сложиться из-за того, что кто-то в спешке или из-за волнения перепутал слово или фразу. Это был пароль, но на всякий случай Рене решил подстраховаться.
— Майкла? Какого Майкла?
— Ваша осторожность похвальна, мсье Хойл, но у меня была возможность познакомиться с вашей фотографией. И я сразу узнал вас.
— Что же вы тянули столько времени?
— В таких делах нельзя спешить, надо было убедиться, что вы — это вы. Попробуйте камамбер, мсье, он действительно превосходен, а наш разговор будет выглядеть более естественно. К тому же по ту сторону улицы стояла машина, и я имел все основания полагать, что оттуда ведется подслушивание нашего разговора. Современная аппаратура позволяет делать это просто и незаметно.
Рене покосился в сторону улицы. Кажется, там действительно стоял лимузин бежевого цвета, но теперь его не было.
— Где же машина теперь?
Гарсон улыбнулся, его симпатичная улыбка, не потеряв грустинки, приобрела и некоторое лукавство.
— До выхода на пенсию я служил в полиции, мсье, и сохранил множество старых и полезных связей.
— О, теперь мне многое становится ясным!
Рене отпил пива, отведал сыра и похвалил его.
— Я не случайно рекомендовал его, мсье. — Гарсон поклонился и спросил: — Вам известно, что за вами установлена слежка?
Рене удивленно взглянул на него:
— Нет!
— Не надо лишних эмоций, мсье Хойл. За вами следят, это мне известно совершенно точно. И можете гордиться — у вас сразу два хвоста.
— Но я ничего не замечал.
— Вы неопытны. Один из ваших провожатых неприметен, а другой весьма характерен — плотный, рыжий, голубоглазый, говорит с английским акцентом.
Плотный, рыжий и голубоглазый! Скорее всего это был тот самый тип, который, как клещ, вцепился в Рене, когда он занимался Серлином. Но тогда журналист легко обнаружил его слежку, а теперь этот соглядатай ухитрился оставаться незамеченным. Тут было над чем подумать, но гарсон не оставил ему такой возможности.
— Мне удалось установить банк, который финансировал интересующее вас лицо. Это было нелегко и обошлось недешево.
— Десять тысяч франков?
Гарсон мягко улыбнулся:
— В эту сумму включен и мой гонорар, мсье Хойл. Десять тысяч и ни сантимом меньше.
— Десять тысяч!
— Именно так. Десять тысяч и ни сантима меньше. Обдумайте мое предложение, а я принесу ваш салат. Извините, мсье.
Собственно, обдумывать было нечего, Рене знал, какое значение придавал Смит установлению банка, а мнение дяди Майкла было для него безусловно авторитетным. Рене заплатил бы и втрое больше, но вся беда в том, что без санкции Аттенборо он не мог выплатить такую сумму. Все это журналист и выложил гарсону, когда тот принес картофельный салат.
— Понимаю, мсье, — спокойно согласился тот, — вы можете проконсультироваться. Я подожду. Но не советовал бы затягивать это дело: судя по всему, чем быстрее вы уберетесь из Парижа, тем лучше.
— Это займет у меня не более двух часов. Мне прийти сюда?
— Не стоит афишировать наше знакомство, мсье. Скорее всего после инцидента с машиной кафе оставят под наблюдением. При расчете я дам вам номер своего телефона и буду ждать звонка от семнадцати до восемнадцати. Вечером я свободен от работы.
Прямо из кафе Хойл отправился на переговорный пункт, памятуя наставление дяди Майкла о том, что без крайней нужды телефоном в гостинице для серьезных разговоров пользоваться не следует. Аттенборо без раздумий дал ему санкцию на выплату требуемой суммы и даже слегка пожурил за некоторую нерешительность и затяжку операции. Из этого Рене заключил, что установить банк действительно важно. Рене вышел из переговорного пункта в самом радужном настроении. Аттенборо подбодрил его, но самое главное дал понять, что доверие к нему повысилось. Рене и думать забыл о том, что за ним установлена слежка и что ему следует побыстрее покинуть Париж. Забыл и, как выяснилось, напрасно. Когда он свернул в боковую не очень людную улицу и сделал по ней десятка три шагов, возле него у самой бровки тротуара круто затормозил бежевый лимузин. Из машины выскочил высокий, ладно скроенный молодой человек, видимо ровесник Хойла, и раскрыл объятья:
— Рене! Ты ли это? Сколько лет, сколько зим! — В то же мгновение в бок журналиста ткнулся короткий ствол крупнокалиберного пистолета. — Садитесь в машину. Без шума! Мы не причиним вам вреда, только побеседуем.
Рене и не думал артачиться. Дядя Майкл страшно рассердился, когда Рене спросил его, каким способом следует обезоружить человека, направившего на тебя пистолет. Если на тебя направлен пистолет, сердито сказал он, веди себя тихо, как кролик, и покорно, как старый мерин. Без серьезных на то причин пистолеты под нос не суют. Человек, который держит палец на спусковом крючке, идет на крайность. Если это даже профессиональный убийца, нервы его напряжены, палец может дрогнуть от твоего резкого движения, истеричного крика, посторонней суматохи. И потом, вещал старый детектив, если тебя держат под дулом пистолета и ведут разговоры, то это значит; что в принципе убивать не собираются. Потому что преднамеренные убийства в наше время совершаются с максимальной простотой и рационализмом, без разговоров и сентенций: стреляют с проезжающей машины, из окна, с крыши или чердака. Впрочем, стрелять вовсе не обязательно, есть масса других эффективных способов устранения неугодных. В общем, если на тебя направлен пистолет, будь тих и послушен, как пай-мальчик, за исключением особых случаев, разумеется. Конечно же, Рене не преминул поинтересоваться, что это за особые случаи и как определить, что именно такой случай имеет место. Сначала Майкл Смит сердито буркнул, что он искренне надеется на то, что у Рене такого случая не будет. Потом подумал и добавил, что Рене легко поймет, когда наступит эта особая ситуация, а если не поймет, так ему вряд ли представится возможность подумать еще раз, разве что на больничной койке.
Как бы то ни было, журналист не стал артачиться, не потерял самообладания и, когда «старый приятель» стал усаживать его в машину, дружески похлопывая по спине, Рене тоже похлопал его и сказал, что очень рад такой нечаянной встрече. В машине Хойл осмотрелся. Слева от него, закрывая собой дверцу автомобиля, сидел дюжий парень с плоским равнодушным лицом, его природная животная сила выражалась не шириной плеч или рельефом мускулов, а общим объемом и массивностью тела. Впереди маячила крепкая шея и круглый коротко остриженный затылок шофера, а справа, закрывая другую дверцу, расположился «старый приятель», который выразил такую радость по поводу встречи с Хойлом. Парень бесцеремонно, насмешливо, но, пожалуй, и с некоторым одобрением разглядывал Рене.
Когда машина без всякой спешки плавно тронулась с места, журналист вежливо осведомился:
— С кем имею честь?
— А ты парень-гвоздь, — «старый приятель» фамильярно похлопал Хойла по колену и уведомил: — Можешь называть меня Робером. Представляться не нужно, мы тебя знаем.
— Я и не подозревал о своей популярности!
— Знаем мы и то, что ты действительно сотрудничаешь в этой паршивой лондонской газетенке, — продолжал Робер, не обращая внимания на реплику. А вот какого дьявола ты целую неделю болтаешься в Париже и всюду суешь нос, нам пока неизвестно.
— Почему неделю? — обиделся Рене. — Я здесь всего шесть дней!
— Остряк! — качнул головой Робер. — Не рано ли ты начал веселиться? Как думаешь, Беб?
— Да вроде рановато, — неожиданно тонким голосом пропищал здоровяк и захихикал.
— В общем, если ты хочешь, чтобы эта прогулка кончилась для тебя благополучно, советую быть откровенным, Рене, — холодно заключил Робер.
У него был тяжелый взгляд: именно с такой холодной усмешкой уверенный в себе бандит разглядывает беззащитную жертву, прежде чем шмякнуть ее по физиономии или пустить пулю в живот. И весь облик его был странным, противоречивым. Коротко остриженная, хорошей формы голова, умные, неожиданные для брюнета синие глаза, тонкий с горбинкой нос, твердый подбородок — все это было хорошо лишь по отдельности, а вкупе, накладываясь друг на друга, составляло нечто хищное и порочное. Под стать лицу была и одежда: модная, броская, но не только Небрежная, а даже какая-то неряшливая. Выбрит Робер был кое-как, но руки у него были чистые, ухоженные, с отполированными ногтями.
— Зачем ты приходил к Пьеру?
— К какому Пьеру? — удивился Рене.
— Не строй из себя дурачка!
— Может, дать ему раз? — обиженно пропищал Беб.
— Подожди, успеется. Не строй из себя дурачка, я говорю о гарсоне, который обслуживал тебя час тому назад.
— Я не имею обыкновения знакомиться с гарсонами, а тем более запоминать их имена.
— В Париже десять тысяч гарсонов, а ты ухитрился попасть к такому, который работал в полиции по крупным делам и всего лишь полгода как вышел на пенсию. Что тебе было от него нужно?
— Две кружки светлого, устрицы, сыр и картофельный салат, обстоятельно перечислил журналист.
Здоровяк положил на шею Рене свою лапищу и слегка сжал пальцы.
— Пощекотать ему гланды. Роб?
— Да подожди ты! — Робер поиграл желваками на скулах и после паузы уже спокойно сказал: — Ладно, оставим пока Пьера. Что тебе нужно было от Шербье и Лонгвиля?
Рене мысленно глубоко и облегченно вздохнул: первый раунд схватки он, может быть, и не очень убедительно, но все-таки выиграл. Если влипнешь в скверную историю, поучал его дядя Майкл, не теряй надежды и сохраняй кураж. Умному противнику ты этим внушишь определенное уважение и заставишь задуматься, ну а если нарвешься на дурака, то от характера твоего поведения мало что изменится. Рене почувствовал облегчение еще и потому, что ответ на последний вопрос Робера был давно продуман и встроен в соответствующую легенду.
— Я брал у них интервью. Я же репортер, вам это известно!
— В Париже десятки тысяч ученых. Они расплодились как тараканы, теперь их, Наверное, не меньше, чем официантов. Почему ты из этого сборища выбрал именно Шербье и Лонгвиля?
— Слушайте, какого черта вы суете нос в мои дела? — рассердился Хойл.
Робер холодно усмехнулся.
— Надо, мой дорогой, надо. Так надо, — Робер провел ладонью по горлу, что если ты окажешься неразговорчивым, мне придется от слов перейти к делу и попросить содействия у Беба. Беб, ты не откажешься мне помочь?
— Да уж не откажусь! — пропищал здоровяк, любовно оглядывая журналиста, словно тот был сочным бифштексом или куропаткой на вертеле.
Кураж — не самоцель, а лишь одна из тактических линий поведения. Надо уметь и отступить вовремя, но, конечно, ни в коем случае не говорить правду. Правда — для простаков, надо ограничиться полуправдой, которая дает противнику минимум информации, а тебе предоставляет максимум выгод и возможностей.
— Раз уж так надо, войду в ваше положение. Я интервьюировал Шербье и Лонгвиля по делу одного ученого-атомщика, Вильяма Грейвса. Вам о чем-нибудь говорит это имя?
— Сейчас вопросы задаю я, Рене, запомни это. Почему по делу этого атомщика ты обратился именно к Шербье и Лонгвилю?
— Потому что это не ординарные люди, у них есть искра Божья, если не в душе, то в мозгах. Я предпочитаю интервьюировать людей талантливых.
У Робера задрожали уголки рта.
— Я тоже люблю людей талантливых. Если хотите, только их можно называть настоящими людьми, все остальное — мразь и копоть. Вот и у Беба есть своя искра Божья и свой талант, а?
— Тебе виднее, — пропищал здоровяк, нахохлившись.
То, что он обиделся, не очень удивило журналиста: у профессиональных убийц и палачей жестокость нередко совмещается с чувствительностью и даже сентиментальностью.
Внимательно разглядывая Хойла, Робер достал из кармана пачку сигарет, зажигалку и закурил. Шофер молча протянул назад руку. Робер раскурил другую сигарету и протянул ему. Беб брезгливо поморщился и помахал своей лапищей, разгоняя дым. Глубоко затягиваясь табачным дымом, Робер все еще разглядывал журналиста. Его взгляд если и не потеплел, то все же потерял былую холодность, отчего лицо Робера как-то вдруг утратило часть своей дисгармонии, стало приятнее.
— Конечно, Шербье и Лонгвиль — талантливые люди, — проговорил Робер, а Рене в эту секунду вдруг понял, что кто-то из этих двух ученых, скорее всего Шербье, и навел этих молодчиков на него, бедного журналиста. — Но ухватился ты за них потому, что оба они в свое время работали на Грейвса. Так?
— Ну а если и так?
— А откуда у тебя такая информация? Не вздумай только ссылаться на телепатию или предсказание астролога!
— Неужели вы не верите в астрологию? — простодушно удивился Рене.
— Оставим звезды ученым и влюбленным. Мы все время отклоняемся от сути дела.
— Вот именно, — проговорил шофер, голос у него был бесцветный и очень спокойный. — Надо прибавить темп. Роб.
— Делай свое дело, а я буду делать свое! — бросил ему в спину Робер.
— Не кипятись, Роб. Я и делаю свое дело. За нами хвост.
Робер, здоровяк и даже Рене невольно покосились назад.
— Ты уверен?
— Вполне. Проверял несколько раз. Кремовая «симка». По-моему, в ней всего двое. Те, кого видно, в цивильной одежде.
Робер рывком за плечо повернул к себе Хойла.
— Кто это?
— Честное слово, не знаю! — искренне ответил Рене.
Секунду Робер вглядывался ему в глаза, потом слегка оттолкнул и задумался, морща лоб и слегка покусывая верхнюю губу.
— Сдается мне, это все тот же, — сказал шофер. — Вроде я узнал его.
Робер вскинул голову:
— Чего ж молчал?
— Не вполне уверен. Но, скорее всего, не ошибаюсь.
— Вот погладить бы тебе затылок! — обиженно пропищал Беб.
— Ладно, потом выясним, кто к нам прицепился, а пока продолжим. — Робер повернулся к журналисту. — Ты ищешь подходы к Вильяму Грейвсу, это совершенно ясно. На кого ты работаешь?
— На свою газету, разумеется! Разве это не ясно?
— Ваша газета не из тех, которые оплачивают заграничные вояжи. На кого работаешь? — голос Робера стал жестким, он кивнул Бебу. — У нас мало времени. Ну?
Лапища снова легла на шею Рене и начала как тисками сжимать основание черепа. Нарастала боль, подкатывала дурнота, лицо Робера поплыло.
— Хватит!
Журналист повертел шеей, потер ее рукой и слабо улыбнулся.
— Что-то вроде живой гарроты! Черт бы побрал этих испанцев! Наверное, гильотина и то лучше.
— У тебя еще все впереди, — холодно сказал Робер. — Итак, на кого ты работаешь?
В это мгновение, Бог его знает по каким признакам, но Рене окончательно уверился — Роберу и без того известно, на кого он работает помимо газеты. А вся история с допросом и насилием — всего лишь проверка его правдивости, его готовности пойти на компромисс и сотрудничество.
— Хорошо, я отвечу, — Рене сделал паузу и твердо добавил: — Но откровенность за откровенность. На кого работаете вы?
— Мы революционеры и работаем на самих себя, — надменно бросил Робер.
— Это уже лучше. — Журналист еще раз повертел шеей. — Надеюсь, вы догадываетесь, если мои хозяева узнают, что я с вами пооткровенничал, они прекратят меня финансировать и вообще выведут из игры?
— А может, и шлепнут! — предположил Беб, оживляясь.
Оказывается, этот здоровяк и слушал и слышал, но скорее всего воспринимал он не всю информацию, а только то, что представляло для него интерес и входило в круг его понимания. В этом отношении, как это ни странно, Беб был весьма похож на своего интеллектуального антипода ученого-фанатика Шарля Лонгвиля.
— А может, и шлепнут, — повторил Рене, глядя на Робера.
— Понимаю, — без тени улыбки или насмешки проговорил Робер.
И от этой серьезности у журналиста мурашки пробежали по спине. «Бедный Хойл, — подумал он, вспоминая бессмертного Робинзона Крузо, а если точнее, то его попугая. — Бедный Рене Хойл! Где ты был? Как ты сюда попал? Как тебя сюда занесло?»
— Понимаю, — повторил Робер. — Эти ребята — могила, от меня узнает только шеф. Можете быть покойны.
Рене кивнул, помедлил, как это водится в таких случаях, и сообщил, что он работает на фирму Невилла и что непосредственно его действиями руководит юрисконсульт Аттенборо. Впервые за время этого разговора шофер счел возможным и нужным повернуться и бросить короткий взгляд на журналиста. У него были лохматые брови и крупный нос — типичный южанин. Боковым зрением Рене заметил тень удовлетворения, скользнувшую по лицу Робера, и окончательно уверился в своей догадке: этим экстремистам и без того было известно, на кого он работает, они лишь перепроверяли себя, а заодно проверяли его честность.
— Ну так вот, — сказал Робер, теперь уже вполне дружелюбно кладя руку на плечо журналиста. — Мы тоже ищем подходы к Вильяму Грейвсу, так что наши цели совпадают. И мы поможем тебе выйти на него и вступить с ним в контакт.
— Что ж, большое спасибо, — с чувством поблагодарил журналист. — В наше время не так-то просто найти бескорыстных помощников.
Затылок шофера качнулся, а Беб тоненько заржал и радостно сообщил:
— Да он дурак!
— Он не дурак, — спокойно возразил Робер, — и прекрасно понимает, что должен будет поддерживать с нами контакт и снабжать информацией. И что за ложь мы свернем ему шею, а если попытается смотаться, то мы разыщем его и на дне морском, и в аравийских пустынях.
Рене вздохнул:
— Это я давно понял. Мне непонятно другое, что я получу от вас взамен за свои услуги. Вы же не хотите помогать мне бескорыстно! Почему же я, черт побери, должен это делать? Если на свете и нет справедливости, то есть честный бизнес!
— Дать ему раза? — плаксиво взмолился Беб; он проявлял иногда удивительную для его интеллекта сообразительность.
— Помолчи! — оборвал его Робер и снисходительно, как маленькому, пояснил Рене: — Прежде всего мы поможем тебе тем, что не будем мешать.
О деталях, в частности о связи, они договорились быстро. В заключение Рене попросил об одном одолжении, и Робер снисходительно разрешил ему выложить свою просьбу.
— Хвост за нами все еще тянется? — спросил журналист у шофера.
Тот, взглядом попросив у Робера разрешения, ответил:
— Как резиновый. — И, пожав плечами, добавил: — Да я и не пытался от него отвязаться.
— Я не знаю, кто там, — Рене показал большим пальцем за спину, — но не исключено, что это контролер, и мне совсем не хочется дать ему возможность убедиться, что я чуть ли не полчаса катался с вами по городу.
— Голова! — восхитился здоровяк.
— Мы высадим вас незаметно, — успокоил его Робер.
— Раз плюнуть, — подтвердил шофер уверенно.
— А если он засек, как вы меня сцапали? — Рене выразительно взглянул на Робера и предложил: — Надо сбить их с толку.
Когда он коротко изложил свой план, первым, как это ни странно, его одобрил Беб.
— Голова! — повторил он.
Реализация плана Рене облегчалась тем, что в машине оказалась ультракоротковолновая радиостанция. Переговоры вел шофер. Через несколько минут ожидания он сообщил, что план принят, конкретизирован, и назвал улочку, на которой будет произведена пересадка-подмена. Шофер прибавил скорость, выбрался в нужный район, помотался по старым кварталам и, круто свернув за угол, затормозил. Рене выскочил из машины, а на его место скользнул парень одного роста с журналистом и одетый примерно в такой же костюм. Машина рывком взяла с места, а Рене скользнул в дверь бистро. Через несколько секунд из-за угла вывернула «симка» кремового цвета. Рядом с шофером сидел тот самый рыжий голубоглазый здоровяк, который таскался вслед за Рене по Копенгагену и о котором, конечно же, говорил ему Пьер.
Глава 8
Рене удивило, что игорный зал знаменитого монакского казино совсем невелик по сравнению с размерами величественного здания, окруженного пальмами и выходящего своим фасадом к морю. Овальные столы, крытые зеленым сукном, освещены ярким светом. В центре каждого стола круг с вычерченными на нем квадратами и цифрами от единицы до тридцати шести. За каждым столом восседают четыре крупье в традиционной, почти форменной одежде: черные смокинги, белоснежные манишки и галстуки-бабочки. Вокруг стола несколько десятков игроков обоего пола самого разного возраста и облика, соболя, жемчужные ожерелья и перстни с настоящими бриллиантами — игру ведут обеспеченные люди. Игроки сосредоточены и привычно хладнокровны, лишь блеск глаз да легкая дрожь пальцев выдает их глубоко запрятанный азарт и волнение. Вокруг кольцо гораздо более непосредственных любопытствующих зрителей, вход которым сюда разрешен за специальную и немалую плату.
— Мадам и мсье! Делайте свою игру!
Воцаряется тишина, нарушаемая лишь жужжанием шарика рулетки. Остановка шарика сопровождается сдержанным гулом голосов, оживлением среди зрителей и стуком лопаточек, которыми крупье с ловкостью фокусников придвигают игрокам выигранные и отодвигают проигранные фишки. Игра идет не на деньги, не на золотые монеты, как это водилось прежде, а на специальные фишки разной формы, цвета, а стало быть, и стоимости; эти фишки можно получить в обмен на франки в кассах, которые стоят вдоль стен игорного зала. Если повезет, то после окончания игры совершается обратный обмен. И снова в воцаряющейся, как по мановению волшебной палочки, тишине — резкий голос крупье:
— Мадам и мсье! Делайте свою игру!
Рене повернулся на каблуках и пошел к выходу. Странный кукольный мир, худосочная имитация красочной полнокровной жизни, лежащей за пределами этого здания. Мир по-своему притягательный, яростный, холодно кипящий неистовыми, но примитивными, вырожденными страстями. Что-то вроде плоского чертежа вместо прекрасного дворца или храма, формализованная компьютерная проекция реальности. Вместо многозначных, полных полутонов и умолчаний проблем любви, дружбы, счастья, успеха и призвания — двузначная мертвенная вариация: ослепительный пламень выигрыша и безнадежный мрак проигрыша. Мерзость!
Через большой холл, через зал игральных автоматов, который доступен и бедняку, через зеркальные двери, охраняемые респектабельным швейцаром, Рене вышел на свежий воздух и вдохнул полной грудью. Вечер. Легкий ветер, напоенный соленым запахом моря и пряным ароматом цветов, контрастный свет фонарей, справа от широких ступеней подъезда казино — ряды шикарных сверкающих автомашин, вереницы прохожих, приглушенный рокот моторов… Жизнь!
Неторопливо шагая по направлению к Туристскому центру, Рене философски и с некоторой насмешкой, обращенной к самому себе, думал, что его нынешняя деятельность похожа на рулетку: выигрыши чередуются с проигрышами, полосы везения сменяются невезением, и все время надо решать, на что ставить, на красное или на зеро. Рене не особенно удивился, когда Пьер, получив свои десять тысяч франков и сообщив название банка и имя управляющего, добавил, что этот банк принимает активное участие в финансировании урановых разработок в Габоне. То, что Габон и Вильям Грейвс некоторым образом связаны, было ясно давно, но в чем конкретное выражение этой связи? Имеет ли Габон прямое отношение к сверхмощной ядерной взрывчатке грейвситу? Рене ничего не стал говорить Пьеру о своем контакте и соглашении с террористами. События последних дней, слежка, погоня, угрозы настроили его на скептический лад: за исключением дяди Майкла, Рене не доверял сейчас никому — ни симпатичному Пьеру, ни хитроумному Аттенборо, ни неглупому, грубовато-прямолинейному Роберу. В том мире, в который он окунулся, рассчитывать можно было лишь на самого себя. «Человек человеку волк!» — вот что надо было бы начертать на знамени этого мира.
Лобовая атака на банк не удалась. Судя по реакции секретаря, визитная карточка журналиста Рене Хойла не произвела на управляющего банком Спенсера Хирша ни малейшего впечатления. А секретарь — настоящая фурия! Сразу видно, что Хирш не относится к числу дамских угодников и ценит прежде всего квалификацию и преданность делу. «Мсье Хирш занят и никого не принимает», «Я не думаю, что в ближайшие дни ситуация изменится», «Вы можете обратиться к одному из администраторов» — вот стереотипные фразы, которыми она с некоторым садистским злорадством угощала Рене.
Конечно же, Рене попробовал обратиться к администратору. Тот выслушал Хойла со скучающей миной, а потом вежливо, но с оттенком назидательности сообщил, что, во-первых, никогда не слышал о некоем Вильяме Грейвсе, а во-вторых, банк — учреждение деликатное, строжайшим образом охраняющее тайны вкладов и финансовых операций. Рене созвонился с Майклом Смитом и сказал, что, судя по всему, ему пора попросить у Аттенборо разрешение расшифроваться и представиться Хиршу уже не журналистом, а полномочным представителем фирмы Невилла. Смит рассердился, сказал, что после этого Аттенборо скорее всего так или иначе выведет его из игры, посчитав, что журналист Хойл исчерпал свои возможности. Надо набраться терпения и искать подходы к Хиршу самому, привлечь к этому делу тунеядцев-террористов, наконец! А в нужный момент без всяких консультаций со старой лисой Аттенборо выложить свою главную козырную карту, скромно отрекомендовавшись полномочным представителем солидной фирмы, фирмы Невилла. Рене пожаловался Смиту на рыжего парня, который не дает ему покоя и таскается следом, и добавил, что почти уверен теперь: этот сыщик — контролер Аттенборо. Из Парижа он его не захватил, это уже точно, но стоило Рене уведомить юрисконсульта, что он перебазировался в Монако, как этот рыжий тип появился в опереточном государстве и снова прилип как репей. Смит на секунду задумался, а потом сказал, что все это нужно проверить, и посоветовал, как организовать такую проверку. Побольше решительности, даже нахальства — рекомендовал Смит, но надо держать ушки на макушке: Аттенборо в таких делах, что называется, собаку съел, вряд ли он приставил в качестве соглядатая простака.
План дяди Майкла пришелся по душе Хойлу, его некоторый авантюризм не смущал Рене, а придавал бодрости и жажды посоревноваться в хитрости и остроте ума со своей неотвязной рыжей тенью. Этот план Рене несколько раз мысленно проанализировал, проигрывая различные варианты развития событий. Не пора ли заняться этим делом уже не мысленно, а по существу?
Эта мысль оживила Рене: как-никак, а проверка «хвоста» — какая-то отдушина в расслабляющей серии дней пассивного ожидания и бесперспективных разговоров с секретарем. Сделав несколько неожиданных остановок и один попятный ход — к газетному киоску, Рене обнаружил наконец своего соглядатая. Рыжие волосы прикрывала пляжная кепочка, а голубые глаза велосипеды-светофильтры, потому-то он и не попался сразу в поле зрения Хойла. Рене изменил маршрут, через некоторое время углубился в старые кварталы и окунулся совсем в другой мир. Это был город, словно рассматриваемый через уменьшительное стекло в перевернутый бинокль: дома, магазины, деревья, улицы — все съежилось, стало миниатюрным, приобрело грустноватые и милые черты провинциальности. Автомашин, особенно дорогих лимузинов, тут было мало, зато пешеходов — много, и двигались они не только по узким тротуарам, а и по проезжей части. На перекрестках торговали жареными каштанами и мелкими апельсинами, больше похожими на мандарины. Газетчик спокойно отлучился куда-то. Газеты лежали, придавленные обыкновенным, правда, чисто вымытым булыжником, а рядом стояла тарелочка с мелочью.
Пройдя по одной из таких улочек сотню шагов, Рене круто повернул и деловито направился в обратную сторону. Соглядатай непринужденно приостановился и с ленивым любопытством принялся разглядывать витрину галантерейного магазина. Рене остановился с ним рядом.
— Добрый день, мсье.
— А? — обернувшись к нему, соглядатай расплылся в широкой улыбке и снял кепочку и очки. — Добрый день, сэр, добрый день.
Его французский язык был ужасен. Рене засмеялся, засмеялся и рыжий, чуть сконфуженно, но непринужденно.
— Я бы с удовольствием поболтал с вами о том о сем, — проникновенно сказал журналист, легонько прикасаясь к плечу своего рыжеволосого преследователя.
— О, я тоже, сэр. — Рыжеватый улыбнулся еще шире и не совсем решительно предложил: — Может, мы продолжим разговор за стаканчиком вина? А, сэр? И не на этом проклятом французском языке…
— Да будет так, — согласился Рене, переходя на английский, и в свою очередь предложил: — Только не заменить ли нам вино на пиво?
— Как вам угодно, сэр. По мне, так пиво еще лучше. — Он помолчал, шагая рядом с Рене, и признался: — Если откровенно, я давно хотел предложить вам посидеть за столиком, да все стеснялся.
— Это почему же?
— Неловко, — рыжеватый покосился на журналиста, — уж очень разные у нас с вами положения: вы голова, а я всего-навсего хвост!
Рене усмехнулся, а рыжеватый философски заметил:
— А что поделаешь? Всем нам нужен кусок хлеба с маслом.
Оба они толком не знали этого района, поэтому попросту зашли в первый попавшийся пивной бар. Он был небольшим, не очень чистым и не совсем уютным. Рене хотел занять столик у окна, но рыжеватый просительно сказал:
— Давайте-ка сядем в уголок, чтобы никто не мешал.
Официанток не было. Пиво принес сам хозяин, плотный, мрачноватый мужчина неопределенных лет. К пиву рыжеватый взял сервела — большую толстую сосиску, разрезанную вдоль и политую горчичным соусом, пояснив, что завтракал лишь на скорую руку. Рене ограничился креветками, крупными, сочными и неожиданно дорогими.
— Меня зовут Боб, Боб Лесли, — представился Рене сосед, — а вас я знаю: Рене Хойл, журналист.
— А вы кто по профессии?
— Сыщик, — простодушно ответил Боб, облизывая полные губы, выпачканные пивной пеной, — детектив. Работаю по частному найму.
Глаза у Боба были синие-синие, васильковые и такие честные, что в эту честность не совсем хотелось верить.
— И какого черта вы вцепились в меня, словно клещ? — спросил Рене довольно сердито.
— Приказали, — равнодушно пояснил Боб. — Вот я и хожу за вами следом.
— Ходите, и что?
— Как что? — удивился Лесли. — Потом пишу отчеты: где вы были, с кем виделись, если удастся подслушать, то и о чем говорили. И получаю денежки.
Рене уткнулся в кружку, чтобы скрыть улыбку и избавить себя от необходимости отвечать на эти более чем откровенные признания.
Боб проследил за тем, как журналист допил пиво, и благожелательно предложил:
— Еще по полкружечки светлого, а? Да я схожу, зачем беспокоить хозяина, он намаялся за день.
Вернувшись, он словоохотливо продолжал:
— Вы не волнуйтесь, я не какой-нибудь там гангстер или коммунист. Чарльза Митчела знаете? Так вот я из его конторы.
Вместе с пивом Боб принес себе еще одну сервела. Он был расторопным парнем, все успевал: и есть, и пить, и разговаривать; челюсти у него работали методично и размеренно.
— Попутно я еще вроде телохранителя при вас. Само собой, если к вам прицепится полиция, мое дело сторона. А вот хулиганье, жулье, всякие там апаши и хиппи — другое дело, тут я скажу свое веское слово.
Рене показалось, что при последних словах круглые васильковые глаза Боба сощурились и похолодели, но, может быть, это только показалось? Во всяком случае, слово его действительно было бы веским: об этом говорили крупные руки с толстыми пальцами, поросшими совсем светлыми, редкими волосами, мощная колонна шеи и бугры мышц, которые Рене хорошо разглядел еще в бассейне «Бишлет». Боб дожевал вторую сервела, не без сожаления отодвинул опустевшую тарелку, отпил солидный глоток пива и вытер слегка вспотевший лоб.
— Вы ведь давно меня приметили, верно? Глаз у вас острый. — В голосе Боба звучало уважение. — Но и я заметил, что вы меня приметили. — Лесли подмигнул, добродушно засмеялся и продолжал: — Вообще-то мне полагалось доложить шефу, что вы меня усекли. Но я промолчал.
— Это почему же? — с интересом спросил Хойл.
— А деловой престиж? Что я за сыщик, если вы, простой журналист, меня раскололи? — Боб хитровато взглянул на Рене своими васильковыми глазами. А заработок? Скорее всего меня бы со слежки сняли — и в резерв. Ну а резерв — это худо, у нас ведь как у моряков.
— Как у моряков?
— Как у моряков, — охотно подтвердил Лесли. — У них в плавании одно жалованье, а на берегу другое. Так и у нас: когда ты в деле — одно, а когда ждешь или на подхвате работаешь, куда хуже. Вы уж меня не выдавайте.
— Какой мне смысл?
— Вот именно, никакого. Уберут меня, приставят другого, только и всего. Да не сердитесь, что я так плотно вас держу, ближе-то проще, а знать, что я тянусь за вами хвостом, вы все равно знаете.
Рене засмеялся. Боб охотно поддержал его и словно мимоходом, как нечто само собой разумеющееся, добавил:
— Раз уж все так сложилось, то вы не стесняйтесь и в случае чего обращайтесь ко мне.
— Это в каком же смысле? — доброжелательно поинтересовался Хойл.
— Да мало ли, — неопределенно ответил Лесли. — Судя по всему, дела у вас сложные. Может, нужно что-нибудь открыть или сломать, кого-нибудь припугнуть или проверить, я мастер на все руки.
Лесли спрятал свою добродушную физиономию за кружкой пива.
— А санкция сверху на это есть?
Боб поставил кружку на стол, облизал полные губы и едва заметно подмигнул.
— Зачем нам санкция? Разве мы сами не можем сделать свой маленький бизнес? Все будет между нами, слово джентльмена.
Лесли был просто великолепен в своей наивной откровенности, но было в этой откровенной простоте нечто нарочитое, выставленное напоказ. Прямо не профессиональный детектив, а актер из мюзик-холла! Это было тем более любопытно, что совпадало с некоторыми прогнозами Майкла Смита.
— А как насчет платы?
— Это уж зависит от дела, но сдается мне, что мы с вами поладим.
— Мне тоже так кажется, — улыбнулся Рене и на секунду задумался. — Пока у меня все гладко и по плану. Но, думаю, скоро наступят горячие денечки. Тогда мы поговорим всерьез.
— Схвачено, — солидно заверил Боб.
Перебирая потом в уме этот оригинальный разговор, Рене не без удовольствия подумал, что он добился немалых успехов на детективном поприще. Дай ему заглотнуть наживку, но не подсекай, рекомендовал дядя Майкл, пусть походит, считая себя свободным, и подождет. Этим ты не только скуешь его инициативу, но и заметно ограничишь возможность всяких ловушек со стороны Аттенборо. А в критический момент у тебя будет лишняя точка опоры!
Глава 9
Эдвард Невилл сидел на корточках возле камина, отчего лицо его стало похожим на спелый помидор, и со знанием дела помешивал угли в камине. Аттенборо, склонивший в поклоне голову, едва сдержал неуместную улыбку. Невилл в этой позе чем-то походил на разжиревшего к зиме медведя, самозабвенно роющегося в муравейнике. Переждав некоторое время, Аттенборо негромко откашлялся. Не поднимаясь с корточек, Невилл с натугой повернул голову.
— Это вы, Дейв, — констатировал он и снова принялся за камин. Простудились?
— Немного.
— Такой уж сезон, ничего не поделаешь. Не гонитесь за модными лекарствами. Выпейте на ночь чаю с медом и молоком, таблетки две старого доброго аспирина, не забудьте положить в ноги большую бутыль с горячей водой, укройтесь потеплее, и утром вашу простуду как рукой снимет.
Огонь в камине наконец-то разгорелся по-настоящему, и Невилл, швырнув на решетку глухо звякнувшие щипцы, кряхтя и упираясь пухлыми ладонями в еще более пухлые колени, с трудом распрямился. Некоторое время после этого он отдыхал, шумно переводя дух. У Невилла было широкое, заплывшее жиром простоватое лицо и умные насмешливые глаза. Передохнув и размяв поясницу несколькими волнообразными движениями тела, он мельком взглянул на Аттенборо, аккуратно опустил свое грузное тело в кресло и протянул ноги к камину.
— Хорошо в такую погоду посидеть у настоящего огня! Это дурачье на обоих континентах так и не поняло прелести камина, хотя заимствовало немало наших других традиций.
Не так легко было понять, кого именовал Эдвард Невилл «этим дурачьем». Зависело это от настроения и темы беседы; чаще всего, однако. Невилл имел в виду конкурентов — финансовых и промышленных воротил Европы и Америки, с которыми был знаком лично. Пожалуй, он имел право на это, ибо, не в пример многим другим деловым людям, был широко образованным человеком, неплохо разбиравшимся в искусстве и тонко чувствовавшим пульс времени, что и являлось причиной успехов его неожиданных для конкурентов и рискованных операций. Впрочем, Аттенборо не стал вдаваться в суждения и ограничился коротким, почти механическим:
— Совершенно верно.
Невилл одним глазом покосился на Аттенборо, который продолжал стоять на пороге.
— Ну, что вы стоите, как суслик возле норы? Садитесь, грейтесь. Да протяните ноги к огню. Вот так. С чем пожаловали?
Аттенборо улыбнулся, пряча угольки глаз в складках век.
— Есть некоторые соображения по делу Грейвса, Эдвард.
Так повелось давно: пока Аттенборо стоял, между ним и Невиллом сохранялись официальные отношения работодателя и исполнителя, но как только юрисконсульта приглашали садиться, он вел себя гораздо проще, почти по-приятельски.
— Ну-ну, — заинтересованно буркнул бизнесмен.
Аттенборо помолчал, глядя на огонь, пожевал тонкими губами и очень кратко и четко изложил обстановку. В подробности он не вдавался, знал, что шефа интересует конечный результат и что он раздражается, когда ему начинают разжевывать, каким образом этот результат достигается. Информация Аттенборо сводилась к тому, что после первых успехов в деятельности Хойла наметился определенный застой, попытки нащупать через Спенсера Хирша дорогу или хотя бы тропинку к Вильяму Грейвсу пока безрезультатны. У Джинджера, очень ловкого и опытного агента, есть подозрения, что Рене Хойл тайно поддерживает связь с некоей сторонней группой людей и блокировался с ними в поисках Грейвса. Но это лишь подозрения. Попытка Джинджера спровоцировать журналиста и вызвать на откровенность прямого результата пока не дала, хотя оставила открытыми двери для дальнейших усилий. По соображениям того же Джинджера, Рене Хойл ведет себя слишком предусмотрительно и тонко для обычного журналиста. Это обстоятельство дает возможность вернуться к прежним подозрениям в отношении личности Рене Хойла, а равно проработать и некоторые новые версии. Учитывая все это, не целесообразно ли вывести Рене Хойла из дела и продолжать игру со Спенсером Хиршем по другим каналам и через иных лиц?
Невилл насмешливо взглянул на юрисконсульта:
— Вывести из дела? То есть, как и предшественнику журналиста, проломить череп и на пару недель уложить в больницу?
— Тот агент вел двойную игру и поплатился за это, — сухо, даже чопорно проговорил Аттенборо. — В отношении Рене Хойла нет порочащих безусловно фактов, есть лишь подозрения. Мы можем вывести его из дела деликатно и гуманно.
— А если он продолжит свою игру уже без нас?
Юрисконсульт улыбнулся:
— Никогда не поздно перейти к более решительным мерам. Если вы полагаете, что целесообразно подстраховаться…
Невилл перебил его нетерпеливым взмахом руки:
— Это ваша прерогатива, Дейв, и вы неплохо получаете за свою работу. Так что предполагайте и решайте сами и не пытайтесь окунуть меня в эту грязь. И не дуйтесь, это вам не идет.
Невилл перевел взгляд на огонь, заколыхался, как тесто, устраиваясь поуютнее, и сцепил на животе неожиданно длинные для пухлых ладоней ловкие пальцы.
— Стало быть, — проговорил он, — ваши подозрения о том, что этот журналист — русский шпион, еще не развеяны окончательно?
— Не так, Эдвард, не так. В том, что он не русский шпион, я убедился наверняка. Но где гарантия, что он не агент вездесущего ЦРУ или что его не завербовали во Франции?
— А где гарантия, Дейв, что ваш дедушка не был красавцем-слугой?
Аттенборо вздохнул, но не обиделся: это была одна из постоянных шуток-присловий преуспевающего бизнесмена.
— Иногда вы бываете банальны, Эдвард, даже в шутках. — Он постукал кончиками пальцев одной руки о другую и продолжал неторопливо, точно раздумывая вслух: — Для моих подозрений есть основания. Рене Хойл ведет себя не как новичок, не как дилетант, а как профессионал. За его спиной чувствуется чья-то опытная, искусная рука. Чья?
— Ну-ну, — поощрил Невилл, — чувствую, в запасе у вас есть еще какая-то идейка.
— Недавно мне пришло в голову, — продолжал юрисконсульт, точно не слышал этой реплики, — что за спиной Рене Хойла может стоять не государство, не организация, а просто некий опытный человек. Я еще раз полистал досье журналиста и обратил внимание на тот факт, что получить право на жительство в Англии ему помог некий инспектор Скотленд-Ярда Майкл Смит, связанный с расследованием некоторых деликатных дел атомного бизнеса. Майкл Смит характеризуется администрацией самым положительным образом. Его непосредственные шефы, например, совершенно исключают возможность того, что он мог по собственной инициативе ввязаться в какую бы то ни было операцию. И тем более не проинформировать их об этом! Они считают, что Майкл Смит — своего рода эталон добропорядочного, преданного своему делу служащего. Но!
Аттенборо сделал эффектную паузу и покосился на бизнесмена, тот слушал с интересом.
— У кого только нет слабостей, — продолжал юрисконсульт тоном философа-созерцателя. — Более того, в некоторых ситуациях слабостями оказываются даже неоспоримые достоинства. Майкл Смит неподкупен, честен, всегда ли это хорошо для полицейского? Мне удалось выяснить, что молодая жена Смита, его сестра, мать и отец погибли в развалинах Ковентри во время поспешной необдуманной бомбардировки, предпринятой гитлеровской авиацией. Смит ненавидит войны! Я подозреваю, что именно эта ненависть делает его столь образцовым служакой.
— Не продолжайте, — с оттенком нетерпения остановил его Невилл, — мне понятен ход ваших мыслей. Что конкретно вы предприняли?
— Я сделал все возможное, что допустимо по отношению к такому человеку, как Майкл Смит, — уклончиво ответил Аттенборо, не желавший, очевидно, объяснять детали. — И жду результата.
— Понятно. — Невилл помолчал, поколыхался в кресле и скучным голосом спросил: — Сколько мы вложили в дело Грейвса, Дейв? Что-то около семи тысяч фунтов?
— Несколько больше, — ответил юрисконсульт, — но не намного.
— Из них на этого журналиста пошло меньше четверти этой суммы, — все так же скучно продолжал бизнесмен. — А он единственный из всех, у кого оказалась настоящая деловая хватка и кто добился ощутимых результатов, и в короткий срок. Все, что было раньше, — простые домыслы, обещания и бредовые идеи, выдаваемые за мысли Грейвса.
Невилл помолчал и продолжил уже суше и энергичнее:
— А я верю в Грейвса. Его считали чуть ли не безумцем. Обыватель, будь он поэтом, клерком, пэром, судьей или профессором, склонен считать сумасшедшим всякого, кто не похож ни на него, ни на его близких знакомых. Посмеивались и считали безумцами и Ньютона, и Байрона. Я верю в Грейвса! И потом, — Невилл обращался более к камину, чем к юристу, в голосе его появились умиротворенные нотки, — в старости все мы становимся несколько сентиментальны. Когда идти осталось не так уж далеко и неизвестно, что там, за горизонтом бытия, христианская любовь к ближнему не всегда кажется смешной и пресной. Сколько моих коллег в эти годы начинали строить больницы и жертвовать музеям личные коллекции! А я хочу спасти для человечества открытие Грейвса.
Он медленно, точно в рапидной съемке, повернул крупную крепкую голову к юристу. Шеи у Невилла не было, и в этом движении головы, утопленной между плеч, было нечто механическое, пугающее, словно она начала отвинчиваться и готова брякнуться на пол, как спелый арбуз.
— Дело Грейвса, Дейв, — мое дело, запомните это, — веско проговорил бизнесмен. — Меня интересует результат. Мне все равно, кто такой этот ваш Хойл: журналист, гангстер, аферист или даже шпион. Важно, что он сдвинул дело с мертвой точки. Создайте ему условия, обеспечьте прикрытие, впрочем, не мне вас учить.
Краем глаза Невилл, очевидно, заметил тонкую, ироничную улыбку, появившуюся на губах Аттенборо, и поощрил его:
— Ну-ну!
— А что если журналист Хойл действительно окажется шпионом? Глаза-угольки Аттенборо почти совсем спрятались в складках тяжелых век. Иностранным шпионом?
— Шпион, — со вкусом повторил Невилл, — пикантно! Я думаю, что шпионы достаточно квалифицированные работники. Заставляя работать на себя шпиона, я делаю доброе дело — у него не будет времени заниматься государственной разведкой. Добрая старая Англия выиграет от этого.
Глава 10
Хойл начал нервничать и понемногу терять равновесие: его, человека действия, томило ожидание и бесплодное топтание на месте. Рене до смерти надоело выслушивать от секретаря холодные уверения в том, что мсье Хирш по-прежнему чрезвычайно занят и в ближайшие дни ситуация вряд ли изменится. Даже забавная мысль о том, что он ходит вокруг банка, как храбрый рыцарь возле заколдованного замка со спящей красавицей-принцессой, оказалась не способной вызвать у него улыбку. Иной раз, когда он замечал позади себя уверенную фигуру своего сопровождающего Боба Лесли, ему приходило в голову, а почему бы не воспользоваться его предложением о сотрудничестве? Под покровом темноты навестить банковскую контору и познакомиться с ее документами? Или припугнуть секретаря так, чтобы она затряслась от страха и на следующий же день устроила ему встречу с управляющим. Не без удовольствия прокрутив в голове такого рода идеи, Рене лишь сокрушенно вздыхал: он понимал, что все это несерьезно, не вписывается в линию поведения, которую они разработали со Смитом.
Пауза в операции в известной мере пошла на пользу Рене, хотя он и не отдавал в этом себе отчета. Рене ввязался в дело Грейвса, как в азартную игру. Конечно, ему не были безразличны и высокие моральные стимулы, сопутствующие разоблачению ядерной угрозы, стимулы, о которых ему толковал дядя Майкл, но они стояли где-то на втором плане. Ожидание погасило азарт, безделье способствовало размышлениям. И бесплотные моральные стимулы стали постепенно оживать, обрастая плотью и наливаясь кровью. Рене все еще приходили в голову разные варианты развития мировых событий, которые могут развернуться, если в распоряжении Грейвса действительно есть какое-то страшное оружие и он либо пустит его в ход, либо выступит с угрозой его применения. Рене было странно сознавать, что он, скромный журналист, может как-то повлиять на развитие этих страшных событий, стимулировать их или затормозить, а то и вовсе блокировать. Размышляя об этом, он чувствовал и гордость, и волнение, наверное похожие на душевный трепет премьер-министра, только что избранного на этот пост и впервые в жизни занимающего кресло в своем кабинете.
Острое, почти болезненное чувство ответственности! Как много оно меняет! Рене не мог не вспомнить, как многие политические деятели, в том числе и вершители судеб народов, находясь в оппозиции и добиваясь избрания, призывали к наращиванию вооружений, к давлению на страны коммунизма, к жесткой политике с позиции силы. Но вот приходит такой к власти, вживается в большие и малые дела и во всей мере ощущает тяжкий груз ответственности за судьбу своей страны, за будущее цивилизации. Быть или не быть глобальной ядерной войне? Превратить ли в прах и пепел десятки многомиллионных городов своей родины и других стран? Вздыбить до закритического уровня радиоактивный фон планеты, обрекая народы мира на генетическое вырождение и уродства, или, поступившись самолюбием и сиюминутным успехом, проявить терпение, милосердие и дать возможность побороться за счастье своим детям и внукам?
Но все ли понимают это? Рене был мальчонкой, когда политикой Штатов, а в известной мере Канады да и всего западного мира, руководил Гарри Трумэн. Тот самый Трумэн, который без колебаний санкционировал применение атомных бомб и обрек на смерть и разрушение Хиросиму и Нагасаки. Что по сравнению с этой катастрофой гибель библейских Содома и Гоморры? По самому краешку ядерной бездны, то и дело оступаясь, ходило человечество, пока Трумэн стоял у власти!
Рене думал о таких вещах, которые раньше для него как бы и не существовали, заново оценивал то, что прежде казалось само собой разумеющимся. Это и возвышало его в собственных глазах и… утомляло, как утомляет человека, не привыкшего к физическим нагрузкам, длительная пробежка. Ему было хорошо и… тревожно, поэтому он даже обрадовался, когда ему позвонил Робер Менье и условился о встрече. Кто знает, может быть, у террористов обозначился успех по делу Грейвса? Перед встречей Хойл добросовестно попытался отделаться от хвоста, несколько раз пройдя через крупные магазины. Впрочем, делал он это просто для страховки, потому что Боба Лесли на этот раз за собой не заметил.
Робер подъехал к условленному месту встречи на стареньком «рено» неопределенного темного цвета. На этот раз он был один, что, как понял журналист, должно было свидетельствовать о доверии. После взаимных приветствий некоторое время ехали молча. Робер вел машину рискованно, ухитряясь выжимать из старушки приличную скорость, впритирку обгонял, «облизывал» попутные автомобили. Выведя машину на автостраду, идущую вдоль морского побережья, Робер, меняя скорость, проверил, нет ли за ним слежки, и повернулся к сидевшему рядом журналисту.
— Что-то вы давненько не давали знать о себе.
— Нечего сообщать, вот и не давал, — спокойно ответил Хойл.
Робер усмехнулся, а синие глаза были холодны.
— Положим, кое-какие успехи у вас есть. Мы знаем, в каком банке вы работаете, но с кем конкретно связаны, нам неизвестно. С кем?
Рене задумался.
— Нет, — решил он после паузы, — я не скажу вам этого.
Робер вскинул бровь.
— Это еще почему? — резко спросил он.
— Не хочу, чтобы вы испортили мне игру своим вмешательством, — Хойл был само хладнокровие. — Вы грубо работаете, а у меня иные методы: медленно, но верно я продвигаюсь к цели.
Теперь задумался Робер, оценивающе поглядывая на журналиста. Рене подумал, что хуже всего, если этот парень не имеет от своих шефов достаточных полномочий. Но его опасения не оправдались.
— Хорошо, — после долгой паузы проговорил Робер, — мы пока не будем вам мешать. Но не вздумайте водить нас за нос! Мы внимательно следим за вами. Вы у нас на крючке, и подсечь мы можем в любой момент.
— Напрасно пугаете, Робер.
— Я не пугаю, а информирую, для ясности. — Робер помолчал. — Может быть, стоит пощекотать секретаршу, мадам Соланж? К ней есть один ключик.
Хойл заинтересованно взглянул на собеседника:
— Это может пригодиться! Какой?
— Эта старая карга, которая на службе ведет себя как мать-настоятельница, на самом деле любит развлечься с молодыми людьми. И хорошо платит за услуги.
— Да не может быть!
— Очень даже может, плохо вы знаете бабье. — Робер опять засмеялся. Конечно, ее шефам ничего не известно. Пользуясь этим, и можно прижать мадам. А можно и иначе.
— Как?
Робер насмешливо взглянул на журналиста:
— Забраться к ней в постель!
— Да ну вас к черту!
— Эх, видно не хватала вас еще жизнь по-настоящему за горло. — Робер некоторое время ехал молча, хмуро глядя вперед. — Вильям Грейвс пользовался услугами этого банка?
Рене мысленно облегченно вздохнул: оказывается, террористы знали не так уж много.
— Именно это я и хочу установить.
— Верная мысль. Как только установите, немедленно сообщите нам. Прежний телефон забудьте, вот вам новый. Звоните из автомата. И помните мое предупреждение.
— Запомнил. — Посчитав, что наступил достаточно удобный момент, Рене добавил: — Только я не люблю играть втемную.
— В каком смысле?
— Вы знаете, кто я. Вы требуете от меня одно и другое. А кто вы? Мне вовсе не улыбается мысль влипнуть в дешевую уголовную историю!
Робер серьезно кивнул:
— Вас можно понять. — Он помолчал и жестко не сообщил, а уведомил: — Мы революционеры! Только не путайте нас с ожиревшими парламентариями, которые десятилетиями тараторят о революции и не могут решиться на настоящие дела. Мы люди действия!
— Всеобщая свобода, равенство и братство? Долой государство и да здравствует человек? — усмехнулся журналист.
Робер презрительно скривил губы.
— Равенство — это блеф, — жестко проговорил он, — люди не равны между собой по рождению: есть гении, а есть и дураки. Добрые дураки еще имеют право на существование, но кому нужны злые, распутные дураки?
— А злые гении?
— Гений — это гений, — в голосе Робера звучали назидательные нотки, он говорил явно с чужого голоса. — Он имеет право на существование, даже если морально — сущая паскуда, пусть живет и приносит пользу. Прежде чем строить светлое общество грядущего, надо очистить род человеческий от всякой погани и плесени, от тех, кто способен только жрать и плодиться, кто может превратить в хлев и бордель любой хрустальный дворец. И только потом чистыми святыми руками строить общество всеобщей свободы и братства!
— Вы не поклонник Адольфа Гитлера, Робер? — простодушно спросил журналист.
Менье рывком обернулся, его синие глаза сощурились, складка рта стала злой и хищной.
— Вы иностранец и не знаете меня, — выдохнул он, — поэтому я прощаю вам гнусное предположение. Гитлер — погань, сволочь и расист! Фашизм — мразь, изуверство, фашисты хотели превратить людей в скотов. А мы хотим освободить мир от скотов! И оставить на земле настоящих людей — белых, черных, желтых, красных, настоящих людей, независимо от их цвета кожи.
— Эдак вам придется уморить не меньше половины человечества, флегматично заметил Рене Хойл.
— Ошибаетесь, — ухмыльнулся Робер. — Не меньше трех четвертей.
— Солидная плата за проблематичный рай на земле.
— Цель оправдывает средства. И потом, если не произвести эту профилактическую операцию, подонки, сидящие у руля власти, все равно рано или поздно развяжут ядерную войну и уничтожат те же три четверти не худших людей, а лучших.
— Что ж, в этом есть своя логика, — медленно проговорил Рене. — Но ведь люди — не тараканы. Уморить три четверти человечества, да не оптом, а в розницу, в индивидуальном порядке, довольно сложно.
Робер растянул в ухмылке рот, насмешливо глядя на журналиста.
— А на что могучая современная наука? Заботливо выпестованная всем этим разношерстным сбродом: банкирами, промышленниками, диктаторами и гангстерами?
Рене начал кое-что понимать.
— Но ведь эту науку надо как-то запрячь и оседлать, — проговорил он, точно размышляя вслух.
— В этом вся соль.
— И для этого вам понадобился Вильям Грейвс? — Хойл спросил самым безразличным тоном, но уловка не прошла.
— А вот это уж не ваше собачье дело, — отрезал Робер. — По делу вопросы есть?
У Рене вопросов не было, и встреча, так сказать, себя исчерпала.
Быстро темнело, дневная жара спала, улицы заполняли толпы гуляющих. Рене не хотелось проводить такой удачный вечер в гостинице, и он попросил Робера высадить его где-нибудь неподалеку от казино. Он шел среди нарядной праздничной толпы, перебирал в памяти подробности встречи с Менье и, в принципе, одобрил свою расчетливость и благоразумие.
Возле одной из витрин Рене приостановился. Здесь рекламировались часы: швейцарские, японские, датские. У всех часов бегали секундные стрелки, все они показывали точное гринвичское время, даже те, которые плавали в маленьком аквариуме вместе с золотыми рыбками или периодически падали с трехфутовой высоты и снова медленно возносились к витринному небу. Часы эти делали люди, разделенные друг от друга тысячами километров, люди, не похожие друг на друга ни внешностью, ни одеждой, ни психологией, а вот часы у них получились одинаковые. Определить, какие из них сделаны в Цюрихе, какие в Токио, а какие в Иокогаме, можно было лишь при самом детальном осмотре. Разве это не удивительно? Но никто не удивлялся, людской поток равнодушно катился мимо.
Не без сожаления расставшись с витриной часового магазина, — она была уютной и живой, здесь зримо-наглядно стучало, летело время, не то что в мертвых витринах готового платья с упырями-манекенами, — Рене профланировал дальше.
Улица была узковатой, поэтому в эти часы начала развлечений и преддверья большой игры машины ползли по ней сплошной вереницей. У Рене было достаточно времени, чтобы обратить внимание на громоздкую старомодную машину, блиставшую, однако, новенькой серебристой окраской темного цвета. Когда эта автомашина, обогнав его на два десятка шагов, вдруг резко вильнула к тротуару и затормозила, Рене внутренне подобрался, сработал охранительный инстинкт, пробудившийся за дни работы по делу Грейвса. Намеренно задев плечом прохожего и извиняясь ему вслед, Рене заметил, что позади него совсем рядом тормозил золотистый «аванти», мощный мотор которого составлял чуть ли не половину длины кузова. Лишь большим усилием воли Рене сохранил прежний темп ходьбы и беззаботное выражение лица. Все говорило о том, что его взяли в клещи, что сейчас сзади его догонят дюжие, натренированные молодчики, умело заломят руки, впихнут в этот дорогущий, ручного изготовления автомобиль, и один только Бог знает, что произойдет потом! Впереди — машина прикрытия, путь к прямому побегу отрезан, но всего в нескольких шагах — кафе. Там, конечно же, есть рабочий ход и внутренний двор для приема грузов. Это единственный шанс, ничего другого не остается. Но не торопись, Рене, думай!
Дверца старомодного серебристого автомобиля, затормозившего впереди, распахнулась, и на тротуар выпорхнула стройная молодая женщина. В тот же миг острые глаза журналиста разглядели на дверце автомобиля эмблему фирмы — два черных переплетенных «Р» в прямоугольной раме. Когда-то они были красными, но после смерти основателей фирмы приобрели траурную окраску. Тяжелый камень свалился с души Рене — «роллс-ройс», последняя модель «Серебристая тень», машина президентов, королей и миллиардеров! На таких машинах не ведется охота за людьми!
Между тем женщина, покинувшая «Серебристую тень», повела себя очень странно: сначала она почти побежала навстречу Рене, потом, словно спохватившись, замедлила шаг и вдруг остановилась. Она выглядела так, как и должна выглядеть молодая женщина, раскатывающая в «роллс-ройсе»: длинное строгое вечернее платье, на плечах легчайшая накидка из русских соболей, в высоко взбитых темных волосах золотая заколка с крупным изумрудом, бледное лицо почти без косметики, большие глаза-вишни. И все-таки что-то в этой женщине было не то, будто она, хотя и очень ловко, переоделась в чужое платье, будто она встретилась с Рене не в реальной жизни, а на карнавале, где мир весело балансирует на тонкой грани, отделяющей сказку от реальности. И почему ее лицо так знакомо? Потому что она похожа на женщину кисти Ренуара? Рене был в двух шагах от этой женщины, когда точно пелена спала с его глаз. Это открытие так ошеломило его, что он развел руками.
— Элиза! Вы?
— Рене! — Журналист видел, что она хотела броситься ему на шею, но удержалась, — видимо, прошла хорошую школу. — Я думала, что обозналась. А это и правда вы!
— Вы здесь, в Монте-Карло? Какими судьбами?
— Из Франции, в казино.
— Да это чудо какое-то!
— Тысяча и одна ночь! Ох, Рене, как я рада вас видеть!
Многочисленные прохожие с любопытством на них поглядывали. От «Серебристой тени» к ним несколько неуверенно приближался пожилой мужчина в вечернем костюме, чувствовалось, что неуверенность для него — весьма непривычное состояние и что это его раздражает. Подойдя, он сдержанно поклонился и, заметив взгляд Элизы, холодно представился:
— Гильом. Э-э… Этьен Гильом.
От Рене не укрылся удивленный взгляд Элизы и ответный, утверждающий взгляд пожилого господина.
— А это Рене Хойл, — оживленно представила его Элиза. — Мой большой друг! Я знала его еще девочкой.
Гильом и Хойл обменялись поклонами.
— Элиза, — вполголоса проговорил Гильом, — на нас обращают внимание. К тому же стоянка здесь запрещена.
— Пусть обращают и пусть запрещена.
Гильом закусил губу, у него было умное насмешливое лицо, которое сейчас выражало некоторое замешательство. Критически, хотя и очень осторожно оглядев Рене, он предложил:
— Может быть, вы пригласите своего друга в нашу компанию?
— Нет-нет, — поспешно сказал Рене, — я не одет. И, как бы вам сказать, не та ситуация, чтобы принять ваше любезное предложение.
Гильом слегка поклонился и повернулся к молодой женщине:
— Элиза…
Но она быстро и решительно его прервала:
— Извините, э-э, мсье Гильом. Сделаем так: вы поезжайте, а я приеду в казино попозже. Рене меня проводит.
— Боюсь, что это не совсем благоразумно.
— Это благоразумно! Мы не виделись десять лет!
Гильом вздохнул:
— Но куда вы направитесь?
Элиза повернулась на каблучке, взгляд ее остановился на открытой двери кафе.
— Вот сюда.
— Боюсь, что это не совсем благоразумно, — с расстановкой повторил Гильом.
Рене, у которого было время оценить обстановку и принять решение, понял, что наступило время для активных действий.
— Вы можете не беспокоиться, мсье Гильом, я сумею позаботиться об Элизе. — Он помедлил и добавил: — Я не азартный игрок и не турист-бездельник. Я представляю здесь интересы фирмы Невилла.
Рене играл наверняка. В Монако целая коллекция филиалов всемирно известных банков, фирм, компаний. Дело в том, что в этом княжестве нет подоходного налога, и хотя существует множество барьеров, ограничивающих деловую жизнь в Монако, сильные мира сего умеют их преодолевать — выгодно! Взгляд Гильома если не потеплел, то оттаял. Он слегка развел руками:
— Очень прошу вас, Элиза, недолго.
И, молча поклонившись, направился к машине, возле которой уже стоял полисмен, с южной экспансивностью выговаривающий что-то шоферу. Вслед за «Серебристой тенью» тронулся и золотистый «аванти». Когда он проползал мимо, в опущенном окне показалась голова молодого мужчины.
— Вы покидаете нас, миссис Бадервальд? — прозвучал шутливый вопрос.
— Покидаю, но ненадолго!
Элиза помахала вслед золотистой машине и живо повернулась к журналисту:
— Наконец-то мы одни. Вы рады?
Рене молча поцеловал ей руку.
Кафе было маленьким, и отдельный свободный столик Рене удалось организовать не без труда. Торговали тут главным образом кондитерскими изделиями и кофе, да еще недорогими марками ликеров и коньяков. Но Рене удалось заполучить бутылку «Клико».
— Вы умница! За нашу встречу нужно обязательно выпить шампанского, блестя глазами, сказала Элиза.
Она понемногу отпивала шампанское, грызла сухие бисквиты, бросала беспорядочно фразы о том о сем и как-то странно посматривала на Хойла, будто видела его впервые.
— Я сильно изменился?
— Вовсе нет! — горячо проговорила Элиза, вдруг погрустнела, но тут же засмеялась и положила на его руку свою холодную ладонь. Рене невольно обратил внимание на массивное обручальное кольцо. Молодая женщина перехватила его взгляд.
— Да, я замужем, Рене.
— Догадываюсь. Миссис Бадервальд?
Она утвердительно кивнула.
— Все говорят, что мне повезло. Мне и правда повезло. Муж меня боготворит. Я объездила почти весь свет и имею все, что только пожелаю. Она говорила об этом так, словно саму себя старалась убедить, что это хорошо.
— Мсье Гильом и есть ваш муж?
Элиза откинулась на спинку стула и расхохоталась так звонко, что за соседними столиками оглянулись.
— Не смешите, Рене. Мой муж младший, третий сын Бадервальдов, ему всего тридцать два года.
— Тех самых Бадервальдов?
— Тех самых. — Она сказала об этом и с гордостью, и с какой-то странной неожиданной грустью. Впрочем, пестрота настроения, быстрые переходы от веселья к печали всегда были ей свойственны и всегда придавали ей особое очарование.
— А мсье Гильом — это вовсе не Гильом. — Она вдруг закусила губу и засмеялась. — Вы не рассердитесь, если я не скажу его настоящее имя?
— Что вы, Эли!
Он назвал ее уменьшительным именем, так, как он называл ее десять лет назад, совершенно машинально, но глаза-вишни миссис Бадервальд вдруг подозрительно заблестели.
— Ах, Рене! Я уже давно не Эли. — Она отпила глоток и улыбнулась. Помните, как мы прятались от дождя? Сначала под сосной, но куда там! Тогда мы перебежали под елку. Там было сухо, только мы все были уже мокрыми.
— Конечно, помню. — Он солгал, и не из расчета, ему просто не хотелось ее огорчать.
В тот год Рене гостил на вилле у студента-сокурсника из не очень богатого, но аристократического семейства. Сначала он чувствовал себя там неловко, своего рода гадким утенком. Аристократическое семейство приняло Рене холодновато, но общая культура в соединении с природным юмором и ненавязчивостью сделали свое дело. Немалую роль сыграло и то, что Рене прекрасно плавал, неплохо играл в теннис и отличался незаурядной силой, что в сочетании со знанием приемов каратэ давало ему неоспоримое физическое превосходство, о котором все догадывались, но которое он никогда не использовал. Понемногу Рене стал желанным участником всех молодежных развлечений и начал пользоваться успехом у девиц и даже зрелых матрон. Особенную настойчивость, не стесняясь присутствия ревнивого мужа, проявляла старшая сестра его студенческого товарища. Обижать ее Рене не хотелось, ответить ей взаимностью он не мог и не желал. Чтобы как-то выйти из этого довольно смешного затруднения, он стал уделять внимание девушке-подростку, которой только что исполнилось пятнадцать лет. Их дружба, добропорядочная и невинная, доставляла обоим немало приятных минут и в то же время служила Рене надежным щитом против более серьезных и определенных притязаний. К сожалению, дело кончилось тем, что девочка, а это была Элиза, все-таки влюбилась в него, хотя призналась в этом только накануне отъезда. Впрочем, почему «к сожалению»? Рене всегда вспоминал об этой милой, красивой, хотя и капризной девочке с удовольствием и некоторой грустью.
— Знаете, Рене, я ведь дважды в вас влюблялась.
Хойл откровенно удивился, и Элиза, заметив это, с торжеством повторила:
— Да-да, дважды. Та, детская любовь, забылась. Я ведь пользовалась успехом, у меня было много поклонников. А потом, — она опять отпила глоток шампанского, — когда начались объятия и поцелуи, когда, попросту говоря, меня пытались совратить, я снова вспомнила о вас. Я поняла, каким вы были джентльменом и чудесным товарищем. И я снова влюбилась в вас, уже заочно.
Разглядывая Рене, она тихонько засмеялась.
— А помните, как я плакала? Из-за того, что одна девушка отлично играет в теннис, другая — хорошо поет, третья — прекрасно танцует, а я ничего, ну ничего не умею, да и учусь-то кое-как. А вы сказали мне, что я красива и это — самый крупный талант, что пение и танцы любят не все, а красота покоряет всех. Помните? Я запомнила эти слова на всю жизнь.
И вдруг, и это было для нее характерно, круто сменила тему.
— У меня все есть, Рене, кроме любви. Я уважаю своего мужа, но не люблю его. Не думайте, я не какая-нибудь дурочка. Я ценю свое положение и даже ради самой пылкой любви не соглашусь потерять его. Женщины, которые теряют от мужчин голову, кажутся мне глупыми и даже мерзкими, животные, а не люди. Но иногда, — ее глаза-вишни наполнились было слезами, но она справилась с собой, — иногда, Рене, я чувствую себя несчастной. Впрочем, что это я о себе и о себе? А вы, Рене, вы стали деловым человеком?
Хойл поставил на стол пустой бокал.
— Делами я занимаюсь попутно, Эли. Вообще же я журналист и, говорят, не такой уж плохой. Просто мне не хотелось говорить об этом при мсье Гильоме.
— И правильно! Он такой странный.
— А делец я не такой уж удачливый. — Рене избегал глядеть на Элизу: он начал игру, а играть с друзьями, даже полузабытыми, неловко, если даже это вызывается жесткой необходимостью.
Лицо Элизы приобрело озабоченное выражение.
— У вас неприятности?
— Пусть это вас не беспокоит, миссис Бадервальд.
Краем глаза Хойл заметил, что она и обеспокоилась и рассердилась.
— Если бы вы знали, как часто ко мне пристают со всякого рода просьбами! Рене, милый, прошу вас! Может быть, я сумею вам помочь? Нужны деньги?
Рене поднял на нее похолодевшие глаза, она знала его и таким, поэтому испугалась.
— Бога ради, не обижайтесь на Эли!
Рене молча накрыл ее руку своей ладонью.
— У меня затруднение, Элиза. Пустяковое, но труднопреодолимое. Я никак не могу добиться свидания с директором банка «Франс» Спенсером Хиршем. Видимо, происки конкурентов.
— И что? — не поняла Элиза.
Рене улыбнулся:
— Ничего. Надоело терять время.
Элиза покачала головой:
— Ах, Рене, Рене! Узнаю вас. Такой пустяк!
Когда Рене провожал Элизу в казино, его опытный глаз заметил двух крупных мужчин среднего возраста. Они курили у входа в кафе, надвинув мягкие шляпы на самые брови, а потом пошли позади шагах в десяти. Мсье Гильом был предусмотрителен.
Элиза и Рене завернули за угол, и казино предстало перед ними во всей красе: величественное здание в стиле ампир, увенчанное медным куполом со шпилем, — символ богатства, разорения, призрачного счастья и вполне реальных страданий. Центральный подъезд с широкими ступенями был ярко освещен, по этим ступеням поднимались и спускались люди, отсюда, издалека, они казались маленькими и жалкими, похожими на муравьев, из непонятной прихоти вставших на задние лапки.
Неподалеку от подъезда к ним подкатился респектабельный мужчина в черном смокинге с благообразным лицом и в глубоком поклоне склонил голову.
— Миссис Бадервальд, мне поручили встретить вас.
Присутствие Рене мужчина игнорировал. Элиза направилась было к ступеням, но встречающий, забежав вперед, снова поклонился и округлым жестом показал направо.
— Нам сюда, миссис Бадервальд.
Хойл знал, что в правом крыле здания находится ничем не примечательная дверь с табличкой «Особые салоны», куда вход простым смертным, даже богатым, заказан.
— Эли, простимся здесь, — негромко попросил Рене.
— Простимся, Рене.
Элиза была печальна, но спокойна. Она совершила экскурсию в страну прошлого, в сферу милых, полузабытых чувств и настроений, и теперь возвращалась в свой привычный мир, может быть, не очень счастливый, но уютный, надежный и многокрасочный. Отойдя шагов на десять, Элиза приостановилась и помахала ему рукой. Рене ответил тем же.
Покидая площадь, Рене на всякий случай оглянулся, мужчин, похожих на серые тени, не было. И слава Богу!
Встреча с Элизой произвела на Рене неожиданное и довольно странное впечатление. Престижные стимулы, игравшие в его предприятии немалую роль, и жизненные перспективы вообще как-то поблекли и выцвели. Зато он в полной мере увидел, услышал и понял всю неповторимую прелесть сиюминутности, уловил самую поступь жизни — неторопливую, мерную, но, увы, необратимую. Большое и малое, личное и всемирное, радостное и печальное — все смешалось в ее единовременном восприятии. Даже заурядный шум людской толпы почудился ему космическим шумом и шорохом, с которым древняя и вместе с тем юная Земля несется по океану вечности навстречу своей неведомой судьбе. Звенящая ясность сиюминутного бытия — вот что представляло его состояние!
Однажды, в ранней-ранней юности, Рене уже испытал нечто подобное.
Еще был жив отец, четырнадцатилетний подросток Рене Хойл жил бездумно и беззаботно. В тот памятный вечер он провожал в аэропорт одноклассницу Джоан, которая улетала далеко, в Аргентину, и навсегда. Они дружили с Джоан, Рене казалось, только дружили и ничего больше. А оказалось, было и другое, было, но они не подозревали об этом. И это другое с удивительной ясностью вдруг открылось в неожиданных слезах Джоан и в торопливых неловких поцелуях среди равнодушной толпы воздушных пассажиров.
Звенящая ясность бытия тогда впервые посетила Рене. Он долго не мог уснуть и смотрел из открытого окна на звезды, которые лениво заигрывали с ним: старались спрятаться за сонно колышущимися, черными листьями, исчезали и появлялись снова. Подошла мать, они обменялись несколькими словами, а потом молча следили за кокетничающими звездами и слушали ночные шорохи, похожие на тайные вздохи самой Земли. «Ничего, Рене, — сказала вдруг мать. — Просто от тебя уходит детство. Уходит совсем, навсегда. Но это ничего». Что теперь уходило от Рене, в этот теплый дремный вечер возле кипящего фальшивыми страстями монакского казино, — юность? Скорее всего так: Элиза унесла с собой последнюю неперебесившуюся частичку его души, и теперь журналист Рене Хойл со вздохами и ворчанием, но не без удовольствия укладывался в прокрустово ложе зрелого человека.
Мать Рене знала пять или шесть иностранных языков, она овладевала ими легко, словно шутя, работала переводчицей в торговой фирме и, пока была здоровой, пользовалась расположением начальства. Английским и русским она овладела еще в рядах французского движения Сопротивления, когда бок о бок с будущим мужем сражалась в интернациональном отряде. В тот памятный вечер, когда от Рене уходило детство, мать продекламировала на незнакомом звучном языке короткое четверостишие. Потом она объяснила, что эти строки принадлежат великому русскому поэту Александру Пушкину, и пересказала их содержание. Оно оказалось удивительно созвучным и общему состоянию Рене, и его чувству вдруг обретенной и тут же потерянной, уже совсем не детской любви.
Как и в давнее время, на пороге юности, в эту по-летнему теплую южную ночь Рене долго не мог уснуть. Он все ворочался с боку на бок, пытаясь вспомнить четверостишие русского поэта, пересказанное ему матерью, но из этого ничего не получалось. Слова, увы, безнадежно стерлись, выцвели, потускнели. Но осталось нечто большее! Эмоциональный смысл позабытых строк неясными, но густыми токами воспоминаний бился в сознании Хойла, умиротворяя и успокаивая. Да-да, это было важнее самих слов! Вдруг поняв это, Рене улыбнулся и вскоре уснул.
А строки, которые рождали в его душе особое возвышенное настроение, в подлиннике звучали так: «На холмах Грузии лежит ночная мгла, шумит Арагва предо мною. Мне грустно и легко, печаль моя светла. Печаль моя полна тобою».
Глава 11
В начале десятого, на следующее утро после встречи с Элизой, в номере Рене раздался телефонный звонок. Его «беспокоила» мадам Соланж, секретарь директора банка. С подчеркнутой любезностью она сообщила, что Спенсер Хирш будет рад в любое время в первой половине дня принять мсье Хойла. Вторая половина дня директора, к сожалению, занята и расписана буквально по минутам. Не может ли мсье Хойл сообщить час, который ему удобен для встречи? Возликовав в душе, Рене прикинул время, которое ему потребуется на туалет и дорогу, и сообщил, что будет рад встретиться с мсье Хиршем ровно в одиннадцать. И получил заверение, что к этому времени директор постарается быть свободным от всяких других дел.
Даже так! Вот что значит простая рекомендация сильных мира сего. Поигрывая мышцами, Рене прошелся по комнате и подмигнул своему отражению в зеркале. Ну не молодец ли этот способный журналист, этот подающий надежды полномочный представитель солидной фирмы Рене Жюльен Хойл? И разве не справедливо, что наконец-то кончилась проклятая полоса ожидания и впереди замерцали манящие огоньки удачных свершений? Нет, он не забыл встречи с Элизой и вдруг охватившего его феномена всезнания и всевидения — озарения звенящей ясностью бытия, но все отступило на второй план, на туманные входы подсознания. Рене чувствовал, что ему предстоит о многом подумать и произвести радикальную переоценку ценностей, и не торопил события, а может быть, интуитивно тормозил этот процесс: в больших делах спешка противопоказана.
Войдя в кабинет директора банка, Рене приостановился. Кабинет был невелик по размерам и прост по меблировке. Спенсер Хирш сидел за Г-образным столом и укладывал в один из его ящиков стопку бумаг, разбором которых он, судя по всему, занимался до прихода посетителя. Напротив него на стене, как символ добропорядочности и деловой надежности, висела большая семейная фотография — жена, сын и две дочери; главы семьи на фотографии не было, он был налицо, так сказать, в своем естественном виде — смотри, оценивай и взвешивай.
Повернувшись в своем вращающемся кресле лицом к посетителю, директор с улыбкой встал, но из-за стола не вышел.
— Мсье Хойл?
— Он самый. Добрый день, мсье Хирш.
— Рад вас видеть. Проходите, садитесь.
Рене вежливо пожал холодную, неожиданно крепкую руку. Спенсер Хирш был шатеном среднего роста, скорее слабого, чем сильного телосложения. Лоб у него был плоский, рот безвольный, щеки дряблые, трудно было угадать, сколько ему лет — тридцать или пятьдесят. И лишь глаза выдавали его принадлежность к верхушке делового мира, они сохраняли холодноватое оценивающее выражение даже сейчас, когда щурились в добродушной улыбке.
— Можете курить. — Хирш пододвинул журналисту пепельницу, эта ординарная пепельница была единственным предметом на столе для посетителей.
— Благодарю вас. Не курю.
— О-о! Я тоже. Спорт?
— Немного.
— Гольфом не увлекаетесь?
Рене улыбнулся:
— Я недостаточно богат для гольф-клуба.
Директор покачал головой:
— Это вы напрасно. Покровительство семьи Бадервальдов весомее многих миллионов долларов.
Он сделал легкую выжидательную паузу, но поскольку Рене промолчал, продолжил уже более деловым тоном:
— Миссис Бадервальд рекомендовала мне вас как человека, заслуживающего всяческого доверия, внимания и поддержки. Я готов быть вам полезным в тех пределах, которые диктуются моим положением доверенного лица и моими личными интересами.
Рене слегка наклонился, достал из бумажника доверенность на ведение дел, которую он получил от Аттенборо, и положил перед директором банка.
— Мсье Хирш, фирму Невилла интересует предприятие Вильяма Грейвса. Я искал личной встречи с вами потому, что мне стало известно о вашей прямой заинтересованности в этом деле.
Хирш, просматривавший документ, на секунду поднял на Хойла глаза и задумался, постукивая кончиками пальцев по столу.
— Не скрою, мсье Хойл, соглашение с Вильямом Грейвсом было составлено таким образом, что сейчас, когда это предприятие заморожено, мы несем определенные убытки. С другой стороны, это дело такого рода, что мы не только его не афишировали, но приняли весьма строгие меры, чтобы избежать утечки информации. Но… — Он слегка развел руками.
— Коммерческие тайны не абсолютны, мсье Хирш. К тому же фирма Невилла тоже сотрудничала с Грейвсом.
— Мне известно об этом. К сожалению, банки в противовес фирмам и компаниям не располагают научными лабораториями. — Хирш опять помолчал. Не скрою, у нас уже были контакты с некоторыми представителями делового мира в связи с предприятием Грейвса. Мы выжидали. Но, — он поднял кисти рук, точно сдаваясь на милость победителя, и снова уронил их на стол, когда ходатайствуют такие лица, двух мнений быть не может. Однако перейдем к делам. Что вам известно о предприятии Вильяма Грейвса?
— Очень немногое. Я знаю, что он производил некоторые изыскания и ядерные эксперименты: в Габоне, Окло, на урановом руднике, что неподалеку от Франсвилля.
Хирш покивал головой.
— Тогда я начну «об аво», с самого начала.
Он задумался, постукивая пальцами по столу, рассказал журналисту о поистине детективной истории, которая произошла во французской атомной энергетике в середине 70-х годов.
Известно, что мировые потребности в ядерном топливе, рассказывал Хирш, удовлетворяются в основном за счет природного урана и что рабочим компонентом этого топлива является изотоп-235. Концентрация этого изотопа невелика, всего семь десятых процента с дробью, причем отличается высоким постоянством и не зависит от того, в какой точке земного шара добыт уран. Естественно, благодаря своей редкости уран-235 отличается высокой стоимостью, намного превосходящей стоимость золота, поэтому ведется строжайший учет даже десятитысячных долей процента этого изотопа в руде и промежуточных продуктах. И вот в Пьерлате, где Франция производит обогащение природного урана методом газовой диффузии, было установлено, что ряд образцов имеет недобор урана-235, недобор мизерный, всего на три тысячных процента, но все-таки имеет. Причем все образцы с недобором урана-235, как показала проверка, относились к руде, поступившей из рудника Окло, который находится в Габоне, неподалеку от Франсвилля.
Поначалу возникла мысль о хищении, мысль о том, что где-то на пути от Окло до Пьерлата из некоторой части природного урана извлекается ценнейшая рабочая компонента. Эта мысль казалась тем более верной, что случаи хищения ядерного топлива, несмотря на казалось бы абсолютно надежную охрану, достоверно известны. Например, в шестидесятых годах в Соединенных Штатах агентами Израиля было похищено несколько сот килограммов обогащенного урана. Мсье Хойл напрасно удивляется, людям крупного бизнеса хорошо известно, что любой предмет купли-продажи может быть похищен, все дело в цене. Однако тщательное обследование всех звеньев транспортировочной линии Окло-Пьерлат показало, что перевозка урановой руды осуществляется безупречно, возможности ее промежуточной обработки с целью выкачивания части урана-235 исключены. А само явление нехватки драгоценного изотопа приобрело более контрастные черты: в некоторых партиях оклинской руды содержание урана-235 было снижено не на тысячные, а на десятые доли процента, то есть нехватка была того же порядка, что и само содержание! Это обстоятельство решительно опровергло допущение о неточности или неряшливости анализов, которое делали некоторые бизнесмены и администраторы в противовес суждению специалистов.
К исследованию оклинского феномена были привлечены крупные научные силы и авторитетные организации, в частности Международное агентство по атомной энергии, директор которого профессор Зигвард Эклунд проявил к тому делу самый живой и деятельный интерес. В ход были пущены все средства могучего арсенала ядерной физики и урановой химии, проблема Окло была обсуждена на сессии Французской академии наук и на Генеральной ассамблее Международного атомного агентства.
— Я делец, а не ученый, — неторопливо и негромко рассказывал Спенсер Хирш, время от времени окидывая Рене проницательным оценивающим взглядом. — Если я счел нужным познакомиться с различными аспектами оклинской проблемы урана-235, то лишь потому, что этот уран является для меня предметом важного бизнеса. Обо всем остальном я имею самое приблизительное представление. В общих чертах дело обстоит так: уран-235 распадается в несколько раз быстрее, чем уран-238, поэтому два миллиарда лет тому назад оклинские руды были значительно более насыщены ценным изотопом. Его было около 3%, то есть столько же, сколько в современном обогащенном уране, которым загружаются промышленные реакторы. И вот, — директор банка сжал холеную руку в кулак, — в результате целого ряда случайных причин, особенностей сопутствующих горных пород, наличия воды и так далее и тому подобное — в давние-давние времена в Окло возникло несколько природных ядерных реакторов, в которых и выгорела часть урана-235.
— Естественные реакторы? Без участия человека? Фантастика!
Хирш с удовлетворением, которое так характерно для людей, сообщающих сенсационные сведения, согласно покивал.
— Фантастика, согласен. Но это так! Факты — упрямая вещь. В 1975 году в Габоне проходила научная конференция, посвященная оклинскому феномену. Мы посчитали нужным послать туда компетентного наблюдателя. Существование природных ядерных реакторов в Окло доказано весомо и на самом высоком научном уровне. Они функционировали сотни тысяч лет и выработали чертову уйму энергии просто так, на ветер!
— Обогревали динозавров? — улыбнулся Рене.
— Что вы, мсье Хойл! Тогда вообще никакой наземной жизни не было, я любопытствовал. Жизнь была только в океане: всякие водоросли, моллюски, гибриды раков и скорпионов и, м-м, трилобиты.
— Послушайте, а может быть, это шуточки пришельцев?
Хирш улыбнулся.
— Которые явились к нам с Марса на летающих тарелках? Бог мой! Как сильна в вас закваска журналиста! — Директор помолчал, постукивая по столу кончиками пальцев. — Кстати, мсье Хойл, на той научной конференции в Габоне, которая установила существование природных ядерных реакторов, присутствовал и интересующий вас Вильям Грейвс. Он остался в Габоне для продолжения своих изысканий. И, ликвидировав свои дела, не выезжал оттуда.
Рене внутренне подобрался.
— В чем же они состояли?
Хирш ответил не сразу.
— Я еще раз вынужден предупредить вас, мсье Хойл, о конфиденциальности нашего разговора. Нарушение этого условия может, э-э, пагубно отразиться на ваших делах, Законы большого бизнеса весьма суровы.
— Я прекрасно осведомлен об этом.
— Отлично. Должен повторить, что я не ученый, а делец, поэтому мои сведения будут носить весьма общий характер. Мистер Грейвс предположил, что функционирование природных оклинских реакторов сопровождал некий особый процесс, который ныне реализуется лишь в условиях ядерных лабораторий на всяких там синхрофазотронах и прочих чудесах современной техники.
— Любопытно!
Хирш вежливо улыбнулся:
— Безусловно. Но рискну заметить, что это любопытство стоило мне определенной суммы. Вильям Грейвс ожидал, что в результате этого особого процесса в Окло возможно накопление химических элементов уникальной ценности. Его предприятие заключалось в получении соответствующей лицензии и в организации поиска этих элементов. Первое, разумеется, было намного труднее и дороже.
— Не могли бы вы сказать, о каких именно элементах шла речь?
— О платине, золоте, свинце и других веществах подобного рода.
Журналист сделал большие глаза:
— Но позвольте, мсье Хирш, существует множество богатых месторождений этих редких металлов!
Директор банка многозначительно прищурился:
— Речь шла не об обычном золоте или свинце, а о некоторых их необыкновенных изотопах уникальной ценности.
— Каких же?
Хирш благосклонно кивнул головой.
— Вы настойчивы, мсье Хойл, это полезно для делового человека. Но я сказал вам все, что мог сказать, вернее все, что знал. — Заметив откровенное огорчение на лице журналиста, он кончиками пальцев успокоительно прикоснулся к его руке. — Я понимаю, этого мало для принятия серьезного решения. Но это дело поправимое. Когда Вильям Грейвс явился к нам со своим предложением, мы решили проконсультироваться у квалифицированных специалистов. Одного нам рекомендовал Грейвс, другого мы выбрали сами. Оба заключения с некоторыми оговорками были положительны в той степени, которая позволила начать дело. К вашему счастью, один из этих специалистов, а именно тот, который был рекомендован Грейвсом, находится сейчас здесь, в океанографическом музее. Это профессор Артур Баррис. По моей рекомендации он примет вас и сообщит то, что найдет возможным.
Глава 12
Номер дорогого отеля был полон солнца и свежего воздуха, через открытое окно виднелось безмятежное лазурное море, широко раздвинутые оконные шторы шевелились и дышали, горбом раздувая свою шелковую грудь, точно живые. Артур Баррис, белокурый великан, ростом шесть футов и четыре дюйма и весом двести фунтов, самолично сообщивший об этом Рене, был похож не на именитого ученого, а на известного спортсмена, ушедшего на заслуженный отдых. Студентом Баррис занимался футболом и разными видами борьбы, в частности дзюдо. Рене тоже в свое время преуспевал в области дзюдо, правда, в другом весе, и на этой почве они перебросились несколькими фразами, по-настоящему понятными только посвященным, после чего Баррис проговорил:
— Послушайте, Рене, давайте обойдемся без этих пуританских мистеров и всего такого прочего. Зовите меня просто Арт. Идет?
— Идет!
Сейчас, развалившись на диване, Баррис, вытирая наружной стороной ладони проступившие слезы, смеялся от души.
— Значит золото, платину и свинец, так и сказал?
— Так и сказал. Какие-то там редкие изотопы.
— Ну и остолоп!
Смеялся Баррис аппетитно, как умеют смеяться открытые, уверенные в себе люди, смотреть на него было одно удовольствие.
— Вы никуда не спешите, Рене? — Баррис прекратил смеяться.
— Никуда.
— И я тоже никуда. Тогда какого черта нам торопиться? Выпьем?
— С удовольствием!
С неожиданной легкостью Баррис поднялся с дивана и откинул дверцу бара — этой непременной принадлежности хорошего номера. Бар был основательно загружен. Выставляя на открытую дверцу бутылки разных емкостей и форм с красочными этикетками, Баррис говорил:
— Дел у меня тут самый мизер. Я приехал не столько работать, сколько встряхнуться. Иногда полезно отойти от дел и передохнуть. Мой шеф отлично это понимает, поэтому и помог устроить эту командировку. Коктейль или что-нибудь а-ля натюрель?
— Полагаюсь на ваш вкус.
— Тогда я угощу вас фирменным коктейлем. — Он важно поднял палец. «Цикламен»!
— Это в честь подземного ядерного взрыва?
Баррис удивленно взглянул на собеседника:
— Да вы неплохо подкованы, дружище!
— Я журналист.
— Верно, я как-то упустил это из виду. Взрыв оказался неудачным, дальше сотого элемента мы так и не двинулись, зато коктейль — чудо, сами убедитесь.
Непринужденно болтая, Баррис с ловкостью опытного бармена наполнял хромированный шейкер компонентами знаменитого «Цикламена».
— Не понимаю, Арт, что может делать в океанографическом музее ученый-атомщик.
Баррис усмехнулся:
— Связи прогрессирующих наук да еще с программным акцентом ныне всеобъемлющи. Вы слышали о железо-магниевых конкрециях?
— Не так чтобы очень.
Ученый бросил в шейкер битого льда, закрыл его и начал встряхивать.
— Знаете, настоящий коктейль получается только в шейкере. Все эти электрифицированные миксеры типичное не то. Конкреции, Рене, растут на дне океана на включениях, чаще всего органического происхождения, за счет адсорбции из океанской воды химических элементов. Я не очень специален? Вы меня понимаете?
— Нет-нет, такой уровень мне доступен.
— Основу конкреций, как это видно из их полного наименования, составляют железо и марганец. Растут они миллионы лет и достигают размеров хорошего яблока, таким образом, на дне океанов концентрируются колоссальные запасы ценной руды. Наверное, скоро встанет вопрос о ее промышленном применении. Но что самое интересное, параллельно железу и марганцу в конкрециях избирательно адсорбируются и другие тяжелые элементы: свинец, ртуть, вольфрам, причем коэффициент обогащения конкреций по этим металлам по сравнению с морской водой достигает порядка миллионов. Таким образом, то, что в океанах растворено в совершенно ничтожных долях процента, можно попытаться найти в конкрециях в регистрируемых количествах. А регистрировать мы научились, особенно когда речь идет о радиоактивных изотопах.
Баррис закончил приготовление коктейля, присовокупил:
— Коктейль — дело тонкое, тут нужно попасть в самую точку. Мало поработаешь, он не успеет охладиться, долго — растворится слишком много льда и ухудшится вкус. — Он достал две большие рюмки, тарелочку с орешками и расставил все на столе. — «Цикламен» полагается пить без соломинок, как виски или водку. Попробуйте.
Рене отпил небольшой глоток, поморщился и поспешно опрокинул рюмку.
— Действительно нечто атомное, — выговорил он, бросая в рот пару орешков.
Баррис спокойно опорожнил свою рюмку.
— Я уже привык. А чувствуете особое, ласкающее ощущение в горле? Это из-за мятного ликера. — Лениво пережевывая орешки, он продолжал: — В смысле застолья мы антиподы французов. У них не сразу разберешь, что ешь, — такая подается мешанина, зато всегда знаешь, что пьешь, особенно под сурдинку хорошего соммелье. А у нас наоборот.
Он вдруг прямо взглянул на журналиста холодноватыми серыми глазами:
— Можно один не очень скромный вопрос, Рене?
— Хоть десять.
— Десять — это будет похоже на допрос, а один вполне укладывается в рамки приятельских отношений. — Баррис бросил в рот орешек. — Как вы познакомились с семьей Бадервальдов?
Да-да, конечно же, помимо своего научного амплуа, Артур Баррис еще и вполне современный энергичный деловой человек. Манеры простого свойского парня — всего лишь удобная привычная маска, которая помогает на пути к успеху и богатству. Впрочем, вряд ли стоит быть слишком строгим, Баррис скорее всего действительно неплохой человек. Другое дело, что не следует принимать всерьез его показную простоту.
Рене постарался улыбнуться просто, открыто, но вместе с тем несколько загадочно.
— Секрет фирмы, Арт. Так, кажется, говорят о подобных ситуациях в деловом мире?
Улыбнулся и Баррис.
— О-о! Понимаю! — он махнул рукой. — Секреты, секреты! Моя работа полна ими.
Переводя разговор, Рене спросил:
— А чем вас так насмешил Хирш?
— Меня всегда смешат люди, путающиеся в элементарщине. Разумеется, Вильям и не думал искать ни золота, ни платины, ни свинца. Он искал в Окло далекие трансурановые элементы и, главным образом, эка-свинец.
— Ну, а теперь вы можете посмеяться и надо мной. Я тоже не имею ни малейшего представления о том, что такое эка-свинец.
— Не говорите глупостей! — Баррис снова наполнил рюмки. — Попробуйте теперь сначала разжевать орешек и только потом глотнуть напиток. Совершенно особое ощущение. Об эка-свинце же вы просто ничего не слышали, а Спенсеру рассказывали о нем добрый десяток раз, но он так и не может взять в толк и запомнить. Деляга! Вы с химией трансуранов знакомы?
Хойл усмехнулся:
— Вы не забывайте, что я журналист. А журналисты знают обо всем понемногу и ничего по-настоящему. Что такое трансураны от нептуния до гания, я представляю. А вот насчет химии и всего остального будет лучше, если вы начнете с нуля. Если это нужно, конечно.
— Нужно. Без этого вам не понять, в чем состояло предприятие Грейвса. А о магических ядрах и острове трансурановой стабильности слышали?
Рене даже поперхнулся коктейлем.
— Вы хотите меня уморить всеми этими премудростями?
— Перетерпите. Мы, дзюдоисты, живучие. — Баррис отставил бокал и посоветовал: — Не тяните до конца, там уже много воды, лед имеет свойство таять, как втолковывал мне наставник-бармен, немец по происхождению. Навострите уши и включайте на полную мощность свой компьютер.
Рене шутливо стукнул себя по лбу:
— Да, сэр!
— Тогда поехали.
Лицо Барриса обрело сосредоточенное выражение, лоб избороздили крупные морщины. Говорил он четко и логично, демонстрируя гибкий дисциплинированный ум, однако несколько злоупотребляя специальной терминологией. Впрочем, он все время поглядывал на Хойла, почти всегда угадывая его затруднения, и повторял свою мысль более популярным языком. При этом его лицо приобретало несколько досадливое выражение. Популярно изложенная мысль безнадежно теряла какие-то важные с точки зрения специалиста оттенки.
Баррис объяснил, что атомные ядра в зависимости от числа входящих в их состав протонов и нейтронов, так сказать, изначально обладают различной степенью стабильности подобно тому, как вещества в зависимости от структуры кристаллической решетки обладают различной степенью твердости.
Физики установили, что особенно высокой степенью стабильности отличаются атомные ядра, которые состоят из магического числа как протонов, так и нейтронов. Такие ядра называют дважды магическими. Их немного: гелий — два протона и два нейтрона, кислород — восемь протонов и восемь нейтронов, кальций — двадцать протонов и двадцать нейтронов и, наконец, свинец — восемьдесят два протона и сто двадцать шесть нейтронов.
— Улавливаете, Рене? Сначала соотношения были однопорядковыми, а потом верх взяли нейтроны. Приготовьтесь теперь услышать самую сногсшибательную информацию. Общеизвестно, что по мере увеличения атомного веса трансуранов продолжительность их жизни уменьшается. Уран существует миллиарды лет, плутоний — десятки тысяч, калифорний — сотни лет, фермий — десятки дней, а курчатовий и далее — уже доли секунды. Казалось бы, еще более далекие трансурановые элементы должны быть лишены права на существование.
— Как мелкие предприниматели в годы кризисов?
— Совершенно справедливо. Но в дело вмешивается магия, и кризис сменяет просперити. Очередное дважды магическое ядро вслед за свинцом лежит в далекой трансурановой области. Оно содержит 114 протонов и 184 нейтрона и отличается для своего атомного веса поистине уникальной стабильностью. Разные методы оценок дают разные цифры, но в среднем можно считать, что период полураспада сто четырнадцатого элемента примерно равен периоду полураспада урана.
— Чепуха! — вырвалось у Рене.
Баррис, расхаживавший по номеру, положил на плечо журналиста руку:
— Дорогой мой! Кто из нас сотрудник Лоуренсовской лаборатории — вы или я?
— Лоуренсовская лаборатория — это серьезно, — согласился Рене.
— То-то же. Поиски стабильных трансуранов сейчас ведутся по многим направлениям: их пытаются синтезировать в лабораториях, ищут в космических лучах и океанических конкрециях, ради которых я сюда явился. А вот Вильям Грейвс хотел их найти в рудниках Окло.
— Я догадался.
Баррис усмехнулся:
— Это делает вам честь. Однако учтите, эта идея Грейвса противоречит устоявшемуся мнению ученого мира. Не вдаваясь в подробности, добавлю, что по своим химическим свойствам сто четырнадцатый элемент должен быть тяжелым аналогом свинца — эка-свинцом по терминологии Менделеева.
— А-а!
— Вот видите! Я сразу угадал, что вы быстро схватываете суть дела. Маловероятно, что эка-свинец — единственный долгоживущий трансуран. Скорее всего рядом, по атомному весу разумеется, расположено еще несколько элементов, образующих своеобразный остров стабильности: эка-золото, эка-ртуть, эка-висмут.
— Понял. Их-то вместе с эка-свинцом и собирался отыскать Грейвс. — Рене отставил бокал. — Знаете, Арт, ваш «Цикламен» лучше коньяка!
— Еще бы! Над созданием «Цикламена» трудились выдающиеся умы нашей эпохи, а коньяк — результат естественного процесса старения вина в глупой дубовой бочке. Вернемся, однако, к предприятию Вильяма Грейвса. Чтобы реактор нормально функционировал, то есть чтобы ядерная реакция не затухала или не произошло взрыва, нужно соблюсти довольно жесткие условия. Коротко говоря, нужна система управления и регулировки реактора. Это естественно, такие системы есть у любой машины.
— Даже у кухонной плиты?
— Совершенно верно. А природные оклинские реакторы никто не рассчитывал, никто не подбирал пропорции между топливом и замедлителем, не встраивал в них управляющие устройства. И тем не менее они исправно функционировали сотни тысяч лет! Разве это не поразительно? Ведь это примерно то же самое, как если бы природа вырабатывала легированный прокат или нейлоновые шубки для дам!
— И в самом деле! — Рене, слушавший с неподдельным интересом, почесал затылок. — Арт, может быть, я скажу глупость, но мне невольно приходит на ум мысль о звездных пришельцах. Что, если два миллиарда лет тому назад они гостили на Земле? А в Окло у них были мощные энергостанции?
Баррис развел руками.
— Должен вас огорчить, дорогой журналист. К сожалению, нет никаких свидетельств в пользу того, что в Окло хозяйничала рука разума.
— Но ведь с тех пор прошло два миллиарда лет! Что спустя такой срок останется от нашей цивилизации?
— Не беспокойтесь, что-нибудь да останется. Вы просто не знакомы с методами современного радиохимического анализа, которые позволяют исследовать чуть ли не отдельные атомы. Мнение моих коллег-ученых единодушно: Окло — явление естественное, но тем не менее весьма и весьма загадочное. Вильям и предложил одну из возможных разгадок: он полагал, что работа природных ядерных реакторов Окло поддерживалась за счет своего рода запальной свечи — нейтронного потока, который формировался при спонтанном делении далеких трансуранов. А если так, то есть смысл поискать их стабильные изотопы и в наше время.
— Ситуация с трансуранами мне ясна, — журналист вздохнул, — а вот с Вильямом Грейвсом не совсем. Слушайте, Арт, вы ведь некоторое время работали с ним в одной упряжке, не так ли?
Баррис, приглядываясь к Хойлу, ответил:
— Да, но я не был с ним связан непосредственно и не дружил, хотя время от времени перебрасывался парой фраз.
Рене потер ладонью лоб:
— Понимаю, но ведь слухом земля полнится. У меня есть сведения, что Грейвс пытается реализовать свои идеи. Он якобы изобрел ядерную взрывчатку колоссальной мощности, грейвсит, с помощью которой можно разрушить чуть ли не целый континент.
Баррис презрительно поморщился:
— Чепуха! Не верьте этому.
— Но мне говорил о такой возможности физик-теоретик!
— Вы думаете, среди этой категории людей нет дураков?
— Он говорил о некоем апейроне, — гнул свою линию Рене.
Баррис удивленно взглянул на журналиста и расхохотался.
— Апейрон? Да ведь это древнегреческая философская категория, введенная не то Анаксогором, не то Аниксимандром! Некая субстанция, из которой образовалось все сущее.
— Вот-вот, тот физик и говорил, что апейрон — это протовещество, которое сохранилось в недрах Земли со времен биг-банга, большого взрыва, породившего нашу Вселенную. С гипотезой апейрона выступили какие-то русские ученые-геологи.
Баррис пожал плечами:
— Не слышал, скорее всего это газетная утка. А впрочем, геология — это не по моей части. — Он на секунду задумался и вдруг оживился. — Хотите, я сведу вас с геологом? Хороший парень, прибыл вместе со мной из-за тех же конкреций. Он живет в соседнем номере.
— А это удобно? — усомнился для приличия Рене.
— Почему же неудобно?
Баррис легко подошел к телефону.
— Ник? Чем вы заняты?
Телефонная трубка оказалась такой громкой, что Рене расслышал ленивый басовитый ответ.
— Наиважнейшим делом — у меня сиеста.
— Я хочу познакомить вас с одним журналистом.
— Пошлите его к черту.
Баррис подмигнул Хойлу.
— Ему протежирует сам Бадервальд.
— Тем более.
— Да он хороший парень! И ему нужно заработать.
— Это другое дело. Ведите!
Глава 13
По пути Баррис успел сообщить журналисту, что Николас Батейн — добрый парень, невероятный эрудит, но человек со странностями. А кто из нас без странностей, явных или тайных? Представив их друг другу, Баррис тут же испарился, сославшись на некие неотложные дела.
— Садитесь, — вяло сказал Батейн, — и будьте как дома.
Он как сидел в кресле, так и остался сидеть. Длинные ноги в туфлях, наверное, сорок шестого размера были вытянуты почти на середину комнаты, руки как плети свисали с подлокотников кресла и согнутыми пальцами касались ковра. В большом костлявом и нескладном Батейне было что-то от доброго послушного коняги, который однако же себе на уме и время от времени выкидывает разные фортели.
— У меня сиеста, — грустно уведомил Батейн, глядя на Хойла доверчивыми, какими-то детскими глазами. — Но если уж вам так приспичило, мы можем поговорить.
— Благодарю, мистер Батейн.
— К черту мистера и к черту Батейна, зовите меня просто Ник, — лениво проговорил геолог и так же лениво полюбопытствовал: — Бадервальд ваш родственник или вы поймали его на каком-нибудь жульничестве — он мастак на такие дела — и теперь шантажируете?
Рене рассмеялся:
— Ни то, ни другое. Просто-напросто я друг детства его младшей невестки Элизы.
— Понятно, шерше ля фам, как говорят французы. — Батейн показал на дверь, причем поднял руку так, словно на ней лежал тяжелейший груз, а потом бессильно уронил на ковер. — Думаете, почему Арт спихнул вас мне и тут же улетучился?
— Понятия не имею, — ответил Хойл, решая, что Баррис прав: этот Батейн действительно оригинальный человек.
— По той же самой причине — шерше ля фам! — Геолог оживился, насколько это было вообще возможно при его темпераменте. — У него интрижка с Нинон, очаровательной сотрудницей океанографического музея. Пока я разглядывал ее, оценивал достоинства и недостатки, изучал характер и разрабатывал подробный план атаки, Арт налетел как коршун и уволок ее у меня из-под носа. Вы знаете, о чем я жалею?
— Наверное, о том, что сейчас не мушкетерские времена и что Барриса нельзя вызвать на дуэль? — предположил Хойл.
Батейн засмеялся и отрицательно помотал своей лошадиной головой. Смеялся он заразительно, сотрясаясь всем телом, но негромко, не смеялся, а хихикал.
— Наверное, в ваших жилах течет и французская кровь, угадал? Вот видите! Галлы всегда были драчливы, а вот у меня совершенно отсутствует комплекс кровожадности и мести. — Батейн шумно вздохнул. — Я жалею о том, что я не мусульманин. Богатый мусульманин, какой-нибудь там хан, эмир, халиф, султан, купец, — несущественно. Все дело в гареме, полном красивых, веселых, послушных и всегда готовых к твоим услугам жен. Никакой никому не нужной любовной игры, всех этих обезьяньих ужимок, призывных взглядов, никаких журавлиных танцев и петушиного соперничества. Все очень просто, ясно и рационально, как теорема Пифагора. Я не кажусь вам старомодным?
— Что вы! Для эпохи сексуальной революции ваши идеи весьма оригинальны. Особенно с женской точки зрения.
— Женщины! — Батейн подобрал с пола руки, сначала одну, потом другую, и удобно сложил их на животе. — Что мы о них знаем? Я, например, знаю только то, что это существа кошачьего типа. Они не любят фамильярности, но сами очень нахальны, они терпеливы, но в то же время и несносно капризны, отличаются постоянством привычек и взрывной неожиданностью. Например, есть мороженое на морозе, предаваться любви в знойной духоте и обсуждать кухонные проблемы на концерте вагнеровской музыки способны только женщины.
— Вы проштудировали Грея Уолтера?
Геолог так удивился, что приподнялся и принял сидячее положение, разглядывая Хойла, однако флегма взяла свое, и он снова упал на спинку кресла.
— Феноменально! Вас можно экспонировать в этнографическом музее как редкий образчик образованного журналиста. — Он еще раз бесцеремонно, но весьма благосклонно оглядел Хойла. — Вы хотели проинтервьюировать меня?
— Нет, расспросить и просветиться. Меня интересует апейрон.
— Может быть, аперитив?
— Нет, апейрон. Не в древнегреческом смысле, а в аспекте гипотезы русских ученых-геологов об апейронном ядре Земли.
Батейн снова принял сидячее положение да так и зафиксировался в нем. Корпус он подал вперед, локтями оперся о колени, кисти рук и длиннющие пальцы при этом бессильно свисали вниз, как стручки адамового дерева.
— Слушайте, вы в самом деле журналист?
— В самом деле. Но попутно я и представитель фирмы Невилла.
— Бадервальды, Невиллы, журналистика и апейрон. Невероятнейший коктейль. Почему бы вам не заняться каким-нибудь настоящим делом, наукой например?
Рене улыбнулся:
— Пробовал, учился в Массачусетсе, в технологическом. Но меня вышибли оттуда.
— За непочитание официальной науки?
— Нет, за участие в движении против вьетнамской войны.
— О-о! Да мы с вами родственные души. У меня тоже были некоторые неприятности по этому поводу, хотя до прямых репрессий дело не дошло.
Батейн некоторое время вопросительно смотрел на Рене, а затем проникновенно спросил:
— Слушайте, дружище, вы уже обедали сегодня?
— Нет, не успел.
— Почему бы нам не пообедать вместе? Ученые разговоры всегда вызывают у меня аппетит. В этом отношении я счастливый человек.
— Охотно, но я не одет.
Батейн сморщил свое доброе лошадиное лицо в презрительной гримасе.
— Не будьте снобом. Мы не в Британии и не в Бразилии. И идем не на званый обед к Бадервальдам.
На платной стоянке возле отеля Батейн подошел к «кадиллаку». Рене вежливо похлопал ладонью по благородному белому боку машины.
— Привезли из Штатов?
Геолог презрительно фыркнул, сложившись пополам, забрался в машину и не сразу, по частям, разместил себя на водительском месте.
— Прошу, — сказал он, распахивая дверцу. — Я не сумасшедший и не миллионер, чтобы ездить по белу свету со своей машиной. Позаимствовал на недельку у друзей.
Они ехали вокруг порта через Ля-Кондамин мимо всех официальных достопримечательностей «Государства червонных валетов», как иногда называют княжество Монако; мимо национального музея искусств, дворца принца, рынка и муниципалитета. Батейн вел автомобиль на большой скорости, с небрежной непринужденностью, которая изобличала в нем бывалого и лихого шофера.
— Черт бы побрал эту дорожную неразбериху нашего мира! В Штатах правостороннее движение, в Англии — левостороннее, в Швеции — тоже левостороннее, а вот во Франции — опять правостороннее.
Когда «кадиллак» вырвался на набережную и дорожная обстановка несколько разрядилась, Батейн спросил:
— Скажите, Рене, а какое, собственно, отношение имеет гипотеза апейрона к делу Грейвса?
Хойл кинул на геолога быстрый взгляд:
— Грейвса?
Батейн лениво усмехнулся и, растягивая слова, пробасил:
— Не юлите, друг и советник миллиардеров, не юлите, это вам совсем не идет. Прежде чем вы навестили Арта, мы успели обменяться с ним парой слов.
Усмехнулся и Рене:
— Что ж, постараюсь быть откровенным. Я и хочу выяснить, Ник, имеет ли апейрон какое-нибудь отношение к делу Грейвса или нет. Но сначала надо узнать — что такое этот проклятый апейрон?
— Проклятый, — медленно повторил Батейн и слегка оживился. — Все может быть! Все великие открытия человеческие, начиная от лука и стрел и кончая ядерной энергией, двулики, как Янус. Все они несут в себе и божеское начало созидания, и дьявольскую силу разрушения, все они и благо и несчастье в одно и то же время.
Батейн вдруг поморщился, точно попробовал кислого, и, покосившись на журналиста, извинительно добавил:
— Не обращайте внимания на мои сентенции, мистер пресса, меня самого от них тошнит. Но когда я голоден, меня вечно тянет от милой моему сердцу реальности в заумную философию. Вернемся к проклятому апейрону.
И, не отказывая себе в удовольствии обгонять попутные машины, геолог неторопливо, фраза за фразой, с паузами между ними, начал рассказывать о том, что гипотеза апейрона — тут Рене не ошибся — действительно создана двумя русскими авторами — Богословскими. Кто они такие — братья, муж и жена, а может быть, брат и сестра, — Батейну неизвестно, да это и не существенно. Но Богословские вовсе не геологи и даже не ученые в собственном смысле этого слова, а инженеры. Да и озабочены они были не установлением структуры Земли, а поисками принципиально новых источников энергии. А сама гипотеза апейрона не столько геологическая, сколько космологическая: по мнению Богословских, апейрон рождается в недрах звезд в ходе их формирования из холодной газово-пылевой материи, а уж звезды наделяют апейронными ядрами своих детей — планеты и их спутники. Рене слушал не без интереса, однако же проявлял и некоторые признаки нетерпения.
— Все это прекрасно, — сказал он вслух. — Однако что же все-таки такое апейрон?
— Современное научное понятие не так-то просто перевести на общедоступный язык. Учитывая то существенное обстоятельство, что мы идем на обед, я бы назвал апейрон ядерным винегретом, а еще вернее — кашей, но… терпение, Рене, и еще раз терпение. Подробности я сообщу несколько позже. — Батейн притормозил, сворачивая неподалеку от знаменитого отеля «Де Пари» в боковую улицу. — Тут есть подходящий для нас с вами ресторанчик, мистер журналист. Не большой и не маленький, не фешенебельный, но и не заурядный. Хорошая кухня, милые официантки и варьете со стриптизом.
— Стриптиз-то зачем?
— Сложный вопрос. У этой проблемы много аспектов и очень разных. Но коротко можно сказать так: для полноты удовольствий.
— Мужских удовольствий, Ник.
— Абсолютно правильно.
Ресторан оказался именно таким, каким его описал Батейн. Через окно был виден поток бездельников и бездельниц, текущий в направлении авеню Монте-Карло, к Опере, к знаменитому казино и к пляжу Монте-Карло-бич, где днем богатые туристы купаются и загорают, а с наступлением темноты находят более экзотические развлечения. Толстое зеркальное стекло сгладило крайности толпы, жаждущей удовольствий, сделало мужчин мужественнее, а женщин деликатнее. Да и сама улица потеряла впечатление всамделишности. Этому способствовали сумерки, огни реклам и фонарей, улица стала похожа на огромный, причудливо освещенный аквариум, в котором мудрый маг и волшебник проводил некий глубокомысленный опыт с капризными и крикливо разодетыми созданиями.
В зале проворно сновали чистенькие официантки в белоснежных передничках. Одна из них, пышненькая, белотелая, светлоглазая, с улыбкой подошла к их столику. По первой же ее фразе Рене угадал в ней нормандку и заговорил на ее родном диалекте, с которым был немного знаком благодаря матери. Этим он хотя и насмешил бойкую девицу, но сразу сломал барьер официальности и расположил ее в свою пользу. Она даже с некоторым азартом помогла составить им меню вкусного и не очень дорогого пиршества. Ресторанчик, подобно самому Монако, был интернациональным, в смысле кухни, конечно.
Когда нормандка отошла от стола, Рене обнаружил, что Батейн разглядывает его с откровенным интересом и некоторой завистью.
— Вы смотрите на меня, как на бифштекс, — заметил он как бы между прочим.
— Я люблю бифштексы, — меланхолично согласился Батейн, — особенно когда они не пережарены. Но меня вы интересуете не в кулинарном смысле, а в плоскости проблем межполовой коммуникабельности. Вы читали Тэрбера?
— Не припоминаю.
— Впрочем, это несущественно. — Батейн попытался разлечься в кресле так же непринужденно, как и у себя в номере, но это оказалось невозможным по конструктивным особенностям самого кресла. После нескольких неудачных попыток геолог с некоторым неудовольствием покорился обстоятельствам и продолжил разговор. — Скажите, как это у вас получается, — чисто интуитивно или вы применяете некую четко продуманную систему, варьируя, разумеется, в зависимости от конкретных обстоятельств?
— Вы о чем? — не понял журналист.
— Да об этой хорошенькой нормандочке, нашей официантке Мари! Вы сразу сумели расположить ее к себе. Я думаю, если вы постараетесь, она прямо сегодня согласится лечь с вами в постель, у меня чутье на такие дела. — Он на секунду задумался, охватив своими аршинными пальцами подбородок, и переспросил: — Так вот, в чем секрет успеха: интуиция, импульс или система, жесткая логика, облаченная в наряд игровых слов и намеков?
У Батейна было такое серьезное, даже озабоченное лицо, что Рене не выдержал и рассмеялся.
— И вы туда же, — с некоторой обидой и разочарованием констатировал геолог. — Не понимаю, почему такая сложная и животрепещущая проблема, как межполовая коммуникабельность, обычно не воспринимается серьезно?
— Не сердитесь, Ник, — Рене передохнул, — наверное, дело в том, что большинство людей решает эту проблему очень просто и как бы само собой.
Батейн вяло отмахнулся своей большой рукой.
— Не говорите ерунды, мистер журналист. Сколько юношей тонет в сексуальной грязи из-за ненужной стыдливости и половых срывов! Сколько милых девушек, сами того не желая, становятся бесстыдными сучками из-за своей неопытности и доверчивости! Да что подростки, — геолог доверчиво взглянул на Хойла, — возьмем меня, взрослого мужчину. Я не импотент, у меня была целая куча женщин, чуть ли не целый десяток. Но всякий раз выход на уровень доверия и интимности был для меня сложен, противоречив, упоителен и ужасен.
— Надо проще смотреть на такие вещи, — посоветовал Рене.
Батейн иронично покивал головой.
— Вот-вот, Арт толкует мне то же самое. Для него и для вас, наверное, все эти хи-хи и ха-ха, прищуренные глазки и покачивающиеся бедра — игра и ничего больше. А я вижу в этом первые шаги в деле высочайшей ответственности — созидании нового человека. Человека! Что по сравнению с этой уникальной структурой Вселенной Бруклинский мост, Эмпайр или Эйфелева башня? Однако к их созданию люди вовсе не относятся легкомысленно. Где же тут логика? — Геолог требовательно взглянул на журналиста и вдруг улыбнулся. — Я не кажусь вам немножко сумасшедшим или, по крайней мере, смешным?
— Не очень. Скорее всего это грустно.
— Что именно?
— А то, что обо всем этом редко думают так ответственно, как вы. Особенно женщины.
— Женщины! — Батейн попытался вытянуть ноги во всю их длину, толкнул Хойла, извинился и вытянул их теперь уже несколько в сторону. — Толкуют об инопланетянах, о трудностях контактов с ними, а между тем у человечества огромный опыт такого рода контактов: ведь женщины — типичные инопланетянки нашего мира.
— Это в каком же смысле? — удивился Рене.
— В самом прямом!
Принесли заказ, и разговор на время прервался. Провожая взглядом полноватую, но весьма выразительную фигуру официантки, Рене спросил:
— Мари — тоже инопланетянка?
— Разумеется. — Батейн понюхал улитки, которые принесли для журналиста. — Не понимаю, как вы можете есть такую дрянь.
— Это не просто улитки, а виноградные. Едите же вы крабов, чем они лучше?
— Краб — это воин, Рене, его не стыдно и пожирать, а улитки — нежные и беззащитные создания. Кстати, о нежных созданиях другого рода — женщинах, — разговоры не мешали Батейну орудовать ножом и вилкой. — Они не участвовали в создании земной культуры, а лишь присутствовали при этом процессе, ублажая мужчин. Земная культура имеет сугубо мужской характер, женщинам она чужда, непонятна, они только делают вид, что понимают ее и восхищаются ею, поэтому я и называю их инопланетянками.
Батейн поднял бокал:
— Ту ю, мистер журналист.
— Ту ю, мистер доктор, — Рене в ответ поднял рюмку.
— Так вот, а теперь женщины рвутся к активному созиданию. Они лезут в науку, тянутся в политику и делают бизнес. Добром это не кончится, вот увидите. Они все переделают на свой инопланетный лад и создадут дамскую цивилизацию, совсем не похожую на нынешнюю. И нам, мужчинам, скорее всего в ней не найдется места. Примеры пчел и муравьев в этом плане чрезвычайно показательны! В лучшем случае мужчин будут держать в специальных загонах, используя исключительно для продолжения рода. Но и это не обязательно. Генная инженерия позволит в ближайшие годы партогенетически решить эту проблему.
Небольшая доза виски повлияла на Батейна благотворно. Он ожил, потеряв часть своей флегмы, и в своих экстравагантных суждениях обнаруживал больше юмора.
Слушая его теперь, Рене меньше становился в тупик и больше веселился. И вообще, они окончательно почувствовали себя легко и непринужденно, как добрые друзья. В грейвсовской одиссее Хойла эта встреча — приятное исключение. Серлин был хорошим человеком, но он все время поддерживал определенную личностную дистанцию, неплохое впечатление производил и Баррис, но он подавлял Рене своим авторитетом, остальные же попросту смотрели на журналиста сверху вниз. Другое дело Ник Батейн! Пользуясь сложившейся естественностью отношений, Рене решительно повернул руль беседы.
— Послушайте, Ник, а какое место в дамской цивилизации будущего займет апейрон?
Батейн поперхнулся.
— Дался вам этот апейрон! В мире столько прекрасного, а вы зарядили одно и то же, как попугай.
— Сказывается репортерская закваска.
— Вот именно. — Геолог не без сожаления положил на опустевшую тарелку вилку и нож, аккуратно вытер бумажной салфеткой губы, бросил ее туда же и лишь после этого отодвинул тарелку в сторону. — Так и быть, слушайте. Я уже сравнивал апейрон со своеобразной ядерной кашей. Дело в том, что при давлении в миллиард атмосфер…
— Эка вы бросаетесь миллиардами!
— Вот именно, хоть я и не милый вашему сердцу Бадервальд. Привыкайте. Так вот, при давлении в миллиарды и сотни миллиардов атмосфер атомы всех элементов раздавливаются, энергетические поля их перекрываются и образуется некая однородная лишенная химизма смесь электронов, протонов и некоторых стабильных ядер. Такую вот мешанину Богословские и назвали апейроном. В этом нет ничего нового: образование ядерного конгломерата под действием сверхвысоких давлений давно доказано и общепризнано наукой, необычным является только сам термин — апейрон. Но, — Батейн неторопливо и важно поднял свой аршинный палец, — изюминка в гипотезе Богословских есть, она в другом. Эти ребята считают, что после своего образования апейрон приобретает внутреннюю устойчивость и сохраняет определенную стабильность даже после снятия начального, закритического давления, под действием которого он образовался.
— Это примерно то же самое, что происходит, если снять поджаренный бифштекс с раскаленной сковороды: он уже не станет сырым!
Геолог захихикал, сотрясаясь костлявым телом и почти любовно разглядывая Рене.
— У вас гибкий, но типично газетный ум, Рене. Аналогия хоть и далека от идеала, но чертовски наглядна. Опираясь на стабильность апейрона. Богословские и делают вывод, что Земля имеет апейронное ядро, хотя давление в недрах нашей старушки-планеты много меньше критического. Этим ядром Землю наделило Солнце, от которого планеты отделились много миллиардов лет тому назад. В апейрон закачано давлением колоссальное количество энергии. Богословские считают, что тектонические процессы, горообразование, движение материков, формирование океанских впадин, землетрясения — все это происходит за счет энергии, формирующейся на одной лишь поверхности апейронного ядра. По внутренним каналам в некоторых районах земного шара апейрон может подниматься близко к поверхности. И тогда он начинает разлагаться либо медленно, постепенно — тогда из него формируется весь набор элементов менделеевской таблицы, либо почти мгновенно, но со взрывом. Помните трагедию Кракатау?
— Это когда чуть ли не целый остров взлетел на воздух от вулканического взрыва чудовищной силы?
— Браво, Рене! Все-то вы знаете. Так вот, — Батейн заговорщически и в то же время несколько иронично сообщил: — Богословские считают, что этот взрыв произошел из-за прямого прорыва апейрона в вулканическое жерло.
Приглядываясь к Батейну, журналист спросил:
— И апейрон всегда взрывается, освобождаясь из-под пресса давления пусть не критического, но высокого, как в недрах Земли?
— Нет! В определенных условиях, например в вакууме, апейрон сохраняет относительную стабильность без всякой нагрузки, — геолог снисходительно улыбнулся. — Богословские считают, что многие крупные болиды, в разные времена выпавшие на Землю, в частности знаменитый Тунгусский метеорит, это капли апейрона, выплюнутые Солнцем в направлении Земли. До своего взрыва они проделали путь в девяносто четыре миллиона миль — вот каков уровень стабильности этих капель, если верить Богословским.
— А вы им верите?
Батейн пожал плечами:
— Не совсем. Мне представляется маловероятным, чтобы наше спокойное Солнце плевалось апейроном, а потому метеоритный аспект гипотезы я отвергаю. Но я убежден, что стабильность апейрона можно достаточно долго поддерживать и при нормальном давлении.
— Интуиция?
— Почему интуиция? — несколько обиделся Батейн и ткнул себя пальцем в грудь. — Я сам, лично, с помощью компьютера, конечно, много недель возился с расчетами. И в конце концов заверил Вильяма, что стабильный апейрон реален!
— Вильяма? — Рене был ошарашен. — Вы работали на Грейвса?
— Почему вас это удивляет? На него работали многие. Грейвс хорошо платил, вот в чем секрет. А у меня нет друзей среди миллиардеров, мистер пресса.
Батейн хотел сказать еще что-то, но Рене приложил палец к губам: к столу подходила официантка.
— Простите, мсье, кто из вас Николае Батейн?
Рене и геолог переглянулись.
— А почему, собственно, вы решили, Мари, что за этим столом должен находиться Батейн? — быстро спросил журналист.
Мари мило и несколько недоуменно улыбнулась.
— Мне сказал об этом незнакомый, но вполне приличный человек. — Она передернула плечиками. — Мсье Батейна приглашают к телефону.
Глава 14
Известие о том, что Батейн сотрудничал с Грейвсом, не только удивило Рене, но и обеспокоило его, заставило задуматься. Он вдруг почти физически ощутил, как вокруг него затягивается некая незримая, но несокрушимая петля, приковывающая его к делу Грейвса, не дающая ему свободно действовать и располагать собой. Митчел, Аттенборо, Серлин, Шербье, Лонгвиль, Пьер, Робер, Хирш, Баррис и вот теперь Батейн — все они причастны к этому делу, все заинтересованы в нем так или иначе, все они и помогают и мешают. Их совместные, на первый взгляд, диффузно направленные усилия образовывали некую хитрую равнодействующую, Рене чудилось, она нацеливается, помимо воли каждого участника, чьей-то опытной, жесткой рукой. Чьей? Дяди Майкла, Аттенборо, самого Грейвса?
Наши опасения — все равно что снежный ком: достаточно подтолкнуть его под уклон, как дальше он покатился сам, все время нарастая в объеме. Рене вспомнил «хвост», рыжий Боб Лесли куда-то исчез. Хорошо это или плохо? И с дядей Майклом уже давно не было контактов. Телефон Смита у журналиста был, но использовать его разрешалось только в самом крайнем случае, а до этого еще не дошло. Обычно же детектив сам звонил Хойлу и путем наивного, с точки зрения Рене, но надежного, по уверению Смита, кода, основанного на заранее обусловленных иносказаниях, они легко договаривались и информировали друг друга. Дядя Майкл молчал уже больше недели! Что бы это значило?
Рене так задумался, что появление возле столика молодой прекрасно сложенной женщины застало его врасплох.
— Вы любите одиночество?
— Очень, — суховато ответил Хойл.
— И прекрасно, — безапелляционно заявила женщина, отодвигая стул.
Рене вовсе не собирался флиртовать и пускаться в любовные авантюры, но вежливая ссылка на даму, которая вот-вот должна подойти, нисколько не помогла.
— А я разве не дама? — спросила дева и бесцеремонно уселась за столик. — Меня зовут Анна.
Она была явно навеселе, но не исключено, что больше представлялась пьяненькой, чем была ею на самом деле. Поставив локти на стол, она бесстыдно глядела прямо в глаза Хойла нахальными чуть улыбающимися глазами.
— Вы англичанин?
— Увы, — скорбно вздохнул Рене.
— Это сразу видно. Только англичанин может сидеть как столб, когда все порядочные люди танцуют.
— Простите, разве могут столбы сидеть? Мне всегда казалось, что они стоят.
Анна захохотала, запрокинув голову, демонстрируя белые, как сахар, маленькие зубки и свежую, без единой морщинки шейку.
— Мой скучный, как Тауэр, англичанин шутит. Как вас зовут?
— Меня? — переспросил Хойл, раздумывая, стоит ли говорить ей свое настоящее имя, все зависело от того, кто она и зачем подсела к его столику. И представился: — Меня зовут Рем.
— Рем? Разве это человеческое имя? По-моему, это собачья кличка. По крайней мере, так зовут песика моей подружки. Впрочем, так звали и одного из основателей Рима. Ромул и Рем основали великий город, поездка в который стоит так идиотски дорого, — закончила она грустно.
— Вы изучаете древнюю историю? — вежливо поинтересовался журналист.
— Изучаете! Я бакалавр искусств, окончила Сорбонну. А вы думали, я уличная девка? — эти последние слова она выговорила с каким-то особенным удовольствием.
Рене мягко улыбнулся:
— Знаете, сейчас как-то стерлись грани между людьми. Стандартизация душа нашей эпохи.
Теперь в смехе Анны Рене слышались истеричные нотки.
— У вас острый глаз, — сказала она, переводя дыхание, — верно. Порядочные женщины стараются хоть немного походить на уличных девок доступность распаляет мужчину. А дорогие проститутки изо всех сил стараются играть в порядочность и строгость — это и пикантно и доходно. А вы, — вдруг в упор и без улыбки спросила она, — какую роль играете вы?
— Вот уже несколько лет пытаюсь быть журналистом. — Встретившись взглядом с официанткой, Рене подозвал ее улыбкой и кивком головы.
— Кому это вы строите глазки? — сейчас же воинственно спросила Анна, оборачиваясь.
— Надеюсь, вы выпьете со мной?
— Разумеется. Причем виски. А не вот этой подкрашенной водички, — она кивнула на «Шатонеф дю паи».
Пока Рене просил чистый бокал, Анна бесцеремонно и весьма неодобрительно разглядывала официантку.
— Ее миссия детопроизводство, — заключила она, когда девушка отошла от столика.
— Серьезная миссия.
— А у вас?
— Журналист должен быть всегда убежден в серьезности своей миссии. Как только эта убежденность теряется, нужно менять профессию, — Хойл проговорил это, глядя, правда, не на собеседницу, а на соусницу, стоявшую посредине стола.
— Рыцарь пера и бумаги, — презрительно сказала Анна, — почему вы не приглашаете меня танцевать?
— Не хочу нарушать таинство стриптиза.
Она мельком взглянула через плечо и передернулась.
— Мерзость! Зрелище для сластолюбивых стариков и импотентов.
— Пожалуй, вы слишком категоричны, — Рене поймал ее внимательный пытливый взгляд и опустил глаза. — В стриптизе есть и элементы эстетики.
— Вам мало для этой эстетики спальни? — Анна смотрела через плечо туда, где грустная девушка, подчиняясь ритму танго и словно позабыв об окружающих, сбрасывала с себя одежду.
— Эстетика! Если это эстетика, то почему нет мужского стриптиза?
— А в самом деле, почему? — заинтересовался журналист.
— Потому что равенство полов — блеф, а ваша эстетика только прикрывает скотство. Эллины были в десять раз выше и чище нас. Они любили саму гармонию человеческого тела, а не половую функцию, которая в нем скрыта. Они умели любоваться и мужским, и женским совершенством. С Афродитой соседствовал Арес, с Аполлоном — Артемида. Могущество олицетворял Зевс, а мудрость — Афина. Мы будем пить или нет? — вдруг прервала она себя с досадой.
Рене наполнил ее бокал и с улыбкой поднял свой. Пить Анна умела, впрочем, судя по всему, она умела многое. Теперь она смотрела на него не столько с озорной, сколько с грустной улыбкой.
— Как вы думаете, почему я к вам подсела?
— Любовь с первого взгляда? — предположил Рене.
— Любовь — это миф. Милый пуританин, вы, наверное, мечтаете об энергичной сексуальной партнерше?
Рене вежливо улыбнулся:
— Вы считаете себя энергичной?
— Разумеется. К тому же я независима и свободна как птица.
— Свободна? — Рене покачал головой. — В наше время невозможно быть свободным. На всех нас лежат незримые цепи условий и обязательств.
— Лежат. Только у одних это тяжелые ржавеющие кандалы, а у других нежные шелковые путы.
— Сети, — грустно подсказал Хойл.
— Сети, — согласилась Анна. — Хотите, я оплету вас своими сетями, милый журналист?
— Надолго?
— А если на всю жизнь? — Анна вздохнула и вдруг тихо, совсем тихо спросила: — Вы ведь Рене Жюльен Хойл, я не ошиблась?
У Рене екнуло сердце, но он сумел остаться невозмутимым. Что ж, по крайней мере, и внезапная отлучка Батейна, и нахальство этой девы получили какое-то объяснение.
— Допустим, — медленно проговорил он.
— Я еле опознала вас, все сомневалась. Вам привет от дяди Майкла, Рене. А вести не очень приятные.
Хойл успел овладеть собой и улыбнулся.
— Что ж, скушаю и такие.
— За вами организована крупная охота, поэтому будьте максимально осторожны. В свою гостиницу не возвращайтесь. Ваш друг с машиной?
— Да.
— Попросите его подвезти вас к «Амбассадору», подниметесь в триста шестой номер. Запомнили? «Амбассадор» и триста шесть. Там вас будут ждать друзья. — Наверное, она заметила настороженность, мелькнувшую в глазах журналиста, потому что добавила: — Вы можете позвонить портье и убедиться в этом. — Анна будто стряхнула с себя серьезность и призывно улыбнулась. А как насчет моих сетей, милый пуританин? Пусть не на всю жизнь, а хотя бы на вечер?
Рене понял, что поведение Анны было вовсе не игрой, а естественным проявлением натуры; другое дело, что у нее была и чисто утилитарная задача.
— Видит Бог, Анна, мне сейчас не до сетей! — вырвалось у него.
— Я не про сейчас. Когда-нибудь кончатся же ваши приключения! И если вы ухитритесь остаться живым, вспомните про Анну. Вот мой телефон. До встречи, пуританин. — И, послав Рене воздушный поцелуй, Анна встала из-за стола.
Батейна Рене заметил издалека. Геолог шел непривычно скорым шагом, неловко огибая столики, цепляя стулья и разбрасывая извинения. Хойл вдруг догадался, что Батейн сердится: когда сердится добрый человек, об этом всегда легко догадаться. Вот опытному прохвосту злость и ненависть вовсе не мешают сладко улыбаться и говорить комплименты.
— Долго же вы отсутствовали, — лукаво сказал Рене, когда Батейн уселся за столик. — Телефонные амуры?
Батейн фыркнул и сердито мотнул головой.
— Какие там амуры! Скоты! — Он хотел допить свое виски, но лед в бокале растаял, геолог неловко отодвинул его и чуть не уронил. — Меня атаковала смазливая мадемуазель и весьма недвусмысленно пожелала провести со мной сегодняшнюю ночь. Когда я ее прогнал, какой-то подвыпивший тип стал уверять, что я как две капли воды похож на его кузена, и требовал, чтобы в честь этого удивительного явления природы мы распили по рюмочке. Полагаю, все это делалось специально, чтобы подольше задержать меня. К вам тут подходил кто-нибудь?
Сердитые детские глаза геолога требовательно смотрели на Рене, врать не хотелось, да, наверное, в этом не было необходимости.
— Да, мы очень мило побеседовали с молодой и очень красивой дамой.
— Она вам угрожала? — нетерпеливо перебил Батейн.
— Нет, — не сразу ответил Хойл, выгадывая время, — за короткие секунды ему нужно было определить линию своего поведения. — Не угрожала. Но она посоветовала мне быть осторожным. И не ночевать сегодня в своей гостинице.
Секунду Батейн смотрел на журналиста, осмысливая сказанное: у него не было легкости и живости мышления, он думал неторопливо, зато обстоятельно.
— Верный совет, — решил он наконец. — Поедем ко мне? У меня такой номер, что, если приспичит, можно разместить и пять человек.
— Спасибо, — мягко ответил Рене, — но у меня есть где остановиться.
— Да? — словно удивился Батейн, и тень раздумья легла на его лицо. Надеюсь, не у Барриса?
— Нет. А почему вы надеетесь?
Батейн почесал кончик носа, как-то нерешительно поглядывая на Хойла.
— Почему? Вы не подумайте ничего плохого, Арт, вообще-то говоря, хороший парень, но, — Батейн замялся, — я совершенно случайно узнал, что он сотрудничает с ЦРУ.
Рене никак не отреагировал на это сообщение, и геолог поспешил добавить:
— Конечно, в этом нет ничего особенного, сейчас большинство людей, помимо основной работы, с кем-нибудь да сотрудничают. Я вот сотрудничал с Вильямом Грейвсом, вы работаете на Невилла, а Арт — на ЦРУ. Ну и что? Просто я подумал, что вам будет полезно узнать это.
— Полезно? Почему?
— Да мало ли почему! Все-таки это ЦРУ, а не профсоюз и не студенческое общество. — Батейн шумно вздохнул и просительно проговорил: — Может быть, мы расстанемся с этим заведением? А?
— Охотно, — согласился Рене и добавил после легкой паузы: — У вас неприятности?
— У меня? — удивился Батейн и рассердился, а когда он сердился, то не совсем внятно произносил слова, точно жевал их. — Это у вас неприятности, а не у меня! Знаете, что мне сказали по телефону? Чтобы я прекратил якшаться с вами, красным ублюдком, продавшимся коммунистам! А то, видите ли, мне будет плохо и завтра вместо Океанографического музея я попаду в госпиталь. Он мне угрожал!
Батейн буквально кипел от ярости, он раздраженно отодвигал от себя тарелки, брал своей ручищей то нож, то вилку и бросал их.
— Я не коммунист, Ник, — устало сказал Рене.
— А если бы и коммунист? Я не вижу в этом ничего плохого! Мне угрожали, понимаете? В этом паршивом княжестве угрожали мне, гражданину Соединенных Штатов! — Батейн выпятил подбородок, нахмурил брови и постарался принять вид величественный и грозный. — Я завтра же еду в посольство! Принять меня за сопливого слюнтяя, которого можно запугать по телефону!
— Успокойтесь, Ник, и не торопитесь. Повремените с визитом в посольство. Давайте прежде встретимся и поговорим. По-моему, беспардонная атака на меня и угрозы в ваш адрес связаны не с коммунистами, а с делом Грейвса.
Батейн застыл в неудобной позе, словно натолкнувшись на невидимое препятствие.
— С делом Грейвса, — повторил он и потер лоб. — Может быть… очень может быть. Знаете, Рене, а ведь мы были в свое время с Вильямом друзьями.
— Как? — изумился Хойл.
— Очень просто. Родство душ, хотя и на фоне потрясающего несходства идеологий. — Он пристально взглянул на журналиста. — Пожалуй, вы правы, надо поговорить. Звоните мне прямо с утра, у меня есть кое-какие мелкие дела, но я постараюсь освободиться.
— Отлично! А сегодня я попрошу вас об одной услуге — подбросьте меня к «Амбассадору».
— Какой может быть разговор!
Помахав на прощание Батейну, Рене вошел в роскошный холл гостиницы и, попросив у портье извинения, набрал телефон триста шестого номера.
— Слушаю, — послышался в трубке голос, от которого у Рене екнуло и забилось сердце.
Все еще не веря себе, Хойл спросил:
— Я не ошибся, это триста шестой номер?
— Не ошибся, сынок, не ошибся. Только без имен и без эмоций. Поднимайся ко мне.
Конечно же, это был дядя Майкл!
Майкл Смит расположился в номере по-домашнему, на нем была видавшая виды, неопределенного цвета любимая пижама и мягкие домашние туфли. На столике (номер был невелик и это был именно столик, а не стол) стояли тарелки с сыром, разрезанным грейпфрутом и сифон с содовой водой.
— Дядя Майкл! Какими судьбами?
— Неисповедимы пути Господни, сынок, — старый детектив улыбался, но его темные, близко посаженные глаза оставались серьезными, они оглядывали, ощупывали Рене, точно взвешивали. — Есть ты, конечно, не хочешь!
— Я прямо из ресторана!
— Знаю, — Смит похлопал его по спине и подтолкнул к столику, — садись. Садись и рассказывай, что случилось за последние дни. А я закончу свой ужин, если только это можно назвать ужином.
— Да, но вы — и вдруг Монте-Карло!
— Это довольно хитрая и любопытная история, — согласился Смит, — но оставим ее на десерт. А сначала поговорим о тебе.
Рене поймал себя на мысли, что Майкл Смит и Батейн чем-то похожи. Высокие, костлявые, неторопливые и обстоятельные. Но было и ощутимое различие между ними, и суть его была вовсе не в возрасте. Батейн, несмотря на свой безусловно высокий интеллект, был раскрепощен, даже разболтан и внешне, и психологически. А у Смита за его обстоятельной неторопливостью угадывалась волевая собранность.
Неспешно управляясь с сыром и грейпфрутом и время от времени отпивая глоток содовой, Смит очень спокойно слушал рассказ Хойла, не выказывая никаких эмоций — ни одобрения, ни порицания, лишь время от времени задавая короткие уточняющие вопросы. Когда Рене передал свой разговор с Анной, детектив пробормотал что-то вроде: «Дамы не могут без фокусов, без того, чтобы не закинуть и личную наживку».
— Анна — ваш человек? — поинтересовался журналист.
— Нет, сынок. Просто Пьер оказал ей в свое время серьезную и деликатную услугу. Ну, и она согласилась нам помочь, не безвозмездно, конечно.
— Она и правда бакалавр искусств?
— Истинная правда. Красивая женщина, я тебя понимаю, но всему свое время. Поехали дальше.
— Один вопрос, дядя Майкл. За мной действительно организована крупная охота?
— Конечно. Иначе зачем бы я приехал сюда?
— Но с какой стати? — вырвалось у журналиста. — За мной?
— Ты бы сам мог догадаться, — усмехнулся детектив и, что было совсем не в его обычаях, подмигнул Рене. — Но не будем терять времени, продолжай.
К удивлению Хойла, Смит очень серьезно отнесся к тем телефонным угрозам, о которых с таким возмущением говорил Батейн. Жестом руки детектив остановил журналиста и, поглаживая рукой свой успевший к ночи обрасти подбородок, глубоко задумался. Подняв глаза и явно продолжая думать о чем-то своем, Смит переспросил:
— Ты хорошо, а лучше сказать, буквально запомнил? Красный ублюдок, продавшийся коммунистам, — так тебя обругали?
— Батейн сказал мне именно так.
— А может быть, он напутал, этот Батейн? Разъярился, рассердился и сгустил краски!
Рене покачал головой:
— Не думаю. Не такой человек Батейн, чтобы нафантазировать. Нет, это было сказано тем, кому такие слова привычны, как вам поридж на первый завтрак. Почему это вас волнует, дядя Майкл? Чушь — она и есть чушь.
— Меня не это беспокоит, сынок, — Смит опять погладил подбородок, впрочем, об этом потом. Продолжай!
Они подошли к финишу почти одновременно: Рене к концу повествования, а Смит к концу скромного ужина. Смит аккуратно вытер губы носовым платком, который заменял ему салфетку, спрятал в холодильник остатки сыра и закурил. Рене нацедил полный стакан содовой, но Смит дал ему сделать всего два глотка.
— Не сразу, Рене, не сразу.
— Почему? Я хочу пить! — удивился журналист.
— Понимаю. Когда целый день употребляешь алкоголь, к ночи обязательно хочется пить. Но вода ледяная, долго ли схватить ангину? А тебе нужно быть в форме: предстоят бои!
— Бои, схватки, сражения и битвы! — Хойл засмеялся. — Надеюсь, с применением лишь обычного оружия?
— Об этом следует спросить Вильяма Грейвса, — хладнокровно ответил детектив, а Рене невольно посерьезнел. — Но ведь до него сначала нужно добраться?!
Откуда-то из-под пижамы Смит извлек вороненый пистолет среднего размера и протянул журналисту.
— Держи, незаряженный. Обращаться с пистолетом умеешь?
Принимая пистолет, Рене с некоторым удивлением взглянул на Смита, но тот не обратил на этот взгляд никакого внимания и преспокойно курил.
— Я вырос в Штатах, — журналист передернул кожух, заглянул в канал ствола, спустил курок, — а кто же там не умеет обращаться с оружием? Обычный пистолет, без всяких новомодных фокусов.
— Специально такой и подбирали.
Взвесив пистолет на ладони, Рене перевел взгляд на детектива:
— Неужели дойдет и до этого, дядя Майкл?
— Почему дойдет? — сердито спросил Смит. — Разве уже не дошло? Разве тебе не тыкали стволом в брюхо?
— Так то мне. — Рене вытащил обойму, пересчитал, на сколько патронов она рассчитана, и снова загнал в рукоятку. — Скажу вам откровенно, дядя Майкл, не по душе мне это. Гангстер я, что ли?
— В нашем свободном мире каждый человек — немножко гангстер. — Смит некоторое время насмешливо разглядывал Хойла, а потом успокоил: — Это на крайний случай. Кроме того, есть один секрет, с которым я хочу сейчас тебя познакомить.
Смит докурил, размял сигарету в пепельнице, чтобы не дымила, и достал из кармана пластмассовую коробочку, на которой был изображен пистолетный патрон и можно было прочитать надпись «Спесиаль».
— А еще что у вас есть? Бомба замедленного действия?
— Нет, бомбы у меня нет, а вот гранатка есть, — сказал Смит, извлекая пластмассовый шарик с грецкий орех величиной, на нем угадывалась та же надпись — «Спесиаль». Взвешивая коробочку с патронами и гранатку на ладони, детектив любовно проговорил: — Наша фирменная продукция. Истинно гуманное оружие, не в пример ядерной бомбе. — Смит аккуратно, двумя пальцами взял шарик, полюбовался им и положил на стол. — Дает вспышку света силой больше миллиона свечей, которая длится всего четырнадцать тысячных секунды. Но этого вполне достаточно, чтобы твои враги на десяток-другой секунд ослепли. Бери их голыми руками или давай деру в зависимости от обстановки! — Детектив снова приподнял шарик. — Перед употреблением взбалтывать: сдвинуть вот эту шторку и нажать кнопочку.
— Прометеев огонь, — вздохнул Рене.
— Вот именно, — спокойно согласился Смит. — Прометеев огонь последней четверти двадцатого века.
Он снова положил шарик и открыл пластмассовую коробочку: в ней в два ряда стояли восемь штук патронов, гильзы у них были необычно длинными, головки пуль едва выглядывали из них.
— Это для твоей обоймы. Снаряжай.
Пока Рене занимался этим нехитрым делом, Смит пояснил, что патроны с секретом, и рассказал, в чем именно состоит этот секрет.
— У них единственный серьезный недостаток: дистанция действительного боя всего три метра. Но действие практически мгновенное, а через десяток минут, что, конечно, очень важно для нашей с тобой пуританской морали, все проходит без следа: хоть под венец, хоть за руль автомобиля. В туалете под полотенцем нательная сбруя с кобурой, в ней найдется место и для гранатки. И помни, с этой минуты снаряженная кобура — такая же необходимая принадлежность твоего туалета, как штаны или туфли. А пока спрячь это хозяйство в карман, привыкай.
Взвешивая пистолет на ладони, Рене философски промолвил:
— И это вместо рыцарского меча и доспехов! — Укладывая оружие в карман, он поднял глаза на Смита. — Как вы не побоялись везти такие штучки через границы и таможенные барьеры?
Детектив досадливо поморщился:
— Не говори глупостей! Я лишь два часа назад взял все это в вокзальной камере хранения.
— Неужели все так серьезно, дядя Майкл?
— Боишься?
Рене повел плечами, чувствуя непривычную тяжесть пистолета на груди.
— Нет, но у меня такое впечатление, что я — это уже не совсем я. И что настоящая жизнь кончилась и началось кино.
— А когда во время демонстрации протеста ты проломил голову здоровенному бобби, это тоже было кино?
— Тоже кино.
— Ну и правильно! — вдруг сказал детектив. — Это нормальное чувство здорового человека. Когда я, видавший виды старик, иду на опасное дело, у меня тоже возникает эдакое киношное ощущение. Но не будем преувеличивать, сынок. Оружие — всего лишь страховка: мне вовсе не улыбается увидеть тебя в больнице или на кладбище только потому, что ты в момент истины оказался с голыми руками. И хватит дамских разговоров.
Смит сказал, что дело Грейвса, долго и неторопливо варившееся, постепенно двигавшееся к разрешению, вдруг накалилось добела и, накалившись, — прояснилось! До недавнего времени конкуренты, претендующие на дело Грейвса, предпочитали выжидать, контролировали друг друга и старались всеми правдами и неправдами получить возможно большую информацию. А теперь началась открытая, рискованная и опасная игра.
— И знаешь, кто виновник такого поворота событий? Ты! — Детектив ткнул Рене пальцем в грудь и, откинувшись на спинку кресла, засмеялся, очень довольный эффектом, который произвело это сообщение.
— Я?!
— Конечно! Люди среднего достатка, споткнувшиеся на пути к финансовому Олимпу, любят афишировать свое равнодушие и даже презрение к деньгам. Но это лишь маска! Другое дело, что она может быть и подсознательной. В нашем мире купли-продажи деньги — это все. Можно посмеиваться над миллиардерами, ругать и чернить их, но эдакий трепет перед их всесилием и вседозволенностью сохраняется у каждого. За последние дни ты вступал в контакты с четырьмя разными, не похожими друг на друга людьми: Хиршем, Баррисом, Батейном и Анной. Скажи, разве хоть один из них так или иначе не интересовался твоим знакомством с семейством Бадервальдов?
Рене призадумался и обнаружил, что дядя Майкл прав. Хирш интересовался этим обстоятельством всерьез. Баррис — вскользь, мимоходом, Батейн подшучивал над ним, но каждый отдал Бадервальдам определенную дань. Разве что Анна не проявила никакой заинтересованности, но, может быть, она не в курсе событий?
— Вот видишь, — резюмировал Смит, выслушав ответ Рене. — Скорее всего и Анна пронюхала об этом, иначе какого черта она бы так напрашивалась на продолжение знакомства?
Детектив пояснил Хойлу, что, поскольку охота за делом Грейвса ведется довольно давно, представители разных фирм и организаций имели возможность нащупать друг друга и либо очно, либо заочно познакомиться. В результате, как это чаще всего и случается в подобных ситуациях, многие агенты начали двойную и тройную игру и на свой страх и риск, и с ведома нанимателей. Вся эта совокупность агентов образовала сложную систему, пронизанную тайными связями и информационными каналами. Сенсационное известие о том, что темной лошадке, скромному журналисту Рене Жюльену Хойлу покровительствует могущественное семейство Бадервальдов, с быстротой телеграфа распространилось и до предела накалило обстановку. Об огласке позаботился, конечно же, и Спенсер Хирш, которому выгодно обострить соперничество и набить цену делу Грейвса. Конкурентам было предельно ясно, что в неторопливой позиционной борьбе Бадервальдов не переиграть. Поэтому они заторопились, пошли на риск, выложили все козыри, которые накапливали и приберегали. Особенно активизировалась террористическая группа, с представителями которой Рене, помимо его воли, пришлось познакомиться. Но активизировавшись, террористы «засветили» себя и позволили разгадать их замыслы и намерения. Выяснились удивительные вещи! Оказывается, именно в эту группу входил в свое время Вильям Грейвс, скорее всего, он и был ее мозговым центром, духовным организатором и вдохновителем. Робер Менье был личным телохранителем Грейвса и сопровождал его при поездках в Габон. Вильям Грейвс не только покинул деловой мир, он скрылся и от своих товарищей-террористов. Почему — об этом можно только гадать, но проделал он эту операцию внезапно и очень ловко! Вместе с ним исчез и один из его ближайших помощников, Нед Шайе. Террористы пришли в ярость. Заклеймив Грейвса отступником и предателем, они поклялись отыскать его, наказать и, несмотря ни на что, заставить довести до конца свои замыслы. И вот что интересно и чрезвычайно важно: судя по всему, Вильям Грейвс вместе с Недом Шайе обосновался где-то в Монако. Скорее всего, он поселился здесь потому, что намеревается принять участие в ликвидации своих финансовых дел, но в интересах безопасности планирует выход на открытую арену лишь в самый последний момент. Судя по всему, террористическая группа каким-то косвенным образом давно держала Грейвса на прицеле, хотя никак не могла выйти на него напрямую. Напрашивается мысль, что террористы уцепились не за Грейвса, а за его друга и помощника Неда Шайе, который вел более открытый образ жизни. Дело в том, что вчера вечером Шайе был похищен и сейчас находится в качестве пленника в местной штаб-квартире террористов. Надо думать, что похищение не дало террористам нужных сведений, потому что вчера же было принято решение о похищении и Рене Хойла. У этих деятелей преувеличенное мнение о его информированности. А потом террористы надеются, что Рене будет хорош и в качестве заложника, обладание которым позволит выставить ряд требований Спенсеру Хиршу: как-никак, Рене Хойл любимец Бадервальдов! И если бы не предусмотрительность старого дяди Майкла, то Рене, вместо того чтобы рассиживаться в кресле и потягивать содовую, получал бы сейчас оплеухи и наркотики, которые развязывают языки.
— Но откуда вам известно все это? — наконец-то решил спросить Рене, ошарашенный потоком сенсационных новостей.
— Джинджер, — не без самодовольства сообщил Смит.
— Джинджер? Не понимаю!
— Тот самый рыжий Боб Лесли, который в свое время не отставал от тебя ни на шаг, — пояснил детектив. — Ты не смотри на его внешнюю простоту и наивность, это один из самых опытных агентов Чарльза Митчела. В деле Грейвса по линии Аттенборо он с самого начала, ты вовсе не первый представитель, которого он сопровождает. Уж какую игру вел Джинджер двойную или тройную, по своей инициативе или с санкции шефов, добровольно или по принуждению — не знаю. Но я сразу понял, что в нынешней ситуации он работает в контакте с террористами. Сценка с автомобильной слежкой, твой «ловкий», ты уж прости меня, сынок, очень наивный уход из-под контроля с помощью наскоро сфабрикованного двойника, был всего лишь комедией, которую разыграли, чтобы ввести в заблуждение тебя, а может быть, и Аттенборо. А Джинджер давно у нас на крючке: помимо своих основных дел, он довольно ловко проворачивал выгодные операции с наркотиками. Честно говоря, я держу эту карту про запас, чтобы при нужде, когда Митчел зарвется, взять его за горло. Вчера Джинджера поставили перед дилеммой: или громкий скандал с перспективой надолго сесть в тюрьму, или полная откровенность по делу Грейвса. Боб Лесли — парень разумный и выбрал последнее.
— А наркотики? — не удержался от вопроса Рене. — Пусть молодежь и дальше травит себя?
Детектив добродушно улыбнулся:
— Нельзя быть таким прямолинейным, Рене. Искусство требует жертв, а всякое серьезное дело нуждается в компромиссах. Не будем отвлекаться, мы подходим к самому главному. — Смит закурил очередную сигарету. — Темные дела предпочитают делать ночью: варфоломеевская ночь, ночь длинных ножей, хрустальная ночь и все такое прочее. У наших террористов сегодня грейвсовская ночь: они решили провести ряд операций, кого-то похитить, кого-то допросить, кого-то запугать, чтобы к утру наверняка выйти на Грейвса и заполучить его. О чем говорит все это?
Хойл задумался.
— О том, — медленно проговорил он, — что силы террористов сегодняшней ночью будут распылены.
— Верно! И грешно было бы не воспользоваться такой благоприятной ситуацией. — Майкл Смит был оживлен и уверен, он чувствовал себя в такой обстановке как рыба в воде. — Резиденция, где содержится Нед Шайе, нам известна, охранять его сегодняшней ночью будут слабо. Поэтому тактика наших действий ясна, как слово Господне: надо проникнуть в резиденцию, выкрасть, а лучше сказать, освободить Шайе и с его помощью выйти на Грейвса.
— И кто же это сделает?
Смит глубоко затянулся табачным дымом.
— Тут-то и начинаются сложности, сынок, — детектив оглядел журналиста. — Лично ты согласен рискнуть?
— Согласен! — с неожиданной даже для него самого решительностью ответил Рене.
Видя, что детектив смотрит на него удивленно и несколько недоверчиво, журналист сказал, что, занимаясь делом Грейвса, он о многом передумал. От того, насколько он будет ловким, мужественным, находчивым, могут измениться судьбы многих миллионов людей, может сместиться русло мировой политики. И Рене дал себе слово разобраться в деле Грейвса до конца, чего бы это ему ни стоило.
— Ты проникся чувством ответственности перед людьми, сынок, резюмировал Смит.
— Пожалуй. И знаете, что послужило причиной? Встреча с Элизой, с девочкой, которую я почти позабыл!
Рене как мог рассказал Смиту о своей необычной встрече. Он не сразу заметил, что детектив слушает его со снисходительной, может быть, даже ироничной улыбкой. Рене обиженно умолк.
— Не сердись, сынок. В молодости не так-то легко разобраться, что движет тебя по дорогам жизни. Элиза — не причина, а повод, спусковой крючок душевного перелома. Ты повзрослел, поумнел, изменились масштабы твоих чувств и желаний. Я это понял еще во время той встречи, которая состоялась в пабе, иначе никогда бы не позволил тебе ввязаться в эту историю. Ты стал похож на своего отца, Рене, а он был мужественный и честный человек. Не в мелочах, тут он мог приврать и обвести вокруг пальца, а по-крупному. Встреча с Элизой только помогла понять тебе, кем ты был и кем стал. Но вернемся к делам, они не ждут. Ты согласен рискнуть, я в этом не сомневался, но это проблемы не решает. Один ты не справишься, а я в это дело ввязаться не могу, — детектив виновато взглянул на Хойла и уже сердито, чтобы ему не противоречили, повторил: — Не могу, и все тут! Я человек старого закала, блюститель порядка, состою на государственной службе и не могу себе позволить лезть во всякие авантюры, даже с самыми благородными намерениями!
— Но в известной мере вы уже ввязались, дядя Майкл! Вы же помогаете мне.
— Помогаю, ну и что? Мало ли кто кому дает советы, рекомендации и оказывает материальную помощь! Это законом не запрещено, я чист перед ним, а мои личные дела — это мои личные дела. — Детектив видел, что Хойла веселит эта двойная бухгалтерия, и рассердился. — Ты еще молод, чтобы должным образом понять эти тонкости. А вот Пьер сразу понял и целиком одобрил линию моего поведения!
— Да я не возражаю, дядя Майкл! — Рене изо всех сил старался быть серьезным.
— Вижу я, как ты не возражаешь, — проворчал Смит и глубоко вздохнул. Как бы то ни было, сынок, мое личное участие в налете на резиденцию террористов исключено. Полицейский представитель дружественного государства, находясь в служебной командировке, совершает налет — бред собачий! Какой же выход? Надо искать помощников на стороне.
Детектив замолчал, испытующе глядя на журналиста.
— Думаю, что Ник Батейн не откажется помочь, — после небольшого колебания заявил Рене.
— Не годится, — отрезал Смит. — Тут нужен человек проверенный и, так сказать, обстрелянный. А что ты знаешь о Батейне, кроме того, что он добрый и честный?
— Где же их взять, обстрелянных?
— Вот именно, — в голосе Смита появились назидательные нотки, — в этом гвоздь вопроса, стратегия операции. И не только в смысле атаки на резиденцию, надо смотреть глубже. Ну, заполучим мы в конце концов Вильяма Грейвса, а дальше? Что с ним делать, куда девать? И с ним самим, и с его информацией? Мы продумали с Пьером много вариантов, — рассказывал Смит, и все забраковали. Забраковали участие частных детективов, бывших полицейских и просто людей отчаянных и случайных, которых Пьер при нужде смог бы подобрать. По ряду обстоятельств, не стоит в них вникать. Отказались мы и от официальных контактов с полицией. Пока отказались.
Смит повел себя несколько странно, вместо того чтобы брать быка за рога, потянулся было за пачкой сигарет, передумал и отбросил ее в сторону, сконфуженно взглянул на Рене и, судя по всему, не знал, как ему лучше продолжить разговор.
— Дядя Майкл, — улыбнулся Рене, — уж не Анну ли вы решили дать мне в помощники?
Смит непонимающе взглянул на Хойла, потом махнул рукой и засмеялся.
— Вот что значит молодость: везде-то вам мерещатся женщины! Нет, сынок, Пьер нашел совсем другой ход. Все дело в том, что Пьер — француз, а каждый француз — вольнодумец.
— В той мере, в какой это не мешает его делам, — уточнил журналист.
— Возможно, и так. — Смит был неожиданно покладист. — И все же французы — вольнодумцы. Это мешает им быть до конца последовательными, лишает их нашей бульдожьей хватки, но в то же время придает им гибкость, нам недоступную. Ты знаешь, например, что французская компартия — одна из самых многочисленных и влиятельных партий страны?
— Кто же этого не знает?
— Да? — задумчиво переспросил Смит. — В принципе-то и я знал, но как-то не отдавал себе отчета в существе этого факта. Пьер говорит, что коммунисты имеют сильнейшее влияние на правительство, в их распоряжении масса средств информации и при нужде они могут поднять на ноги чуть ли не весь рабочий класс Франции.
— Такое уже случалось.
— Но такое невозможно ни в Англии, ни в Штатах! Это и мешает мне, блюстителю англосаксонских порядков, взять и вот так вот с ходу поверить во все эти чудеса. — Детектив пожал плечами и уж как нечто совсем странное сообщил: — Пьер говорит, что глава муниципалитета, в котором он собирается открыть свое кафе, — коммунист. Пьер утверждает, что это добрый и честный человек, к тому же и ветеран войны. Кстати, уж что-что, а по-принципиальному драться коммунисты умеют, тут мне никаких свидетельств не надо, я сам видел.
У Рене начало проясняться в голове. Он мысленно улыбнулся наивности старого служаки и лукаво спросил:
— Сдается мне, дядя Майкл, что вы не случайно так обеспокоились, когда узнали, что меня обвиняют в сговоре с коммунистами. А?
Смит вздохнул, легонько пристукнул ладонями по столу и признался:
— Да, сынок. Уж так получилось, но Майкл Смит, страж королевского трона и ярый приверженец консерваторов, кооперировался с коммунистами. — Рене хотел сказать что-то, но детектив решительно прервал его: — Дай мне высказаться до конца, такое решение для меня вовсе не пустяк; я не хамелеон, который готов сменить убеждения, как только подует другой ветер. Не был я красным и не буду! Но ведь то, что коммунисты, и те, которые в Москве, и те, что живут в других странах, хотят мира и против войны очевидно! Басню о том, что они готовы сожрать Запад, придумали бизнесмены, которым не терпится набить карманы, — уж мне ли не знать об этом! В том, что коммунисты стеной станут против ядерных авантюр и глобального шантажа, я знал и сам. Но Пьер убедил меня в том, что они возьмутся за дело конкретно, отнесутся к Вильяму Грейвсу по справедливости: если нужно помогут, а если потребуется — прижмут и поднимут шум на весь мир. Они могут.
Старый детектив виновато взглянул на журналиста:
— В общем, Пьер меня убедил. И ты уж прости меня, сынок, я действительно втянул тебя в сговор с коммунистами.
Рене покачал головой и засмеялся:
— Вот уж не думал, что вы так старомодны, дядя Майкл.
— Это в каком же смысле? — обиделся Смит.
— Не в детективном, конечно, — в политическом. Почему вы решили, что я против коммунистов? Мы, студенты, охотно сотрудничали с ними, когда боролись против грязной вьетнамской войны. Коммунисты — хорошие ребята, по крайней мере, они знают, чего хотят, и умеют этого добиваться. И в тюрьме, в камере по соседству, сидело двое ребят-коммунистов.
— Небось, негры?
— Один и правда негр, но другой — стопроцентный янки. В общем, меня беспокоит совсем другое, дядя Майкл: не говорит ли звонок к Батейну о том, что террористы пронюхали о нашем контакте с коммунистами?
Детектив благосклонно взглянул на Хойла:
— Мысль верная. Сначала и я обеспокоился: неужели произошла утечка информации? Но, пораскинув мозгами, понял — нет, разговор по телефону стандартная угроза, вот и все. Пронюхали бы террористы о нашей операции на самом деле, они бы никогда не сделали такого хода, наоборот, притаились бы и ждали, чтобы накрыть нас в своей резиденции.
Смит посмотрел на часы:
— Ну, а теперь, сынок, когда все объяснения позади, я тебя спрошу еще раз: согласен ли ты при содействии двух крепких, надежных парней… м-м… экспроприировать у террористов Неда Шайе? Они будут здесь минут через десять-пятнадцать.
— Я уже говорил, согласен.
— Ясно. — Смит критически оглядел журналиста, открыл встроенный шкаф, достал оттуда чемодан и поднял голову. — Да, если зазвонит телефон, сними трубку. Но ничего не говори. Жди пароля!
— Почему я?
— А потому, что меня здесь нет, — хладнокровно пояснил Смит. — Я фикция, фантом. Настоящий Майкл Смит сейчас преспокойно спит в доме своего друга Пьера Доммелье. Мне нужно железное алиби, Рене, телефонный разговор может все испортить.
Пока Смит возился с чемоданом, Хойл подошел к окну и приоткрыл портьеру. Окно выходило во внутренний двор, поэтому Рене не увидел ничего интересного: ряды освещенных и темных окон вверху, внизу, справа и слева.
— Наденешь, — послышался голос Смита.
Рене обернулся и увидел, как тот повесил на спинку кресла толстый шерстяной свитер грубой вязки и джинсовый костюм.
— А это выпьешь.
Смит взял небольшой плоский пузырек с капельницей, отсчитал в стакан пять капель зеленоватой жидкости, разбавил водой из сифона и протянул журналисту. Рене взял стакан, понюхал содержимое, поморщился и выпил одним глотком.
— Теперь приляг на диван и расслабься… впрочем, сначала переоденься.
Отдыхал Рене не больше пяти минут. Зазвонил телефон. Хотя журналист и ждал этого звонка, сердечко у него екнуло. Поднявшись, он покосился на Смита, взял трубку и не удержался от вздоха разочарования. Звонил портье, он интересовался — оставляет ли мсье на завтра за собою номер или нет. Смит, приблизивший свое ухо к телефонной трубке и слышавший вопрос, согласно кивнул. Рене сообщил, что номер он оставляет, положил трубку и спросил:
— Проверка присутствия?
— Не исключено.
— А с чьей стороны?
Детектив ухмыльнулся:
— Это одному Богу известно, сынок.
Укладываясь на диван, Рене с некоторой неприязнью подумал, что дяде Майклу хорошо ухмыляться. Поймав себя на этой мысли, журналист вздохнул. Волнение? Наверняка. А может быть, страх? Нет, страха не было.
Снова зазвонил телефон, теперь Рене отнесся к этому спокойнее. Может быть, вслед за портье звонит горничная или дежурная из бюро обслуживания. Но голос был мужской, не очень уверенный, как будто обладатель опасался, точно ли он попал по адресу? От этой неуверенности Рене почему-то сразу стало легче.
— Я говорю с журналистом?
— Допустим.
— Вам поклон от вашего дяди.
Пароль не был полон, но Смит сделал успокаивающий жест. Рене понял, что имя опущено специально.
— Что дальше?
— Если вы ждете телефонного звонка, выходите на автомобильную стоянку. Серый «ситроен». Я открою дверцу.
Глава 15
Выйдя из отеля, Рене свернул налево, прошел вдоль фасада здания, миновал ресторан и еще раз свернул налево, в переулок. Часть старых домов недавно была снесена, освободившаяся площадь теперь использовалась под стоянку. У серого «ситроена», стоявшего с краю, открылась задняя дверца. Задняя — это добрый знак, если тебя хотят пристукнуть, посадят впереди.
Из открытой дверцы выглянул мужчина и спросил вполголоса:
— Мсье Рене Хойл?
— Он самый.
— Добрый вечер. Мы вас ждем.
«Ситроен» сразу тронулся с места. За рулем сидел еще один человек.
— Надо обговорить ситуацию, мсье Хойл.
— Мы едем на серьезное дело, не до условностей. Поэтому зовите меня просто Рене.
— Меня зовут Жак, я, как и вы, работаю в газете. За рулем Луи, сегодня он мой помощник.
Жак был колоритным мужчиной: атлетическая фигура, худое узкое лицо, большой тонкий нос с выраженной горбинкой. Ни дать ни взять Амундсен в южном, романском варианте или, еще точнее, Жак Ив Кусто в расцвете сил. Странно, что эти люди так похожи: норвежец Амундсен и француз Кусто!
— Итак, Рене, мы отправляемся на опасное дело. Мы почти незнакомы, но должны доверять друг другу. Иначе у нас ничего не выйдет.
— Я понимаю это. И готов к доверию и сотрудничеству.
Приглядываясь к журналисту, Жак одобрительно кивнул и продолжил:
— Прошу рассматривать нас не только как сообщников, но и как представителей прогрессивной французской общественности. Все материалы по делу Грейвса, которые удастся получить, поступят не только в ваше распоряжение, но и в наше.
— Я предупрежден об этом.
— И этими материалами мы распорядимся по своему усмотрению.
— Разумеется. — Рене не сдержал улыбки, его забавляла дотошность француза, нимало не изменявшая ему в такой напряженный момент.
Наверное, Жак понял смысл его улыбки, потому что дружелюбно улыбнулся в ответ.
— И последнее, — проговорил он с некоторым нажимом. — Полагаю, мы должны приложить все усилия, чтобы действовать в рамках законности.
— Разумеется. Но думаю, что без насилия нам не обойтись.
— Верно. Но насилие насилию рознь.
— Бог мой! — вздохнул Рене. — Неужели я похож на гангстера?
Жак засмеялся:
— Нет, не похожи.
Жак все присматривался к журналисту, а Рене, в свою очередь, поглядывал на французского газетчика. По их лицам скользили отблески реклам, уличных фонарей и встречных, теперь довольно редких автомобилей. Луи был опытным шофером, он вел машину на большой скорости, но эта скорость почти не ощущалась.
— У вас есть вопросы ко мне? — спросил Жак.
— Есть. — Рене помолчал, собираясь с мыслями. — Я в деле Грейвса замешан крепко, отступать мне некуда. А вы? Почему вы идете на риск?
— Потому что я ненавижу, — сказал Жак, — войну и фашизм, который без войны и существовать не может. Не только тот, старый фашизм, что подох и гниет в земле, но и новейший, разодевшийся так, что его и не узнаешь сразу. — Он помолчал, глядя не вереницу огней за окном. — У нас есть сведения, что Грейвс собирается стереть с лица земли Габон, расшатать и расколоть его гранитную платформу каким-то чудовищным взрывом и залить потоком раскаленной лавы. Могут пострадать и соседние страны, а может быть, и вся центральная Африка. Речь идет о жизни десятков и даже сотен миллионов людей!
— Внимание! — негромко предупредил шофер. — Мы подъезжаем к резиденции.
Вилла террористов находилась в районе набережной, неподалеку от яхт-клуба. Луи сбросил скорость и ехал довольно медленно, но виллу все-таки проскочил, опознав ее лишь в самый последний момент. Пришлось развернуться и снова проехать мимо нее, теперь уже по противоположной стороне улицы, хотя болтаться вот так, туда-сюда, на глазах у возможных наблюдателей было совсем ни к чему.
Стоянку для «ситроена» нашли не без труда — она должна была располагаться не слишком близко к вилле, чтобы не вызвать подозрений, и не слишком далеко — на случай, если придется спешно удирать.
Темным узким переулком — Рене и в голову не приходило, что здесь могут быть такие, — Жак вывел группу к забору, а потом и к самому дому с торцовой стороны. Виллу тщательно обследовали и выяснили, что снаружи здание не охраняется.
Со стороны фасада здание было темным, лишь возле внушительных дверей тускло светились узкие длинные окна — одно по левую, другое по правую сторону. С тыльной стороны здания были освещены четыре окна, три больших и одно обычных размеров, все они были задернуты плотными портьерами. У крайнего правого окна фрамуга была открыта, а портьера, чтобы обеспечить приток свежего воздуха, частично сдвинута. Свет, который лился в сад через эту щель, был не очень ярок и имел странный багровый оттенок. Судя по всему, освещенные окна выходили из одного большого зала, видимо, именно здесь находились террористы, а может быть, и похищенный Нед Шайе. Заглянуть в окна не удалось, они располагались слишком высоко от земли.
— Как быть? — вслух подумал Рене.
— А деревья на что? — спросил немногословный Луи.
— Это мысль, — согласился Жак. — Но я пас, Бог не обидел силой, но забыл наделить ловкостью.
На дерево напротив открытой фрамуги вызвался забраться Луи: он был невысок, но ладно и крепко сбит, напоминал фигурой акробата или гимнаста. Жак остался на дежурстве перед окнами, а Рене, чтобы не терять времени, решил еще раз обойти вокруг здания. Все двери, ведущие в здание, парадная и две торцовых — оказались запертыми на массивные внутренние замки. Рене осторожно заглянул в одно из узких окон возле парадных дверей. Оно вело в полуосвещенный вестибюль. Рене довольно долго приглядывался, пока не рассмотрел, что в глубине его, скорее всего возле двери, ведущей во внутренние помещения, сидит, преспокойно развалившись в кресле, здоровенный парень и курит. К подлокотнику его кресла был прислонен короткий автомат — «стэн» или «шмайссер». Сердце екнуло и от радости и от волнения, которое, прямо скажем, было похоже и на испуг. Вооруженная охрана! Значит, есть кого охранять и… есть шанс заработать несколько пуль из этого скорострельного оружия.
Луи слез с дерева очень возбужденный.
— Шайе здесь!
— Ты в этом уверен? — усомнился обстоятельный Жак.
— Он! Если верить фотографиям, которые мы получили, — он, точно!
Описывая обстановку, Луи, утратив свое обычное хладнокровие, извергал фразы с чисто французской экспансивностью и быстротой, так что Рене пришлось напрячься, чтобы не терять понимания. Луи сообщил, что все окна выходят из длинного центрального зала. В передней части зала, где расположено окно с открытой фрамугой, находится жарко растопленный камин, а возле камина в кресле сидит Нед Шайе. Кресло какой-то особой конструкции, вроде электрического стула, к нему специальными ремнями можно намертво пристегнуть человека. Но Шайе пока не пристегнут, просто сидит, а ремни болтаются. Возле него четверо террористов. Судя по всему, Шайе допрашивают пока добром, хотя и припугивают: неподалеку стоит столик на колесиках, на нем ампулы, шприц, какие-то блестящие медицинские инструменты. К каминной решетке прислонены два металлических прута в палец толщиной с деревянными рукоятками; концы их погружены в горящие угли и раскалены докрасна. Выслушав все это, Рене невесело усмехнулся; допрос готовился в духе неофашистов и разного рода крайних экстремистов: этакое мрачное средневековое действо под современным гарниром.
— Четверо, — раздельно проговорил Жак, — к тому же вооружены. Четверо это много.
Луи взглянул на него с некоторым удивлением: увлеченный наблюдениями, он все еще не отдавал себе отчета в сложившейся ситуации. Теперь его лицо постепенно приобретало унылое выражение.
— Может быть, как-то выманить их оттуда? — неуверенно предложил он.
— А молодчик со стэном? — возразил Жак и коротко передал Луи результаты проведенного Хойлом обследования.
— Да, — обескуражено протянул Луи и почесал свою круглую коротко остриженную голову. — Может быть, все-таки сообщить в полицию?
— Долго, шумно, в полиции у них могут быть свои люди. К тому же, почувствовав, что пахнет жареным, они скорее всего попросту прикончат Шайе, — сухо возразил Жак и с легкой, но уловимой насмешкой обратился к журналисту: — Вы-то почему молчите, мистер журналист?
Несомненно, он думал, что Хойл испугался, и, если честно говорить, определенные основания для этого у него были. Рене действительно было страшновато, но как это ни странно, боялся он не террористов, а того плана, который родился у него в голове и просился на язык. Оставалось решиться, а решиться было потруднее, чем прыгнуть в ледяную воду. Рене вздохнул и улыбнулся Жаку.
— А если я попробую их обезвредить?
— Всех четверых? Сразу или поодиночке? — с угрюмой иронией полюбопытствовал Жак.
— Всех четверых и сразу, — спокойно ответил Рене, он достал из кобуры круглую гранатку, из кармана пистолет и показал это товарищам.
— Не пойдет! Мы не бандиты, — резко бросил Жак.
— Не торопитесь. — Рене неторопливо, что успокаивало ему нервы, объяснил свойства этого оружия и изложил свой план. Жак слушал сначала недоверчиво, потом заинтересованно, Луи же сразу увлекся замыслом журналиста.
— С такими-то козырями да пасовать? Надо рискнуть!
— А молодчик со стэном? — напомнил предусмотрительный Жак.
Луи задумался лишь на мгновение.
— Ставлю десять против одного, что дверь в зал заперта изнутри, уверенно заявил он. — Эти типы никогда не доверяют друг другу до конца, дверь — понадежнее охранника!
— В конце концов, хватит патрона и на охранника, — добавил Рене.
Жак развел руками:
— Что ж, мне остается лишь присоединиться к мнению большинства.
Жак еще раз оглядел здание, задержался взглядом на окне небольших размеров, которое примыкало к трем большим, с зеркальными стеклами, подошел к нему вплотную и тщательно осмотрел теперь уже с близкого расстояния. Это окошко было полностью завешено портьерой, находилось оно в противоположном от камина конце зала.
— Луи, — шепотом обратился он к шоферу, — сможешь открыть его без шума?
Луи, не торопясь, оглядел окно и солидно ответил:
— Надо посмотреть.
Жак жестом подозвал Рене, вдвоем они легко подсадили Луи и придерживали, пока он вел осмотр. Спрыгнув на землю, Луи сказал, что такое окно и мальчишка откроет без шума. Но если в зале находятся не дураки, а они вряд ли дураки в таких делах, то сразу догадаются, что окно открылось: оно открывается внутрь, а поэтому створка упрется в портьеру и приподнимет ее. Да и ветерком потянет — не лето!
— Черт с ним, пусть тянет! — весело сказал Жак.
Эта веселость задела Рене: ему подумалось, что если бы напрямую схватиться с террористами предстояло самому Жаку, то он вряд ли бы так веселился. Жак повел в его сторону своим амундсеновским носом и спросил с усмешкой:
— Не передумал, мистер журналист?
— Нет, не передумал, — сухо ответил Рене.
— Тогда давайте мне ваш изумительный пистолет и все остальное.
Рене удивленно приподнял брови, а Жак улыбнулся:
— Вы думали, я отправлю вас на съедение к этим волкодавам? Как бы не так! Я пойду туда сам, с вашим оружием.
— Но почему вы? Почему не я?
— Потому что мы во Франции, а не в Канаде, — мягко ответил Жак.
— Допустим, это не Франция, а Монако!
— Монако — та же Франция!
— Браво, камарад! — вполголоса одобрил Луи.
— Да и какой у вас боевой опыт? Наверное, никакого! И потом, стрелять по фазанам — это совсем не то, что стрелять по тарелочкам. У вас уроки боевого каратэ, а за моими плечами полтора года Алжира. — И уже с ноткой приказа в голосе Жак добавил: — Ваше оружие, Рене!
Журналист повиновался. Жак внимательно выслушал его инструкции, а потом распределил роли.
Бесшумно вырезав часть оконного стекла, Луи приподнял шпингалет и чуть приоткрыл створку окна, стараясь, чтобы она не надавила на портьеру. Потом помог забраться на подоконник товарищам и, пожелав успеха, спрыгнул на землю. Занимая удобную позицию, Жак приобнял журналиста за плечи и шепотом посоветовал:
— Не суйтесь в драку! Только помешаете. В критической ситуации палите поверх голов.
Резким движением Жак распахнул створку окна, откинул портьеру и мягко спрыгнул на пол. Рене проскользнул вслед за ним и, оставаясь на подоконнике, придержал портьеру, чтобы наблюдать за происходящим.
Танцуя на широко расставленных ногах, покачивая и играя корпусом, Жак быстро продвигался к группе террористов. Он двигался точно так, как учил передвигаться Билл в ситуации, когда противник держит тебя на мушке пистолета. А Жак и в самом деле был на мушке. Хотя террористы, стоявшие возле камина, были, судя по всему, ошарашены неожиданностью и находились в известном замешательстве, один из них, атлетически сложенный парень, успел сориентироваться и теперь целился в Жака, водя дулом пистолета вслед за его танцующей фигурой. «Сейчас он выстрелит!» — вдруг понял Рене, и сердце его сжалось. Выстрел! Мимо! Так и должно быть, если верить Биллу. Пистолет — не винтовка с оптическим прицелом, а танцующая человеческая фигура — не мертвая мишень с черным яблочком. Это лишь в вестернах из пистолета бьют без промаха по любым целям. Еще выстрел! И опять мимо! Но теперь на Жака было направлено уже четыре ствола. Рене вскинул пистолет, чтобы выстрелом отвлечь внимание террористов, но в этот самый момент Жак гибким движением левой руки метнул гранатку и, прикрыв глаза рукой, метнулся к стене. Рене закрылся портьерой, но даже сквозь плотную ткань различил ослепительную вспышку света, сопровождаемую довольно сильным взрывом, похожим на ружейный выстрел. В тот же миг со звоном разлетелось толстое зеркальное стекло. Выстрелы загремели один за другим, как в тире, Рене, уже не таясь, откинул портьеру и спрыгнул на паркет. На сердце у него отлегло: террористы палили вслепую по тому месту, где Жак находился секунду назад. А он мягко, как кошка, пробежал вдоль стены и с расстояния трех-четырех шагов, почти в упор принялся стрелять с таким расчетом, чтобы струя сильнодействующего снотворного, которым плевался пистолет, попадала террористам прямо в лица. Террористы судорожно, точно захлебываясь, вздыхали и, роняя из слабеющих пальцев тяжелые автоматические пистолеты, послушно опускались на пол. Пересекая зал, Рене все время поглядывал на дверь: ведь каждое мгновение она могла распахнуться и открыть дорогу плотному вееру пуль. Лишь заметив, что на двери прострочилась цепочка выщербинок, Рене успокоился — дверь была заперта изнутри. Недоверие господ по отношению к плебею-охраннику обернулось против них самих. Стэн был не опасен, его легкие пули не могли пробить дубовую дверь, а лишь скалывали краску и лак с ее внутренней стороны. Жак стоял среди лежащих в самых причудливых позах людей и все пытался спрятать пистолет в карман, но рука его крупно дрожала, и эта немудрящая операция ему никак не удавалась. Встретившись взглядом с Хойлом, Жак через силу, хмуро усмехнулся, передохнул и уже подчеркнуто спокойным, замедленным движением спрятал пистолет.
— Финита ля комедия! — пробормотал он, оглядываясь вокруг.
— Надо спешить, Жак, — сказал Рене и только теперь заметил, что кресло, в котором раньше сидел сотрудник Грейвса, пусто. — А где Шайе?
— Здесь, — все так же хмуро проговорил Жак и поднял из кресла маленького худенького человека.
— Кто вы? — спросил он, усиленно моргая глазами. — Я плохо вижу!
— Мы ваши друзья, — успокоительно ответил Жак, подталкивая Шайе к окну. — Возьмите себя в руки. Мужчина вы, в конце концов, или нет? Нужно торопиться!
Шайе упирался, пытался вырвать руку, за которую его держал Жак, но противиться такому силачу не мог.
— Меня вовсе не радует перспектива попасть от одних бандитов к другим! — зло сказал маленький человек.
— Говорю же, мы друзья! — Жак начал терять терпение.
И тут Рене, если можно так выразиться, осенило.
— Имя Николаса Батейна вам что-нибудь говорит? — спросил он.
Шайе обмяк.
— Батейн, — прошептал он и обеими руками схватился за раму разбитого окна. — Бога ради, бежим! Скорее бежим отсюда! Скорее! Иначе будет поздно. Поздно!
Глава 16
Свежий воздух благотворно подействовал на Неда Шайе, и до самой автомашины он держался молодцом. Но когда его стали усаживать на заднее сиденье, потерял сознание. Жак едва успел подхватить его. Рене помог ему. Луи уже давно запустил мотор, и как только за Жаком захлопнулась дверца, он тронул машину с места.
Шайе доставили в уединенный коттедж на окраине города, окруженный небольшим садом. Низкие решетчатые ворота всего в какой-нибудь метр высоты открыл высокий худой старик с пышной копной белых как снег седых волос. Его ничуть не удивило, что к нему за полночь вносят бесчувственного человека, во всяком случае, на его лице не отразилось ни удивления, ни беспокойства.
— Жив? — лишь негромко спросил он.
— Жив, — ответил Жак. — Но спит как убитый. После обморока.
Шайе удобно разместили на диване, сняли с него туфли, расстегнули рубашку. Луи многозначительно показал на следы глубоких ожогов на его плечах около шеи. Рене с содроганием вспомнил о металлических прутьях, которые калились на пылающих углях. Вошел старик. И он заметил ожоги, но его худое дубленое лицо сохранило бесстрастность.
— Все спит? — спросил он. — Не нравится мне этот сон. Может быть, разбудить его?
Луи, переглянувшись с товарищами, попробовал это сделать. Но ни оклики, ни похлопывания по щекам не возымели действия. Луи ловко закатал рукав рубашки Шайе, приподнял безвольную руку и многозначительно показал на темные точки, видневшиеся на внутренней части локтевого сгиба.
— Все ясно, — безапелляционно сказал он, — чтобы развязать язык, ему кололи какую-то гадость вроде пентатола. Пентатол обезволивает человека и погружает в глубокий сон. И вот когда такой, — Луи кивком головы показал на Шайе, — начинает засыпать, на самой границе сна начинают задавать вопросы — ласково, нежно. И чаще всего человек выкладывает все свои тайны, как на исповеди. Но многого он сказать не успевает — засыпает. Ему дают поспать, а потом колют стимулятор. Когда человек только-только начинает просыпаться, допрос продолжают. И ведь как бывает: выболтает человек, что не положено, а уже через пять минут плачет и ругает себя последними словами!
— Да, — вдруг бесстрастно подтвердил старик. — Некоторые барбитураты действуют именно так. И этим пользуются. Не надо будить его. Пусть отоспится, бедняга. В таких случаях сон — самое лучшее лекарство. Протянув руку, он указал пальцем на столик в дальнем углу комнаты. Телефон. До сегодняшней ночи не прослушивался. — Двигаясь с некоторым трудом, точно деревянный, подошел к двери и приоткрыл ее. — Кухня и туалет. В холодильнике сыр, мясо, молоко. Хлеб и вино — на столе. В туалете — аптечка. — Повернулся, показал рукой на другую дверь. — Там кровать и диван, можете отдыхать. — Помолчал, оглядел всех внимательно, неулыбчивыми глазами, с неожиданной мягкостью пожелал: — Доброй ночи, камарад.
Присутствие старика странно сковывало всех, хотя сразу было понятно, что его суровость всего лишь маска, которую он привык носить. После его ухода французы, да отчасти и Рене, оживились, если только это слово уместно в подобной ситуации. Приводя в порядок себя, свои костюмы и закусывая, они перебирали вполголоса детали операции, подтрунивали друг над другом и тихонько посмеивались. Французы пили сухое вино домашнего изготовления, наливая его в стаканы из большой оплетенной бутылки, Рене ограничился молоком, вино он только попробовал. Жак, который как-то незаметно и естественно взял на себя функции старшего, время от времени вставал из-за стола и заглядывал в гостиную — посмотреть, как и что с Шайе. Ученый спокойно спал, только переменил позу.
Луи вызвался первым дежурить возле Шайе, но Жак возразил: куда и как придется ехать утром — неизвестно, шофер обязан быть в форме, а поэтому ему следует хорошо выспаться. Луи спорить не стал, не стал спорить и Рене, когда Жак взял на себя первое дежурство. Луи улегся на кровать, Рене на диван. Спать как будто бы не хотелось, но это состояние было обманчивым, не прошло и пяти минут, как Рене провалился в глубокий сон.
Жак разбудил Рене на рассвете, когда первые лучи восходящего солнца легли на вершины деревьев.
— Как Шайе?
— Спит еще покрепче вашего. Он снова перевернулся на спину, и я смазал ему раны тетрациклиновой мазью. Надеюсь, не повредит?
Рене сладко потянулся:
— Не думаю.
С завистью глядя на него, Жак ткнул его пальцем в живот:
— Поднимайтесь! А я хоть часок вздремну.
Но вздремнуть ему не пришлось. Когда Рене, сполоснув лицо холодной водой, присел на стул возле дивана, ему показалось, что Шайе не спит. Хойл затаил дыхание и присмотрелся: поза Шайе была расслаблена, как и прежде, дыхание было ровным и глубоким, но веки закрытых глаз чуть-чуть подрагивали. Может быть, он не спал уже давно, но Жак не заметил его осторожного пробуждения. Шайе притворялся, стало быть, он по-прежнему не доверял своим спасителям и при случае надеялся удрать. Рене сделал знак Жаку, который, позевывая, лениво расстегивал куртку, и склонился к лежащему.
— Мсье Шайе! Вы ведь не спите. И уже утро!
Шайе открыл глаза, мельком взглянул на Рене и скосил глаза на окно.
— Да, уже утро, — встревоженно прошептал он и приподнялся на локте, теперь уже испытующе вглядываясь в лицо журналиста. — Кто вы?
— Ваши друзья, — улыбнулся Рене.
— Я это слышал, — нетерпеливо, даже раздраженно обронил Шайе, садясь на диван, и требовательно повторил: — Кто вы?
— Начнем с того, что для вашего освобождения я рисковал жизнью, — в свою очередь раздражаясь, сказал Хойл.
Шайе на секунду задумался.
— Это правда, — виновато согласился он и упрямо добавил: — Тем не менее, этого недостаточно.
— Мы расследуем дело Грейвса, — уверенно вмешался в разговор Жак. — Не из праздного любопытства, не по указанию частных фирм или отдельных лиц, а в интересах французской и мировой общественности. Мы не намерены причинять вред Вильяму Грейвсу, как не причинили его вам. Но у нас есть сведения, что у Грейвса имеется некое страшное оружие, которым он может распоряжаться по собственному произволу. Если это правда, надо оповестить людей Земли и принять меры, чтобы отвести грозящую им беду.
Видно было, что слова Жака произвели на Шайе сильное впечатление, более того, испугали его; он побледнел, на его смуглом лбу выступили крохотные бисеринки пота. Однако же, хмуря брови, он продолжал требовательно смотреть в глаза Жака.
— Но где гарантии, что это правда? Хотя… Мы не можем ждать! Может случиться большая беда! — Его блуждающий взгляд остановился на Хойле и загорелся надеждой. — Послушайте, вы говорили о Николасе Батейне, он здесь?
— Да, он командирован в Океанографический музей.
— Вы можете связать меня с ним?
Рене на мгновение задумался.
— Телефон вас устроит? Номер Батейна у меня есть.
— Прошу вас, не медлите!
Волнение ученого было столь неподдельным, что невольно передалось окружающим. Пока журналист набирал номер, Жак привел в порядок свой костюм и разбудил Луи. Телефонная трубка прогудела раз шесть, прежде чем в ней послышался недовольный, хриплый и заспанный голос Батейна.
— Это Рене Хойл беспокоит вас в такую рань.
— А-а! — голос Батейна определенно подобрел. — Доброе утро! Что там стряслось?
— С вами хочет поговорить Нед Шайе.
— Шайе?
— Друг и сподвижник Вильяма Грейвса. — Произнося эту фразу, Рене с некоторым запоздалым беспокойством подумал, что телефон Батейна может прослушиваться. Но тут же отбросил эту тревогу, интуитивно почувствовав, что теперь это уже не имеет большого значения: стремительно разворачивалась какая-то новая игра, о масштабах которой можно было лишь догадываться.
— Нед Шайе? — удивился между тем Батейн. — Он у вас? Какими судьбами? Впрочем, во-первых, это не существенно, а во-вторых, я догадываюсь. Дайте ему трубку.
Рене зажал микрофон ладонью, рука Шайе так жадно тянулась к трубке, что журналист вынужден был взглядом остановить его.
— Терпение, мсье. Я хочу предупредить вас, что Батейн знает лишь меня, Жак и Луи с ним незнакомы. И прошу вас, никаких адресов и тому подобное.
— Я давно не мальчик! — Шайе почти вырвал трубку из рук Хойла, но заговорил почти весело, с улыбкой — крепкая воля была у этого маленького смуглого человека. — Ник, это вы?.. Да-да, собственной персоной…
Между ними завязался оживленный разговор, и Рене опять поразился выдержке ученого: в ходе праздной болтовни Шайе ловко вставил два-три вопроса, которые помогли ему убедиться, что говорит он именно с Батейном, а не с подставным лицом. Очевидно, ответы удовлетворили его, потому что лицо Шайе вдруг потеряло деланную оживленность.
— Ник, вы можете подтвердить личность журналиста Рене Жюльена Хойла? Это очень важно!
Шайе покивал головой и перебил:
— Простите, Ник, а вы бы не удивились, если бы узнали, что он сотрудничает с коммунистами?
Неизвестно, что ответил ему Батейн, но по губам ученого скользнула бледная мимолетная улыбка.
— Понял. Простите, что перебиваю. Ник. Убедительно прошу, никуда не отлучайтесь из номера и ждите моего звонка. Дело очень серьезное, и вы можете понадобиться. Да-да, ждите. Но при первых признаках землетрясения срочно бегите из гостиницы и выбирайте открытое место — подальше от крупных зданий.
У Луи вытянулось лицо, он многозначительно присвистнул, Рене и Жак тревожно переглянулись.
— Я объясню потом. Ник… Да, это ужасно, но что можно поделать? Помните, при первых признаках!
Шайе положил трубку, глубоко вздохнул, на секунду прикрыл глаза и спросил:
— Машина у вас есть?
— Есть, — ответил Жак, — но, может быть, проще воспользоваться телефоном?
— У Грейвса давно отключены все телефоны.
Этот ответ сразу снял с повестки дня другие вопросы и до предела ускорил события. Уже в летящей по улице автомашине Рене спросил:
— Грейвс может взорвать бомбу?
— Может, — тихо ответил ученый, мысленно он был уже далеко, в доме своего друга и сподвижника.
— Апейронная бомба? В каком районе? Может быть, есть смысл предупредить полицию?
— Да нет никакой апейронной бомбы! — с тоской ответил Шайе. — Но в далеком Габоне, в Окло, есть целое устройство, размещенное в глубокой шахте. И если Вильям заставит его сработать, произойдет глобальная катастрофа!
Жак, сидевший теперь рядом с шофером, обернулся:
— Какого тогда черта вы волынили и теряли время?
— Откуда я знал, что это не очередная ловушка террористов, которые только и мечтают о том, чтобы наложить лапы на кодовую радиостанцию Грейвса? — с не меньшей экспрессией ответил Шайе.
— Он прав, Жак, — тихонько проговорил Луи.
Рене заставил себя помолчать, чтобы успокоиться и сосредоточиться.
— Как велика вероятность катастрофы? — спросил он после паузы.
— Пятьдесят на пятьдесят.
— Чет-нечет, — невесело прокомментировал Луи.
Жак снова обернулся:
— Почему вы решили, что взрыв может произойти сегодня утром?
— В состоянии депрессии у Вильяма было несколько попыток произвести взрыв. Он типичный гипоманьяк, если это вам о чем-нибудь говорит. — Шайе потер себе лоб. — У людей такого типа депрессия катастрофична, особенно когда они остаются в одиночестве. А Вильям сейчас один, его старый слуга не в счет. Мания наказать мир охватывает его обычно утром, сразу после пробуждения. Он ведь сова.
Луи на секунду обернулся назад, а Жак переспросил:
— Сова?
Шайе с некоторым сожалением пожал плечами, а Рене, обидевшись за товарищей и стремясь восстановить реноме, пояснил:
— Совы — это люди, которые за полночь ложатся спать и поздно встают. В противоположность жаворонкам, которые просыпаются вместе с зарей.
— Дело не только в этом, — перебил Шайе. — У людей-сов утро — самое угнетенное, депрессивное время. Если говорить об отчаявшихся гипоманьяках, то это время мрачных раздумий и неожиданно легких, роковых решений.
— Вы надеетесь, что Вильям Грейвс еще не проснулся, — рассудительно заметил практичный Луи.
— Нет, — раздраженно бросил ему Шайе, — он уже проснулся. Я надеюсь, что он еще пьет чай. Вильям принимает решения после утреннего чая. Прошу вас, побыстрее!
— Если мы врежемся во встречную машину или перевернемся, то и вовсе не поможем делу, — мрачновато заметил Луи, виртуозно вводя машину в очередной крутой поворот. — Хорошо, что еще утро.
— Хорошо, — вздохнул Жак не без иронии.
— А что произойдет, если Грейвс все-таки приведет в действие свое взрывное устройство в Габоне? — осторожно спросил Хойл.
Воцарилась тишина, нарушаемая ровным гулом двигателей, работающих на полных оборотах. Две пары глаз с напряженным ожиданием смотрели на ученого, Луи не отрывал взгляда от дороги, но вся его поза выражала внимание к гласу судьбы.
— Катастрофа в Африке, активизация всех сейсмических зон и вулканических цепей планеты, разрушительные землетрясения в глобальном масштабе, гибель многих тысяч городов и сотен миллионов людей, — после долгой паузы негромко проговорил Шайе.
— Как вы допустили? — нервно спросил Жак.
— Никто не знает, где находится кодовая радиостанция, хотя Вильям не раз говорил, что может подать сигнал в любой момент. Я жил рядом с Грейвсом не только потому, что он мой друг, но и потому, что хотел предупредить катастрофу. Я много раз пытался выяснить местонахождение радиостанции, но и мне не повезло, — сухо ответил ученый.
— А может быть, Грейвс ошибся в расчетах и никакой катастрофы не будет? — предположил Луи.
— Может быть. Но вам легче от этого «может быть»? — ядовито спросил Шайе.
Луи промолчал, а Жак ответил:
— Легче, но не очень. Что скажете вы, Рене?
— Надо надеяться на лучшее. На то, что Грейвс еще пьет свой утренний чай.
— Верно, ведь Грейвс — сова.
— Никогда не любил сов, — буркнул Луи, — а теперь преисполняюсь к ним уважением. Как хорошо, что они поздно встают!
— Помолчите, Бога ради! — взорвался Шайе.
— Молчу. Куда теперь?
— Налево. Уже близко.
— Вы верите в Бога? — с нервным смехом спросил Жак у Рене. — Может быть, стоит помолиться?
— Не верю.
— А я верю, — зло сказал Шайе, — но молиться бесполезно. Надо надеяться на то, что Вильям еще пьет свой утренний чай.
Рене начал терять нить реальности происходящего. А, впрочем, действительно, сон или сказка — не все ли равно? Надо ждать, терпеть и надеяться.
А надеяться было не на что. Вильям Грейвс в этот день проснулся необычно рано, успел покончить с утренним чаем и теперь в глубоком раздумье сидел за пультом кодовой радиостанции.
Глава 17
Вильям Грейвс проснулся сразу, как будто ангел-хранитель коснулся его своей нежной рукой. Проснулся с ощущением особой чистоты, особенной ясности сознания. Грейвс знал, что в такие благословенные минуты мощь его мозга беспредельна. Одним могучим усилием воли он мог представить и понять все, что происходит во Вселенной от почти мгновенных суматошных процессов в недрах крошек-атомов до неторопливых, грандиозных актов отделения новых звезд от чудовищной массы центрального галактического ядра. Грейвс верил, что вместе со вздохами ветра, чуть волнующего оконную занавеску, в комнату проникают отголоски вздохов страждущей, мучающейся Земли. В шуме пролетевшего самолета угадывался грозный отзвук далеких землетрясений, актов творения небесных гор и адских провалов. Струи солнечных лучей, рассыпающиеся брызгами света на хрустальной вазе, несли с собой незримый другим людям, но чувствительный для Грейвса груз трепетных и неистовых ядерных реакций, рождающихся в тучно-раскаленной утробе великого Солнца. А разве, если легонько напрячь воображение, в переливчатом щебете птиц нельзя различить голоса далеких инозвездных цивилизаций? Их восторги и радости, их стоны и жалобы, их отчаянные безответные призывы о помощи, их угрозы и проклятия в адрес агрессивных соперников! Грейвс любил это вдохновенное состояние ясности мышления и верил в его сокрушительную мощь. Он не знал, а если бы и знал, то никогда бы не поверил, что это божественное состояние с гораздо большим основанием можно было бы назвать ясностью безумия…
В этот памятный день озарение Грейвса недолго носило созерцательный характер. Через открытое окно донесся пронзительный звук стыда и скорби, Грейвс не знал даже, что это было: крик человека, визг собаки или надсадный скрип тормозов. Дело было не в источнике, а в самом характере звука, и Грейвс вдруг понял, что сегодняшний день — это день страшного суда, день светопреставления. С этого момента мысль о светопреставлении уже не оставляла его. Грейвс думал об этом во время своего обычного утреннего туалета, думал, когда надевал просторный домашний костюм. Во внутреннем кармане куртки, как и всегда, лежал маленький и надежный пистолет восьмимиллиметрового калибра. Пуля, выпущенная из такого пистолета, делает свыше двух тысяч оборотов в секунду! Она пострашнее разрывной: действует как раскаленное добела сверло, оставляя рваные раны с переломанными и сожженными тканями. Дьявольская игрушка дьявольского мира! Зачем она ему теперь? Взвесив пистолет на ладони, Грейвс все-таки вернул его в карман: надо быть предусмотрительным до самого взрыва, который накажет заблудшее в грехах человечество.
Грейвс продолжал размышлять о неминуемо наступающем Судном Дне и за утренним чаем. Он придерживался английских обычаев и по утрам всегда пил «толстый» чай — крепкую заварку со сливками и съедал одну-две гренки со свежим маслом. Предельная, звонкая ясность мысли и убежденность в своей правоте не покидали его ни на мгновение. Бог испепелил небесным огнем Содом и Гоморру в наказание за распутство и другие тяжкие грехи. Бог! Если Бог и существует, разве он в состоянии лично вмешиваться в судьбы бесчисленного множества обитаемых миров? Нет! Властный и нетленный дух, управляющий миром, избирает отдельных лиц и вселяется в них, наделяя даром ясновидения и пророчества. Не Бог, конечно же, не Бог, а просветленный духом сын человеческий изобретенным им страшным и благородным оружием спалил погрязшие во грехе города. И это послужило суровым уроком оставшимся в живых. Горе непослушным! Имя грозного разрушителя Содома и Гоморры не сохранилось в людской памяти. Зато другой сын человеческий, которого по заблуждению называют сыном Божьим, принесший в мир любовь и милосердие, известен и славен поныне. Иисус Христос! Справедливо ли это? Разве возможна любовь без ненависти, а милосердие без насилия? Железная рука несокрушимой власти так же нужна людям, как и сладкая нега полной свободы, Жизнь — это и благо и горе, и мука и наслаждение. А счастье, как феникс из пепла, рождается из пламени схватки противоположностей. Разве справедливо, что Иисус Христос на пьедестале вечной памяти, а разрушитель Содома и Гоморры позабыт? Помнят же люди Герострата, который во имя личного бессмертия сжег храм Артемиды Эфесской! Он, Вильям Джордж Грейвс, станет Геростратом двадцатого века, а его божьим храмом, подлежащим наказанию, избрана Африка. Бедная, несчастная, истерзанная, мучительно поднимающаяся с колен Африка! Ему искренне жаль ее, как, видимо, и Герострату было жаль прекрасное творение рук человеческих. Но что поделаешь, если провидение в качестве искупительной жертвы избрало именно ее? Ведь только в Африке, в Окло, созданы Богом условия, которые позволят ему осуществить свой величественный и грозный замысел. Африка обречена! Не пройдет и часа, как она перестанет существовать, превратится в груду мертвых, пышущих огнем и дымом титанических глыб. От этого не уйти, как не мог уйти Катон-старший от своих мыслей о Карфагене. Пока рядом был Нед Шайе, единственное звено, связывающее его с грешным безумным миром, можно было ждать и надеяться. Нед исчез. Может быть, его увели силой, а может быть, он ушел и сам: неисповедимы пути не только Господни, но и пути человеческие. Нед выбрал свою судьбу, а он, Вильям Грейвс, выбрал свою.
После чая, сидя в кресле, Грейвс выкурил «гавану», может быть, последнюю в своей жизни, а затем расстегнул рубашку и достал из-под нее платиновый медальон. На верхней шейке медальона располагались одно над другим три миниатюрных колечка. С некоторым трудом — пальцы были велики и грубы для этой операции — Грейвс поставил их в определенное, одному ему известное положение. Когда он поворачивал колечки, они едва слышно стрекотали, оказывая сопротивление вращательному усилию, стрекотали, как крошечные кузнечики. Закончив эту операцию, Грейвс сильно встряхнул медальон, точно это был медицинский термометр, а он сбивал с него температуру. Внутри медальона раздался негромкий щелчок, из его нижней части выскочила изящная, хитроумно выточенная бороздка ключа. Поднявшись из кресла, Грейвс прошел в кабинет и прикрыл за собой дверь. Откинув часть книжной полки, он получил доступ к встроенному в стену сейфу с кодово-цифровым запором. Набрав нужную группу цифр, Грейвс открыл массивную дверцу, а маленьким ключиком из медальона отпер шкатулку, вделанную в корпус сейфа. В шкатулке, снабженной термическим самоликвидатором (откроешь без ключа — так все сгорит), лежало нечто похожее на небольшой транзисторный приемник или портативный магнитофон, но на его передней панели не было обычных шкал и органов управления. В верхней части устройства тянулся ряд кнопок без каких-либо пояснительных надписей, а ниже располагались две клавиши с сигнальными лампами: слева зеленая, а справа красная. Это был дистанционный пульт управления кодовой радиостанцией, миниатюрный радиопередатчик, работающий в ультракоротковолновом диапазоне.
Грейвс вынул пульт, захлопнул щелкнувшую автоматическим замком шкатулку, хотел было закрыть сейф, но, на секунду задумавшись, пожал плечами и оставил его открытым: теперь это не имело значения. Неторопливо шагая к своему рабочему столу, Грейвс с довольной усмешкой вспоминал о том, как много разных лиц и в разное время пытались выведать у него тайну кодовой радиостанции, найти пути подхода к ней. И даже лучший из его сподвижников, товарищ и друг Нед Шайе, в последнее время все настойчивее домогался этого. Ограниченные, традиционно мыслящие люди! Им было невдомек, что добраться до кодовой радиостанции попросту невозможно: она намертво замурована в фундаменте, ее связывает с внешним миром лишь несколько маленьких штыревых антенн, выведенных в ряде внутренних помещений и снаружи дома. Имея в руках пульт, Грейвс мог управлять кодовой радиостанцией из кабинета, из комнат, даже из туалета, а равно из любой точки, удаленной от дома на расстояние до полутора километров. Замурованная радиостанция, не прибегая к использованию блока батарей, работала на подслушивание в дежурном режиме от практически вечного генератора, поставщиком энергии которого был кюрий. Точно такая же кодовая радиостанция была замурована за тысячи километров отсюда близ экватора в глубочайшей шахте оклинского месторождения урана. Связанная с поверхностью земли антеннами, она готова была принять команду Грейвса и послать ее на запальное устройство ядерного заряда.
Бережно положив пульт управления на стол, Грейвс занял кресло и устроился в нем поудобнее. Ему показалось было, что сигнальные лампы запылились, он даже достал из кармана белоснежный батистовый платок. Но нет, это лишь показалось — откуда бы взяться пыли в практически герметично закрытом сейфе? Все было обдумано, все решено, оставалось лишь действовать, и вот теперь Грейвс почувствовал легкое волнение и беспокойство. Нет, не потому, что ему предстояло как следует встряхнуть старушку-планету! Она заслужила эту кару так же, как и мерзостные людишки, жадно гложущие ее верхнюю кожицу. Грейвс беспокоился по другому поводу. Хотя весь комплекс аппаратуры был собран с максимальной надежностью и по дуплексной схеме, за долгое время пассивного дежурства какой-нибудь из блоков мог выйти из строя.
Грейвс откашлялся, как будто бы собирался произнести спич, положил пульт поудобнее и нажал крайнюю левую кнопку. Тотчас же загорелась встроенная в нее лампа, а через секунду вспыхнули и тут же погасли все сигнальные лампы пульта: автоматическая проверка его внутренней исправности и готовности прошла благополучно. Грейвс удовлетворенно хмыкнул и нажал крайнюю правую кнопку. Порядок нажатия кнопок тоже был закодирован, нарушение режима включения автоматически приводило к блокировке системы управления в целом. Встроенная в правую кнопку лампа загорелась не сразу, но Грейвс знал, что так оно и должно быть; эта команда требовала времени для реализации: кодовая передающая радиостанция переводилась с дежурного режима на боевой, подключаясь к основному блоку батарей, над крышей дома поднимались основная и дублирующая антенны дальней коротковолновой связи. Нажатием следующей кнопки Грейвс послал с этих антенн в эфир мощный импульсный кодовый сигнал, который должен был привести в боевую готовность приемную радиостанцию и запальное устройство в далеком Окло. Для компенсации эффекта непрохождения волн и разных случайных накладок коротковолновые кодовые сигналы посылались на четырех фиксированных волнах — 19, 25, 31 и 41 метр. Частоты лежали в диапазонах работы широковещательных радиостанций государственного значения, что гарантировало систему от воздействия предумышленных радиопомех. После нажатия последней центральной кнопки верхнего ряда пульт издал прерывистый гудящий сигнал, и вспыхнули зеленая и красная лампы рядом со своими клавишами. Система глобальной катастрофы была приведена в полную и окончательную готовность. Стоило теперь только нажать красную клавишу…
Глава 18
Невилл допил подсахаренный грейпфрутовый сок. Он пил его маленькими глотками, с очевидным удовольствием, растягивая наслаждение: это был его завтрак. Невилл начал угрожающе полнеть, и сегодня у него был разгрузочный день. Невилл только что выкупался и сидел на краю небольшого десятиярдового крытого бассейна в мягком шезлонге за невысоким столиком. Все его одеяние состояло из махрового полотенца, небрежно брошенного на колени. Напротив него и несколько наискосок в таком же шезлонге, который был однако же развернут в более строгой, близкой к стулу форме, в светлом утреннем костюме сидел подтянутый Аттенборо. Допив сок, Невилл вытер губы («Тем же самым полотенцем, которым он вытирал свое жирное тело», — отметил про себя Аттенборо) и потянулся за сигарой. Честно говоря, юрисконсульт был несколько пристрастен к своему шефу: Невилл вовсе не выглядел жирным, он был объемным, тело у него было тугое, точно резиновое. Обрезав кончик сигары. Невилл закурил, окутавшись облачком сизого дыма, и откинулся на спинку шезлонга, полотенце при этом почти свалилось с его колен. Юрисконсульт знал, что в манере вести себя Невилл подражает Черчиллю. Бизнесмен был несколько похож на знаменитого премьера, знал и в глубине души гордился этим. Но Черчилль позволял себе большее, принимая советников и консультантов, он иной раз обходился даже без полотенца, ограничиваясь одним сигарным дымом.
— Я буду отсутствовать дня три, максимум неделю. Вылетаю через два часа. А побеспокоил вас так рано по делу Грейвса, — уведомил Невилл.
— Понимаю, — склонил голову Аттенборо. — Дело это сейчас накалилось буквально добела.
Невилл внимательно взглянул на собеседника:
— Боюсь, что не совсем поняли. У меня был разговор с Преторией. Деловые люди, с которыми у меня картельные соглашения, обеспокоены.
— О-о!
— Именно так. До них дошли слухи, что некий Вильям Грейвс располагает возможностью чуть ли не всю Африку поднять на воздух. Во всяком случае, вызвать панафриканское землетрясение большой силы. Поэтому особое беспокойство выказывают те, кто ведет разработку месторождений закрытым и полузакрытым способами. Сами понимаете, надежность шахт, в которых работают аборигены, там минимизирована. Мои африканские партнеры знают, что в свое время я контактировал с Грейвсом, а поэтому обратились за консультацией.
Аттенборо задумался, пожевывая губами.
— Я полагаю, в Африке действуют не только ваши партнеры, но и конкуренты? — Юрисконсульт дождался одобрительного кивка Невилла и позволил себе улыбнуться. — Солидная встряска африканского горнорудного дела, нанеся нам определенный ущерб, обеспечила бы в будущем солидные прибыли.
С конца сигары свалился пепел, и Невилл небрежно смахнул его рукой.
— Вы мыслите примитивно, но правильно.
— Это первое, — продолжал Аттенборо размеренно, не обращая внимания на реплику. — Во-вторых, если в распоряжении Грейвса и есть некое сверхоружие, не стоит гипертрофировать его возможности. Грейвс в свое время развернул странную и весьма активную деятельность в Габоне. Именно туда он тайно транспортировал оборудование непонятного назначения. Поэтому если по его воле и произойдет катастрофа крупных масштабов, то случится она именно в этом районе Африки, а не в южном регионе, где функционируют наши друзья. Габон — вотчина Франции, там нет наших партнеров, а конкуренты и только конкуренты. Вот почему ситуация меня не беспокоит, более того — представляется благоприятной.
Невилл слушал благожелательно, и Аттенборо продолжал уже более оживленно:
— У меня есть сведения из весьма надежных источников, что и ЦРУ, и наша Интеллидженс имеют о деле Грейвса хотя и не полную, но весьма подробную информацию. Но они выжидают, не проявляя особого беспокойства. Полагаю, они сознательно дают Грейвсу провести… м-м… эксперимент, чтобы выяснить его действительные возможности и реальную стоимость дела. Габон лежит вне долларовой и стерлинговой зон.
Невилл недовольно поморщился:
— Это элементарно с деловой точки зрения. Меня интересует другое. Грейвс на самом деле может вызвать масштабную катастрофу или это преувеличение? Может быть, чистый блеф?
— Нет, это не блеф. Элементы преувеличения дело Грейвса содержит, я в этом не сомневаюсь. Но это не блеф. Грейвс вложил в предприятие практически все свои, и немалые, деньги. Разумные люди так не блефуют.
— Но ведь Грейвс маньяк, безумец!
— Нет, Эдвард, — мягко возразил Аттенборо, — Грейвс не маньяк, он гипоманьяк, а это далеко не одно и то же. Если вы помните, то с вашей же санкции я в свое время свел Грейвса с опытным психиатром-диагностиком. Вильям, разумеется, и не подозревал о его профессии. Заключение врача было категорично и определенно: Вильям Грейвс совершенно нормален, но это человек огромной активности и предприимчивости, что сочетается у него с оригинальностью, даже эксцентричностью замыслов и поведения. Гипоманьяками были Цезарь и Мартин Лютер, Петр Великий и Черчилль.
Невилл всем телом повернулся к юрисконсульту и заинтересованно уточнил:
— Уинстон?
— Да, Эдвард, великий Уинстон, я специально интересовался этим вопросом. Какая мощная и разнообразная деятельность: политик, полководец, литератор, живописец! Какая жажда жизни и наслаждений! Нечто в этом роде, в уменьшенном масштабе конечно, являет собой и Вильям Грейвс. Нет, его предприятие не блеф, в этом я уверился еще раз, переговорив с Джинджером. Очевидно, вы помните этого способного агента?
— Да-да, — нетерпеливо перебил Невилл. — Хорошие новости?
— Неплохие. — Аттенборо держался с показной скромностью. — Группе решительных людей, с которыми Джинджер давно поддерживает деловые, взаимовыгодные контакты, удалось захватить ближайшего друга и соратника Грейвса, некоего Неда Шайе. Он был подвергнут весьма интенсивному… м-м…
Невилл поморщился:
— Пожалуйста, без натурализма!
— Понимаю, — деликатно склонил голову юрисконсульт. — Этот Шайе оказался стойким человеком, и даже с помощью сильнодействующих нейролептиков удалось выяснить немногое. Грейвс жив и находится где-то во Франции, скорее всего в Монако. И, что самое важное, с помощью некоего радиоустройства он буквально движением одного перста может вызвать впечатляющую катастрофу в Габоне.
— Все-таки Габон? Это удачно!
— Совершенно верно. Шайе собираются выпотрошить более основательно. Может быть, стоит как-то повлиять на эти события?
Невилл помахал в воздухе сигарным окурком.
— Не вмешивайтесь в это дело, Дейв! Пусть все идет своим чередом. Бизнесмен поискал, куда бы девать окурок, пепельница стояла далеко, а подниматься ему не хотелось, и швырнул его на пол. — В наше время даже пустяковая авария реактора вызывает страшный шум, а тут речь идет о региональной катастрофе. Мы должны быть совершенно чистыми! Через Рене Хойла и Спенсера Хирша мы проявляем к делу Грейвса совершенно легальный предпринимательский интерес, закон и право тут на нашей стороне. И никто не сможет нас ни в чем упрекнуть! Но агенты, террористы, заговоры — нет, это должно оставаться за кулисами серьезного бизнеса. И если в Габоне действительно что-нибудь стрясется, подумайте об этом способном агенте Джинджере. Не слишком ли многое ему известно?
Аттенборо молча склонил голову.
— Кстати, что нового у Хойла?
— Его отношения со Спенсером Хиршем не оставляют желать лучшего. Между прочим, сведения о том, что Рене Хойл — побочный сын старшего Бадервальда, не подтвердились. Но, несомненно, кто-то из Бадервальдов ему помогает.
— Ну и прекрасно!
— Разумеется, — Аттенборо тонко улыбнулся. — А чтобы было еще прекраснее, мне удалось устроить командировку его названому дяде в Париж. Оттуда его помощь будет и более оперативной и более эффективной. А на хвост старому волку Смиту я посадил опытнейших детективов, так что мы будем отлично осведомлены о всех его действиях.
— Хороший ход, — одобрил Невилл.
Чувствуя настроение шефа, Аттенборо позволил себе пооткровенничать:
— Этот тертый калач скорее всего догадался, что он у меня на поводу. Ведь что такое добрая старая Англия в государственном масштабе? Это средний чиновничий аппарат, хорошо обученный, отлаженный и вышколенный. Ниже его — простые исполнители, которые делают все, что им прикажут. Вверху идет грызня и борьба за власть, там не до глубокой проработки санкций и операций. Министры приходят и уходят, а облекающие в плоть и кровь их замыслы чиновники остаются на своих местах и порой знают больше начальников.
Невилл, с интересом слушавший юрисконсульта, покачивал головой.
— Да вы вольнодумец, Дейв! Вы совсем не верите в нашу демократию!
— Верю, Эдвард, верю. Но не в ту декларативную демократию, которой нашпигована пресса, а в подлинную английскую демократию, демократию избранных. Чиновничий аппарат консолидован и спаян, в некотором смысле, там один за всех и все за одного. Как ни осторожно я действовал, но кто-нибудь мог шепнуть Майклу Смиту о моем странном интересе к его персоне. Какой-нибудь старый служака мог сказать ему: «Ты бы проверил свой телефон, Майкл. Последний раз я еле слышал твой голос». И этого более чем достаточно, чтобы Смит понял: его телефон вдруг начали прослушивать, понял и потянул свою ниточку следствия. Во всяком случае, он вдруг прервал разговоры с Рене Хойлом, а раньше, как мне удалось выяснить, они были весьма оживленными. Тогда я устроил командировку Смиту и сел ему на хвост. Смит остановился в Париже у своего старого друга, отставного полицейского инспектора Пьера Доммелье. Он осел там мертво, никуда не выходил, это установлено точно. Зато Пьер тайно покинул свой дом и спешно выехал в Ниццу! Конечно же, я переключил детектива на Пьера, — Аттенборо тихонько засмеялся. — Старый волк думал, что обманул хитрую лису. Смит именно так называет меня, Эдвард, а между тем он у меня по-прежнему на поводке!
— А ведь вы действительно хитрая лиса, Дейв, — вдруг без улыбки сказал Невилл, лениво встал и потянулся своим двухсотфунтовым телом. — Смотрите только, и самые хитрые лисы иногда попадают в капканы!
— Я всегда имею это в виду, — суховато ответил юрисконсульт, в свою очередь поднимаясь.
— Не дуйтесь, Дейв, — благодушно улыбнулся Невилл. — Вообще-то вы молодец. О важных новостях по делу Грейвса сообщайте немедленно.
— Я думаю, об этом лучше было бы узнать по радио.
Невилл засмеялся и потрепал Аттенборо по плечу.
Глава 19
Система глобальной катастрофы была приведена в полную и окончательную готовность. Стоило Грейвсу нажать красную клавишу, и морщинистую кожицу Земли, в которую вгрызлось паразитирующее на ней человечество, всколыхнут судороги пароксизма тектонической лихорадки. Но Грейвс не нажал клавишу, а лишь нежно погладил ее кончиками пальцев. Торопиться было некуда, а чувство упоительное: ощущение вседозволенности, всевластия, торжества и легкого ломкого страха, сродни тому, который испытываешь, стоя на самом краю бездны, погруженной в голубоватую дымку вечного покоя. Наверное, нечто подобное испытывал Господь Бог перед тем, как сотворить Землю.
Нежно поглаживая красную клавишу кончиками пальцев, Грейвс еще раз с насмешкой и даже некоторым сожалением подумал о человеческой недальновидности. Почему-то все деловые люди, с которыми он сотрудничал и чьей поддержкой пользовался, считали, что он либо добывает некие сверхценные ископаемые, либо синтезирует новые, разумеется, не менее ценные вещества, а может быть, занимается тем и другим параллельно. А ему ничего не надо было добывать и синтезировать! Нужно было лишь обнаружить. Оклинский феномен, феномен длительного функционирования естественных урановых реакторов привел его к мысли, что работа этих реакторов поддерживалась за счет внешнего нейтронного потока. А такой поток достаточной интенсивности мог сформироваться лишь за счет далеких трансуранов, ядра которых сильно перегружены нейтронами. Но если уран иногда выходит на самую поверхность земли, то трансураны залегают глубже. Все земные химические элементы сформировались путем распада первичного апейронного вещества, чем выше атомный вес элемента, тем глубже располагаются зоны его максимальной концентрации. Феномен Окло свидетельствует о том, что апейрон, а стало быть и сопутствующие ему трансураны, поднимаются там достаточно близко к поверхности. Но все равно искать их, и прежде всего самый стабильный из трансуранов — эка-свинец, который он по праву назвал грейвситом, — надо было в глубинных слоях, под массивами урановой руды. Грейвсу повезло, он обнаружил в Окло пещеру с колодцем почти километровой глубины. Этот колодец падает вниз вертикально, то расширяясь до десятка метров, то сужаясь настолько, что с трудом может протиснуться человек. Добраться до дна колодца не удалось, это было слишком опасно да и не нужно. На прочном тросе в колодец опустили контрольно-измерительную радиоаппаратуру. Записи показали аномально высокий радиоактивный фон, причем его основной компонентой были нейтроны. Грейвс не сомневался, что дно колодца образовано залежами грейвситовой руды, во всяком случае, ее массы были где-то поблизости. В этот колодец потом был опущен ядерный детонатор — самодельная урановая бомба с тротиловым эквивалентом около пятидесяти килотонн, управляемая по радио. Самодельная в том смысле, что она была сработана Грейвсом, Моррисоном и Шайе из отдельных деталей, агрегатов, радиоэлектронных и пиротехнических блоков, которые были изготовлены на десятках разных заводов, в принципе, совсем для иных целей. Моррисон потом погиб во время подавления бунта оклинских рабочих-аборигенов. Грейвс подозревал, что это было не подавление бунта, а сознательно организованное террористами уничтожение свидетелей. Этот акт послужил одной из причин последующего разрыва Грейвса с террористами, его таинственного исчезновения, временного ухода в своеобразное небытие. Как хорошо, что он был так предусмотрителен!
Во все и вся, кроме ключевых деталей, были посвящены трое — Нед Шайе, Рокки Марчелло и Дуайт Моррисон. Все они удивлялись тому, что он именно в Монако разместил свою тайную резиденцию. Монако — и Франция, и в то же время не совсем Франция. Сюда докатывается лишь эхо социальных потрясений, полиция и контрразведка свирепствуют здесь куда меньше, чем в Париже, Лондоне или Нью-Йорке. В Монако масса туристов самых разных мастей и рангов, и в этом текущем, все время меняющемся людском конгломерате легко затеряться. В то же время из Монако нетрудно было получить и визу, и лицензию для георазведки в Окло.
Да, было трое адептов, трое посвященных. Самым ненадежным был боевик-функционер Рокки Марчелло.
Но железный Моррисон взял на себя тяжкую заботу о том, чтобы хитрый и опасный Рокки замолчал навсегда. А неделю спустя Бог наказал Моррисона. Наказав Дуайта, Господь позаботился о том, чтобы полностью развязать руки своему апостолу на земле — ему, Вильяму Грейвсу. Добряк Шайе знал меньше других и никогда не противился его воле. Наивный Шайе! Сначала он удивился, каким образом Грейвсу удалось достать ядерную взрывчатку полтора килограмма высокообогащенного урана. А между тем сила денег в этом греховном мире безгранична, она снимает любые запреты и открывает любые двери. Серия крупных взяток — и часть урана-235, который был якобы похищен с одного из обогатительных заводов в Штатах, а на самом деле попросту тайно переправлен в Тель-Авив. Возможно, он и оказался в руках Грейвса. Узнав об истинном назначении оклинского ядерного детонатора, Шайе пришел в ужас. Судя по всему, он даже помешался от животного страха, и с ним стало трудно работать и поддерживать прежние дружеские отношения.
Некоторые из ученых и инженеров, которые тайно делали для Грейвса расчеты и разрабатывали конструкции, могли догадываться, что он создает нечто вроде атомной бомбы. Ядерный взрыв? И всего каких-нибудь 30-40 килотонн? Ничего особенно трагичного, в крайнем случае, вторая Хиросима. Возможно, кое-кто из его нештатных сотрудников, например тот же Артур Баррис, который уточнял для него нейтронные сечения трансуранов и их критические массы, догадывался о втором этапе его замысла. О том, что он рассчитывает найти в Габоне залежи стабильных трансуранов и некоторым образом использовать их для создания нейтронного оружия. Наиболее дальновидные могли предположить, что, используя природные трансураны Окло, он намерен произвести там сверхмощный взрыв. Ну и что? Взрыв мощностью в сотню-другую мегатонн в какой-то захудалой африканской стране! Термоядерные взрывы такой мощности уже производились. Зато какой эффективный и масштабный эксперимент! Какое бесспорное доказательство реального существования стабильных трансуранов в земной коре! Конечно, государственные разведки ряда стран, прежде всего ЦРУ, как-то и что-то пронюхали об этом, но они и не думали мешать Грейвсу. Нет, настороженно следя друг за другом, используя для этого и частные фирмы, с которыми Грейвс сотрудничал, разведки дали ему волю, отпустили поводья и ждали результата. Действовать они намеревались потом. Его внезапное исчезновение, наверное, немало смутило их!
Кое-кто, прежде всего Николае Батейн, знал о его неколебимой вере в земное апейронное ядро и его твердом убеждении в том, что в некоторых тектонически горячих точках Земли и в особых районах, таких как Окло, апейрон по разломам и трещинам подходит достаточно близко к поверхности. Конечно, они догадывались, что Грейвс хочет добраться до апейрона и использовать его в своих целях. Но как добраться и как использовать, оставалось для них неразрешимой загадкой. К тому же, смешные люди, они не разделяли его твердого убеждения в самом существовании земного апейрона, они лишь допускали такую возможность. И уж, конечно, ни один человек Земли, ни одно разумное существо Вселенной, кроме него и Господа Бога, не знали и не могли догадываться о грандиозности его замысла в целом!
Апейронное ядро! Оно не только существует, не только питает энергией все земные процессы, оно еще и неустойчиво, как скала, нависшая над самым краем обрыва. Достаточно легкого толчка рукой, и многотонная глыба рухнет вниз, все кроша и сметая на своем пути. Достаточно легкого изменения галактического гравитационного потенциала, а такое случается раз в сто восемьдесят миллионов лет, в ходе которых Земля вместе с Солнцем завершает полный галактический оборот, как апейронное ядро выходит из равновесия и начинает буйствовать. Наступает краткий период геологической революции. Ломают земную кору глубинные землетрясения, буйствуют старые вулканы, рождаются десятки и сотни новых, появляются на свет Божий новые острова и архипелаги, и тонут в пучинах океана гигантские глыбы суши. В такие периоды тектонической вакханалии от Земли отделилась Луна, оставив после себя рваную рану — ложе Тихого океана; растрескалась и расползлась на современные континенты древняя Пангея; небесными зубьями взлетела ввысь цепь Гималаев; затонула загадочная Атлантида. Прежде геологические революции вызывались естественными причинами, сейчас, впервые с момента рождения Вселенной, такую революцию совершит человек, которому уготовано бессмертие, — Вильям Грейвс.
Бенгт Серлин, разумеется, догадывался, что, решая необычные шахматные композиции, он проигрывает разные варианты развития неких социальных событий. Но приходило ли ему в голову, что часть этих задач являла собой сценарий локальных этапов геологической революции? Вряд ли, скорее всего Серлин попросту не знает о существовании ни апейронного ядра Земли, ни самих геологических революций. Шахматы! Именно они дали возможность проникнуть Грейвсу в тайны процессов, неведомых другим людям, и подняться на пьедестал, равняющий его с самим провидением.
Странный, призрачный и вместе с тем такой реальный мир — мир шахмат! С шахматными фигурками, вырезанными отцом из эбенового дерева, Вильям познакомился лет пяти от роду. Причудливые фигурки сразу очаровали его. И даже своим слабым детским умишком Вильям сразу понял, что, несмотря на свою сказочность, это не простые игрушки, что у них должно быть и какое-то серьезное предназначение. Очарование усилилось, когда отец познакомил Вильяма с основами шахматной игры, которой Грейвс овладел столь же естественно и просто, как речью, ходьбой и лазаньем по деревьям. Оставшись наедине с шахматами, Вильям подолгу разглядывал, ощупывал, гладил эти точеные фигурки, и его маленькое сердечко трепетало, словно он стоял на самом пороге тревожной и радостной тайны. Они были мертвые и в то же время живые! Они были деревянные, и однако же у каждой из них было свое поведение, свой характер, который мог так сильно меняться по ходу игры. У них был свой мир со своими радостями, страхами, головокружительными победами и горестными поражениями. Человеку дано было знать законы этого мира, разрешалось наблюдать его со стороны, но подлинная жизнь этой кукольной вселенной была тайной за семью печатями. Человек был Богом в мире шахмат, но каким жалким и бессильным оказывалось его призрачное могущество! Шахматы не только восхищали, не только удивляли, но и пугали Вильяма своей независимостью от его собственной воли и желаний. Наверное, из-за этого слишком острого чувства сопричастности к шахматному миру, сложного ощущения единства своего могущества и бессилия, Грейвс так и не стал хорошим мастером, хотя даже известные шахматисты говорили, что у него незаурядный комбинационный талант.
Грейвс вдруг очнулся от созерцательного раздумья и поднял голову: ему почудился какой-то шум, словно кто-то приоткрыл кабинетную дверь. Но нет, это лишь показалось: в доме никого быть не могло, кроме старого Джима, а тот никогда бы не позволил себе появиться в кабинете без вызова. Грейвс глубоко вздохнул и положил указательный палец правой руки на красную клавишу. Он хорошо представлял себе, что произойдет вслед за ее нажатием. Сработает передатчик и на четырех фиксированных частотах пошлет кодовый исполнительный сигнал. Повинуясь ему, на километровой глубине оклинской шахты сработает урановый детонатор. В пламени подземного ядерного взрыва родится нейтронная волна, которая обрушится на окружающие трансурановые породы, а это вызовет спутный ядерный взрыв несравнимо более мощный. Сквозь образовавшуюся в теле Земли рану хлынет близко расположенный апейрон и серией взрывов все более и более нарастающей силы проложит себе дорогу на поверхность, образуется озеро рыгающего смертью и разрушением апейрона. Содрогнется и выйдет из привычного равновесия апейронное ядро Земли. Шквалы землетрясений и водяные горы цунами прокатятся по всей планете. Проснутся и забуйствуют вулканы, рухнут громады небоскребов, сдвинутся и треснут, теряя многотонные блоки, вечные египетские пирамиды… Ужас, огонь и мрак окутают грешную Землю!
— Вильям!
Грейвс удивленно поднял голову:
— Нед! Я рад тебя видеть, ты успел вовремя. — Так как Шайе сделал попытку приблизиться к нему, Грейвс властно поднял над головой левую руку. — Стой где стоишь! Час Страшного Суда настал, я не могу больше медлить.
— Ты прав, — торжественно согласился Шайе, — да исполнится воля Божья! Но что ты делаешь? Ошибаешься, как свойственно смертным, и хочешь загубить дело всей своей жизни!
По лицу Грейвса скользнула тень беспокойства.
— Ты о чем?
— Катастрофу вызывает зеленая клавиша! Сколько раз ты говорил мне об этом? А ты хочешь нажать красную, засыпать шахту и навсегда похоронить свой замысел?!
Некоторое время Грейвс напряженно вглядывался в лицо Шайе, потом опустил глаза на пульт управления. Действительно, он установил в шахте не только ядерный детонатор, но и ликвидатор. При включении цепей ликвидации ядерный детонатор обесточивался, отключался от кодовой радиостанции, а в верхней части шахты подрывался обычный заряд и засыпал ее. Во время работ в шахте Грейвс был еще слишком предусмотрителен и недостаточно мудр, иначе бы он не затеял всей этой ненужной истории с ликвидацией. Но дело было сделано. Однако же, что мелет Шайе? Красная клавиша — сигнал ликвидации? Глупости, как раз наоборот!
— Ты путаешь, Нед, — сказал Грейвс, поднимая голову. — Ликвидация — это зеленая клавиша. Ты путаешь или сознательно провоцируешь меня. Почему ты так бледен? Капли пота на твоем лбу, как спелые виноградины.
Шайе вымученно улыбнулся:
— Час Страшного Суда — страшный час, Вильям.
— Верно, но и великий час!
В кабинете со звоном разлетелось стекло, Грейвс инстинктивно обернулся. Этого было достаточно: смуглой молнией Шайе кинулся к столу и нажал зеленую клавишу. На пульте вспыхнуло табло: «Команда подана!», красная лампа, лампа глобальной катастрофы, погасла.
— Предатель! — заревел Грейвс, опуская руку во внутренний карман.
Шайе не сделал попытки защититься, он еле стоял на ногах. Но в кабинет ворвались трое сильных мужчин и кинулись на Грейвса.
Вильям Грейвс упал на ковер и на несколько секунд потерял сознание.
Глава 20
Рене и Батейн сидели на веранде Океанографического музея в плетеных креслах за маленьким столиком, на котором стоял электрический кофейник, две чашки, сахарница. Веранда была служебной, поэтому никого, кроме Рене и Батейна, здесь не было. Прежде чем сесть за столик, Хойл подошел к перилам и заглянул вниз; он испытал чувство, подобное тому, которое возникает при сильной болтанке, когда самолет вдруг ухает вниз. За перилами была бездна, а далеко внизу море: здание Океанографического музея помещалось над обрывом, прилепившись к скалам как гигантское ласточкино гнездо.
Кофе и все остальное им любезно принесла молодая женщина спортивного типа с прекрасной фигурой и умным некрасивым лицом.
— Труженица науки, — меланхолично проговорил Батейн, провожая ее взглядом.
— Это не за ней ухаживал Баррис?
— За Мадлен? — Батейн затрясся от смеха и, чтобы не расплескать кофе, на всякий случай поставил чашку на стол. — Да они терпеть друг друга не могут! Наверное, потому, что видят друг друга насквозь. Арт ухаживал за секретаршей, миленькой монегасочкой, этакой современной Бабеттой.
Рене лукаво взглянул на геолога:
— Но, кажется, и вы пытались ухаживать за этой современной Бабеттой?
— Ну и что? За такими все ухаживают, в определенном смысле, разумеется. — Он снова взял чашку со стола, отпил глоток и с некоторым вызовом повторил: — Ухаживал, ну и что? А вот женюсь я, если только женюсь, то на такой, как Мадлен. По крайней мере, это человек, а не какая-нибудь безмозглая чирикающая птичка.
— А Баррис на ком женится?
— Арт? Да он давно женат! Его жена богата и красива, настоящая римская матрона. Говорят, и ведет себя соответствующим образом. Впрочем, о красивых женщинах всегда ходят сплетни. — Батейн допил кофе, поставил чашку на стол, сел прямее и скрестил на манер буквы икс ноги. Он глядел на журналиста с тем особенным выражением, которое бывает у стеснительных людей, когда им ужасно хочется спросить собеседника о чем-то запретном. В конце концов решившись, он все-таки спросил:
— Итак, с делом Грейвса вы покончили?
— Да, на неопределенный срок. Спенсер Хирш официально уведомил меня, что Вильям Грейвс нашелся, но он тяжело болен. Лечение займет несколько месяцев, скорее всего не менее полугода. До его выздоровления все финансовые дела, так или иначе имеющие отношение к предприятию Грейвса, замораживаются. Что мне оставалось делать, как не заказать билет на самолет до Лондона?
Батейн покивал своей большой головой.
— Понимаю. Хотите, я открою одну тайну?
— Какой репортер этого не хочет?
— Я не совсем понимал, Рене, какого дьявола меня и десяток других ученых разных профилей, в частности и Барриса, вытолкнули в эту дурацкую командировку в Океанографический музей. Нас заняли кое-какими делами, но, право же, пересекать ради этого Атлантику было неразумно. Намечался некий симпозиум, но повестка дня его не была обнародована: говорили, что она уточняется и утрясается. И вдруг вчера сообщили, что по целому ряду неожиданных обстоятельств и привходящих причин симпозиум не состоится, а мы в самое ближайшее время разъедемся по домам. Представляете? — Батейн поднял аршинный палец. — Вчера! А Вильям Грейвс попал в больницу позавчера.
— Откуда вы знаете, что позавчера? — почти машинально закинул удочку Рене.
— Бог мой! Да вся наша ученая братия только и делает, что говорит о Грейвсе. У меня сложилось впечатление, что все они, в том числе и Арт, были так или иначе знакомы с Вильямом и принимали участие в его делах. И этот таинственный симпозиум, который так и не состоялся, скорее всего хотели посвятить эксперименту Грейвса, который тоже не состоялся. — Батейн проницательно, как ему казалось, а на самом деле несколько наивно посмотрел на Хойла, ожидая, как тот отреагирует на сообщение. Но поскольку журналист дипломатично молчал, он продолжил: — Говорят, что Грейвс не просто болен, а у него острый приступ маниакального психоза: он вообразил себя чуть ли не наместником Бога на Земле. Утром вчерашнего дня в полицию позвонил неизвестный и попросил срочно приехать по названному им адресу. В указанном доме сотрудники полиции нашли Грейвса и его старого слугу, оба были связаны. Вильяма опознали с некоторым трудом. Дело не только в том, что он совершенно невменяем, но и в том, что с помощью искусной пластической операции у него была несколько изменена форма носа и складка губ. Именно это и позволило Вильяму скрываться столь успешно! Личный сейф Грейвса оказался вскрытым. Ценности, якобы, не пропали, но все бумаги перерыты, а некоторых важных документов недостает. Фундамент дома в подвале разворочен, обнаружены обломки и детали какого-то очень сложного радиоустройства. Что вы на это скажете, Рене?
Все, что рассказал Батейн, настолько соответствовало истине, что Хойл сразу решил: это отнюдь не слухи, а достоверная информация, которая, благодаря чьей-то оплошности, а может быть и умыслу, попала в среду командированных ученых. Все было правдой, даже пластическая операция и разрушенная радиостанция: с помощью дистанционного пульта управления искусному радиоэлектронщику Неду Шайе было не так уж трудно обнаружить ее местонахождение. Все документы Грейвса были сфотографированы, а наиболее важные, изобличавшие его связь с определенными кругами и фирмами, изъяты и взяты на сохранение Жаком: от имени французской общественности, как он заявил Неду Шайе, усомнившемуся было в его праве.
— Откровенность за откровенность, Ник, — вслух сказал Рене. — Я скажу, что эти слухи очень похожи на правду.
На длинном лице Батейна отразился самый живой интерес. Подавшись вперед, он спросил, понизив голос:
— Вы ведь имеете отношение ко всей этой детективной истории?
— Самое прямое. — Хойл давно продумал линию своего поведения, он доверял геологу и был с ним действительно откровенен. — Но это сугубо конфиденциальный разговор. Если вы когда-нибудь и где-нибудь попробуете утверждать, что я вам нечто сообщил или что-то подтвердил, я буду отрицать это перед самим Господом Богом.
Батейн медленно выпрямился и расправил плечи.
— Вы меня обижаете!
— Не обижайтесь, речь идет о слишком серьезных делах. Да, я участвовал в нападении на виллу Грейвса, если только это можно назвать нападением, вместе с Недом Шайе и другими товарищами, о которых знать вам необязательно. Грейвс был безумен и пытался вызвать дистанционный взрыв в Окло, который, по его мнению, был способен инициировать глобальную катастрофу. Вот чем вызваны столь крутые меры по отношению к Грейвсу. Кстати, сейф вскрывать не пришлось, он был открыт самим хозяином для того, чтобы произвести взрыв. Тревогу поднял Шайе, мы лишь помогали ему.
— Понятно. — Батейн потер ладонью лицо, выдвинул челюсть. — Он надеялся открыть дорогу апейрону?
— Именно так.
— Сомнительная затея, но кто знает? Иногда ведь и палка стреляет. Батейн встал, чуть не уронив кресло, и прошелся по веранде. — А куда девался Нед?
— У него сердечный приступ. Шайе попал в руки террористов и с честью выдержал очень тяжелые испытания. Сейчас он под наблюдением врачей, жизнь его вне опасности, но он не хочет афишировать свое местопребывание.
— Понятно, — прогудел Батейн и остановился перед журналистом. — Не похоже это на Вильяма. Не похоже! Может быть, и не было никакой пластической операции? Может быть, настоящий Вильям Грейвс давно умер? А вместо него действовал двойник, подставное лицо или кто там еще?
Рене покачал головой:
— Не надо строить иллюзий. Ник. Легкие, но заметные при близком рассмотрении шрамы на лице, свидетельство Неда Шайе, которому я верю, старого слуги, найденные нами документы — все это говорит о том, что это был Вильям Грейвс, а не кто-нибудь другой. Но он был безумен! Безумен, не забывайте об этом. Ник, — мягко закончил Хойл.
Батейн передернул мосластыми плечами.
— Безумен, ну и что? С ума тоже сходят по-разному! Понимаете, и в сумасшествии Вильям не похож на себя. — Геолог с хмурым видом плюхнулся в кресло; усаживаясь, зацепил ногой за столик. Кофейная чашка упала, он с раздражением поставил ее, чуть не уронив снова.
— В наш космический век люди меняются быстро. Вы не виделись с Вильямом Грейвсом несколько лет, он мог радикально измениться за это время. Еще до того, как сошел с ума.
— Люди не меняются быстро даже в наш космический век, — убежденно проворчал геолог. — Они просто носят удобные для просперити маски, а потом бесстыдно срывают их, когда они перестают приносить выгоду. Вильям не был из числа таких актеров-трансформаторов.
— Вы забываете о том, что он получил крупное наследство. А деньги развращают человеческие души. Грейвс много получил, но он и тратил много! И, наверное, ему ужасно не хотелось снова становиться бедным и терять так счастливо обретенную независимость. Не могли его купить сильные мира сего? — жестко спросил Рене. — Купить вместе с убеждениями?
Сердитое лицо Батейна обмякло и погрустнело.
— Могли, — вздохнул он. — Сейчас все продается и покупается, дело только в цене. Время научного мессианства безвозвратно ушло. Мне трудно судить о других странах, но в Штатах большинство ученых, даже самых крупных, — лакеи. Интеллектуальные лакеи, старательно выполняющие все поручения и даже прихоти своих хозяев-нанимателей.
Рене смотрел на геолога не очень доверчиво.
— Но есть, наверное, и исключения.
— Есть, — подтвердил Батейн. — Есть по-настоящему порядочные ученые. Но при нынешней централизации науки они лишь хотят, а не могут. Лишь хотят делать добрые дела! А есть и настоящие сволочи, духовные проститутки, бесстыдно торгующие своим мозгом.
Рене тотчас вспомнил веселого жизнерадостного и очень практичного, практичного до бесстыдства Шербье. В то же время он с любопытством поглядывал на Батейна — в какую, собственно, категорию он самого себя зачисляет? Но прямо спросить об этом не решился. Судя по ироничным огонькам в глазах геолога, он догадался об этом невысказанном вопросе Хойла, но удовлетворять его любопытство не собирался.
— Но Вильям не вписывается в эти категории. Определенно не вписывается, — продолжал Батейн после паузы. — В его натуре было нечто от пророка, грешащего, мучающегося и старающегося праведными делами искупить свои прегрешения. Он был, как это говорят марксисты и гегельянцы? А, единством противоположностей!
— Он был завистлив?
— Пожалуй, нет. Ему просто не везло, а не везло потому, что он был наивен, даже инфантилен в житейских делах, не было у него этой бульдожьей деловой хватки, не умел он подать и себя, и свои деяния. Экспериментатор-виртуоз, участвовал в выделении нескольких далеких трансуранов, а кто его знает кроме узкого круга специалистов? Между тем некоторые его коллеги ходят в нобелевских лауреатах! Отсюда комплекс неполноценности и желание самоутвердиться.
— Подмять под себя других? — усмехнулся Рене.
— Ну уж нет! У Вильяма это желание проявлялось, я бы сказал, во всеобщей и, если угодно, альтруистической форме.
— Любите же вы, однако, выразиться заумно!
— Люблю! — с улыбкой покаялся Батейн. — А то ведь и за порядочного ученого считать не будут. Ну а если серьезно, то дело тут в том, что Вильям принимал участие в разработке некоторых вариантов водородного оружия. Это его тяготило. Он часто вспоминал о раскаянии, если не сказать об отчаянии, Эйнштейна, которое тот испытывал в последний послевоенный период своей жизни. О его многочисленных, но, увы, бесплодных попытках содействия запрещению ядерного оружия. Того самого оружия, которому он сам, своим письмом к Франклину Рузвельту, открыл широкую дорогу.
Геолог помолчал, поигрывая ложечкой со следами кофе и сахара.
— Вильямом подспудно владело высокое желание искупить свою вину перед людьми, теперь мне это совершенно ясно. И как только он получил наследство, то сразу взялся за свой фантастический проект. Суть этого проекта Вильям хранил в тайне даже от самых близких людей, но теперь, ретроспективно, ее нетрудно восстановить. Создав свой комплекс глобальной катастрофы, Вильям намеревался выступить по радио с ультиматумом: угрожая чудовищным взрывом, потребовать от ядерных держав всеобщего и полного разоружения. Вильям десятки раз высказывал такие идеи, в абстрактной форме, разумеется. Его замысел был гуманен, хотя способ он выбрал дьявольский! И вдруг, — Батейн поднял свои ладони и тяжело уронил на колени, — катастрофа во имя катастрофы, катастрофа во имя голого наказания! Я не вижу за этим личности Вильяма Грейвса!
— Но он сошел с ума, личность его сломалась, — напомнил Хойл.
Батейн тяжело вздохнул, лицо его приобрело обиженное и беспомощное выражение.
— Заладили как попугай: сошел с ума, ну и что? — Батейн проговорил это теперь без всяких эмоций, просто устало. — Мне тоже приходилось дорабатываться до чертиков и нервных срывов. Вы знаете, что такое нейролептики, мой дорогой журналист?
— Слышал, но не более того.
— Понятно, здоровье у вас железное. Нейролептики — мощнейшее средство воздействия на мозг, на психику. Нейролептиками сейчас вылечивают самых безнадежных хроников. Но как и у всех достижений нашего проклятого мира, у нейролептиков есть и оборотная сторона. С помощью безобидных на вид таблеток человека можно превратить и в тихую покорную скотину, и в буйное животное, и в безудержного маньяка!
Рене наконец понял, куда клонит Батейн. Догадка геолога поразила его своей простотой и естественностью; как и всегда бывает в таких случаях, он удивился, почему это раньше не пришло в голову ему самому. Но были у него и возражения.
— Вы считаете, что Вильяма Грейвса специально свели с ума?
— Вот именно! И в нужном направлении, — убежденно сказал Батейн.
— Но кто? Нед Шайе?
— Исключено!
— Верно. Тогда старый слуга? — Рене на секунду задумался. — Но ведь кто-то руководил его действиями! Выходит, местонахождение Грейвса было известно, во всяком случае, тому, кто незримо стоял за его спиной.
— Конечно! — Батейн снова встал из-за жалобно зазвеневшего кофейными чашками стола и в возбуждении прошелся по веранде. — У меня только сейчас прояснилось в голове, точно пелена упала с глаз. Разве частные фирмы, да что фирмы — правительства могут запросто испытывать сверхмощные бомбы в наше время? Дудки! Народы поумнели, они хорошо понимают, куда могут завести такие игрушки. Правительство, самовольно пошедшее на такую авантюру, скинут к чертям собачьим, вот и все. Вильям Грейвс изобрел нечто уникальное, пострашнее термоядерных бомб. А что изобрел — неизвестно. Так пусть он испытает свое оружие! Подумаешь, какой-то Габон! В то, что этот взрыв может иметь глобальный катастрофический резонанс, конечно же, никто всерьез не верил. Пусть испытает! А потом уж можно основательно решать, как поступить и с самим Грейвсом, и с его изобретением.
Энергично и нескладно расхаживая по веранде, Батейн продолжал возмущенно говорить, но Хойл его уже не слушал. Батейн был тысячу раз прав! За спиной Вильяма Грейвса, превращенного в странную и страшную марионетку, незримо, но властно стоял некий серый кардинал. Несущественно, кем был этот некто в сером: государственным деятелем или частным лицом, советником президента или преуспевающим бизнесменом. Важно, что этот человек был облечен доверием всесильного военно-промышленного комплекса и выполнял его волю. Его деятельность сохранялась в глубокой тайне, а тем, кто в эту тайну в силу необходимости или волею случая оказывался посвященным, рекомендовалось молчать и играть в незнание. Вокруг Грейвса все туже стягивалось железное кольцо. Давление на него оказывали фирмы, с которыми он сотрудничал, банки, в которых он был аккредитован, ученые, да-да, и ученые, с которыми он сотрудничал. Своим исчезновением он спутал было карты, но ненадолго. Давление на него возобновилось, теперь в осаде приняли участие террористы, агенты частных фирм, репортеры, да мало ли кто еще? И он, Рене Хойл, искусно направляемый незримой рукой, внес посильный вклад в эту травлю наивного ученого-идеалиста.
Конечно, ходатайство Элизы Бадервальд сыграло некоторую роль, но теперь Рене хорошо понимал, что не следует преувеличивать его значение. Тут многоопытный детектив, но плохой политик Майкл Смит ошибся, как он ошибся в оценке и некоторых других деталей операции. Просто незримый некто в сером решил тонко использовать ходатайство могущественных Бадервальдов и дал Спенсеру Хиршу соответствующие инструкции. Рене Хойла приголубили и активизировали для того, чтобы максимально накалить обстановку, спровоцировать террористов на крайние поступки, толкнуть на похищение Неда Шайе, насильственный захват виллы Грейвса. Некто в сером был уверен — и, надо признаться, рассчитал он очень точно, — что одурманенный нейролептиками, доведенный до безумия Грейвс обязательно произведет роковой взрыв! Либо под угрозой захвата дома террористами, либо, если Шайе окажется достаточно стойким, в силу естественного развития безумных, все время подстегиваемых идей.
Некто в сером оказался прекрасным режиссером. Все подготовив, он собрал в Монако группу специалистов по делу Грейвса, чтобы приступить к анализу страшного эксперимента, если он не окажется блефом, не теряя ни минуты. И лишь после этого нажал на спусковой крючок! На всякий случай серый кардинал решил оградить операцию от возможных случайностей, расчистить арену действий: с помощью тех же террористов, а может быть и полиции, убрать или блокировать всех сомнительных и опасных лиц. Именно поэтому Рене Хойл должен был претерпеть похищение. Да, режиссер отлично разработал сценарий, предусмотрел и заставил заиграть множество мелочей. И все-таки желанный спектакль не состоялся! Разные люди объединились, сорвали его, и он, Рене Хойл, сыграл в этом далеко не последнюю роль. Сознание этого наполнило Рене силой, о существовании которой в себе он и не подозревал раньше. Услышав обращение Батейна, он поднял голову, оторвался от своих мыслей.
— Я говорю, у вас такой вид, Рене, словно лотерейный билет принес вам выигрыш в миллион долларов. — Батейн добродушно улыбался.
— Наверное, так оно и есть. — Хойл встал из кресла. — Вы правы. Ник. Я все обдумал, взвесил и понял — правы. Вильям Грейвс действовал как марионетка. Но кто стоит за его спиной?
Батейн покачал своей большой головой:
— Не советую вам ломать над этим голову. А если и узнаете о чем-нибудь, то молчите. Не то отправитесь вслед за теми, кто участвовал в убийстве Джона Кеннеди.
— Но если все обстоит именно так, если Грейвс лишь игрушка в руках сильных мира сего, то попытка вызова глобальной катастрофы может повториться!
Батейн в раздумье оперся на перила, равнодушно заглянул в бездну, падающую к далекому, словно нарисованному морю, и нехотя буркнул:
— Может.
— Если еще раз запахнет жареным и о деле Грейвса придется заговорить на весь мир и во весь голос, вы не откажетесь помочь?
— Не откажусь. Уж такой у меня характер. — Батейн поскреб затылок. — Я не из тех подвижников, которые несут на Голгофу свой собственный крест. Но как не помочь нести крест другому? Тут я отказать не могу!
В гостиницу за Рене на своем «ситроене» заехали Жак и Луи. Они говорили, что им с Рене по пути: дорога в Париж лежит через Ниццу, но журналист знал и другое — они решили подстраховать его. По имевшимся у них сведениям, в последние два дня полиция устроила настоящую охоту за террористами, именно им приписывали нападение на виллу Грейвса; опытный режиссер, некто в сером, был, конечно, взбешен неожиданным поворотом событий. Многих из террористов схватили, но не всех; Хойлу следовало опасаться тех, кто остался на свободе. Жак и Луи хорошо понимали это и действовали соответствующим образом. По дороге в Ниццу они переговорили о многом. Хотя есть никому не хотелось, они все-таки остановились в придорожном ресторанчике, заказав крабов по-мексикански, вкусовые качества этого блюда до небес превозносил Луи. И выпили по стаканчику красного, как кровь, крепкого, почти без сластинки вина, которое выбрал Жак. В аэропорту попрощались коротко и просто.
— Если придется худо, не стесняйтесь, вы знаете, как найти Жака Бланшира.
— Мы были с тобой в деле, — присовокупил Луи, они как-то неожиданно перешли на «ты». — Ты настоящий мужчина, камарад. Мой адрес у тебя есть.
Был у Рене и адрес Николаса Батейна. Сколько людей прошло перед Хойлом за этот бурный месяц! А в сердце остались лишь эти трое.
Как это бывает на юге, быстро темнело: сумерки будто лились на землю с темнеющего неба серым невесомым дождем. Разом зажглись фонари и резким светом облили людей, бетон, деревья и здания. Где-то на летном поле вспыхнул прожектор и положил на темнеющее небо свой луч-ятаган. У Рене было странное состояние, возвышенное и созерцательное: вместе с этим днем уходил большой и яркий кусок его жизни, уходил, чтобы постепенно все больше и больше тонуть в дымке неизбежного забвения. Рене был доволен, даже немножко горд собой, но ему было тревожно, точно он сидел за рулем яхты, направляя ее к узкому проходу в бурунах.
Уже входя в самолет, Рене обернулся: луч-ятаган все еще висел над быстро темнеющей землей, бесплотный, но в то же время чувственный и зримый. И как-то вдруг Рене понял, что его смущает, что тревожит: такой же бесплотной, но зримой тенью над Землей еще висит угроза ядерной катастрофы.
ИНОПЛАНЕТЯНИН
ОГРАБЛЕНИЕ
Если не причиной, то прямым толчком ряда удивительных событий, происшедших на североамериканском континенте в последней четверти XX века, явилось происшествие хотя и банальное, но по-своему необыкновенное. Из одного не очень крупного, но солидного банка, расположенного в Манхэттене, было похищено тринадцать килограммов высокопробного золота в слитках. По сиюминутным биржевым ценам стоимость украденного металла оценивалась в сумму около двухсот пятидесяти тысяч долларов — в четверть миллиона. Конечно, случившееся не было ограблением века или даже года, но выглядело достаточно внушительно. Поразительным, однако, был не предмет хищения и не стоимость украденного, а сам характер, сам способ ограбления.
Утром, непосредственно к открытию уже ограбленного, а возможно, ограбляемого банка, явилась состоятельная супружеская пара и потребовала немедленного доступа к личному, абонированному в хранилище сейфу. Супруги настаивали на немедленном обслуживании, объясняя срочность операции тем, что они могут опоздать на лайнер, которым нынче же утром отплывают в Европу. Без пяти минут путешественники нервничали, никак не желая примириться с естественной задержкой в обслуживании, которая определялась условиями их чрезмерно Раннего визита, и проявляли такую раздраженность и настойчивость, что для ускорения формальностей делами супружеской пары занялся один из заместителей управляющего банком. Весьма характерно, что этот заместитель имел прямое отношение ко всей системе охраны банка, знал ее тонкости — и неоспоримые преимуществу и некоторые слабые места, о которых говорилось разве в самом узком кругу заинтересованных и ответственных лиц.
Система охраны банка была оригинальной, надежной и безупречно функционировала на протяжении всего времени своего существования — более трех десятков лет. Создатель этой системы явно вдохновлялся идеями, заложенными в охранном комплексе Форт-Нокса. Подвал, в котором располагался личный сейф супругов и в которой вела многотонная стальная дверь традиционной круглой формы, был герметичным. В ночное, а точнее, в нерабочее время этот подвал под некоторым избыточным давлением заполнялся дешевым инертным газом — азотом, разумеется, совершенно непригодным для дыхания. Две-три минуты — вот и весь резерв времени, которым располагал бы человек без специального снаряжения, так или иначе попавший ночью в банковский подвал. Примерно таким же временем располагает под водой опытный ныряльщик без акваланга. Конечно, в последнюю четверть двадцатого века, в самый разгар научно-технической революции, грабителю ничего не стоит вооружиться портативным кислородным респиратором. С таким снаряжением в надутом азотом хранилище можно пробыть неопределенно долгое время, но возникает вопрос — как протащить туда баллоны с кислородом? Ведь даже аквалангисту, снаряжение которого практически обезвешено архимедовой силой, приходится нелегко, а запасов воздуха хватает на два-три часа, не более.
Но ультрасовременный грабитель с респиратором, этакий бакалавр-медвежатник — не более чем чисто формальная возможность. Если грабитель не бесплотный дух, наделенный способностью проходить через стены, а человек во плоти и крови, то для проникновения в банковское хранилище ему потребуется проделать отверстие в одной из стен, причем весьма объемное, или открыть входную дверь. В любом из этих случаев произойдет утечка азота в окружающую среду и сброс в хранилище избыточного давления. В результате сработает целая система контрольных барометрических датчиков и включит систему объявления тревоги, располагающую автономными источниками питания. Вывести из строя эту систему совершенно невозможно, а стало быть, совершенно невозможно незаметно проникнуть в банковское хранилище в нерабочее время, когда, так сказать, западня насторожена. И поскольку даже ультрасовременный грабитель не является существом бесплотным, проницающим и нуждается для дыхания в самом вульгарном кислороде, члены правления банка могли спать или кутить по ночам, в зависимости от своих личных склонностей, совершенно спокойно. Правда, большинство членов правления склонялось к мнению, что еще более эффективным охранным средством было бы заполнение хранилища не азотом, а синильной кислотой, табуном или каким-нибудь новомодным скларом, но на этом пути вставала масса трудностей, связанных с вентиляцией и дегазацией помещений, а потому от такого рода проектов скрепя сердце пришлось отказаться.
Собственно, была одна чисто теоретическая возможность обеспечить себе свободу действий в банковском хранилище, заместитель управляющего прекрасно знал о такой возможности и имел ее в виду. Незадолго до конца рабочего дня можно было некоторым образом спрятаться или замаскироваться в хранилище и дождаться, когда за тобой закроют и запрут многотонную стальную дверь, которую и из пушки не прошибешь. Отдельные сейфы какой-либо сигнализации не имели, в таких устройствах не видели никакой необходимости, так что грабитель, будь на то воля Господня и умение обходиться без кислорода, мог бы действовать совершенно свободно, имея в своем распоряжении около полусуток. А утром, уничтожив внешние, бросающиеся в глаза следы своей деятельности, он имел шанс так или иначе незаметно покинуть вскрытое и провентилированное хранилище. Но люди — не ангелы и даже не дьяволы, а азот, к счастью, никак не может заменить кислород и поддержать жизнедеятельность организма. Не успевал хитроумный грабитель удовлетворенно улыбнуться, глядя на медленно и торжественно закрывающуюся дверь, как в мертвой тишине раздавался мягкий шум насосной установки. В хранилище возникал легкий освежающий ветерок, сопровождающий перевентиляцию, и… после непродолжительной и тяжелой агонии несостоявшийся грабитель отправлялся по воле Господа в ад или в рай в зависимости от соотношения между своими прегрешениями и благодеяниями.
Два трупа, обнаруженных в разное время в банковском хранилище, наглядно свидетельствовали, с одной стороны, о том, что в святая святых все-таки можно проникнуть постороннему человеку и остаться там незамеченным вплоть до закрытия, а с другой — о том, что система охраны функционирует надежно и безупречно. Оба несчастных грабителя-неудачника были обнаружены прямо при входе в хранилище, возле двери-монолита, к которой их привела любовь к жизни и жажда глотка свежего воздуха. Руки одного из этих страдальцев были иссечены и избиты до костей, он слепо дрался за жизнь до конца и все старался голыми руками сокрушить безмолвного стального стража Второй гангстер-страдалец оказался и догадливей и благоразумней, хотя доставил куда больше хлопот уборщикам. Сообразив, откуда и какой ветер дует, он прислонился к двери спиной, вложил в открытый рот ствол одиннадцатимиллиметрового кольта и выстрелил.
После этого трагичного случая один из самых сердобольных членов правления, ссылаясь на идеалы гуманизма и жалобы уборщиков, предложил установить внутри хранилища рядом со злополучной дверью светящееся табло и кнопку бедствия на манер кнопки пожарной тревоги. Нажатием этой кнопки незадачливый грабитель мог бы прекратить перевентиляцию помещения и вызвать охрану. Этот сердобольный член правления имел в свое время тесные связи с гангстерскими кругами, а достигнув преклонного возраста, обратил свой взор к Господу и занялся благотворительностью. Его псевдогуманное предложение единодушно провалили как не соответствующее истинно христианской морали и, в частности, изречению: «Мне отмщенье и аз воздам!» Причем в ходе этого обсуждения имели место и двусмысленные улыбочки и весьма вольные шуточки насчет вдруг вспыхнувшего у имярек сострадания к несчастным бедолагам-грабителям, вооруженным кольтами военного образца.
В общем, зная, что у жуликов отсутствует возможность протащить в хранилище солидную цистерну с кислородом, заместитель управляющего был совершенно спокоен за доверенные банку ценности. Но когда супружеская чета после вскрытия абонированного сейфа вдруг заявила, что из него похищено тринадцать килограммов золота в слитках типа «савонетт», и когда беглая проверка подтвердила справедливость этого заявления, мысли заместителя управляющего заработали в несколько ином направлении. Он поспешно снял трубку служебного телефона и приказал охране никого не выпускать из помещения банка. Никого! Без каких бы то ни было исключений.
Дежурный полицейский Джон Доу получил это приказание буквально через несколько секунд после того, как мимо него прошел ничем не примечательный мужчина в сером костюме, мягкой шляпе, в зеркальных очках-светофильтрах и с атташе-кейсом в левой руке. Джон Доу был очень дисциплинированным и исполнительным полицейским, именно по этой причине он был удостоен чести охранять столь достойное учреждение Однако же он был начисто лишен фантазии и инициативы, этот прискорбный факт был основным препятствием на его пути к служебным успехам, мешал карьере и, в свою очередь, способствовал тому фатальному обстоятельству, что Доу был назначен в охрану банка. Джон Доу получил приказание закрыть выход из банка уже после того, как мужчина с атташе-кейсом проследовал мимо него, потому он не счел возможным окликнуть его, вернуть, а тем более задержать. Он хорошо знал, что закон, а приказание по служебному телефону имело для него силу закона, не имеет обратной силы. Джон Доу дал бы изрезать себя на куски и нафаршировать пулями, но никого бы не выпустил из банка после того, как произнес: «Да, сэр!» и повесил телефонную трубку. Но поскольку ничем не примечательный человек с атташе-кейсом успел миновать его пост до этого знаменательного момента, Доу не предпринимал в отношении него каких-либо активных действий. Тем не менее, будучи дисциплинированным и исполнительным службистом, он проследил взглядом за этим мужчиной, удалявшимся непринужденной, неторопливой походкой. Он смутно догадывался, что предельно короткий интервал между проходом этого человека через его пост и стоп-командой может показаться подозрительным его начальству и вызвать некоторые расспросы. Доу отметил и зафиксировал в своей весьма недурной, специфически натренированной памяти, что мужчина с атташе-кейсом, отойдя шагов на двадцать, остановился и некоторое время, не более минуты, спокойно поджидал кого-то, не проявляя ни малейших признаков нетерпения. К нему подъехал автомобиль, «шевроле» голубого цвета. Доу запомнил и номер машины, причем, как это выяснилось позже, запомнил его безошибочно. Из автомобиля вылез шофер, он был одет так, как одеваются профессиональные механики-драйверы, когда они на работе. Мужчины сказали друг другу несколько слов, человек с атташе-кейсом вежливо приподнял шляпу, сел в «шевроле» и влился в автомобильный поток. А драйвер спокойно удалился пешком.
Когда Джон был опрошен спешно прибывшим на место происшествия опытным детективом и откровенно выложил как неоспоримые факты, так и морально-юридические соображения насчет своих прав и возможностей, этот полицейский не знал, что ему делать со своим оригинальным собратом по профессии — выпороть его или расцеловать. И то и другое было в равной степени оправданно и по-своему справедливо. Джон Доу показал себя удивительным растяпой и рохлей, однако он перечислил целый ряд примет подозрительного мужчины с атташе-кейсом, а самое главное — запомнил номер автомобиля, на котором тот уехал. Благодаря этому номеру следствие сразу же пошло по нужной дороге и принесло желанные плоды. Буквально в течение нескольких минут, — такую скорость обеспечила прежде всего компьютерная техника полицейского отделения, — удалось установить, что голубой «шевроле» под соответствующим номером принадлежит одной из прокатных контор в Бруклине. Эта машина накануне дня ограбления была взята неким человеком по имени Кил Рой, приметы его в общем-то совпадали с приметами мужчины с атташе-кейсом, севшим возле банка в арендованный голубой «шевроле». По просьбе Кил Роя, весьма щедро оплаченной, «шевроле» до утра оставался в гараже прокатной конторы, а затем механик-драйвер к назначенному сроку подогнал машину к условленному месту возле банка. Водитель на минуту-другую задержался с доставкой машины, в Нью-Йорке, переполненном автомобилями до краев, бывают и не такие сюрпризы, но клиент никакого неудовольствия по этому поводу не высказал. Он с пониманием отнесся к извинениям драйвера, время доставки «шевроле» к банку было оговорено очень строго, поблагодарил его и дал ему щедрые чаевые.
Управляющий автомобильной прокатной конторой, он же и ее единоличный владелец, был бегло опрошен. Опрос механика-драйвера не был произведен по той простой причине, что он не успел еще вернуться в контору.
— Документы его были в полном порядке, за это я готов поручиться.
— А вас не удивило это странное имя — Кил Рой[1]?
Хозяин пожал жирными плечами.
— Это не мое дело. Мало ли какие имена носят люди!
— И просьба доставить машину к банку в точно назначенный час вас не удивила?
— Он заплатил мне за все услуги, и заплатил хорошо. Какое мне дело, мистеры, для чего он берет машину? Я ведь не сделал ничего противозаконного, не так ли?
— Вы не заметили во внешности, одежде, манерах Кил роя чего-либо особенного, запоминающегося?
— Самый обыкновенный бруклинец, — убежденно заявил владелец прокатной конторы. — А что касается особых примет, мистеры, то могу обратить ваше внимание на следующее: у него темные, почти черные волосы, смуглая кожа, ну, как у испанца или холеного гиппо, а глаза синие. Прямо васильки!
Это были очень существенные особые приметы. Почувствовав, что он произвел своим заявлением некоторое впечатление на полицейских, хозяин конторы оживился.
— Обращу ваше внимание и на еще одно обстоятельство, мистеры: этот Кил Рой очень сильный и ловкий человек. Может быть, он каратист или боксер, кто его знает? — Владелец конторы с некоторой грустью оглядел свою фигуру. — Не смотрите на мое брюхо и дряблые мускулы. В молодости я был крепким парнем — сто восемьдесят фунтов костей, мяса, сухожилий и ни унции жира! Я занимался борьбой. И не каким-нибудь слюнявым неконтактным каратэ, а реслингом. Глаз у меня наметанный. Этот Кил Рой сумеет постоять за себя, если дела примут серьезный оборот. Хотя внешне он и не выглядит богатырем.
Когда в ходе последующей беседы, а фактически самого обыкновенного допроса, бывший реслингер узнал, что на его голубом «шевроле» из банка было вывезено загадочно похищенное золото на сумму в двести пятьдесят тысяч долларов, его заплывшие жиром поросячьи глазки раскрылись необыкновенно широко, загоревшись восхищением и азартом.
— Золото! Четверть миллиона! — Он чуть не задохнулся от восторга. — Недаром я вылизывал и холил этот кар. Я чуял, что вместе с ним ко мне вернется удача и деньги потекут рекой. С ума можно сойти — четверть миллиона! Это же потрясающее паблисити для моей конторы!
Полицейский, ненароком, так сказать, к слову сообщивший хозяину о той роли, которую сыграл его голубой «шевроле» в банковском происшествии, с некоторой досадой на собственную наивность почувствовал, что упустил верный случай сделать маленький и вполне законный бизнес. Хозяин конторы определенно бы не поскупился выловить за эту новость некоторое количество монет. Забегая вперед, можно сказать, что деловое чутье не подвело отставного реслингера. После соответствующей рекламы (даже при входе в гараж красовался большой плакат с цветной фотографией голубого «шевроле») дела прокатно-ремонтной конторы пошли в гору. Голубой «шевроле» приобрел широкую известность как машина, приносящая удачу в делах, просперити и счастье в личной жизни, На голубой «шевроле» записывались в очередь, его брали напрокат даже те люди, в гаражах которых скучали роскошные «кадиллаки» индивидуальной сборки. Конечно, для серьезных дел — убийств, краж, поджогов и акций устрашения — «шевроле» брать избегали, слишком широкую известность успел он приобрести. Брать его было в известной мере равнозначно оставлению визитной карточки на месте преступления. Но для деловых встреч, любовных свиданий и других деяний, исход которых был сомнителен, а удача в них желанна, для определенной категории нью-йоркской, а в особенности бруклинской публики голубой «шевроле» был совершенно незаменим. Немало лиц изъявили желание приобрести счастливую машину, получившую романтическое название «тикет ту не блу», в личную собственность. Некоторые из них предлагали за этот автомобиль поистине астрономические, по обывательским понятиям, суммы, но бывший реслингер и нынешний процветающий бизнесмен с негодованием и смехом отвергал подобные попытки.
Между тем произошло событие, из-за которого интерес полиции к прокатно-ремонтной конторе и ее хозяину сразу угас. Голубой «шевроле» был обнаружен припаркованным на стоянке возле «Тюдор-отеля», расположенного на Сорок второй авеню. В этой гостинице охотно селились рядовые работники ООН, главным образом цветные. Наведенные по телефону справки дали поразительный результат: Кил Рой под собственным именем остановился в этой гостинице и занимал на шестом этаже самый ординарный номер. Он вернулся в гостиницу всего несколько минут тому назад и сейчас находился у себя. Более того, портье смог припомнить, что, когда мистер Рой брал ключ, в левой руке он держал атташе-кейс черной кожи, отделанный никелем, а возможно, и хромом.
— Вот же дурак! — прокомментировали в полицейском отделении это сообщение.
— Вряд ли дурак. Скорее всего, новичок, которому чертовски повезло, но который и понятия не имеет, как ему распорядиться этим везением. Новичкам всегда везет в картах, рулетке и в кражах.
— Не согласен, — посасывая сигару, сказал начальник отделения. — Это не дурак и не новичок. Это опытнейший преступник, но он слишком уверен в себе, а поэтому просто не считает нужным осторожничать и страховаться. Откуда мог знать этот, простите за выражение, Кил Рой, держу пари один к пяти, имя это ненастоящее, что супруги собрались в Европу? Они заказали билеты на лайнер лишь вчера вечером. Если бы не эта случайность, о хищении золота могли бы узнать лишь через несколько дней, а может быть, и недель. Нельзя терять ни минуты. Действуйте!
Ближе всего к «Тюдор-отелю» на своем черно-белом «бьюике» находился дежурный инспектор Питер Джексон с молодым помощником Джеральдом Лоу. Он и получил по радиотелефону вместе с короткой, но исчерпывающей информацией о сложившемся положении дел приказание задержать человека по имени Кил Рой, но своей главной задачей считать обнаружение тринадцати килограммов похищенного золота в слитках типа «савонетт», а если и не самого золота, то путей к нему. Когда это приказание было отдано, полицейский офицер, назвавший похитителя дураком, упрямо повторил:
— И все-таки Кил Рой — дурак, недотепа. В сейфе супругов находилось восемнадцать слитков золота, а он взял только тринадцать. Ну разве не идиот?
Начальник недоверчиво взглянул на этого офицера, еще раз пробежал глазами рапорт.
— Вы правы, Келли. Черт знает что!
— Каждый бы на его месте забрал все восемнадцать килограммов, — вздохнул Келли. — Разве не так?
Никто не решился ему возражать. Каждый из присутствовавших при этом разговоре полицейских отлично знал, что на месте Кил Роя он непременно забрал бы все восемнадцать килограммов.
ПОБЕГ
Вместе с приказанием задержать преступника Питер Джексон получил и короткое напоминание о том, что главной его задачей является обнаружение похищенного золота и что для быстрейшего ее решения на задержанного следует оказать всевозможное давление. Джексон не любил такого рода напоминаний. За ними стояло прозрачное разрешение применять насилие, издевательства и пытки в той изощренной форме, при которой на теле задержанного практически не остается следов, а душа оказывается покалеченной. Питер Джексон был консервативным полицейским старого закала, он предпочитал обходиться с задержанными без пресловутого «давления» которое все шире и шире начало применяться в полицейской практике со времен вьетнамской войны. Джексон не любил «давления» и по врожденному отвращению к издевательствам над беззащитными людьми, и по той простой причине, что начальник, давший обтекаемую инструкцию об активном воздействии на задержанного с целью получения тех или иных сведений, оставался чист перед законом как ангел, в то время как на прямого исполнителя ответственность за содеянное ложилась в полной мере. Случалось, что после акта «давления» срабатывали некие явные или тайные механизмы правосудия, а полицейское начальство не могло или считало невыгодным оказывать ему противодействие. И тогда бедный добросовестный исполнитель чужой воли попадал под следствие, а то и под суд со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями. Нет, Питер Джексон предпочитал придерживаться ортодоксальной полицейской сдержанности и корректности. Другое дело, если задерживаемый оказывал сопротивление, особенно вооруженное; в таких ситуациях Джексон действовал быстро, весьма квалифицированно и без малейшего стеснения.
Тринадцать килограммов золота — это целое состояние для среднего американца, за такие деньги обычно сражаются остервенело и до конца. Поэтому Джексон подготовился ко всяким неожиданностям, решил действовать с максимальной энергией и соответствующим образом настроил своего технически прекрасно подготовленного, но несколько туповатого напарника. К двери, ведущей в номер, занимаемый похитителем, подошли втроем, третьей была отчаянно трусившая горничная-негритянка. Лоу держал наготове наручники, он был большим искусником по части обращения с браслетами, Джексон страховал операцию с пистолетом на боевом взводе.
Задержание прошло так чисто и гладко, что даже скучно стало; примерно так же заскучал и разочаровался бы рыбак, если бы крупная форель сама выпрыгнула из реки и забралась в садок. Постоялец на стук и голос горничной открыл дверь, и в тот же миг оказался в наручниках, которые с ловкостью фокусника нацепил на него Лоу. Задержанного втолкнули в номер. Судя по всему, он так растерялся, что не оказал ни малейшего сопротивления. Горничная, мгновенно растерявшая всякий страх и многократно умножившая свое любопытство, попыталась было проникнуть следом, но ее не пустили, наказав во избежание страшных кар держать язык за зубами.
Кил Рой выглядел удивленным, но отнюдь не испуганным.
— Что это значит, джентльмены? — с легкой улыбкой и очень спокойно спросил он, показывая скованные руки.
— Дежурный инспектор Питер Джексон, — вежливо рекомендовался представитель власти. — Мой помощник. Вы задержаны по подозрению в хищении тринадцати килограммов золота в стандартных слитках французского производства типа «савонетт».
— А-а, вот в чем дело, — с прежним спокойствием констатировал задержанный.
У него была запоминающаяся внешность: темные вьющиеся волосы, матовая смуглая кожа, синие, истинно васильковые глаза, правильные черты лица. Отнюдь не богатырская, но статная фигура и скупые, уверенные движения свидетельствовали о неброской сдержанной силе и ловкости. В его облике не было ничего общего ни с матерым преступником, ни с зеленым простодушным новичком, когда успех ограбления объясняется чудовищным везением и ничем больше. Этот Кил Рой, стоявший перед Джексоном, определенно выпадал из ситуации, не желая увязываться в сознании инспектора ни с банковским хищением, ни с каким бы то ни было преступлением вообще. По знаку Джексона Лоу несколько раз оглядел одежду задержанного, провел по ней ладонями сверху вниз и отрицательно покачал головой — оружия при нем не оказалось.
— Садитесь, — разрешил Джексон.
Задержанный поблагодарил и сел в кресло, стоявшее рядом с ним. Джексон огляделся. Номер был недорогим, а поэтому и небольшим по площади — что-нибудь около дюжины квадратных ярдов или около того, не считая коридорчика и маленького туалета с душем. Он был обставлен стандартной гостиничной мебелью: широченная кровать, встроенный шкаф, секретер с откидной доской, стул. Джексон и опустился на этот стул, сделав знак Лоу, чтобы тот остался при входе на страховке. Несколько полновесных секунд Джексон разглядывал задержанного, в то Же самое время и тот без тени робости или смущения рассматривал полицейского.
— Я полагаю, — проговорил наконец инспектор, — Кил Рой — не настоящее ваше имя.
— Совершенно верно.
— Так. — Джексон выдержал паузу. — И все-таки я бы хотел познакомиться с вашими документами.
— Их уже нет, инспектор. — Задержанный обезоруживающе улыбнулся, адресуя свою улыбку не только Джексону, но и Лоу. — Они были подложными. Поэтому, когда они выполнили свое назначение, я их уничтожил.
— Вот как! Почему такая спешка?
— На всякий случай. Чтобы не подвести тех людей которые меня снабдили ими.
— Вы откровенны, — протянул Джексон, честно говоря, ему почему-то не нравилась эта откровенность. — Как ваше настоящее имя?
Задержанный на секунду задумался, а потом со своей мягкой улыбкой извиняющимся тоном сказал:
— У меня было столько имен, что я и сам запутался — какое имя настоящее, а какое нет. Называйте уж меня пока Кил Роем.
— Хорошо, мистер Рой. — Джексон постарался придать своему голосу оттенок если не угрозы, то многозначительности. Его все более беспокоил задержанный, беспокоил своим хладнокровием, корректностью, тем, что не протестовал против наручников, — такое бывает не чаще одного случая из десяти. Где-то в подсознании у Джексона складывалось дурацкое впечатление, что не он, дежурный инспектор, контролирует ситуацию, а этот респектабельный господин со скованными руками неким непонятным образом направляет развитие событий по своему желанию. Надо было перестраиваться.
— Мистер Рой, — негромко, но внушительно проговорил Джексон, — откровенное признание и наше свидетельство о наличии такой откровенности и доброй воли способны существенно снизить меру вашей ответственности перед законом.
Задержанный кивнул в знак понимания и со всей серьезностью присовокупил:
— Закон суров, но справедлив. Это общеизвестно, инспектор.
Джексон выдержал паузу, ему показалось, что задержанный смеется над ним. Но нет, лицо Кил Роя сохраняло предупредительное, пожалуй, чуть почтительное выражение.
— В конце концов, — продолжал инспектор, — все можно объяснить влиянием импульса, навязчивой идеей, неким наваждением. Когда ценности возвращаются владельцам добровольно, в целости и сохранности, следствие бывает чрезвычайно снисходительным.
Задержанный снова согласно склонил голову.
— Вы сделаете доброе дело, — уже энергичнее продолжал ободренный Джексон, — если избавите от лишних хлопот и себя и нас. Рано или поздно похищенное золото так или иначе будет найдено. Но если вы сами скажете, где оно…
— Простите, инспектор, — задержанный счел возможным перебить полицейского, — но я отлично понимаю все это. Более того, я полностью разделяю ваше мнение я охотно принимаю ваше предложение.
Кил Рой перевел взгляд на Лоу, как бы и его призывая в свидетели, и сказал:
— Золото здесь, в номере.
Лоу недоверчиво хмыкнул, а Джексон с нажимом переспросил:
— Здесь?
— Здесь, — хладнокровно повторил Кил Рой, — в этом шкафу. Там черный атташе-кейс, а в нем тринадцать слитков золота ровно по килограмму каждый. Можете убедиться в этом.
Джексон и Лоу переглянулись, а затем по знаку инспектора Лоу открыл шкаф и вытащил оттуда атташе-кейс. Он даже не был припрятан, стоял на самом виду.
— Тяжелый, — не сдержав удовлетворенной улыбки, Лоу поискал глазами, куда положить атташе-кейс, Джексон помог ему, указав глазами на кровать:
— Сюда.
Джексон сидел к постели спиной, теперь он вместе со стулом повернулся к ней боком, чтобы, наблюдая за процедурой вскрытия чемоданчика, в то же время не выпускать из виду задержанного. Несмотря на очевидную лояльность Кил Роя, Джексон не мог полностью доверять столь необычному грабителю и интуитивно ждал от него неожиданного сюрприза. Видимо, нечто подобное копошилось и в сознании Лоу: он замешкался со вскрытием атташе-кейса, явно опасаясь какой-нибудь пакости, которая могла быть в нем скрыта. Видимо, Кил Рой догадался о мыслях полицейских.
— Вы можете быть совершенно спокойны, джентльмены, — корректно уведомил он. — Атташе-кейс не заминирован, в нем не содержится ничего другого, кроме золота. Поверьте, мне меньше всего хочется взлететь на воздух Даже в такой приятной компании.
Подбодренный этим замечанием, Лоу щелкнул замком, осторожно приоткрыл, а затем и откинул крышку чемоданчика. Его лицо расплылось в широкой улыбке, золотые блики придали этой улыбке торжественный, а отчасти и блаженный вид.
— Они, — вздохнул Лоу и провел по слиткам золота самыми кончиками пальцев. — Все тринадцать!
Джексон не выдержал, приподнялся со стула и заглянул через плечо в раскрытый атташе-кейс. Лоу не обманул: в два ряда в специальных кожаных кармашках лежали золотые слитки — этакие аккуратные, миленькие брусочки, в верхнем ряду семь, в нижнем шесть штук, да еще целый ряд кармашков в самом низу оставался свободным.
Это движение и взгляд Джексона были маленькой ошибкой, ошибочкой, которую он впервые допустил после того, как получил приказание задержать похитителя золота. Что поделаешь, совершенно не ошибающихся людей на свете нет, как не существует и абсолютно безупречных линий поведения. Надо полагать, что Кил Рой знал об этом. Видимо, он твердо рассчитывал на то, что его противники рано или поздно допустят какой-нибудь незначительный промах, и терпеливо ждал этого мгновения. Как только Джексон полуобернулся и на секунду отвел от задержанного взгляд, тот сделал быстрое, но отнюдь не резкое, наоборот, очень плавное движение, отличавшееся внутренним единством и цельностью; за внешний рисунок такие движения иногда называют рыбьими или змеиными. Кил Рой приподнял свои скованные руки, так что наручники не шелохнулись и не звякнули, и двумя пальцами, указательным и средним, извлек из нагрудного кармашка своего пиджака нечто похожее на плоский пакетик размером с большую почтовую марку. И снова опустил руки, пакетик при этом исчез, точно растворился в ладони. Наверное, все это задержанный мог бы проделать и непосредственно под взглядами полицейских, но он дождался, когда они отвлекут свое внимание.
Секунду полюбовавшись тусклым сиянием золотых слитков, Джексон подозрительно покосился на задержанного, но поскольку тот сидел совершенно спокойно и, можно сказать, безмятежно, он протянул своему помощнику руку.
— Дайте-ка один!
Лоу аккуратно, бережно вытащил один слиток из кожаного кармашка и протянул Джексону.
— Держите, шеф.
Джексон подставил ладонь и ощутил на ней приятную холодноватую тяжесть. Да, золото весомо в самом прямом смысле этого слова!
— Действительно, «мыльце», — с неожиданно прорвавшимися в голосе умильными нотками пробормотал инспектор, почтительно взвешивая на руке словно светящийся изнутри солнечным светом брусочек металла.
Впрочем, он тут же овладел собой, со вздохом передал слиток напарнику и снова, еще строже, покосился на Кил Роя. Джеральд Лоу, принявший «савонетт» из рук шефа, не торопился укладывать его в атташе-кейс. Он поворачивал аккуратненький слиток и так и эдак, откровенно любуясь им. В его холодноватых серых глазах мерцали теперь золотые искорки, может быть, отчасти поэтому они приобрели то странное зорко-невидящее выражение, которое характерно для глаз тигра, царственно взирающего из своей клетки на одинокого трусоватого посетителя. В мозгу Джеральда Лоу плавно кружились не очень-то благородные мысли. Он и благоговел и стервенел от сознания, что держит на ладони и может зажать в кулаке двадцать тысяч долларов сразу! Он вдруг подумал, может быть, не совсем всерьез, но и не в шутку, что если бы не было здесь старика Джексона, если бы он один застукал этого типа с золотом, то, наверное, он сунул бы ему пару слитков и велел убираться подобру-поздорову. Пару слитков взял бы себе, а остальное сдал — обнаружить и сдать девять килограммов золота из тринадцати тоже немалая заслуга. Только… Отпускать задержанного конечно же глупо. Такого дурака, разумеется, рано или поздно непременно задержат, и выгодное дельце всплывет наружу. По-хорошему, по-умному этого самого Кил Роя надо шлепнуть. Сопротивление, попытка к бегству — мало ли что можно придумать? Чего жалеть этого типа, корчащего из себя настоящего джентльмена? Таким выродкам, посягающим на священную чужую собственность, не должно быть места в мире свободы и справедливости! А с золотом надо поступить похитрее, а то ведь начальники тоже не дураки. Надо… Джеральд Лоу был еще молодым полицейским, а потому не научился по-настоящему владеть своим лицом.
— Не увлекайся! — резко прозвучал голос Джексона, Разом оборвавший и разрушивший радужные мечты. — Посмотрел и хватит. Клади на место!
Лоу глубоко вздохнул, точно пробуждаясь от глубокого Сна, и начал засовывать слиток в кожаный кармашек атташе-кейса, пальцы его подрагивали, а потому эта нехитрая операция удалась ему не сразу.
— Вы бы взяли по слиточку, — невинно предложил Кил Рой. — На память о нашей встрече. Я буду нем как рыба, честное слово!
— Помолчали бы о чести.
— Закрой свою грязную пасть!
Эти фразы были произнесены одновременно: первую суховато проговорил Джексон, вторую прорычал Лоу. Кил Рой легонько пожал плечами, как бы принося извинения и говоря — мое дело предложить, а уж вы решайте, как вам поступить удобнее и выгоднее. Джексон встал и оправил форму.
— Закрой чемоданчик, — обратился он к своему помощнику. — Закрой, закрой… Вот так. И не спускай глаз с этого… джентльмена.
Подойдя к телефону, Джексон еще раз оправил форму, откашлялся, а потом связно и четко доложил начальству об успешно проведенной операции и ее результатах. Если бы он внимательнее следил при этом за задержанным, то, видимо, заметил бы, как по лицу Кил Роя скользнула тень удовлетворения, точно случилось именно то, что он ожидал и чего хотел.
По ответным репликам Джексона можно было понять, что босс весьма доволен результатом операции и благодарит исполнителей. Получил Джексон и целый ряд конкретных приказаний, о деталях можно было лишь гадать, но о главном содержании догадаться было легко. Полицейским вместе с задержанным надлежало оставаться на месте, в номере, и ждать прибытия неких чинов, о которых Джексон говорил с несомненным почтением в голосе. Когда Кил Рой понял это, его лицо на секунду отразило непривычную озабоченность, а потом он начал действовать. Пока Джексон заканчивал телефонный разговор, а Лоу, прислушиваясь к нему одним ухом, любовно поглаживал кожаный бочок атташе-кейса, Кил Рой проделал что-то с пакетиком, спрятанным в правой ладони. По-видимому, он включил в пакетике некое пусковое устройство, в результате срабатывания которого в нем началась химическая реакция с выделением газа: пакетик разбух, вздулся и превратился в цилиндрическую пластиковую ампулу, а вернее — в спринцовку с наконечником. Как только Джексон положил телефонную трубку, Кил Рой задержал дыхание, сделал он это совершенно естественно и непринужденно, и начал постепенно, с нарастающей силой сжимать спринцовку-ампулу в ладони. Раздалось едва слышное шипение, на которое полицейские не обратили ровно никакого внимания, тем более что звук и вообще-то невозможно было расслышать из-за городского шума, уровень которого по всему «Тюдор-отелю» был высоким.
— Надеюсь, ты все понял? — не без самодовольства спросил инспектор у своего помощника. — Нам приказано…
Что было приказано, сообщить он не успел: по его лицу подобно ряби на поверхности воды, пробежали недоумение, беспокойство, нарастающая тревога. Глаза его расширились, рот дернулся и судорожно открылся, рука потянулась к горлу, но приостановилась на полпути, делая конвульсивные хватательные движения. Колени у Джексона подогнулись; цепляясь за воздух, он мягко повалился набок, дернулся раз-другой и затих. Лоу успел донельзя изумиться, но сказать ничего не успел. С ним произошло то же самое, что и с его шефом, за одним приятным исключением: он успокоился более комфортабельно — не на полу, а на постели.
Кил Рой воспринял происходящее как нечто само собой разумеющееся. Более того, не дожидаясь конца этой сцены и не обращая внимания на Лоу, который еще судорожно хватался рукой за драгоценный атташе-кейс, он сделал скованными руками несколько быстрых скользящих движений и снял наручники. Именно снял, вовсе не открывая браслетов, снял изящно и непринужденно, как это делают опытные клишники на цирковой арене. Поднявшись из кресла, он взял атташе-кейс, небрежно сбросив с него безжизненную руку Лоу. Положив чемоданчик на секретер и открыв его, Кил Рой пробежался глазами по золотым слиткам, усмехнулся каким-то своим тайным мыслям, достал из ящика секретера несколько плоских пластиковых пакетов, уложил их поверх золота, закрыл крышку атташе-кейса и взял его в левую руку.
Оглядевшись, Кил Рой наклонился к лежащему Джексону, опытной рукой обхватил его запястье, прослушав пульс, удовлетворенно кивнул головой и выпустил руку, Уронив ее на ковер. Потянувшись к окну, Кил Рой слегка приоткрыл его, оставив щель шириной не более ладони, и направился к выходу. Все это время Кил Рой не дышал и, судя по его поведению, не испытывал по этой причине ни малейшего неудобства. Его, казалось бы, неторопливые Движения были в высокой степени слиты в единое динамическое целое, между его отдельными действиями не было даже самой маленькой паузы. Знаток мог бы по своему любоваться движениями Кил Роя в не меньшей степени, чем, скажем, балетоман любуется отточенным танцем балерины.
Возле двери Кил Рой вдруг приостановился, с некоторой грустью обозрел поле своей деятельности, задержавшись взглядом на приоткрытом окне, словно извиняясь перед Джексоном, слегка развел руками и покинул номер.
ПОГОНЯ
Выйдя из номера, Кил Рой аккуратно затворил за собой дверь и неторопливо зашагал к лифту. Возле служебной комнаты стояли горничные-негритянки и оживленно обсуждали что-то, скорее всего, неожиданный визит полиции к постояльцу на их этаже. Горничная, сопровождавшая полицейских, конечно же видела, как на вполне приличного и очень вежливого мистера вдруг нацепили наручники, и, несмотря на запрет и угрозу страшных кар, не преминула поделиться виденным. Заметив спокойно идущего по коридору злодея-постояльца, свидетельница происшествия оборвала свою речь на полуслове и застыла с полуоткрытым ртом. Разом замолчали и все остальные. Оцепеневшая группа чернокожих женщин в белоснежной одежде была очень живописной. Белели полоски зубов, белки глаз, а сами глаза, черные, выпуклые, блестящие, были прикованы к приближающемуся постояльцу, глядя на него с откровенным испугом и тайным, но жгучим любопытством. Проходя мимо этой картинной группы негритянок, стихийно скомпоновавшейся в духе немых театральных сцен, модных в прошлом веке, Кил Рой вежливо поклонился и сказал:
— Все в порядке, леди. Произошло небольшое недоразумение. В номере оставлена засада на триггермана, который вот-вот должен появиться. Вам настоятельно рекомендовано не заходить туда ни под каким видом!
И, еще раз поклонившись, постоялец спокойно проследовал к лифту. Он был уверен, что теперь без нажима со стороны начальства или полиции никто из служебного персонала гостиницы не посмеет сунуться в номер. Даже непосвященному все растолкуют, перебивая друг друга, и удержат от этого поистине самоубийственного поступка. Подумать только, засада на триггермана! Горничные в этом отношении были очень опытными дамами, уж кто-кто, а они-то отлично знали, как легко в ситуациях такого рода нажимаются спусковые крючки.
Находясь уже в кабине лифта, Кил Рой с удовлетворением подумал, что он психологически правильно разыграл свою роль и с полицейскими в номере, и с горничными в коридоре. Правильно и то, что он не стал менять свой облик или маскироваться очками-светофильтрами и шляпой после того, как разделался с полицейскими. Его могли если и не узнать, то заподозрить, а реакция людей в таких обстоятельствах может быть самой неожиданной, вплоть до самой агрессивной. Конечно, он все равно не позволил бы себя задержать, но к чему лишняя возня, ненужная кровь и ненароком сломанные кости? И теперь, перед выходом из гостиницы, не стоит маскироваться. Не может быть, чтобы нью-йоркская полиция — одна из лучших в мире — не взяла под наблюдение его голубой «шевроле», а наблюдатели не были бы проинформированы о том, что сам Кил Рой задержан и находится под охраной в своем номере. Наблюдение за машиной ведется для решения смутной задачи — выявления сообщников и соучастников. Появление на стоянке Кил Роя в его настоящем виде вызовет недоумение, определенную растерянность. Последуют радиозапросы, обращенные к руководству операцией, а может быть, и к полицейским, которые должны этого Кил Роя охранять. Все это создаст резерв времени, вполне достаточный для того, чтобы сесть за руль и набрать скорость. Не исключено, что в «шевроле» ухитрились устроить засаду — подсадили туда опытного детектива-волкодава, однако и этот вариант заранее учтен, предусмотрен, а поэтому и не страшен.
Кил Рой не ошибался в своих прогнозах, голубой «шевроле» был под наблюдением. Неподалеку от него стоял потрепанный «бьюик», под капотом которого, однако же, скрывался новейший двигатель, мощность которого почти вдвое превышала мощность моторов серийных автомобилей этой марки. Соответствующим образом была доработана и ходовая часть, так что этот псевдостаренький «бьюик» свободно развивал скорость свыше ста шестидесяти миль в Час. В автомобиле сидели двое полицейских, двое детективов в цивильной одежде — в костюмах с галстуками, легких плащах и мягких шляпах. Они держали в руках иллюстрированные журналы и следили за голубым «шевроле» и всеми подходами к нему. Занятие было для них привычным, детективы вели наблюдение квалифицированно, без лишнего напряжения и ненужной старательности. Они и в самом деле успевали просматривать красочные иллюстрации, обращая внимание друг друга на особенно удачные снимки и выразительные детали.
Сидевший на заднем сиденье старший группы сержант Стив Каррингтон сразу же обратил внимание на статного мужчину с черным атташе-кейсом, который, выйдя из гостиницы, уверенно направился к припаркованным машинам.
— Посмотри, Ред. Похож на объект! — сказал он заинтересованно, но с некоторым беспокойством.
— Похож. И даже очень, — после секундной паузы подтвердил шофер.
— Свяжись с Джексоном, — приказал сержант и сам нажал кнопку командной радиостанции. — Ральф, будь наготове.
— Понял, — ответил без паузы Ральф, сидевший в засаде в проходе между сиденьями голубого «шевроле».
— Джексон что-то не отвечает!
— Без паники, — сухо проговорил сержант. — Ребята заняты делом. Наблюдай за объектом.
«Объект», замедливший было шаг, когда ему пришлось пробираться через волну плотно шедших людей, выбрался на относительно свободное пространство и снова прибавил ходу. Шел он уверенно, отнюдь не торопясь, не оглядывался по сторонам и вообще не нервничал. Не стал он и темнить, делая вид, что направляется к какой-то другой машине или просто минует стоянку. Нет, «объект» направлялся прямо к голубому «шевроле», ничуть не скрывая своих намерений.
— Ральф, он идет к машине.
— Понял.
— Дай ему сесть за руль. В случае чего — получишь по затылку.
— Да понял я!
Едва Ральф успел договорить эту фразу, как увидел силуэт, фигуру «объекта», остановившегося возле передней дверцы машины. Отпирая ее, он на секунду, точно специально для обозрения, подставил наблюдателям свой профиль.
— Он! Кил Рой! Побей меня Бог! — вполголоса сказал шофер.
— Вижу.
Кил Рой отпер дверцу, сунул ключи в карман, бросил внутрь машины атташе-кейс…
— Приготовиться!
Сержант отложил журнал в сторону, снял пистолет с предохранителя и взялся за дверную ручку. Шофер повторил его действия. Кил Рой между тем сел на водительское место и захлопнул за собой дверцу. Никто и не заметил, что параллельно с этими действиями он резко сжал в ладони и перебросил на заднее сиденье пластиковую ампулу-спринцовку. Видимо, эта ампула была несколько иной конструкции, чем та, какой он пользовался в гостинице, потому что взорвалась она, скорее лопнула, словно откупорили бутылку шампанского. Кил Рой не стал пользоваться ключом зажигания, а опустив руку под приборный щиток, включил потайную кнопку, тщательно вделанную заподлицо с корпусом щитка, так что заметить ее было нелегко даже при тщательном осмотре. Мотор легко запустился, Кил Рой мысленно поблагодарил механика-драйвера за отличную работу, рывком снял машину с места и влился в поток автомобилей.
Расчет Кил Роя в общем и целом оправдался. Группа захвата, приготовившаяся к выходу из машины, но отнюдь не к погоне, на некоторое время растерялась. И сержант, и шофер невольно, незаметно для самих себя тянули время — ждали, что вот-вот голубой «шевроле» остановится и в знак того, что дело сделано, Ральф распахнет заднюю дверцу. Но когда «шевроле» начал, так сказать, втискиваться в скользящую мимо отеля угрюмо ворчащую ленту автомобилей, сержант точно проснулся.
— Чего стоишь? — толкнул он в спину шофера. — Вперед!
Тот запустил двигатель и, срывая машину с места, сквозь зубы спросил:
— Что же с Ральфом?
— Узнаем. Смелее!
Через несколько секунд ситуация в известной мере прояснилась и стабилизировалась: зрительный контакт с голубым «шевроле», вообще говоря, сохранился, но преследуемого и преследователей разделяло несколько шеренг автомобилей. Не теряя времени, сержант Каррингтон связался с руководством операцией и доложил обстановку. Последовал приказ подобраться к «шевроле» как можно ближе в одном из соседних рядов, держаться этого места и пока никаких активных действий не предпринимать. Преследуемый очень опасен! От него можно ожидать любых сюрпризов: неожиданных маневров, стрельбы, гранаты, газовой атаки… Сержанта осторожно проинформировали о том, что Джексон и его напарник отравлены неизвестным сильнодействующим газом, но, слава Богу, помощь подоспела вовремя и жизнь товарищей, судя по всему, вне опасности.
— Может быть, и Ральф живой, — пробормотал шофер.
Ральф, находившийся в засаде в голубом «шевроле» был его другом и собратом по многим опасным делам. Шофер нервничал, слишком рисковал, чтобы занять нужную позицию относительно преследуемого, поэтому сержант предупредил:
— Повнимательнее, Ред.
— Все будет люкс!
Против ожидания и вопреки полученной информации преследуемый не предпринимал дорожных уловок и не прибегал к хитроумному маневрированию. Если говорить честно, то именно это обстоятельство и тревожило сержанта все больше и больше. Но когда «шевроле» вырвался на набережную Ист-ривер, по которой проходила скоростная магистраль — дорога Франклина Рузвельта, он вздохнул с облегчением.
— Теперь деваться ему некуда.
— Это точно, — подтвердил шофер. — Попалась птичка.
Дорога Франклина Рузвельта не имела пересечений, поэтому блокировать ее было проще простого. Лавина машин в шесть рядов шириною, сверкая хромом и никелем, катилась по автостраде как единое целое, как некий гигантский, ворчащий, подергивающий мышцами удав. По левую сторону дороги раскрывалась картина изнанки Тюдор-Сити, жилого района, выросшего в конце Сорок второй авеню, для непривычного взгляда довольно странная картина. На скоростную магистраль, бешено мчащиеся автомобили и реку смотрели задние стены кирпичных зданий — этакий высоченный забор с редкими окнами, расчлененный на отдельные блоки. Справа от дороги тянулась Ист-ривер, соединяющая пролив Лонг-Айленд с бухтой Аппер-Бей и Гудзоном. К реке шел каменный спуск, перепачканный машинным маслом и поросший пыльной травой. По реке буксиры толкали баржи, над водой вились чайки.
«Шевроле», воспользовавшись удобным случаем, вдруг выбрался в крайний правый ряд автомобилей, притерся к самой обочине автострады и резко затормозил. Пока преследователи с немалым для себя и других риском повторяли этот маневр, их пронесло вперед — машину удалось затормозить ярдах в пятидесяти от голубого «шевроле». Сержант еще на ходу видел через заднее стекло, как из машины выскочил «объект» и побежал по откосу вниз, к реке. Выскочив из автомобиля, сержант неожиданно осознал, что лишен возможности действовать активно и целеустремленно.
В самом деле, что предпринять — стрелять? Но похитителя золота приказали захватить живым, чтобы вскрыть методику необычного ограбления и установить сообщников. Никому и в голову не приходило, что этот Кил Рой действовал в одиночку. Конечно, и начальники и исполнители хорошо понимают условность приказания — взять живым. В конце концов, все определяется конкретно складывающейся ситуацией преследования. Спасая свою жизнь, полицейский иногда бывает просто вынужден пристрелить беглеца. Но в данном случае беглец никому не угрожал, он просто бежал к реке, вот и все! Стрелять в него не было ровно никаких оснований. Другое дело, если бы «объекта» ждала на воде лодка, катер, акваланг или нечто в этом роде. По крайней мере, тогда в этом неожиданном стремлении Кил Роя к реке был хотя бы какой-то смысл. А так, зачем он бежал к воде, было совершенно непонятно! Ведь и дураку ясно, что ежели не удалось удрать на машине, то уж никак не удастся уйти вплавь просто так, без снаряжения, по такой оживленной реке, как Ист-ривер.
Все, что мог сделать в сложившейся обстановке сержант, — это проинформировать о случившемся руководство операцией, а потом отрезать преследуемому обратный путь — к дороге и автомобилям. Он так и поступил. И что делает ему честь, не забыл о своем товарище по профессии — Ральфе, который вне всякого сомнения находился сейчас в голубом «шевроле». Коротко доложив обстановку, сержант бросил шоферу:
— Посмотри, что с Ральфом. И ко мне!
Достав из кармана пистолет, он снял его с предохранителя и начал без особой торопливости спускаться к реке. Оглядевшись по пути, он почувствовал облегчение: в полутора сотнях ярдов ниже по течению к реке сбегало несколько полицейских. Нет сомнений, что через минуту-другую появится и быстроходный катер. Кил Рой попался — пути отхода отрезаны, деваться ему некуда!
Между тем преследуемый остановился возле самой кромки воды и оглянулся. Сержант поднял пистолет и для устрашения дважды выстрелил поверх головы неудачливого беглеца.
— Не дури! Сдавайся!
Беглец засмеялся, помахал сержанту рукой и, прижав атташе-кейс к груди левой рукой, вбежал в воду и нырнул. Нырнул и скрылся из глаз, оставив после себя лишь расходящиеся круги. Сержант плюнул с досады — вот дурак, утонет еще, придется искать тело — и поторопился со спуском.
— Живой! — торжествующе крикнул сверху шофер. — Сейчас очухается!
— Ну и слава Богу, — рассеянно проговорил сержант.
Он стоял теперь у самой воды и шарил глазами по поверхности реки. Она была девственно спокойной — ни пузырей, ни бурунчиков, ни всплесков. Сержант посмотрел на часы. Сколько может пробыть под водой опытный ныряльщик? Говорят, ловцы жемчуга, которых прогресс еще не снабдил аквалангами, терпят до трех минут. Вряд ли этот тип в костюме, ботинках и с атташе-кейсом в руках выдержит больше. За эти три минуты дальше сотни ярдов ему нипочем не уйти, поэтому самое разумное — это стоять на месте и ждать, когда этот оригинал, отфыркиваясь, появится на поверхности воды, а потом уже с улыбкой на лице и с пистолетом в руке диктовать ему свои условия.
Но прошло и три минуты, и пять минут, а беглец-ныряльщик на поверхности реки не показывался, он канул в воду в буквальном смысле этого слова. Прибыл катер с полицейскими, а затем другой — с опытными аквалангистами. Эти искушенные дети моря, а вернее, его приемыши тщательно прочесали прибрежный участок Ист-ривер, все более и более расширяя район своих поисков, но так и не нашли ни трупа беглеца, ни чемоданчика с золотом. Поиски продолжались целый день до захода солнца, их намеревались продолжать и на следующий. Но целый ряд экстраординарных событий помешал осуществлению этого намерения.
ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
Полковник Мейседон, заместитель начальника армейского отдела разведуправления министерства обороны читал перед сном детектив. Это было его давней традицией — читать перед сном, и главным образом детективы Приятно перед мягким, почти невесомым падением в добрые объятия Морфея отрешиться от многогранных, почти непостижимых сложностей реального мира и погрузиться в царство условных, упрощенных ценностей. В царство своеобразных шахмат, в котором фигуры и пешки заменены более или менее удачно подобранными человеческими схемами. Черные фигуры — это преступники и вообще носители зла, белые — это сыщики и персонажи если не добрые, то, по крайней мере, к добру стремящиеся, а пешки — простые люди, не представляющие особого интереса, жертвовать которыми можно, в принципе, без особого сожаления. Действия обитателей детективного царства, как и ходы шахматных фигур, подчинены жестким правилам, нарушать которые во избежание провала книги и авторского конфуза не рекомендуется. И даже талантливые попытки отойти от этих правил являются своеобразными правилами второго рода, хорошо известными и авторам детективов и читателям. Мейседон чувствовал себя очень удобно и покойно в детективных царствах. То обстоятельство, что зачастую он наперед угадывал развитие действия, не только его не раздражало, а, наоборот, умиротворяло и утверждало в собственной значимости и проницательности. Минут двадцать — тридцать, и, несмотря на свирепые схватки и кровавые драмы детективных героев, Мейседон воспринимал их как оригинальные шахматные комбинации с жертвами фигур, глаза заместителя начинали слипаться. Он гасил свет и мирно засыпал. Правда, в последнее время успешному развитию этого благотворного процесса мешала картина пустующей кровати, на которой, по идее, должна была бы располагаться его супруга Сильвия Мейседон. Полковник не только не знал, где находилась в этот момент его жена и что она делала, он не знал, женат ли он вообще в собственном смысле этого слова! Ситуация была очень запутана, неоднозначна и противоречива; если Мейседон вспоминал о Сильвии, спокойствие покидало его, и он долго не мог заснуть. Супружеская жизнь — не шахматы и не детективное царство. Полковник в недалеком прошлом получил по этому поводу предметный урок, поэтому, чтобы не терять благорасположения духа, он, выключая свет, старался не смотреть на пустующую кровать.
В этот знаменательный вечер, когда Мейседон еще не спел почувствовать приближения желанной дремоты, зазвонил телефон. Полковник снял трубку.
— Слушаю.
Отвечая по домашнему телефону, Мейседон никогда не называл своего имени — работа в Пентагоне накладывала некоторую специфику на его характер и поведение.
— Это вы, баззард? — пропел знакомый насмешливый тенорок. — Похоже, вы еще не спите. И это очень кстати!
— Приветствую вас, Чарльз.
— Взаимно, баззард.
— Почему же кстати?
— Потому что спросонья люди бывают глупее обычного и плохо соображают. Особенно служители Марса.
Мейседон успел привыкнуть к экстравагантностям Уотсона и не обращал внимания на его шуточки.
— А мне нужно соображать?
— Соображать нужно всегда, мой полковник. Вы не собираетесь уезжать? В командировку, в отпуск или что-нибудь в этом роде?
Мейседон на секунду задумался и пожал плечами.
— Да нет, не собираюсь.
— Прекрасно. И не собирайтесь. А уж если на вас начнет давить начальство, немедленно поставьте меня в известность.
Полковник насторожился.
— А в чем дело?
— Уровень трансцендентности угрожающе высок, баззард, — с какой-то ехидцей уведомил тенорок. — Он и вообще-то был аномальным в последнее время. А сегодня подскочил так, что я вынужден был проверить и программу, и машину. Все в порядке. За исключением, разумеется, того обстоятельства, что благополучие человеческой цивилизации висит теперь на ниточке.
Мейседон открыл было рот, но снова закрыл его. Он ожидал услышать от Уотсона что угодно, но только не это! Совладав наконец с собой, полковник сдержанно спросил:
— Надеюсь, вы шутите, Чарльз?
Уотсон засмеялся, видимо, очень довольный тем, что озадачил пентагоновца.
— Шучу, Генри, шучу. В отношении благополучия человечества шучу. А вот что касается угрожающего уровня трансцендентности, то это вполне серьезно. Если мировые события и дальше будут развиваться сходным образом то в ближайшее время будет объявлена тревога.
— Уму непостижимо! Вы не можете намекнуть, в чем дело?
— Это не телефонный разговор, баззард. Могу лишь сказать, что вся закавыка в некоей таинственной личности, которая вытворяет черт знает что!
Мейседон вытер лоб, лишь после этого машинального жеста обнаружив, что на нем выступила испарина.
— Ну и ну! — Полковник помолчал, после этой паузы голос его обрел обычную твердость. — Послушайте Чарльз, вы серьезно верите в возможность объявления тревоги? Не «ангельской» тревоги, а настоящей?
— А что такое «ангельская» тревога? — с искренним любопытством спросил Уотсон.
— Бог мой, да неужели вы не знаете, что «ангелами» называют ложные отметки на экранах радаров? Отсюда и название тревоги!
— Интересно! Знаете, если мы имеет дело с ангелом, с ангелом-хранителем или с ангелом смерти — это уже второй вопрос, то тревогу можно будет назвать именно ангельской. — Уотсон пискляво рассмеялся и уже серьезно закончил: — Вы же знаете, что программа утверждена. Ее контрольная часть запихана в машину. Значит, тревогу будет объявлять машина. Мое дело сторона! Так-то, баззард.
Мейседон промолчал. Уотсон, не дождавшийся ответной реплики, напомнил:
— В общем, постарайтесь в ближайшие дни не отлучаться из столицы, а если на вас будут давить — звоните.
Мейседон вздохнул.
— Понял, Чарльз.
— Вот и отлично. Доброй ночи! — в голосе Уотсона отчетливо прозвучали ехидные нотки.
— Доброй ночи, — буркнул полковник и положил трубку.
Некоторое время Мейседон лежал на спине и смотрел в потолок. Нельзя сказать, чтобы он был удивлен. Разве можно удивиться, увидев, как к тебе в комнату входит Белоснежка в сопровождении семи гномов? Или бравый Кот в Сапогах? Или пенорожденная Афродита, окруженная лукавыми амурчиками с луками и стрелами? Человек в таких ситуациях испытывает не удивление, а обалдение, сопровождающееся прострацией и отсутствием способности логически мыслить. Тревога по уровню трансцендентности! Чем не второе пришествие? Как его втянули в эту историю? С чего началось? Взгляд Мейседона упал на пустующую кровать супруги. Верно, началось с того, а он надумал разводиться с Сильвией, а еще вернее, с того что он на ней женился.
Мейседон был офицером привилегированной категории, пойнтером, сие словечко на армейском сленге означает, что в свое время он окончил своего рода войсковую академию — Вест-Пойнт. Но во время учебы особыми успехами Мейседон не блистал, влиятельных родственников и протекционных связей не имел, а поэтому карьера его складывалась ни шатко, ни валко. В качестве офицера армейской разведки Мейседон объездил, а вернее, облетал полмира. Принимал некоторое участие во вьетнамской войне, во время конфликтных ситуаций бывал на Ближнем Востоке и в некоторых странах Африки, периодически наезжал на европейский континент и вообще появлялся практически всюду, куда американский милитаризм успел протянуть свои щупальца и либо уже свил, либо еще только свивал свои осиные гнездышки. Может быть, потому, что Мейседон больше времени проводил в разъездах, нежели сидел на одном месте, он и оставался холостым до весьма критического по американским понятиям тридцатидвухлетнего возраста.
Сильвия происходила из семьи бизнесмена, не очень крупного, но достаточно солидного. Ее отец Эдуард Мил-тон занимал прочное положение в компании «Радио корпорейшн оф Америка» и стоил не один десяток миллионов долларов. К моменту знакомства с Мейседоном Сильвия успела побывать замужем за солидным человеком из делового мира. Уйдя в мир иной и лучший, нельзя сказать, что это случилось уж слишком преждевременно, — ему было тогда шестьдесят четыре года, супруг оставил Сильвии дом и полмиллиона долларов. Она не стесняясь говорила потом Мейседону, что рассчитывала на гораздо большее. Но престарелый супруг, который, казалось, души не чаял в своей молоденькой жене, оказался, по словам Сильвии, человеком лживым и двуличным. Большую часть своего состояния он завещал своей первой жене, с которой расстался чуть ли не четверть века тому назад, и двум взрослым детям — сыну и дочери, которая, кстати говоря, была на три года старше Сильвии. «Нет, какое коварство и неблагодарность!» — с откровенным негодованием говорила она по этому поводу. Дело тут было, однако, не только в коварстве или вдруг проснувшейся любви к своим отпрыскам, но и в некоторых весьма тонких, хотя и не очень деликатных обстоятельствах, но Мейседон долгое время ничего не знал об этом.
Тридцатидвухлетний майор Мейседон прибыл к берегам Потомака на несколько дней, он сопровождал некие важные документы, направленные в Пентагон из Южной Кореи. Совершенно случайно он попал на вечеринку к одному из однокашников-пойнтеров, который вот уже несколько лет работал в Биг-Хаус. Тоже чисто случайно на этой же вечеринке оказалась и Сильвия. Мейседону приглянулась живая, очаровательная женщина, естественная непосредственность которой была смягчена воспитанием и светским лоском. Конечно, дело тут было еще и в том, что он просто соскучился по женщинам европейского типа и изобилующей милыми сложностями непокупной любви. Ну, а Сильвии откровенно понравился статный офицер, так много видевший на своем веку, в меру насмешливый и остроумный. Если это была и не любовь с первого взгляда, то нечто весьма на нее похожее.
Сильвия сдалась на третий день знакомства. Она объясняла некоторую свою поспешность в таком серьезном деле тем, что Мейседон должен был очень скоро и, может быть, надолго улететь в экзотическую Южную Корею. Мейседон был приятно удивлен, узнав, что имеет дело с независимой и достаточно богатой женщиной, вхожей в деловые и светские круги столицы. И Сильвия была приятно удивлена, обнаружив, что бравый, но такой наивный майор ничего не знал о ее общественном и финансовом положении. Собственно, в первую же ночь, которую они провели вместе, и был решен в принципе, так сказать, стратегически, вопрос об их браке. Правда, Мейседона, человека военного, приученного к ясности и определенности, сильно смущали чисто тактические проблемы: Сильвия жила на берегу Потомака, Мейседон служил в Южной Корее, отделенной от его возлюбленной водами Пэсифика и платформой североамериканского континента. Но Сильвия, может быть, потому, что она ничего не знала об основах тактического искусства, отнеслась к этой проблеме очень легкомысленно. Надо просто подождать, сказала она с непонятной уверенностью, и все как-нибудь само собой образуется. Ну, а если не образуется, тогда она скажет своему дедди, и уж дедди обязательно что-нибудь придумает. Генри должен спокойно лететь в свою грязную Корею и ждать перевода домой, в Штаты. От него требуется лишь одно: хранить Сильвии верность и не обращать внимания на всех этих скиппи, чак джаб, галл и других ужасных женщин. Специфическая лексическая осведомленность Сильвии произвела на Мейседона не очень приятное впечатление, но ее хорошенький ротик произносил эти слова с такой очаровательной непосредственностью, что Генри тут же простил ее: вряд ли она толком понимала что говорит. О его переводе на континент Сильвия говорила с такой простотой и убежденностью, что Мейседон решил ей поверить. В конце концов, проявляя такую доверчивость, он ведь ровно ничего не терял, зато приобрести мог очень многое. И все-таки Мейседон был несколько ошарашен, когда менее чем через месяц его действительно отозвали в Штаты — на трехмесячные курсы оперативников.
На втором месяце пребывания на этих курсах Генри Мейседон сделал официальное предложение Сильвии, а затем испросил согласия на руку дочери у Эдуарда Милтона. Мейседон познакомился с Милтоном еще во время первого визита в Вашингтон перед отлетом в Южную Корею. Сильвия очень хотела этого знакомства и сумела настоять на своем. Мейседон чувствовал, что отец Сильвии, немногословный суровый старик, — он выглядел именно стариком и, хотя был еще крепок духом и телом, нимало не старался скрыть свой возраст, — все это время внимательно к нему прислушивался и приглядывался. Как-то в ходе ничего не значащего разговора старый бизнесмен мимоходом пожаловался, что компания «ИБМ» перехватила у «Радио корпорейшн» львиную долю военных заказов. И произошло это потому, что «ИБМ» гораздо лучше информирована о программах и планах военного министерства. Мейседон тогда еще не совсем понял, куда ветер дует, но реплику эту хорошо запомнил и сделал для себя некоторые выводы.
Выслушав Мейседона, Милтон не ответил ни да, ни нет, а предложил майору присесть у камина и угостил коктейлем собственного приготовления, что было очевидным знаком милости и доброго расположения духа.
— Надеюсь, вы понимаете, Генри, что это очень серьезный шаг в вашей жизни. Очень, очень серьезный!
— Отлично понимаю!
— Прекрасно. — Старик отпил глоток и продолжал задумчиво: — Я люблю свою дочь, Генри. Она привыкла к определенному кругу людей, к комфорту. Ей будет непривычно и тяжело мотаться с вами по всем этим Палестинам, Египтам и Кореям. И даже в самих Штатах ей будет трудно привыкнуть к положению жены обыкновенного офицера. Гарнизонная жизнь есть гарнизонная жизнь я знаю, что это такое.
Мейседон молчал, но сердце у него сжалось; в тот период он был по-настоящему влюблен в свою Си и лучшей жены для себя не желал. Но что он мог сказать старику? Ведь тот был кругом прав! Милтон посмотрел на поскучневшее лицо Мейседона, чуточку улыбнулся и мягко добавил:
— Я думаю, вы будете с Сильвией хорошей парой. Но вам нужно остаться в столице, Генри. Только в столице и нигде больше! Надо устроиться с пользой для службы и для дела. Для дела семьи и всей фамилии.
— Да разве я против? — вырвалось у Генри. — Разведуправление обороны — прекрасное и перспективное место, но попасть туда очень трудно, почти невозможно.
Милтон отпил глоток коктейля.
— Разведуправление? — задумчиво переспросил он. — Почему именно разведуправление?
Мейседон был рад поставленному вопросу, ответ на него был давно составлен и продуман.
— Потому что разведуправление в наибольшей степени информировано о планах и программах Пентагона. Ведь оно координирует деятельность разведок армии, авиации и флота. И знает нечто и сверх чисто военных мероприятий.
Милтон некоторое время раздумывал, глядя на огонь за каминной решеткой. Потом негромко, точно размышляя вслух, проговорил:
— Что ж, мне думается, мы сработаемся, сынок.
— А я так уверен в этом, мистер Милтон! — без паузы отозвался Мейседон.
Старик улыбнулся, его тяжелое лицо собралось крупными складками, но выцветшие голубые глаза смотрели молодо и ясно. С неожиданной легкостью подняв из кресла свое большое костлявое тело, Милтон положил руку на плечо Мейседона, предупреждая и его попытку подняться, и веско, как о деле давно решенном, сказал:
— Вы никуда не уедете из столицы после этих дурацких курсов. Вы будете служить в Форт-Фамбле, в Пентагоне. И именно в разведуправлении!
Сердце Мейседона забилось.
— Благодарю, мистер Милтон.
— Ну-ну! Если вы для меня сынок, то я для вас отец.
— Благодарю, отец.
Милтон слегка сжал плечо будущего зятя.
— Поработайте там, осмотритесь, заведите полезные знакомства. Ну, а потом уж поговорим о серьезных делах. — Он усмехнулся. — Играете на бирже? С переменным успехом?
— Да, отец.
— Прекратите. У вас слишком мало связей и еще меньше денег, чтобы добиться успеха в этом бизнесе. Приобретите акции «Радио корпорейшн», я скажу, когда и какие.
— Да, отец, я все понял.
— Вот и отлично. А теперь иди и обрадуй девочку, она ждет. — И, дружески тряхнув Мейседона за плечо, старик удалился.
К Сильвии Мейседону идти не пришлось, она сама выбежала из соседней комнаты и бросилась ему на шею.
Старик Милтон не обманул. После окончания курсов неожиданно для своих коллег, но не для себя, Мейседон получил назначение в разведуправление и влился в число тех тридцати тысяч человек, которые служили и работали в Пентагоне. А спустя некоторое время его банковский счет начал не очень быстро, но неуклонно расти за счет доходов, получаемых и от акций и помимо акций, но все-таки от «Радио корпорейшн оф Америка». Мейседон регулярно поставлял секретную и совершенно секретную военную информацию Милтону. Он имел дело исключительно со своим тестем, причем передача информации носила характер дружеской, доверительной беседы. Но Мейседон вовсе не был наивным или глупым человеком, он понимал, что, как ни верти и ни прикрывайся родственными связями и порядочностью Милтона, а он стал пусть не совсем обыкновенным, но все-таки шпионом. Платным экономическим шпионом, которого компания «Радио корпорейшн» внедрила в достаточно высокую сферу. Надо сказать, что любовь к родине, долг и честь не были для Генри Мейседона пустыми звуками и расхожими ценностями, возможно, он был в этом отношении несколько старомоден и недостаточно рационален. Он и во Вьетнам поехал добровольцем, искренне полагая, что престижу великого государства, Соединенным Штатам, в Индокитае нанесен чувствительный удар и что виновники, может быть, и не очень жестоко, но непременно должны быть наказаны. Потом он, конечно, понял, что совершил глупость, и, когда после ранения его направили на континент, вздохнул с превеликим облегчением. Но в глубине души он чувствовал себя способным на еще одну глупость, если сложится соответствующая мировая ситуация. Уже работая в разведуправлении, он несколько раз и с большой охотой бывал в Израиле, хотя, если говорить честно, не испытывал особой симпатии ни к евреям, ни к идеям международного сионизма. Но в Израиле был поставлен на карту престиж его любимой родины!
В общем, поставляя экономическую информацию компании «Радио корпорейшн», Мейседон испытывал определенную неловкость и угрызения совести. Опытный Милтон не мог не заметить этого. Он не придавал особого значения переживаниям зятя, хорошо зная великолепные адаптационные способности хомо сапиенса и его поистине неистощимую фантазию в аспекте самооправдания. Но, видя, что болезнь затягивается и грозит превратиться в своеобразный комплекс неполноценности, старый бизнесмен счел за лучшее откровенно поговорить с Мейседоном. Милтон сказал, что догадывается о сомнениях и колебаниях офицера, относится к ним с уважением, но не разделяет их. Конечно, где-нибудь на Кубе, в Советской России или в любом ином тоталитарном государстве без частной собственности разглашение военных секретов — это всегда измена, предательство, и по этому вопросу двух мнений быть не может! Совершенно по-другому обстоит дело в странах с развитой частной инициативой. Процветание и мощь Штатов, их способность защищать самих себя и весь свободный мир прямо зависят от процветания частных фирм, компаний, концернов и консорциумов. Чем лучше идут дела «Радио корпорейшн», тем лучше идут дела всей Америки! Поставка добротных экономических сведений компаниям, которые работают на военные ведомства, — не измена, не предательство, а нужное и доброе дело. В деятельности таких компаний органически сливается частное и общее, личное и государственное; разделять их и невозможно, и опасно, а может быть, и преступно. Так что совесть полковника Мейседона может быть совершенно чиста и спокойна, его сведения используются не во вред, а на благо родины.
Милтон не вполне убедил Мейседона, но все-таки снял большую часть груза с его души, особенно несколько неожиданной заключительной частью этой беседы.
— Помимо всего прочего, сынок, — ласково сказал Милтон после паузы, причем эта ласковость была отнюдь не показной, — ты должен понять, что «Радио корпорейшн» просто обязана получать такую информацию. Иначе она быстро вылетит в трубу! Неужели ты вообразил, что никто не поставляет аналогичные сведения другим компаниям?
Мейседону, разумеется, приходили в голову такие мысли, но тем не менее он слушал старика с большим интересом — его слова лились целебным бальзамом на его душевные раны.
— Мы должны получать сведения о программах по развитию и внедрению военной электроники, и мы будем получать их, чего бы это нам ни стоило. — Милтон улыбнулся не без некоторой грусти. — Не ты, сынок, так кто-нибудь другой. Изменить ситуацию невозможно, а в соответствии с ней к большому бизнесу предъявляются очень жесткие требования.
Понемногу сомнения Мейседона потускнели и превратились в некие бледные тени, которые если и появлялись иногда перед внутренним взором полковника, то уже не тревожили, а вызывали лишь легкую грусть и, пожалуй, любопытство. Он успокоился: что поделаешь, такова жизнь, такова экономическая и политическая система страны, в которой он родился. Мейседон вошел во вкус и стал черпать данные не только из каналов родной армейской разведки, но и обращаться к соседям — к своим коллегам из военно-воздушных и военно-морских сил. Он оказался неплохим психологом и, так сказать, селезенкой чувствовал, кто в свою очередь нуждается в информации и пойдет на обмен. Поток сведений сразу увеличился. Многоопытный Милтон довольно быстро сообразил, в чем тут дело. В принципе одобрив активность зятя, старик вместе с тем учинил ему по форме мягкий, а по существу суровый, бескомпромиссный разнос.
— Ты увлекся, сынок. Не забывай о конкурентах. Любой из твоих коллег может оказаться не только проходным осведомителем, но и провокатором. Будь предельно осторожен, сынок. Если ты попадешь между жерновами двух конкурирующих компаний, твоя карьера прервется если и не навсегда, то очень надолго. А может случиться и самое худшее из того, что вообще может случиться с человеком. А я на тебя рассчитываю! Пожалуй, из моих близких ты единственный человек, на которого я могу положиться в больших делах.
Мейседон поверил старому бизнесмену. Он понял, что его служба в Пентагоне носит вспомогательный, а может быть, и временный характер. И сделал самое умное из того, что мог сделать, — удвоил служебное рвение и осторожность. Однако он достиг уже такого уровня мастерства в своей осведомительной деятельности, что поставляемый им поток информации почти не сократился.
СОМНЕНИЕ
Был ли счастливым брак Мейседона с Сильвией? И да и нет. Мейседону, выходцу из семьи скромного банковского служащего, попавшему в Вест-Пойнт лишь благодаря протекции какого-то очень влиятельного родственника, пришлось ко многому привыкнуть и со многим смириться. Ему пришлось смириться, например, с тем, что Сильвия, сохранив в соответствии с брачным контрактом финансовую независимость, сохранила и большую свободу, планируя времяпрепровождение по собственному усмотрению. Тем более что Мейседон, отдавая много времени службе и бизнесу, далеко не всегда мог сопровождать Сильвию в ее разъездах и развлечениях. У Сильвии была своя жизнь, у него своя, но когда они проводили время вместе, им было хорошо, и ссорились они, особенно в первые годы брака, очень редко. Вообще-то говоря, их любовь и привязанность достигли своего пика где-то на первом году супружества, а потом началось медленное взаимное охлаждение. Но Мейседон считал этот процесс естественным, неизбежным и не придавал ему особого значения. Вечно любить невозможно! Это и прямо, а главным образом косвенно начали вдалбливать в голову Генри еще со школьной скамьи. Об этом на разные лады твердили нескончаемый поток фильмов, книги и вся окружающая жизнь. Чего же удивительного, что Мейседон признал это правило и принял его к руководству? Честно говоря, после того как с помощью старика Милтона он по-настоящему приобщился к бизнесу, Мейседон как бы снял с повестки дня вопрос о личном счастье, предоставив семейной жизни и сопутствующим ей событиям развиваться самим собой.
Была ли Сильвия верна Мейседону? Вряд ли. И к тому, что на этот вопрос не только нельзя было ответить, но и неуместно было его ставить, Мейседону тоже надо было привыкнуть и смириться с этим. Было бы неверно думать, что в среде, к которой принадлежала семья Милтонов, супружеская верность считалась смешной, старомодной и открыто осуждалась, как это имеет место в богеме и кругах хиппианского толка. О супружеской верности попросту не говорили и не спорили, как не говорят и не спорят, скажем, об отправлении естественных надобностей; этого понятия как бы не существовало. Открытый флирт с чужой женой на глазах у ее супруга с поцелуями в шейку, двусмысленными шуточками и изысканными непристойностями был явлением самым заурядным. Одному Богу или дьяволу было известно, чем оборачивались эти так называемые дружеские отношения, когда участники этих щекочущих нервы игр оставались наедине. Случайные, мимолетные и, может быть, длительные, но легкие связи представляли собой нечто вроде ряби на жизни этого общества, они не затрагивали глубинных слоев и почти не отражались ни на семейных, ни на дружеских взаимоотношениях. Измены и связи обнажались и становились предметом обсуждения и осуждения лишь в том случае, когда они не укладывались в привычные рамки, когда они приобретали экстраординарный характер. Причем в разряд экстраординарностей включались и самая грубая, вульгарная открытая страсть, и истинная любовь, которая всегда бывает открытой. Иногда и такая любовь, вопреки всем условностям и разрушая их, все-таки вспыхивала в этой приглаженной, но богатой подводными течениями среде. Светская молва не доносила до ушей Мейседона ничего предосудительного о поведении Сильвии, поэтому он считал себя в этом отношении если не счастливым, то вполне благополучным супругом. Эпизодические связи с другими женщинами, которые приходились главным образом на «холостяцкие» периоды в жизни Мейседона, связанные с собственными командировками или разъездами жены, лишь усиливали впечатление этого благополучия. И вдруг все это показное благополучие полетело к чертям собачьим!
Собственно, это «вдруг» было кажущимся, кризис назревал постепенно, просто Мейседон не замечал, а точнее, подсознательно не желал замечать перемен. Он начал прозревать, причем весьма быстрыми темпами, когда старик Милтон ни с того ни с сего заговорил с ним об эмансипации. Это произошло во время прощальной беседы: Милтон уезжал, точнее, улетал в Европу, чтобы разведать обстановку, подписать ряд контрактов и подготовить почву для последующих деловых операций. Старик намекнул Мейседону, что его вояж связан не только с делами собственно «Радио корпорейшн», а и с решением ряда куда более общих не только экономических, но отчасти и политических проблем. Политика и большой бизнес неразделимы, сказал старик и вскользь добавил, что без крупных взяток ему вряд ли обойтись. Милтон был намерен пробыть в Европе не менее трех недель, а поэтому счел необходимым дать своему зятю целый ряд долгосрочных инструкций.
В этот вечер старик был не похож на самого себя. Какой-то не такой! Сначала Мейседон не понимал, в чем тут дело, но потом догадался, что Милтона что-то беспокоит тревожит. Судя по всему, он говорил иногда об одном, а думал о другом. Милтон вдруг умолкал, точно теряя нить рассуждений, поправлял дрова в камине и после порядочной паузы не без некоторого затруднения возвращался к начатой мысли. В одну из таких затянувшихся пауз старик досадливо тряхнул головой, точно прогоняя надоедливую муху, и без всякой связи с предыдущей мыслью вдруг спросил:
— Послушайте, Генри, ответьте мне откровенно. Как вы, собственно, относитесь к эмансипации?
Ошарашенный этим неожиданным вопросом, Мейседон ответил не сразу и довольно уклончиво:
— Я полагаю, что женщины имеют право на известную самостоятельность и равноправие.
Старик сердито взглянул на него.
— Это ваше убеждение? Или вы это брякнули просто так, чтобы отделаться от меня?
Мейседон снова задумался, мысленно пожалев о том, что не курит: когда человек берет сигарету и щелкает зажигалкой, пауза не кажется столь длинной и неловкой. Но Милтон ждал, не выказывая ни малейшего признака нетерпения, к полковник приободрился:
— Честно говоря, — медленно проговорил он, — я никогда не размышлял серьезно об этой проблеме. Но, как мне представляется, эмансипация — влияние времени. Всеобщая грамотность, атомная энергия, повсеместное внедрение компьютеров, эмансипация — все это разные стороны одного и того же процесса.
— Добавьте сюда разврат, алкоголизм, наркоманию, гомосексуализм — и картина будет полной, — саркастически заметил старик.
— Все это уже было, — миролюбиво заметил Мейседон. — Было и в Ватикане, и при французском королевском дворе, и в русской императорской столице. Только то, что раньше было доступно лишь избранным, теперь доступно почти всем, во всяком случае, в нашей стране. Разве удивительно, что люди немного ошалели?
— Вот именно, ошалели, — мрачно подтвердил Милтон. — Особенно эти самые эмансипированные дамы.
Он хлебнул глоток, поморщился и спросил:
— Вам не кажется, что это пойло сегодня слишком горчит?
Мейседон отпил из своего бокала.
— По-моему, вкус обычный.
— А мне чудится горечь. — Старик сделал еще глоток, поморщился, отставил бокал в сторону и вдруг спросил: — Послушайте, Генри, а почему, собственно, у вас с Сильвией нет детей?
По лицу Мейседона бизнесмен понял, что этот вопрос ему неприятен, а поэтому поспешил добавить:
— Я спрашиваю об этом как отец. Не сердитесь, Генри.
Мейседон ответил не сразу и без всякой охоты:
— Во всяком случае, дело не во мне.
— Я так и думал. Почему бы вам не поговорить с Сильвией серьезно?
— Я пробовал. Она уходит от этого разговора.
Старик в знак понимания покивал головой, подумал и с какой-то странной ноткой в голосе посоветовал:
— И все-таки стоит поговорить с ней еще раз. Стоит, Генри.
Этот разговор оставил у Мейседона странное и отчасти тягостное впечатление недоговоренности. Ему казалось, что старик сказал ему далеко не все, что хотел сказать.
У Мейседона был тренированный ум, приученный к холодному анализу фактов, и от этого анализа ему стало поистине холодно. Сильвия стала очень раздражительной. Споры у них бывали и раньше, но случались они редко и, в общем-то, заканчивались быстро и мирно — они легко шли на взаимные компромиссы, причем инициатива нередко принадлежала именно Сильвии. Теперь же ссоры вспыхивали черт его знает из-за чего! Из-за того, что Генри уронил вилку, надел не тот галстук, использовал не тот одеколон. Однажды во время завтрака, когда Мейседон управлялся с яйцами, сваренными в мешочек, Сильвия вдруг сказала:
— Как некрасиво ты ешь.
Голос у нее был тусклый и равнодушный, может быть, отчасти поэтому Генри поднял на нее глаза и встретил странный — чужой, оценивающий взгляд.
— У тебя челюсти, как капкан, — ответила она на его немой вопрос. — И ты чавкаешь. Вытри губы!
Мейседон пожал плечами, вытер губы салфеткой и миролюбиво сказал:
— Я всегда так ем.
— Вот именно! — Сильвия тряхнула волосами и встала из-за стола.
Эта история произошла месяца три назад, но она вдруг вспомнилась Мейседону так отчетливо, точно Сильвия только-только вышла из комнаты.
Мейседон тогда обиделся, но серьезного значения этой истории не придал. Теперь же, прогоняя ее в памяти, точно киноленту, он с похолодевшим сердцем вдруг понял что, скорее всего, Сильвия его ненавидела. Ненавидела какими-то тайниками своей души, и порой это чувство бывало у нее очень острым… «Я тебя ненавижу! — не раз кричала она ему в разгар ссоры. — Пойми, я тебя ненавижу!» Этим выкрикам Генри не придавал серьезного значения. В пылу гнева, в слезах Сильвия могла наговорить черт-те что. О своей ненависти она кричала ему и до свадьбы, и во время медового месяца, это отнюдь не мешало ей буквально через четверть часа становиться милой, ласковой, любящей женщиной. Ее сестрица, Сондра, бывшая однажды свидетельницей такой сцены, тихонько посоветовала не обращать внимания на Си — она с детства была немного истеричкой. Все это было и было, но у Мейседона вдруг открылись глаза: ему припомнилось, что в последнее время после своих слов о ненависти Сильвия уже не становилась милой, любящей женщиной. Немедленного примирения теперь не наступало. Они замыкались каждый в себе, неприязнь стойко держалась дня два-три, а примирение скорее носило характер перемирия.
И еще одна любопытная деталь. Раньше в разговорах с друзьями, приятелями и знакомыми Мейседон все время получал мимолетные, проходные весточки о Сильвии: кто-то ее видел, некто с ней мило побеседовал, к кому-то она обратилась с пустяковой просьбой и так далее. И вдруг некий странный заговор молчания! Точно Сильвия перестала появляться на людях. Но ведь Генри знал, что это не так. Объяснение могло быть лишь одно: о Сильвии просто избегали говорить в присутствии Мейседона, а Генри хорошо знал, по каким причинам в их среде о женщине избегают говорить в присутствии ее мужа.
И потом этот странный разговор со стариком, эти речи об эмансипации и отсутствии потомства.
Мейседон провел бессонную ночь, терзаясь муками унижения и ревности, и совершенно уверился в том, что у Сильвии есть любовник, без которого она буквально жить не может. Но кто этот любовник, он решить так и не мог. В том обществе, в котором они с Сильвией вращались, внешняя оболочка нравов была очень свободной. Сильвия флиртовала со многими, но ни с кем в особенности. Она допускала некоторые вольности, касавшиеся партнеров по танцам или соседей по коктейлю, но эти вольности никогда не выходили за грань общепринятых и не бросались в глаза. Мейседон не знал, что и подумать. И все-таки, еще и еще раз перебирая всех, даже самых далеких знакомых, Мейседон вспомнил наконец о человеке, образ и облик которого сразу вызвали в его душе новую острую вспышку ревности.
СЮРПРИЗ
На следующий день, в десять часов утра, полковник Мейседон под благовидным предлогом ушел со службы и отправился к свободному художнику Роберту Флинну. Флинн не был знаменитостью, но отнюдь не прозябал в неизвестности. Он работал в ставшей теперь традиционной и тривиальной абстракционистской манере, его картины выставлялись и покупались. Художник имел собственный двухэтажный современный дом, к которому по его личному проекту была пристроена традиционная мастерская со стеклянной крышей. Дом этот, по словам самого Флинна, обошелся ему в кругленькую сумму — что-то около сорока тысяч долларов. Однажды Мейседон побывал на парти в этом доме, на очень шумном и очень разношерстном сборище лиц обоего пола. Он был представлен хозяину и любопытства ради заглянул в мастерскую, стены которой были сплошь увешаны только что начатыми, полузаконченными и уже законченными картинами. Роберт Флинн, бородатый здоровяк лет тридцати пяти, ростом поболее шести футов и весом никак не менее двухсот фунтов, был простым парнем, чуждым всех и всяческих условностей. Но за его простецкими, нарочито грубоватыми манерами Мейседон без особого труда угадал тонкую, легко ранимую натуру. Мейседон это понял, когда Флинн демонстрировал в мастерской некоторые из своих работ. Он говорил о них как бы мимоходом, снисходительно-небрежным тоном, называя их «очередная мазня», «самовыражение после ленча», «полуночные страсти» и в этом роде. Но Мейседон, хорошо знакомый с теорией и практикой допросов, обратил внимание на вазомоторные реакции художника, на нервозность его рук. Руки художника, здоровенные, по-своему деликатные, отлично вылепленные и проработанные лапы, не знали ни секунды покоя. Они переплетались пальцами, потирали одна другую, плавали, а то и взлетали в воздух выразительными жестами. Заметил Мейседон и то, как легко соглашается Флинн с замечаниями так называемых знатоков, торопясь при этом расстаться с критикуемым объектом и перейти к следующей картине. Заметил как оживлялось лицо художника и вспыхивали глаза, когда он слышал не формальные, а настоящие слова одобрения. Полковнику подумалось, что и свою пышную бороду «а-ля Руссос» художник отпустил отчасти для того, чтобы скрыть мимику подвижного лица и таким образом уберечь свои чувства от холодного созерцания чужих глаз.
Мейседон с живописью был знаком весьма поверхностно и столь же поверхностно в ней разбирался, но как человек неглупый и самолюбивый не отказывал себе в удовольствии и об этом предмете иметь собственное мнение. Некоторые из картин Флинна, в которых абстрактные мотивы причудливо сочетались с реалистическими, ему понравились. В особенности одна. Эта картина состояла из двух небольших полотен, художники называли ее диптихом. На первом полотне в несколько условной манере была изображена юная девушка, почти подросток, мечтательно и рассеянно созерцавшая совершенно реалистический пейзаж: излучину реки, зеленый цветущий луг, холмы и заходящее солнце у самого горизонта. На втором полотне изображалась та же девушка, повзрослевшая на несколько лет. На ее по-прежнему красивом лице были тонко подчеркнуты следы опустошенности и порока. Лиричный пейзаж оказывался смятой, уносимой ветром картинкой, нарисованной на листе бумаги, а за этой картинкой вставал абстрагированный, полный ужаса город, на фоне которого как бы в тумане рисовалось грубоватое и насмешливое мужское лицо. Эта картина подверглась особенным нападкам со стороны знатоков. Флинна обвиняли в литературщине и примитивизме, в эклектизме и недопустимом смешении разных стилей и Бог знает еще в чем. В противовес обыкновению Флинн пытался было возражать, но его атаковали столь дружно и активно, что он быстренько перестроил свои возражения на шутливый лад, однако эти шутки звучали не очень-то весело.
Непонятно почему, но Мейседон вдруг рассердился на этих знатоков и снобов, корчащих из себя адептов современного искусства. Дождавшись относительной паузы в их разговоре, он громко и, по всей видимости, вызывающе заявил, что ему лично, не художнику, а простому американцу, диптих очень нравится. Повысив голос и не давая себя перебить, Мейседон постарался как мог обосновать свою точку зрения и предрек картине несомненный успех. Неожиданно его поддержал один из самых авторитетных ценителей. Он сказал, что в диптихе действительно есть искра Божья, которая должна привлекать сердца простых людей. Главным образом он упирал на то, что глас народа — это глас Божий. Долой слюнявое салонное искусство! Спор разгорелся с новой силой, все более приобретая отвлеченный характер, Мейседон участия в нем больше не принимал.
Когда гости художника, покончив с осмотром мастерской, занялись сандвичами, орешками и выпивкой, Флинн с бутылкой мартини в руках, — он небрежно держал ее на весу за горлышко двумя пальцами, — отыскал Мейседона.
— Я бы хотел выпить с вами, мистер… э-э? — Флинн застенчиво поскреб себе бороду.
— Генри. Просто Генри, — с улыбкой сказал Мейседон и подставил рюмку. — С удовольствием.
— О’кей, просто Генри, — согласился художник, наполняя рюмки. — А меня зовут Роб. Просто Роб. Заходите как-нибудь, Генри. Буду рад.
— О’кей. Зайду.
Улыбаясь друг другу, они выпили по глотку мартини, но намечавшийся разговор не получился — помешали. Мейседон действительно собирался навестить художника, он был ему по-человечески симпатичен, но визит не состоялся — помешало неожиданное обстоятельство.
Как-то Мейседон был с Сильвией на концерте симфонической музыки. Честно говоря, музыку эту Мейседон терпеть не мог, да и Сильвия не очень-то ее любила, но это был один из концертов знаменитого филадельфийского оркестра, которым дирижировал какой-то известнейший музыкант, не то русский, не то немец, а может быть, и еврей, так что посещение этого мероприятия было делом престижным. В антракте, ненадолго отлучившись от жены и затем отыскивая ее в праздничной, разодетой толпе людей, Мейседон вдруг с удивлением обнаружил, что она очень оживленно беседует с Робом Флинном. На Флинне был строгий вечерний костюм с белой гвоздикой в петлице, но борода и манера поведения были точно такие же, как и в мастерской. Мейседон хотел подойти, но что-то удержало его, его покоробил рисунок их разговора. Собственно, ничего бросающегося в глаза не было, но Мейседон сразу уловил оттенок интимности, доверительности в их позах, улыбках, в слишком подчеркнутой близости лиц. Заметил Мейседон и то, как Флинн непринужденно, как бы по праву, по-хозяйски взял Сильвию выше локтя за обнаженную руку, и как Сильвия приняла это как нечто совершенно естественное и даже желанное. Неприятное, еще неосознанное ревнивое чувство шевельнулось в груди у Мейседона, но подошел знакомый, и в разговоре с ним это чувство если и не растаяло вовсе то заметно выцвело. Тем не менее он суховато-язвительно поинтересовался у Сильвии, с кем это она так мило беседовала во время антракта.
— О, с целой кучей людей, — пожала она обнаженными плечами.
— Я говорю о рослом бородатом мужчине.
— Да ты посмотри, сколько тут рослых и бородатых!
И в самом деле, бороды тогда, что называется, вошли в моду, особенно среди художников, музыкантов и других служителей муз, поэтому примета, указанная Мейседоном, была не очень-то характерной. Мейседон постарался забыть об этой историйке, но если у него раньше и мелькала иногда мысль о посещении Флинна, то теперь она уже больше не возникала.
Именно об этой театральной истории и о Роберте Флинне и вспомнил Мейседон, терзаясь муками сомнений и ревности после разговора со стариком Милтоном. Почему бы не поговорить с художником? Судя по всему, это честный и откровенный человек. Вряд ли он был тем самым любовником, который вскружил голову бедной Сильвии, она по меньшей мере лет на десять старше Флинна. Если между ними что-то и было, то легкая интрижка, не более того. Но можно надеяться, что Флинну хоть что-нибудь да известно о тайной, неизвестной Мейседону жизни Сильвии. Генри никогда бы не решился на откровенный разговор такого рода с человеком из своей среды, с офицером или бизнесменом, но Флинн — совершенно иное дело. Он был художником, представителем мира богемы; обычные условности, определяемые хорошим тоном и так называемыми правилами приличия, в представлении полковника на него не распространялись.
У Мейседона была тренированная память профессионального разведчика, поэтому он без особого труда отыскал оригинальный дом художника. Ему открыла женщина средних лет, Мейседон затруднился бы сказать, какую роль она играла в этом доме и кем приходилась хозяину: матерью, служанкой или сестрой, ясно было только, что это не жена. Собственно, Мейседон не знал, женат ли художник, но именно с женой ему меньше всего хотелось бы встретиться. Наверное, Мейседон выглядел достаточно солидно, во всяком случае, ему без каких бы то ни было вопросов разрешили пройти в мастерскую. В ответ на приветствие Мейседона Флинн буркнул не оборачиваясь: «Доброе утро», — и продолжал работать над холстом.
В блузе с закатанными по локоть рукавами, с палитрой и кистями бородатый Флинн выглядел весьма картинно и импозантно. День был пасмурный, рабочее место подсвечивали софиты, спектр излучения которых был подобран так удачно, что казалось — мастерская освещена утренним солнцем. На холсте был изображен огромный, во все полотнище, стилизованно, но очень четко выписанный женский глаз; бровь, часть щеки и прядка волос едва выступали из туманного полумрака. Глаз смотрел прямо на Мейседона понимающе и скорбно, из угла его скатывалась крупная, играющая веселыми серебристыми искрами слеза.
— Я бы хотел поговорить с вами, мистер Флинн.
— А я бы не хотел, — рассеянно сказал художник, отступая от картины на два шага и меняя кисть.
— Помнится, вы приглашали меня.
— Что из того? — Художник прищурился, откинул назад голову, разглядывая свою работу, и снова приблизился к холсту. — Зайдите в другой раз.
Но Мейседон отнюдь не был расположен откладывать свой разговор.
— У меня совершенно неотложное дело, — проговорил он с тем большим нажимом, что сознавал — несет явную нелепицу.
Флинн резко обернулся, вид у него был довольно свирепый; можно было подумать, что в левой руке у него щит, а в правой — кинжал, которым он намерен без малейшей жалости проткнуть ненавистного врага. Мейседон сдержанно поклонился.
— Вы что же, не видите, что я работаю? Вы думаете, черт побери, что время только для вас деньги? — начав эту сентенцию довольно яростно, Флинн закончил ее не очень уверенно. Хмуря брови, он все более пристально вглядывался в лицо визитера.
— Видимо, вы забыли меня, — начал было Мейседон, но Флинн не дал ему договорить. Лицо художника расплылось в широкой улыбке. Он швырнул палитру и кисти прямо на пол и шагнул к Мейседону.
— О, Генри! Рад вас видеть!
После традиционного в таких случаях рукопожатия, фамильярного похлопывания по плечам и по спине (Мейседону пришлось ответить тем же) художник потащил его в уголок мастерской, где стоял удивительный стол в окружении не менее удивительных кресел. Столешница был сделана из цельного среза дерева оригинальной, очень неправильной, но близкой к кругу формы диаметром футов около шести, покоилась она на узловатых корнях, словно бы вырастая из пола. А кресла были сооружены из старых пней, причем сиденья были вырублены в столь искусной форме, что Мейседон никак не ощутил жесткости дерева, — ему показалось, что он опустился в мягкое кресло. Ничего подобного Мейседон не видел во время предыдущего посещения мастерской.
— Сам делал, дизайн высшего качества. — Флинн захохотал и похвалился: — Предлагают бросить живопись и поработать для салонов финансовых тузов и деловых боссов. Да ну их к черту!
Художник сел не в кресло, а прямо на стол, и пошлепал ладонью по дереву.
— Клен, трехлетней выдержки. И даром! То есть, я хочу сказать, что он не стоил мне ни цента, только труд и время. Я и хозяину отгрохал такой же гарнитурчик. — Флинн небрежно пнул ногой одно из кресел. — А это из лиственницы. Вечная продукция. Лиственница — удивительное дерево, со временем она становится только крепче.
Художник болтал, а Мейседон вежливо улыбался и думал, как бы побыстрее и половчее повернуть разговор в нужную сторону. И опыт, и интуиция подсказывали, что в такой ситуации лучше сразу брать быка за рога.
— Я ведь к вам по делу, Роб, — сказал он, воспользовавшись паузой.
— Да ну?
— И по весьма щекотливому.
— О! — Флинн засмеялся. — Какой-нибудь заказ? Да вы не стесняйтесь, Генри. Я свиреп только с виду, а так-то — человек нежный и сговорчивый.
Мейседон набрал в грудь побольше воздуху и, как это говорится, прыгнул в холодную воду.
— Простите, Роб, вы знакомы с некоей Сильвией, — полковник запнулся, — с Сильвией Хаксли?
— А-а, с этой потаскушкой! Как же, знаком. — Художник передернул плечами. — Настоящая стерва, но дело свое знает.
Мейседон обладал профессионально поставленным самообладанием, но фраза Флинна, произнесенная обыденным, будничным тоном, чуть не вышибла его из кресла. Видимо, лицо Мейседона отразило нечто, замеченное цепким взглядом художника.
— Удивлены? О, эта особа не лишена примитивной животной хитрости. Она из богатой семьи, а муж у нее какая-то шишка в Пентагоне. Ну, и она, избегая приключений в вашингтонском обществе и в околовоенной среде, научилась ловко обделывать свои делишки на стороне.
— Вы уверены в этом? — негромко уточнил Мейседон.
— В каком смысле? Вы не доверяете молве и предпочитаете сведения из первых рук? — Художник улыбнулся. — Вас интересует, спал ли с ней персонально я?
— Скажем так.
— Разумеется. — Художник сказал об этом без нотки гордости и даже хвастливости. — Она редко пропускает мужчину моего роста и веса. Настоящая би-герл! — Он огладил бороду, присматриваясь к лицу Мейседона. Видимо, оно ему не понравилось, потому что художник доверительно, с некоторым сочувствием спросил: — Послушайте, а коего черта вы заинтересовались этой дамочкой? Уж не покорила ли она ваше сердце? В порочных женщинах есть нечто, притягивающее мужчин. Как у дичи с душком для иных гурманов! — Флинн захохотал и доверительно положил свою лапу на плечо Мейседона. — Плюньте!
В искренности художника сомневаться было невозможно. Мейседон узнал то, что было ему нужно, и держать себя в узде дальше не было ни смысла, ни желания. Мейседон откинулся на жесткую спинку декоративного кресла и провел ладонью по лицу.
— У меня такое ощущение, точно я выкупался в дерьме, — пробормотал он с отвращением.
Флинн беспокойно шевельнулся, приглядываясь к собеседнику.
— Уж не родственница ли она вам? — спросил он с опаской.
— Нет, — вздохнул Мейседон.
— О, — с облегчением протянул художник, — а я было подумал…
— Нет, — тусклым голосом, но весьма решительно перебил его Мейседон. — Это не родственница. Это моя жена.
Реакция Флинна была хоть и слабой, но все-таки некоей психологической компенсацией морального ущерба, нанесенного Мейседону; она помогла полковнику сбросить брезгливое оцепенение и в какой-то мере овладеть собой. Художник вспыхнул, точно неоновая лампочка под критическим напряжением. Мейседон никогда не видел раньше, чтобы зрелые мужчины краснели столь стремительно и интенсивно. На лбу художника выступили бисеринки пота, переливавшиеся в свете софитов радужными огоньками. Флинн, испуганно глядя на Мейседона, пря мо ладонью, испачканной красками, вытер лицо, кое-как сполз со стола и плюхнулся в кресло, расплывшись по нему, как гигантский моллюск.
— Идиотом я родился, идиотом и помру! — уныло выдавил он и в отчаянии постучал себя кулачищем по лбу. — Великий Боже! Какая же я скотина! — Он снова постучал себя кулаком по лбу. — Но кто же мог подумать? Вы же ни капли не похожи на военного! — Флинн между тем перестал колотить себя по лбу и несколько оживился.
— Может быть, нам стоит выпить? — Он с надеждой смотрел на Мейседона. — Разве виски не лучшее лекарство от душевных забот?
— Стоит.
Художник буквально расцвел улыбкой.
— Минуту! У меня есть коллекционный набор — шесть бутылочек по четверть кварты каждая.
Он притащил этот набор, жаренного с солью арахиса, бутылку содовой, бокалы и извинился за то, что не может предложить льда. Все это хозяйство стояло на чудесном резном подносе, сделанном из цельного куска липы. Мейседон, разумеется, догадался, что это еще одно изделие художника. Полковник окончательно овладел собой. Странно, он уже не испытывал чувства ревности, не возникло у него и ничего похожего на ненависть или отчаяние, — никаких бурных эмоций. Брезгливость, гадливость, презрение к Сильвии, да и к самому себе — вот что варилось в глубине его души. Оба они, и Мейседон и художник, испытывали заметную неловкость по отношению друг к другу. Пили непривычно много, во всяком случае, о себе Мейседон мог это утверждать со всей определенностью. Обоим хотелось не просто выпить, но и по-настоящему надраться. И, действительно, они быстро опьянели, а когда опьянели, то уже без стеснения вернулись к интересовавшей их обоих, правда, по разным причинам, теме.
— Как вы с ней рассчитаетесь? — с нескрываемым интересом полюбопытствовал художник. — Пристрелите?
Генри поперхнулся содовой.
— Неужели я похож на этого дурака Отелло?
— Ни капельки не похожи, ни вот столечко, — успокоил его Роб. — У вас кольт? Одиннадцать миллиметров?
— Одиннадцать.
— Чудесно! Это верняк — в шкуре останется дырка величиной с кулак. А мозги так просто расплескиваются! Вжик! И нет больше мыслящего человека. Впрочем, — художник нахмурился, — зачем я вам все это рассказываю? Вы же человек военный, все это знаете лучше меня и на высоком научном уровне.
— У меня была и практика, — мрачно заметил Генри.
— Честно? Вы счастливый человек! Выпьем по этому поводу.
— Выпьем!
Мейседон молча, но очень торжественно и дружелюбно поднял рюмку. Выпив, они некоторое время молча жевали орехи.
— Между прочим, — с заговорщицким видом вдруг заметил художник, — закон очень снисходителен к этим… виновникам убийств на почве ревности.
— Серьезно?
— Вполне. Я консультировался у адвоката. Хотел шлепнуть Беатрису, но потом раздумал. Пусть живет. Потаскушки тоже нужны, в особенности мыслящим людям. Что бы делали без них холостяки? Жуткое дело!
Генри представил себе эту картину, и ему стало так смешно, что он начал все громче и громче смеяться. Глядя на него, захохотал и художник.
— Жуткое дело! — повторил он и добавил: — Но закон снисходителен, могут даже оправдать! Так что вы учтите на всякий случай.
— Да не собираюсь я ее убивать!
На глаза художника навернулись слезы.
— Вы гуманный человек, Генри. Может быть, слишком гуманный. Вы лучше меня. А я — свинья!
— Не мелите чепухи! Вы отличный парень, Роб.
— Может быть. Но вы лучше, гуманнее. Я хотел шлепнуть Беатрису, а вы не хотите. И правильно! Их надо не убивать, а лечить! От нимфомании.
Генри вдруг остервенился.
— Нимфомания! Не понимаю, при чем тут нимфы? Эти прекрасные создания, ублажающие взоры людей и богов! Нимфы… и это самое. Не понимаю!
— Нимфы, — мечтательно повторил художник. — Наяды, дриады, нереиды… Вы правы, прекрасные создания!
— Но почему? — упорствовал Генри. — Распутство… И вдруг нимфы? Почему?
Художник, поглаживая свою роскошную бороду, погрузился в раздумье.
— Наверное, — глубокомысленно заметил он, — дело в том, что нимфы сожительствуют с фавнами. Фавны же похожи на козлов! А чтобы сожительствовать с козлами надо иметь исключительно высокий сексуальный потенциал. Не так ли?
— Интересная мысль!
— Думаю, что так.
— Интересная мысль, — убежденно повторил Генри, — свежая. Но меня смущает эмансипация.
Художник откинулся на спинку лиственничного кресла.
— Почему? Почему вас смущает эта дребедень?
— Мне… трудно собраться с мыслями и изложить проблему обобщенно. — Генри сделал пояснительный витиеватый жест. — Я поясню вам на конкретном примере.
— Валяйте, старина, — поощрил Роб.
— Есть такой балет — «Послеполуденный отдых фавна». Я его видел.
— Я не видел, но есть. Это точно!
— А вот балета «Послеполуденный отдых нимфы» — нет! Разве же это справедливо?
— И действительно. — Художник стукнул своим кулачищем по столу. — Свинство какое! Безобразие! Надо открыть глаза общественному мнению.
— А если так, вправе ли мы?.. Вправе ли мы судить?
— Вы ставите животрепещущую проблему, Генри. — Художник некоторое время пытался поймать ускользающую мысль, лицо его вдруг осветилось улыбкой. — А ведь вы угадали! Тот диптих, «Прозрение», помните? Я получил за него сумасшедшие деньги от одной богатой дамы. Она плакала и говорила, что это напоминало ей ее собственную юность!
— И она плакала? — изумился Генри. — Настоящими слезами?
— Плакала. И я плакал. — Художник порывисто вздохнул. — Но дама эта совсем не похожа на нимфу. Нисколько!
— Обидно!
— Очень обидно. Выпьем?
Они выпили, но ни о нимфах, ни о женщинах больше не говорили. А может быть, и говорили. Мейседон очень смутно и приблизительно припоминал впоследствии последующие события.
ЕЩЕ СЮРПРИЗЫ
Утром Мейседон проснулся с тяжелой головой и еще более тяжелым настроением. Он не сразу вспомнил вчерашнее, а когда вспомнил, испуганно взглянул на кровать жены и вздохнул с облегчением — она была пуста и не разобрана. На покрывале лежала телеграмма. Он смутно помнил, что телеграмму ему вручила удивленная и, пожалуй, даже испуганная служанка, когда поздно вечером Роберт Флинн привез его домой. Теперь, морщась от головной боли, Генри взял телеграфный бланк. Сильвия сообщала, что не смогла до него дозвониться, — это было правдой, дозвониться до него вчера было невозможно, — что болезнь сестры оказалась неожиданно серьезной, а поэтому она задержится у нее примерно на неделю. Второй раз в это утро Мейседон вздохнул с облегчением. Он совершенно не представлял, как он теперь встретится со своей супругой (Боже мой, с супругой!), о чем и как будет с ней говорить. Устроить скандал, может быть, поколотить ее? Глупо! Промолчать и сделать вид, что ничего не знает? Невозможно! Понемногу и с некоторым удивлением он осознал, что, кроме развода, не видит разумного выхода из сложившейся ситуации. Конечно, развестись с Сильвией — это в известной мере поставить крест на своих честолюбивых замыслах в деловой сфере, а может быть, и на служебной карьере. Но что делать? Эх, если бы можно было поговорить с Милтоном! Но старый бизнесмен за океаном. И, скорее всего, он прекрасно осведомлен о приключениях своей распутной дочери. Не случайно же он завел с Генри тот многозначительный разговор об эмансипации. А развод — дело серьезное!
За завтраком (крепкий колумбийский кофе и два яйца всмятку, больше Мейседон протолкнуть в себя ничего не мог) Генри вдруг кольнуло острое сомнение. Почему, собственно, он так безусловно и сразу поверил Робу Флинну? Конечно, художник добрый и очень симпатичный парень, но полковнику было прекрасно известно, что для провокаций и дезинформации чаще всего как раз и используют симпатичных людей, честность которых, на первый взгляд, не вызывает никаких сомнений. Короче говоря, нужны доказательства, факты: письма, фотографии, магнитофонные записи. Железные, проверенные, доказательные факты нужны и для развода, если Мейседон в конце концов решится на такой шаг. Без таких фактов Мейседона могут принять за параноика и, чего доброго, упрятать в сумасшедший дом! Добравшись до этого пункта размышлений Мейседон вспомнил о Рэе Харви.
Мейседон впервые встретил Харви в Вашингтоне года два назад. Это случилось в обеденном зале офицерского клуба, этого старомодного девятиэтажного здания из кирпича, которое расположено в четверти часа езды на автомобиле от Пентагона. Это было во время ленча. Мейседон сначала не понял, чем привлек его внимание рослый, спортивного вида зрелый мужчина в прекрасно сшитом, дорогом костюме — сером в мелкую узенькую полоску. Что-то знакомое было в его сутуловатой фигуре, свободных, несколько медлительных движениях. Мужчина занял столик неподалеку, огляделся и, встретившись взглядом с Мейседоном, поклонился со сдержанной улыбкой. Машинально ответив кивком, Мейседон некоторое время, морща лоб, вглядывался в этого человека и вдруг, узнав в нем лихого разведчика, командира отделения «зеленых беретов» Рэя Харви, чуть не выронил стакан с томатным соком. Харви, поняв, что его узнали, улыбнулся шире и поклонился еще раз. Мейседон в молчаливом удивлении театрально развел руками, поспешно допил сок и, благо с завтраком было покончено, направился к Рэю.
— Вы ли это? Здесь, в округе Колумбия? И в таком импозантном виде?
— Я, сэр. Собственной персоной.
Ладонь Харви, как и прежде, была твердой, словно выточенной из дуба. Прежними были серые грустноватые глаза, в которых иногда, вроде бы и совсем некстати, мелькали насмешливые искорки. Но полное достоинства выражение лица! Этот дорогой костюм, хорошо подобранный галстук, золотая заколка с жемчужиной!
— Великий Боже! Вы прекрасно выглядите. Наверное, уже дослужились до капитана? Вы разрешите?
— О, прошу вас, сэр.
Мейседон поудобнее поставил себе стул и сел.
— Не дослужился, сэр. — Харви расправлялся со спагетти с непринужденностью итальянца. Держался он скромно, но без малейшей тени заискивания или смущения. — Я надел шляпу примерно через год после того, как мне присвоили звание лейтенанта. Кстати, искренне благодарю вас, сэр. Позже мне довелось узнать, что вы приложили немало усилий, чтобы ускорить этот процесс.
— Пустое, Рэй, — поморщился Мейседон. — Ведь и вы со своими ребятами приложили немало усилий, чтобы спасти мне жизнь.
— Ну, до этого было далеко, — философски заметил Харви. — Египет — это не Вьетнам. Поскольку фреггинг не удался, гиппо сделали бы все, чтобы захватить вас живым, а потом содрать с наших друзей-израильтян выкуп побольше. Вы уж меня простите, сэр, но к тому времени Анвар уже ухитрился превратить свою армию в газхаус.
— Мне помнится, вы получили не только офицерское звание, но и какой-то орден. Не так ли?
— Совершенно верно, сэр. Мейседон поморщился.
— Ну что вы заладили? Помнится, там, в пекле, вы называли меня иначе.
— Так это было в пекле. — Харви на секунду задумался о прошлом и, судя по всему, воспоминания не были для него неприятными. Сдержанно улыбнувшись, он добавил: — Это было давно. Тогда вы еще не были полковником и не служили в Биг-Хаус, в разведуправлении министерства обороны.
— Да вы прекрасно осведомлены! Харви серьезно кивнул.
— Положение обязывает.
Он достал из кармана и протянул Мейседону визитную карточку. Она была изготовлена из превосходной плотной бумаги, скорее всего, японского производства. Текст был отпечатан золотыми буквами. Мейседон пробежал его глазами раз, потом уже внимательно прочитал другой.
— Вы — владелец частной сыскной конторы? — спросил он, не скрывая изумления.
— Совершенно верно, сэр. Могу вам теперь признаться, что звание лейтенанта мне было нужно главным образом для того, чтобы удобнее было начать это дело. Я ведь практикую главным образом среди военных и служащих, которые работают в Пентагоне. Положение офицера запаса упрощает многие проблемы.
Мейседон все еще не мог прийти в себя от изумления. Он разглядывал то визитную карточку, то невозмутимого Харви, который заканчивал ленч чашкой крепкого кофе с крохотной рюмочкой бренди.
— И как ваше дело? Процветает?
— Не жалуюсь. Пентагон ведь целый город с тридцатитысячным населением. И, как в любом американском городе, в нем немало больших и малых нерешенных проблем.
— Каких же?
Мейседон конечно же играл в неосведомленность, но ему было любопытно, что ему скажет по этому поводу Харви и как скажет.
— Самых разных. Но я занимаюсь главным образом бытом, а то нечего будет делать ребятам из Эм-Пи и Фоли-Сквер.
— А все-таки? — настаивал Мейседон полушутливо.
— Сточные воды, сэр. Супружеские измены и разводы, драки и поножовщина, самоубийства и убийства, контрабанда наркотиков и виски, мошенничество. Жизнь в столице дорога, жалованья не всем хватает. Некоторые сержанты и старшины подрабатывают в свободное время, например, на ночных такси или в охране, а это всегда окна для злоупотреблений. — Хмуря брови, Харви переплел пальцы своих дубовых дланей. — Недавно одного старшего писаря, главстаршину, уличили в подделке пропусков на автомобильную стоянку — они ведь стоят немало. Пожилого капитана нашли мертвым в багажнике собственной машины. Молоденький самолюбивый луут всадил пять пуль в своего шефа в звании полковника, вы уж извините меня, сэр, за то, что тот забрался в постель к его обожаемой супруге. Будни, невеселые будни жизни, сэр. Все это вам хорошо известно.
— Известно, — согласился Мейседон. — Но я не совсем понимаю, как вы получаете доступ к этим делам.
— По-разному. Иногда по инициативе потерпевших, которые не хотят предавать гласности свои дела. Иногда по просьбе начальников, которые знают или подозревают о грехах своих подчиненных, но не хотят бросать тени официальным расследованием ни на себя лично, ни на свой отдел. А иной раз ко мне обращаются честолюбцы, которым нужны материалы для того, чтобы убрать с дороги конкурентов.
— Да вы полезный человек, Рэй. И опасный!
Харви улыбнулся не без некоторого лукавства.
— Для вас — нет, сэр. Разве что мне заплатят уж очень крупную сумму.
— О! Оказывается, вас можно купить?
— Мы живем в таком мире, где все покупается и продается, такой мелюзге, как я, было бы неразумно пытаться плыть против течения, — рассудительно заметил Харви и посоветовал: — Не пренебрегайте моей визитной карточкой, сэр. Спрячьте ее, но так, чтобы можно было найти при случае.
Мейседон засмеялся.
— Вы полагаете, такой случай возможен?
— Кто знает? Но доктор, адвокат и частный детектив могут вдруг понадобиться кому угодно.
Мейседон встречался с Харви несколько раз: то в офицерском клубе, то в торговом центре Пентагона, а однажды на западной автомобильной стоянке он видел его в обществе начальника полицейского отряда, с которым, судя по всему, Харви был на весьма короткой ноге. Мейседон сделал для себя некоторые выводы и постарался расположить к себе этого не совсем обычного человека.
Мейседону повезло: во время обеденного перерыва он встретился с Харви в торговом центре Пентагона, на первом этаже гигантского пятиугольника. Всякий раз, спускаясь сюда, Мейседон испытывал странное чувство отстраненности — ему казалось, что с помощью лифта он переносится от места своей службы по меньшей мере на десяток миль. Тут был совершенно иной мир, отличный от мира военного, а лучше сказать — штабного. Вместо тишины, порядка, общей подтянутости и четкости — свободное движение разношерстной толпы, шум, музыка, витрины и огни реклам. Говорить тут о делах было неудобно, поэтому Мейседон, благо погода была хорошая, пригласил детектива в бар, что расположен во внутреннем пентагоновском сквере. Они выпили по бокалу легкого коктейля, поговорили о том о сем, Мейседон заказал было по второму бокалу, покрепче, но тут спохватился — ведь был обеденный перерыв, а не конец рабочего дня. Приглядываясь к его озабоченному лицу, Харви спросил напрямик:
— Какие-нибудь неприятности?
— У меня? — переспросил Мейседон с привычной улыбкой, но тут же погасил ее и признался: — Неприятности, Рэй. Мне нужно обстоятельно поговорить с вами.
— Тогда я жду вас у себя в конторе.
Мейседон был рад оттянуть неприятный разговор и поэтому согласился.
Контора Харви размещалась на втором этаже делового здания вместе с десятком других частных контор, представительств мелких фирм и организаций. В маленькой приемной за пишущей машинкой сидела миловидная, весьма строго одетая женщина лет тридцати. Она была привлекательна, хотя во всем ее облике и поведении не было ничего сексуального. Женщины такого типа, спокойные, умудренные, но отнюдь не обескураженные правдой жизни иногда встречаются во французских фильмах. Секретарша была предупреждена и без ненужных разговоров проводила Мейседона в кабинет своего шефа.
Кабинет поразил Мейседона своими размерами, у пентагоновских генералов, которым по штату полагалось тридцать квадратных метров, кабинеты были поменьше раза в полтора. Собственно, это был маленький зал, предназначенный для заседаний доброго десятка людей. Здесь конечно же можно было просматривать фильмы или использовать для тех же целей телевизор с большущим экраном. Вдоль одной из длинных стен на стеллаже была смонтирована специальная аппаратура, а возле нее оборудованы рабочие места. Мейседону бросился в глаза мощный бинокулярный микроскоп, портативный японский спектрограф, полковнику был знаком этот аппарат, разглядывать остальные у него не было времени. Был здесь и рабочий стол, но он пустовал — Харви вообще не было в этом зале-кабинете. Генри удивленно взглянул на секретаршу, она улыбнулась.
— Сюда, мистер Мейседон, — и указала на дверь, которую Генри не заметил.
За этой дверью и находился настоящий кабинет Харви — небольшая комната с окном до самого пола, обставленная металлической мебелью. Харви сидел в вертящемся кресле за Г-образным столом с телефонами, картотекой, пепельницей и портативной пишущей машинкой. Он был без пиджака, в зубах у него была крепчайшая кубинская сигарка, такие дешевенькие сигарки Харви никогда не курил в офицерском клубе и вообще на людях. Приветствуя Мейседона, Харви потянулся к пиджаку, который висел на спинке кресла, но полковник остановил его:
— Будет вам, Рэй.
Харви не настаивал, однако же счел нужным подтянуть ранее ослабленный галстук и сунул окурок сигарки в пепельницу. Не зная, с чего начать разговор, Мейседон кивнул головой на дверь.
— Реклама? — спросил он, имея в виду конференц-зал и размещенную в нем аппаратуру.
Харви ухмыльнулся.
— Угадали. Половина устройств — макеты, пустые коробки, которые я по случаю приобрел в военном ведомстве. Из этих телефонов задействовано фактически только два. Публика хочет видеть в современном детективе инженера и ученого, который при нужде может напрямую связаться с Агенси или Фоли-Сквер. Зачем же обманывать ее ожидания?
Мейседон покачал головой.
— Вы не боитесь раскрывать мне свои профессиональные тайны?
— Мы же свои люди, — мягко проговорил Харви.
Эта фраза определенно помогла Мейседону окончательно собраться с мыслями, внятно обрисовать ситуацию и твердо изложить заказ — собрать о Сильвии компрометирующие данные или убедительные свидетельства в пользу отсутствия таковых. Пока Мейседон приходил в себя после своей речи, — а это была именно речь, причем очень нелегкая, — и вытирал большим цветным платком со лба пот, Харви, сохраняя полную невозмутимость, сунул в рот окурок вонючей сигарки и щелкнул зажигалкой. Мейседон, не глядя на него, спросил:
— Так вы беретесь за это дело?
— Берусь. — Харви глубоко затянулся, поглядывая на Мейседона со странным выражением, в котором угадывались и некоторое смущение и простодушная гордость. — Точнее, я взялся за него два месяца назад.
Секунду-другую Мейседон осмысливал услышанное, потом его лицо похолодело.
— Объяснитесь, Харви!
— Все очень просто, — мягко сказал детектив, не глядя на полковника и разминая окурок в пепельнице. — Я случайно перекупил интересующие вас материалы у одного подонка, который давно занимался шантажом такого рода. Он пришел ко мне, потому что старшие офицеры и их жены — не его стихия. А он видел нас вместе, за коктейлем.
— Какого черта вы промолчали?
— Не так-то просто говорить о таких вещах. — Харви все еще не поднимал глаз от пепельницы. — И никогда нельзя знать заранее, как это примут. За фотографии вместе с негативами я выложил гранд.
— Тысячу долларов?
Харви утвердительно кивнул.
— Этого подонка я как следует припугнул, думаю, он будет молчать. А с разговором, я имею в виду разговор с вами, я решил повременить. До удобного случая.
— Материал у вас?
— Здесь, в сейфе.
Мейседон тяжело вздохнул, механически достал из кармана чековую книжку и ручку.
— Сколько?
— Вы слышали, мистер Мейседон.
Мейседон насупился, подумал, выписал чек на полторы тысячи долларов и, передавая его Харви, присовокупил:
— Полагаю, это будет справедливо.
Харви пробежал чек глазами, аккуратно сложил его спрятал в бумажник.
— Благодарю. Материалы хотите получить теперь же?
— Да, теперь.
Харви поднялся из-за стола и подошел к сейфу, который был смонтирован в одном из шкафов весьма предусмотрительно — за спиной возможных посетителей. Естественно, оборачиваться было бы верхом неприличия, поэтому в этой части своих операций Харви был избавлен от нескромных и просто любопытных взглядов. По этой причине и Мейседон не мог наблюдать за его действиями, но ему определенно показалось, что Харви копается в своем несгораемом ящике слишком долго. Наконец Харви сел за стол и протянул полковнику заклеенный пакет из плотной синей бумаги.
— Прошу. Если хотите ознакомиться с материалами немедленно, я оставлю вас одного.
— Нет-нет, — испугался Мейседон и довольно жалко улыбнулся. — С этим успеется.
Харви кивнул.
— Простите, — проговорил он после некоторого колебания. — Конечно, это не мое дело…
— Нет, почему же? — Мейседон явно обрадовался возможности поговорить, а может быть, и посоветоваться, ему тяжело было оставаться наедине с этим пакетом и своими мыслями. — Я охотно выслушаю вас, Рэй.
— Не принимайте эту историю слишком близко к сердцу, мистер Мейседон. И не судите свою жену чрезмерно строго. Женщины — создания импульсивные, увлекающиеся, их легко сбить с толку. Слабый пол! Слабый именно в том самом… вы понимаете, в каком смысле. И потом, их сбивает с толку эта дурацкая эмансипация!
— Что-что? — переспросил Мейседон. Он не то чтобы не расслышал слов Харви, его поразило, что этот бывший диверсант и террорист говорит ему о том же, о чем говорил и респектабельный Милтон.
— Эмансипация, женская свобода и равенство. — Харви определенно чувствовал себя не очень ловко в сфере отвлеченных понятий, но, конкретизируя свою мысль, он говорил все более уверенно и убежденно. — Женщины не знают толком, что им делать с этой самой свободой. Я говорю не о всяких там выдающихся дамах вроде Жанны д’Арк, а о женщинах обыкновенных, которые работают продавщицами, стюардессами и секретаршами. Они — как маленькие дети! И, как детям, им нужна не столько свобода, сколько крепкая узда.
В другое время Мейседон посмеялся бы над этими рассуждениями, но сейчас он даже не улыбнулся.
— Ведь до чего дошло, — продолжал Харви тем же размеренным, несколько меланхолическим тоном, — лууты отказываются жениться на американках! Наши девицы слишком эмансипированы: они не желают вести хозяйство, следить за порядком в доме и рожать детей, они хотят развлекаться! И молодые офицеры выписывают себе из-за океана, из Англии и Австралии, более старомодных жен, которые еще не растеряли чувства материнства и хозяйственных навыков. Брачная контора, занимающаяся экспортом невест, процветает, я знаю об этом из первых рук.
Харви покосился на хмурое лицо полковника, подумал и круто изменил русло своих сентенций, должна быть, сообразил, что говорит не совсем уж утешительные вещи.
— Но мы сами виноваты, баззард, и не нам судить женщин слишком строго. Конечно, этот парень, этот библейский суперстар, в наше время пропал бы, но он говорил не такие уж глупые вещи.
Мейседон недоуменно взглянул на Харви.
— Какой парень? Киноактер?
— Нет. — Харви выглядел несколько смущенным. — Я имею в виду настоящую Библию. Иисус Христос.
— О!
— Он говорил неглупые вещи. Не судите, ибо сами судимы будете! Кто без греха, пусть первым бросит в нее камень. — Харви поскреб затылок и нерешительно взглянул на полковника. — Впрочем, может быть, это сказал кто-нибудь другой?
— Нет, Рэй. Это действительно сказал он. — Мейседон поднялся на ноги. — Я пойду.
Поднялся на ноги и Харви.
— Не надо провожать меня, Рэй. Спасибо за все.
— Не за что. Это моя профессия.
— Я не за этот проклятый пакет благодарю вас, Рэй. — Мейседон усмехнулся. — За слова утешения.
РАЗВОД ПО-АМЕРИКАНСКИ
Мейседон планировал провести разговор с Сильвией в тоне холодной, сдержанной, а поэтому, как он полагал особенно оскорбительной вежливости. Но из этого джентльменского намерения ничего не получилось.
— Ты нализался, как негр после получки, — презрительно сказала Сильвия вместо приветствия, появившись на пороге гостиной.
— Нализался, — охотно согласился Мейседон, сидевший возле камина с бокалом в руке. — Но я не раздевался догола, чтобы выпить свой коктейль.
— Что ты хочешь сказать этим?
— Именно то, что сказал. Ни граном больше.
— Ты пьян. Иди в свой кабинет и проспись. И не смей заходить в спальню!
Эта фраза была последней каплей, переполнившей, нет, не чашу терпения, а чашу отвращения Мейседона. Он поднялся из кресла, достал из кармана пачку фотографий и не без торжественности швырнул их в лицо супруги.
— Это твое место не в супружеской спальне, а в свином хлеву. Грязная потаскуха!
Сильвия вспыхнула от гнева, но прежде чем успела сказать что-либо, рассмотрела некоторые из фотографий, упавших к ее ногам. Краску на лице сменила бледность. Сильвия отшатнулась от мужа и, точно защищаясь, поднесла руку к лицу, глядя на мужа расширившимися от страха глазами. Она испугалась так откровенно, что Мейседон вдруг понял, что, скорее всего, ей уже попадало по физиономии от ее любовников — халифов и повелителей на час торжества плоти.
— Грязная потаскуха! — повторил Генри презрительно.
Надо отдать должное Сильвии, так называемое светское воспитание не подвело ее, она быстро сориентировалась, сообразила, что насилия не будет, и перешла в наступление.
— Ловкие подделочки. — Она носком туфли отшвырнула фотографии. — Кто в них поверит?
Мейседон взглянул на нее с холодным любопытством. Как профессионал, он хорошо знал, что большинство фотографий относятся к числу тех, которые не подделываются и подлинность которых при добросовестном, беспристрастном анализе устанавливается легко и безусловно. Но при беспристрастном! Фемида же, несмотря на повязку на глазах, во все времена легко отличала богатых от бедных и проявляла к деньгам несомненное пристрастие. Так что Сильвия с ходу и без всяких консультаций сразу же нашла единственно возможный встречный ход.
— Ты прекрасно знаешь, что это не подделки, — уста-до сказал Генри.
— Это подделки! Ты еще ответишь за эту мерзость! И ты будешь отвечать не только передо мной, но и перед всем нашим семейством. — Снова Сильвия сделала точный выверенный ход, но с непоследовательностью, которая так подводит женщин в критических ситуациях, закричала: — Шпион! Подлый шпион!
— Уж лучше быть шпионом, чем шлюхой, — холодно заметил Мейседон.
— Жены становятся шлюхами, когда их мужья — мулы!
Генри закусил губу, такие упреки всегда болезненно ранят мужское самолюбие независимо от того, справедливы они или нет.
— Понимаю. Тебе нужен жеребец. И не один, а целый косяк.
— Шпион! Мул! Я тебя ненавижу! Всех ненавижу!
Лицо Сильвии перекосилось от ярости. Опытный взгляд Мейседона уловил в этих искаженных чертах линии, которые характерны для приступов алкогольного или наркотического безумия. Неужели и эта чаша не миновала распутную бабу?
— Мулы! Скоты! Мерзавцы! Всех ненавижу!
Сильвия бесновалась, расшвыривала ногами фотографии, топтала их. Потом рухнула в кресло и разразилась слезами, которые перемежались бессвязными выкриками. Протрезвевший Мейседон смотрел на нее брезгливо, без сострадания, но с некоторым беспокойством: если приступ истерики затянется, то придется вызывать врача — только этого еще и не хватало! Но Сильвия удивила его еще раз. После нескольких стонов и всхлипов она как-то вдруг успокоилась и поднялась из кресла. Лицо ее было холодно, лишь опухшие глаза да подпорченная косметика свидетельствовали, что только что разыгравшаяся истерика не была ловким и совершенным притворством.
— Чего ты хочешь, Мейседон? Развода? Ты мог получить его и без этих фальшивок.
Генри промолчал. Он не знал толком, чего он хочет. Это незнание придавало в общем-то трагической ситуации какой-то комический оттенок. Мало того, что Мейседон не знал, что ему предпринять в будущем, так или иначе решая свою судьбу, он не знал, что ему делать теперь, сейчас. Плакать? Смеяться? А если смеяться, то над кем — над собой или над Сильвией? Над обоими сразу? И Мейседон засмеялся, засмеялся совершенно искренне хотя и грустно. Сильвия посмотрела на него удивленно и подозрительно; этот неожиданный, как будто бы вовсе неуместный смех определенно смутил ее, но не сбил со взятого курса. Сильвия была урожденная Милтон, а Мил-тоны умели идти к поставленной цели.
— Ты получишь развод, Мейседон. Но ты горько пожалеешь о всей этой истории. — В голосе Сильвии появились угрожающие ноты. — Тебя из милости пригрели в нашей семье, а ты платишь шпионством и подлостью. Я поставлю тебя на твое настоящее место!
Мейседон насмешливо поклонился, но ощутил в груди неприятный холодок — он хорошо знал силу семейства Милтонов. Генри знал, что по трезвому деловому расчету ему следовало бы упасть перед Сильвией на колени, признать, что фотографии, картинно рассыпавшиеся по полу, действительно фальшивки, и попросить прощения. Может быть, Сильвия и простила бы его, она была по-своему великодушна и любила в обмен на унижение платить какой-нибудь милостью. Но Мейседон не мог просить прощения! Это было просто невозможно, несовместимо с его мировоззрением, с его нынешней натурой. Чтобы попросить прощения, Мейседону надо было стать другим человеком, а нельзя стать другим сразу — для этого требуется время. Выдержав паузу (она все-таки чего-то ждала от Мейседона), Сильвия сказала:
— Завтра тебя навестит мой адвокат. — И, направившись к выходу, добавила: — И минуты не останусь больше в этой казарме!
Утром Мейседон позвонил одному из директоров «Радио корпорейшн», с которым был знаком лично, и попросил дать ему телефон, по которому он мог отыскать Эдуарда Милтона. К своему удивлению, Генри получил весьма туманное и уклончивое обещание вместе с просьбой еще раз напомнить об этом деле к концу дня. Положив трубку, Мейседон задумался, чувствуя, как в душе зреет, растет тревога. Конечно, старик мог находиться в таком месте, о котором неразумно было сообщать кому бы то ни было, кроме самого узкого круга посвященных. Старик мог отправиться инкогнито и в ЮАР, и в Китай, а знать об этом конкурентам, политикам и прессе было вовсе не обязательно. Отсюда элементарные меры предосторожности и полная секретность. Но могло быть и иначе. Чтобы проверить другую возможность, Мейседон скрепя сердце позвонил брату Сильвии, Дэвиду Милтону. Милтон-младший был неглупым парнем с университетским образованием, но типичным плейбоем. Делами заниматься он не любил и не хотел, увлекался спортом, яхтами, женщинами и терпеливо ждал того счастливого дня, когда станет полномочным наследником семейного состояния. Появление в их семье Генри Мейседона не на шутку встревожило Дэвида — будучи далеко не глупым парнем, он разглядел в майоре, а особенно в полковнике опасного соперника по наследству и по этой причине тихонько, тайно, но люто его ненавидел. Внезапная ссора Мейседона с Сильвией была для него бесценным даром небес, и конечно же, обратись к нему сестра, он постарался бы выжать из этой истории максимальную пользу для себя и скомпрометировать пролазу-полковника. Но пошла ли Сильвия на такой шаг?
На звонок Мейседона Дэвид Милтон холодно ответил, что он не в курсе дел ни отца, ни сестры, что не в его привычках вообще вмешиваться в семейные дела кого бы то ни было и единственное, что он может посоветовать полковнику, это действовать по обычным каналам, не имеющим отношения к прайвеси других лиц. Проще говоря, Милтон-младший посоветовал ему обратиться к адвокату, а, стало быть, на самом деле он был прекрасно осведомлен о семейной драме Мейседонов и, скорее всего, принимал самое деятельное участие в ее подогреве и развитии в нужном направлении. Видимо, именно Дэвид заблаговременно блокировал попытку Мейседона связаться со стариком Милтоном. Дирекция «Радио корпорейшн» предпочла пойти на легкий конфликт с зятем Милтона, нежели ссориться с его сыном. Значит, война объявлена? Мейседон не был уверен в этом, ведь его умозаключения основывались не на фактах, а на предположениях. Надо было набраться терпения и ждать фактов.
И ждать пришлось недолго. Во второй половине дня Мейседону позвонил Рэй Харви, пожелал доброго здравия и сказал, что у него есть для полковника небольшой сюрприз. Разговор на этом закончился, но Мейседон знал, что ему делать дальше, об этом у них с Рэем был давний договор. Надо было минут через двадцать позвонить Харви по телефону-автомату, ибо предстояла беседа на такую тему, которую нежелательно затрагивать, пользуясь служебной линией связи. Надо ли говорить, что сердце Мейседона сжалось от неприятного предчувствия, впрочем, он был человеком волевым и умел владеть собой, держа свои нервы в крепкой узде.
Мейседон прошел в крыло «А», в зал, где располагались междугородные и городские автоматы. Из этого зала через окно был виден внутренний двор Пентагона — сквер с газонами и пешеходными дорожками, обсаженными кустарником.
— Где вы храните документы, которые я вам передал? — спросил Харви, когда Мейседон до него дозвонился.
— В сейфе, — после некоторого колебания ответил полковник.
— Дома? На службе?
— Дома, разумеется, — опять-таки после паузы ответил Мейседон, ему очень не нравились эти вопросы.
— Переложите их в служебный. А еще лучше, воспользуйтесь банковским или передайте на хранение мне.
— А в чем дело?
— У меня есть сведения, что вашу квартиру собираются основательно прочесать и выпотрошить.
— Вы… не ошибаетесь?
— Сведения абсолютно точные, но исполнители мне неизвестны. Одно могу сказать с полной уверенностью — это будут опытные профессионалы.
— А кто за их спиной?
— И это мне неизвестно. Но лицо, не скупящееся на крупные суммы, так что догадаться нетрудно.
Харви конечно же имел в виду Сильвию, вряд ли он мог догадаться, что в этом направлении скорее всего действовала не она, а ее брат. А впрочем, кто знает?
— Учтите, баззард, об этом разговоре никто не должен знать. Иначе может провалиться мой источник и у него будут крупные, очень крупные неприятности.
— Я понял, спасибо. Все будет в полном порядке.
— О’кей.
Мейседон принял необходимые меры предосторожности. Он так и не знал наверняка, лазили в его домашний сейф опытные профессионалы, о которых говорил ему Харви, или нет. Ему показалось, что лазили, но до конца он не был уверен в этом, приписывая свои впечатления естественно развившейся в нем подозрительности. Война была объявлена. В этом Мейседон окончательно убедился, когда его посетил адвокат Сильвии. Адвокат уведомил полковника, что его супруга Сильвия Мейседон-Хаксли, урожденная Милтон, возбуждает бракоразводный процесс, мотивируя его необходимость клеветой на нее и грубым обращением. Адвокат, стараясь заполучить хотя бы одну фотографию, всячески юлил и изворачивался. Разумеется, он ничего не говорил о фотографиях как таковых, он говорил о документах, на основании которых Сильвия Мейседон возбуждает обвинение в клевете, но полковник попросту отказался говорить с этим пронырой, переадресовав его к своему адвокату. Мейседон сказал, что адвокат получил от него все необходимые, причем исчерпывающие инструкции. Адвокат и правда их получил, Мейседон дал ему указания всемерно затягивать дело, не предпринимая ничего существенного и ссылаясь на необходимость консультаций с целым рядом разных специалистов.
После уик-энда, завершившего неделю происшествий и конфликтов, ударил первый гром: полковника Мейседона вызвал к себе один из заместителей председателя комитета начальников штабов генерал Макмиллан. Честно говоря, Мейседон не ждал от этого вызова каких-либо неприятностей. Генерал Макмиллан, энергичный плотный человек невысокого роста с властным лицом и ежиком седеющих волос, относился к Мейседону дружелюбно. По порядку и срокам прохождения службы Мейседон мог претендовать на должность с генеральским званием. Именно по этому поводу месяца полтора назад Макмиллан имел с ним доверительный разговор и предложил вариант, связанный с переходом из разведки в один из комитетов — объединенных штабов или вооружений. Мейседон попросил разрешения подумать, посоветовался с Милтоном и ответил согласием. Естественно, Мейседон предположил, что вызов к начальству связан с предстоящим выдвижением на генеральскую должность, и был доволен в тем большей степени, что эта служебная перемена должна была в какой-то степени компенсировать тот ущерб, который он несомненно должен был получить из-за конфликта с Сильвией. Правда, где-то в самой глубине души копошились опасения, но Генри без труда погасил их: не могли его враги сработать столь оперативно на высшем пентагоновском уровне. Но оказалось, что Генри либо недооценил своих врагов, либо переоценил начальников. Генерал встретил Мейседона суховато, хотя и усадил в кресло.
— Вот что, полковник, мы люди военные, нам не пристало играть в прятки и слюнтяйничать. Поэтому скажу вам прямо — ситуация изменилась. Вам пока лучше забыть о моем недавнем предложении.
— Да, сэр, — покорно и хмуро сказал Мейседон, он Уже все понял и обнажать свои чувства не собирался.
Макмиллан выдержал длинную паузу, видимо, ожил вопросов, но поскольку их не последовало, продолжил прежней безапелляционностью: с
— И виноваты в этом только вы сами! У вас какие то семейные конфликты, вы грубо обращаетесь с женой и… ну, вы сами понимаете, что я хочу сказать, не так ли?
— Да, сэр.
— Вот и все, что я хотел сказать вам, полковник.
Мейседон поднялся.
— Я могу идти, сэр?
— Идите!
Мейседон повернулся и молча пошел к выходу. По-видимому, его выдержка, отнюдь не показное внутреннее достоинство произвели на генерала известное впечатление. Не исключено, что, поддавшись давлению или воздействию крупной взятки откуда-то со стороны, он испытывал и определенные угрызения совести. Во всяком случае, он окликнул полковника, и в его тоне не было прежней резкости и официальности.
— Мейседон!
Генри четко повернулся.
— Да, сэр?
— Должен сказать, что я по-прежнему остаюсь самого высокого мнения о ваших способностях и служебном рвении. Улаживайте свои личные дела, и мы еще вернемся к оставленному разговору.
— Благодарю вас, сэр.
— Желаю удачи!
Мейседон вернулся домой в самом мрачном и подавленном настроении. Идти с Сильвией на мировую? Просить пощады у Милтонов? Нет, это было ему не по силам! Он был для этого еще недостаточно плох. А может быть, недостаточно хорош? Как бы там ни было, будущее виделось ему в очень темном цвете, но… разве можно заранее предугадать, какие каверзы и штучки может выкинуть капризная Фортуна?
— Вас ждут, — сказала ему чернокожая служанка со своей обычной невозмутимостью.
Сердце Мейседона колыхнулось.
— Кто? — Этот вопрос вырвался сам собой. Генри не хотел видеть Сильвию, но при мысли, что она не выдержала и пришла объясниться, он испытал неожиданную радость и торжество.
— Старый масса Милтон.
Мейседон не поверил и подумал, что она что-то путает. Но все было правильно: в гостиной перед электрическим камином, который, за исключением дыма и пламени, был достаточно хорошей подделкой под настоящий, сидел Эдуард Милтон.
— Здравствуй, сынок, — спокойно сказал он, обернувшись на звук шагов полковника. — Я специально прилетел, чтобы поговорить с тобой. Завтра же я вылетаю обратно.
Мейседон с огромным трудом сохранил внешнее спокойствие, только того и не хватало, чтобы старик увидел слезы на его глазах.
— Здравствуйте, отец. — Пожалуй, он впервые произнес это слово, ничуть не покривив при этом душой.
Они быстро и обо всем договорились. Старик высоко оценил сдержанность Мейседона. Эта сдержанность, по его мнению, проявилась не только в том, что Генри не предал гласности скандальные фотографии, но и в том, что не поднял шума ни в семье, ни в Пентагоне, ни в «Радио корпорейшн». Милтон чисто по-отечески пожурил Мейседона. По мнению старика, полковник еще не стал настоящим деловым человеком, для которого бизнес — и высший стимул и главное божество, а все остальное, в том числе и семейные обстоятельства, — преходящие категории, которыми при нужде следует жертвовать без всякого стеснения. Но все это придет, уверил Милтон, качества настоящего функционера приходят вместе с опытом и повзрослением, а кто взрослеет поздно, тот созревает для дела по-настоящему. Деловым скороспелкам свойственны рецидивы зряшной чувствительности и ненужной сентиментальности, которые неизбежно вредят любым крупным начинаниям, будь то война, экономика или политика — безразлично. Они договорились о том, что всякое дело о разводе немедленно прекращается, компрометирующие фотографии уничтожаются, что Мейседон продолжает спокойно трудиться в Пентагоне, а Сильвия пока поживет в Калифорнии, где у Милтонов был свой дом. А там видно будет!
Через неделю после этого разговора Мейседона снова вызвал генерал Макмиллан. Мейседон пошел теперь к нему без прежнего воодушевления, с некоторой опаской, однако же и с надеждой.
— Садитесь, Мейседон, — сказал Макмиллан, ответив на приветствие полковника. — Садитесь! Мы люди военные, церемонии нам не к лицу, поэтому я буду прям и откровенен. Я рад, что вы приняли к сведению мои замечания и урегулировали свои личные дела.
Полковник молча поклонился.
— Но! — Генерал поднял руку и уронил ее на стол, что должно было выразить искреннее сожаление. — Но место в комитете по вооружениям уже несвободно. Я сожалею об этом, Мейседон.
Полковник снова поклонился. Генерал некоторое время внимательно вглядывался в его лицо, а потом хитровато улыбнулся.
— Простите, полковник, вы, кажется, увлекаетесь фантастикой? Катаклизмы, путешествия, нашествия, война миров и все такое прочее?
Мейседон мог бы удивиться, откуда генерал знает о его невинном увлечении, но он не удивился. Он знал, что в его досье хранятся и более интимные сведения.
— Это так, сэр, — коротко подтвердил он.
— Прекрасно! Тогда я могу предложить вам весьма перспективное и почетное дело.
Мейседон взглянул на генерала с интересом. Макмиллан не то чтобы смутился, он не был способен на такое рабское чувство, но испытал нечто похожее на легкое замешательство.
— К сожалению, я не могу сказать вам ничего определенного, полковник. Просто Белый дом, — генерал выговорил эти слова с особым вкусом и ударением, — Белый дом попросил меня подобрать инициативного и грамотного офицера с несколько специфическим уклоном интересов для весьма важного и сугубо секретного дела. И я подумал, что этим офицером могли бы стать вы, полковник Мейседон.
— Благодарю вас за доверие, сэр.
— Я должен расценивать ваш ответ как согласие? — Макмиллан любил в такого рода делах предельную точность и определенность.
— Именно так, сэр. Что я должен делать теперь?
Генерал улыбнулся.
— Ждать, Мейседон, ждать. За вами заедут, отвезут куда нужно и введут в курс дел. Желаю вам успехов на этом поприще!
ДЖОН КЕЙСУЭЛЛ
После вызова к генералу Макмиллану прошла неделя, началась другая, а никаких новостей не было. Мейседон не то чтобы огорчился, он попросту не знал, в чем ему разочаровываться, а начал подумывать, что либо предложение было со стороны генерала пустой демонстрацией дружелюбия, либо его кандидатура по каким-то причинам забракована. Полковника успокоил Рэй Харви. История с фотографиями заметно сблизила их, теперь они встречались чаще. Это произошло еще и потому, что после отъезда Сильвии в Калифорнию у Мейседона появилось больше свободного времени, а с Харви полковник мог быть самим собой. Во время совместного ленча Харви сказал ему с легкой улыбкой:
— Кто-то катит на вас бочку. Однако же думаю, что не с дурными намерениями.
— А что такое?
Интерес Мейседона был столь очевиден, что Харви помедлил с ответом, а затем спросил:
— Да вы, наверное, в курсе событий?
— В известной мере. Но я еще не знаю, каким местом ко мне повернется Фортуна.
— Я не силен в греческом. Вы говорите о судьбе?
— О случае.
— Верно, все эти мексиканцы и пуэрториканцы частенько полагаются на случай, — глубокомысленно заметил Харви, усмехнулся и понизил голос: — Вас проверяют, баззард. По всем каналам, по каким это возможно.
В груди Мейседона вместе с тревогой шевельнулась и надежда: перед серьезными делами людей и проверяют серьезно.
— Откуда вы знаете? — также вполголоса спросил он.
— Секрет фирмы. — Харви опять усмехнулся и покрутил головой. — Во всяком случае, лично со мной беседовал какой-то парень из Фоли-Сквера. Он вовсе не настаивал, чтобы я говорил о вас пакости. Именно поэтому я и решил, что вам не грозит ничего дурного.
— И что же вы сказали обо мне? — с совершенным внешним безразличием поинтересовался Генри.
— Ну, нарисовал такой портрет, что вас спокойно можно ставить даже у врат рая вместо апостола Петра.
Этот разговор сильно подогрел остывший было интерес Мейседона ко всей этой несколько таинственной истории. А день спустя Мейседона вызвал к себе генерал Макмиллан.
— Дело сделано, Мейседон, — бодро сказал он, однако в его поведении, обычно таком уверенном, проглядывали черточки если не тревоги, то озабоченности. — Надеюсь, вы оправдаете мои рекомендации и вообще не ударите лицом в грязь.
— Я сделаю все возможное, мой генерал.
Не обращая внимания на это обращение во французском духе, Макмиллан, чеканя слова, продолжал:
— Запомните, Мейседон, во всем Пентагоне… — Генерал сделал внушительную паузу и повторил: — Во всем Пентагоне об этом деле будут знать только два человека вы и я! Секретность абсолютная!
Теперь и Мейседон почувствовал растущую неясную тревогу, однако внешне это никак на нем не отразилось.
— В течение этого часа, — продолжал генерал, теперь в его голосе появились ноты торжественности, — за вами заедет специальный автомобиль и отвезет вас к личному советнику президента по специальным вопросам Джону Кейсуэллу.
— Да, сэр, — с некоторым замешательством ответил Мейседон, честно говоря, он был готов к самому разнообразному повороту событий, но только не к такому.
— Вам знакомо это имя? — с некоторой настороженностью и интересом спросил генерал.
— Нет, сэр.
— Говорят, что это дальний родственник покойного президента, имейте это на всякий случай в виду. — И, снова переходя на энергичный, командирский тон, Макмиллан продолжил: — Вы пробудете в распоряжении Кейсуэлла столько, сколько это потребуется, что будет оформлено как служебная командировка. Ваш начальник предупрежден, однако, я подчеркиваю еще раз, о существе этой так называемой командировки не знает ровно ничего. И не должен знать!
— Да, сэр.
— Это все. Желаю вам успехов, Мейседон!
Ждать пришлось недолго, однако Мейседон успел выпить крохотную чашечку кофе и полюбезничать с секретаршей, прежде чем она уважительно сообщила: «Машина ждет вас у главного подъезда, полковник». Машина оказалась новеньким, последней модели черным «кадиллаком». Шофер, стоявший рядом с машиной с добропорядочным и бесстрастным, типично лакейским выражением лица, фотографически взглянул на подходящего Генри и корректно осведомился: «Полковник Мейседон?» Получив утвердительный ответ, он почтительно склонил голову, распахнул перед Генри дверцу «кадиллака» и без спешки, солидно занял место за рулем.
Шофер был опытным драйвером — это было видно сразу. Он вел машину смело, но отнюдь не рискованно. Мейседон попробовал заговорить с ним, но, получив в ответ несколько в высшей степени учтивых ответов: «Нет, сэр», «Не знаю, сэр», «Простите, сэр, но я не уполномочен обсуждать такие вопросы», — понял, что из разговора ничего не получится, и замолчал. В облике шофера было нечто южное. Итальянец? Испанец? Может быть, цветной с небольшой долей негритянской крови? Стоило ли ломать над этим голову! Выбравшись за город, шофер прибавил газу, стрелка спидометра подползла к ста милям в час. «Кадиллак» шел устойчиво, легко и почти бесшумно, лишь шелестели, а лучше сказать, приглушенно звенели по бетону шины. Через двадцать минут такой езды шофер плавно притормозил и свернул на боковую дорогу — с бетонным же покрытием, но узкую — только-только разъехаться двум встречным автомобилям. Ярдов через триста возле площадки, на которой можно было развернуть даже стотонный самосвал, стояло уведомление, набранное на белом щите из люминесцирующих элементов: «Частные владения. Въезд запрещен!» За этим объявлением дорога проходила через широкую полосу зарослей шиповника и акаций, а далее была на немецкий манер обсажена двумя рядами плотно стоящих молодых каштанов. Это был своего рода зеленый забор, непроницаемый для автомобилей и несуществующий для пешеходов. Миновав развилку, где дорога делилась на две совершенно одинаковых ветви, шофер сбросил скорость. Ряды молодых каштанов оборвались, и справа открылся большой одноэтажный белый дом, а за домом не то сад, не то парк — липы, каштаны и голубые ели из той прекрасной породы, которая выведена в России. Забора не было, его заменял плотный ряд кустарниковых акаций с плотными, словно костяными шипами двух-трехдюймовой длины — преграда для любого крупного зверя и человека практически непреодолимая. Садоводы-любители и мальчишки весьма образно называют этот сердитый кустарник «держи-деревом». В кустарник были врезаны невысокие ворота из решетчатого металла, возле ворот — площадка для паркинга, на которой можно было разместить три-четыре солидных лимузина. Но шофер, игнорируя эту площадку, притормозил, почти упершись широким носом «кадиллака» в створки ворот. Он не подал никакого сигнала, но после двух-трехсекундной паузы ворота — нет, не открылись, а раздвинулись, — их створки плавно и совершенно бесшумно разъехались в стороны. Шофер тронул машину и с черепашьей скоростью подвел ее к дому, к широким ступеням, которые вели на веранду с раздвижными панелями из толстого витринного стекла. Мейседона ждали.
Кейсуэлл, высокий мужчина средних лет, одетый в костюм спортивного покроя из сурового полотна, который кстати говоря, сидел на нем как влитой, подождал, пока шофер откроет дверцу «кадиллака», и только после этого сияя привычной кинематографической улыбкой, легко сбежал со ступеней.
— Рад вас видеть, полковник!
Пожимая сухую, энергичную, но не сильную руку советника, Мейседон замялся с ответом. Кейсуэлл, так сказать, понял причину этой заминки и непринужденно представился:
— Джон Кейсуэлл. В этом доме и его окрестностях меня обычно величают просто Джоном. Я не буду возражать, если и вы, Генри, будете называть меня именно так.
— Да, сэр, — с подчеркнутой шутливой почтительностью склонил голову Мейседон.
Кейсуэлл засмеялся и сделал широкий приглашающий жест:
— Прошу!
Поднявшись по ступеням, они через веранду прошли в гостиную. Пол в ней был устлан огромным, очень дорогим ковром ручной работы; Мейседон, бывавший на Востоке, понимал толк в таких делах. Традиционный для таких домов камин был сложен из подчеркнуто грубо обтесанных каменных глыб, решетка и все прочее оформление сделано из простого чугунного литья. Подставка у торшера и настенные бра — тоже чугунное литье, но литье гораздо более тонкое и декоративное. Стены гостиной отделаны светлым деревом, на стенах — несколько картин, мебель — того же дерева, только более темных тонов, судя по всему, очень удобная — не старинная, но отнюдь и не ультрасовременная. А вот радиотелекомбайн ультрасовременный! Причем и сама аппаратура, и шкаф, в котором располагалась солидная дискотека, оформлены тем же деревом приятной светлой расцветки. Удивительное дерево! На него хотелось смотреть и смотреть — светло-коричневый фон разной насыщенности с золотистым отливом, а на этом фоне причудливые завитки, овалы и звезды. Казалось, стены гостиной излучают тихий волшебный свет, словно они подсвечены изнутри, словно это не пласты древесины, а осколки небес некоей далекой таинственной планеты! Мейседон невольно замедлил шаг, любуясь великолепной отделкой гостиной — ни разу в жизни он не видел ничего подобного. По губам Кейсуэлла скользнула снисходительная, но вместе с тем и одобрительная улыбка.
— Это береза, — вполголоса пояснил он. Мейседон приподнял брови.
— Береза? Я думал, какое-нибудь чудо тропиков!
— Береза, — с легкой гордостью пояснил Кейсуэлл. — Но не обычная береза, а карельская. В свое время ее называли царской березой. Красота погубила это дерево, небольшие рощи карельской березы сохранились лишь в самой Карелии да в Лапландии. Истинная, высокая красота — жестокая штука, Генри, она губит не только деревья, но и людей, особенно женщин.
Кабинет, куда вела дверь непосредственно из гостиной, был подчеркнуто строг, даже аскетичен. Стены отделаны матовым пластиком салатного цвета, пол паркетный, но вместо ковра — грубый палас, вся мебель, включая книжные шкафы и небольшой бар, правда, не металлическая, но подчеркнуто простая. Широкое окно с цельным стеклом приоткрыто, жалюзи подняты, но оконный проем в меру затенен старой липой. Шум зеленой листвы, переплетенный с разноголосым щебетанием птиц, создавал необычный для делового помещения звуковой фон. На стенах кабинета несколько превосходно выполненных черно-белых фотографий различного формата: сам хозяин под свежим ветром и ослепительным солнцем на румпеле швертбота, суровый старик аристократического вида — скорее всего, отец Кейсуэлла. А над самым письменным столом в продолговатой вертикально расположенной рамке — изречение, начертанное красиво выписанными китайскими иероглифами. Заметив, что Мейседон разглядывает это произведение искусства с некоторым недоумением, Кейсуэлл пояснил с затаенным лукавством:
— Это девиз. Всякий раз, начиная сложную и ответственную работу, я выбираю афористическое воплощение ее сущности. В трудные минуты я обращаю к девизу утомленный взор и черпаю в проникновенных словах новые силы. Марксисты говорят, что идея, овладевшая человеком, становится материальной силой. В известной мере я разделяю это убеждение.
Разглядывая иероглифы, похожие на цепочку следов причудливой птицы, способной легко бегать по вертикальным стенкам, Мейседон с любопытством спросил:
— Как же звучит девиз вашей нынешней работы?
— Не только моей, но и вашей, — мягко поправил Кейсуэлл и чему-то тихонько, почти беззвучно рассмеялся. — Это бессмертное изречение принадлежит великому Конфуцию. Гласит оно следующее: «Трудно поймать в темной комнате кошку. Особенно, когда ее там нет».
Мейседон удивленно взглянул на советника.
— Не понимаю.
— Все в свое время, Генри. Садитесь, нет-нет, сюда, к столу. Надеюсь, вы понимаете, Генри, что все, с чем я сейчас познакомлю вас, является абсолютной тайной и не подлежит разглашению ни при каких обстоятельствах.
— Я работаю в аппарате министерства обороны и все время имею дело с секретами государственной важности, — с некоторой снисходительностью заметил Мейседон.
Несколько секунд, легонько покачивая ногой, обутой в мягкую замшевую туфлю, советник разглядывал сидевшего перед ним полковника. Лицо умное, волевое, твердая складка рта, подбородок несколько мягковат — бородку бы следовало носить Мейседону, этакую небольшую франтоватую бородку. Но, говорят, в Форт-Фамбле не жалуют бородатую молодежь, а по меркам высшей военной иерархии полковник молод.
— Забудьте о грифах и классификациях, полковник, — негромко, с ощутимым холодком в голосе вслух сказал Кейсуэлл. — В данный момент вы проникаете в совершенно иную сферу отношений и ценностей. Подчеркиваю, тайна носит абсолютный характер со всеми вытекающими отсюда и приятными самолюбию и огорчительными последствиями. Круг посвященных в нее настолько узок, что, скажем, установить виновника утечки информации не составит большого труда. Вам говорит о чем-нибудь второе августа? Как знаменательная дата?
— Которого года? — деловито осведомился Мейседон.
— О! Чувствуется военная закваска — прежде всего точность и определенность. — Кейсуэлл почти неслышно рассмеялся. — Второго августа 1939 года Альберт Эйнштейн направил тогдашнему президенту Соединенных Штатов Франклину Делано Рузвельту письмо, в котором утверждал, что уран может послужить основой для создания исключительно мощных бомб. Собственно, с этого дня начались работы по созданию «Манхэттенского проекта», реализация которого 16 июля 1945 года завершилась взрывом испытательного ядерного устройства в Аламогордо.
— Я знаю об этом, Джон.
— Верю. Но вряд ли вы знаете о том, что десять месяцев тому назад нынешний президент Соединенных Штатов получил от группы ученых письмо, которое было датировано весьма многозначительно и символично — вторым августа.
На этом воспоминания полковника Мейседона оборвались — сон сморил его. Уже засыпая, он умиротворенно подумал, что волноваться преждевременно: надо подождать утра, а там видно будет.
СМЕРТЬ
Керол обратила на него внимание сразу, как только он появился в баре. Это вышло у нее нечаянно, непроизвольно. Ведь нередко бывает именно так: взгляд, равнодушно скользящий по фигурам и лицам людей, вдруг сам собой выделяет кого-нибудь, задерживается, а уж потом внимание приобретает осознанный, контролируемый характер. Выше среднего роста, незнакомец не выглядел богатырем, мускулы и пропорции которого сразу бросаются в глаза. Но он был строен, собран и очень экономен в движениях. Керол, не один год простоявшая за стойкой, хорошо знала таких людей — неброских, на первый взгляд медлительных, но тренированных. И без колебаний решила — или сыщик, или гангстер. Черти его принесли! Как и все обыкновенные люди, имеющие прямое отношение к купле-продаже спиртного, она недолюбливала и побаивалась и тех и других.
Незнакомец постоял при входе, осмотрелся, почти не поворачивая при этом головы, и неторопливо направился к стойке. У него была мягкая кошачья походка, органически сочетавшаяся и с его обликом, и с тем впечатлением, которое интуитивно сложилось о нем у Керол. Но, рассмотрев незнакомца поближе, барменша усомнилась в своих первоначальных предположениях. Посетитель, ловко усевшийся на высокое вертящееся сиденье, был аккуратно причесан, чисто выбрит, но лицо у него было усталое, утомленное, даже изможденное, под глазами — синяки. Словно он не спал несколько ночей подряд или накануне принял участие в фундаментальнейшей попойке. Из-за всего этого трудно было решить, сколько лет незнакомцу — двадцать пять или сорок пять, но по каким-то неуловимым признакам, — у Керол был наметанный глаз, — барменша догадалась, что как бы там ни было, незнакомец далеко не юноша, а вполне сложившийся зрелый человек. Керол было решила, что перед ней завсегдатай питейных заведений, привычный пьяница, но нет синие глаза незнакомца смотрели умно и ясно, а смуглое лицо было четко прописано, не было в нем той опухлости, расплывчатости или, наоборот, обостренной резкости черт, которые так характерны для алкоголиков. Непонятный человек! Незнакомец смотрел на Керол с легкой, отнюдь не заискивающей улыбкой. Барменша поправила волосы, невольно улыбнулась в ответ и тут же рассердилась на себя за податливость.
— Виски, — негромко попросил незнакомец, у него был приятный мягкий баритон.
Керол еще раз оглядела клиента, обратив теперь внимание на его одежду, виски — понятие растяжимое. На посетителе был твидовый костюм, светлая рубашка и галстук. Но костюм не то чтобы помят, а плохо отутюжен — так выглядит одежда, когда ее гладят наскоро, второпях, после того как она побывала под проливным дождем. Рубашка была не вполне свежей, хотя ее нельзя было назвать неопрятной или тем более грязной, на запястье левой руки Керол заметила большие часы, судя по всему, часы хорошие, добротные, но не шикарные. Совершенно непонятный человек, не желавший вписываться в хорошо известные Керол категории посетителей. Впрочем, у нее были свои, безотказно действовавшие методы проверки состоятельности клиентов. Выполняя заказ посетителя, она взяла не уже начатую бутылку обыкновенного виски, а достала с полки бутылку дорогого, шотландского. Она поставила бутылку так, чтобы посетитель мог рассмотреть этикетку «Горная королева», и не без хитринки заглянула ему в глаза. Незнакомец никак не реагировал на ее маневр, лишь проговорил устало и рассеянно:
— Двойное. Немного льда, сахару и в меру лимонного сока.
Керол хмыкнула.
— Дайкири?
— Совершенно верно, мэм.
Сноровисто выполняя заказ, Керол чувствовала на себе его взгляд: на руках, на лице. И сама раза два будто ненароком взглянула на посетителя. Странный, ни на кого не похожий, но интересный мужчина. Волосы темные, почти черные, кожа матово-смуглая, а глаза синие-синие, васильковые! Такого раз увидишь и уже не забудешь. Взяв запотевший бокал, посетитель взболтал содержимое, льдинки при этом не то зашуршали, не то зазвенели, отпил хороший глоток и удовлетворенно причмокнул губами. Опуская бокал на стойку, он не то чтобы сказал, а подумал вслух:
— А что, если у меня не хватит монет, чтобы заплатить за это первоклассное пойло?
Рука Керол, вытиравшая полотенцем стойку, на секунду замерла. Посетитель поднял на нее свои васильковые глаза и улыбнулся:
— А вдруг у меня и вообще нет денег? Знаете, как это бывает: неожиданные траты, забыл снять со счета, вытащили бумажник. — Голос посетителя звучал мягко, ласково. — Какое объяснение вам больше всего по душе, мэм?
— Я не мэм.
— Хорошо, — покладисто согласился незнакомец, — мисс Керол.
Она внимательно взглянула на него, хмуря красиво очерченные брови.
— Вы знаете мое имя? Что-то я не припоминаю вас.
Не спуская с нее глаз, он сделал еще глоток.
— Я знаю не только ваше имя, но и ваш адрес. Понизив голос, он уверенно и точно назвал ее адрес.
Барменша не могла скрыть удивления, постепенно сменившегося беспокойством.
— Вы из полиции?
Он грустно вздохнул.
— Разве полицейские остаются без гроша в кармане? — посетитель определенно поторопился допить свое виски. — Разве у полицейских воруют бумажники?
Керол уперла руку в бедро, она делала это очень картинно, точно испанка.
— У вас в самом деле нет с собой денег?
Он грустно кивнул, пододвигая ей бокал, на дне которого сиротливо лежало несколько тающих льдинок.
— Лучше уж сразу признаться в этом.
Все так же подбоченясь, Керол несколько долгих секунд разглядывала посетителя, сидевшего с покорно опущенной головой. В глазах ее, как предвестники грозы, мелькали зарницы, готовые в каждое мгновение превратиться в настоящие молнии. «Какого же черта ты глотал «Горную королеву», подонок?» — вертелось у нее на языке. Но гроза не состоялась. Глубоко вздохнув, Керол убрала со стойки опустошенный бокал и миролюбиво сказала:
— Ладно. Нет сейчас, занесете потом. — И она с точностью до одного цента назвала ему сумму.
Теперь незнакомец смотрел на нее без улыбки.
— Вы добрая женщина, мисс Керол.
— Я не добрая, — отрезала барменша, — я опытная. Вы не из тех людей, которые не возвращают долгов.
— Вот как? — Его лоб неожиданно прорезала тяжелая мрачная складка, почти тотчас же сменившаяся мягкой улыбкой. — Впрочем, вы правы, мисс Керол. Я могу идти?
Она передернула плечами, все еще разглядывая его, судя по всему, она никак не могла составить о нем определенного мнения.
— Скажите свое имя, по крайней мере.
— Немо. — Он почтительно склонил голову. — Немо Нигил.
— Странное имя.
Ответить Нигил не успел, на его плечо легла тяжелая рука.
— Ты чего привязался к даме, парень? Да еще монеты жмешь! Не хочется ли тебе обнюхать мостовую? — насмешливо пророкотал басок.
Без всяких признаков удивления или тревоги посетитель повернул голову. Рядом стоял здоровенный мужчина, мускулы так и выпирали из ковбойки. Мерно двигалась тяжелая челюсть, отдавая привычную дань жевательной резинке, густые брови чуть приподняты, в глазах — презрительное равнодушие!
— Оставь его, Боб. Пусть убирается!
— Верно. Но сначала пусть извинится. Некрасиво грубить даме! — Ладонь словно тисками охватила руку посетителя, в голосе появилась жесткость. — Ты ведь извинишься, парень? Не будь подонком!
Нигил вздохнул и покорно проговорил, склонив голову:
— Извините меня, мэм.
Барменша пожала плечами и сказала теперь уже без эмоций:
— Оставь его, Боб. Пусть убирается.
Но Боб, очевидно, относился к тому не так уж редко встречающемуся типу людей, которых покорность жертвы лишь возбуждает и делает более агрессивными. Не исключено, что ему хотелось произвести впечатление на молодую женщину, покрасоваться перед ней. Во всяком случае, не ослабляя хватки, он насмешливо проговорил:
— Ты не понял меня, парень. Нужно извиниться по-настоящему. — Он беззлобно, но довольно свирепо встряхнул посетителя. — Проси прощения!
Керол отвернулась от стойки, делая вид, что происходящее ее совершенно не интересует. Она не видела реакции своего должника на требование Боба, а она была необычной. Нигил очень спокойно повернул голову к своему оппоненту и взглянул на него с откровенным любопытством.
— Но я ведь попросил прощения, мистер Боб.
— Сэр! — пророкотал Боб.
— Извините, сэр. Ведь я уже попросил прощения, сэр Вместе с покорностью Керол послышались в голосе незнакомца насмешливые, иронические нотки, и она с вновь проснувшимся любопытством повернулась к стойке.
— Прощения! Ты отбыл номер, вот что ты сделал. Я не слышал в твоем голосе истинного раскаяния. Проси прощения так, как бы просил его у мамми, когда она собиралась тебя выпороть.
Боб откровенно веселился, чувствуя себя хозяином положения.
— Оставь его, Боб, — устало сказала Керол.
Не обращая внимания на ее реплику, Нигил спокойно сказал:
— Моя мать никогда не порола меня, сэр.
— И напрасно! Этим-то она тебя и испортила, превратила вот в такого подонка. — Боб уже со злостью встряхнул посетителя. — Проси прощения, кому говорят!
— Я не люблю, когда меня встряхивают, — холодно проговорил Нигил и положил свою ладонь на кисть Боба, которая все еще стискивала его плечо. — Я не шейкер.
Керол открыла уже рот, чтобы поактивнее вмешаться в происходящее, и снова закрыла его — ее вмешательства не потребовалось. На ее глазах происходило нечто удивительное и не совсем понятное. Нигил как будто бы просто положил свою ладонь на лапу Боба, положил, и все, но лицо Боба сначала отразило удивление, потом оно покраснело от напряжения, на шее вздулись жилы, а мускулы всего тела напряглись, наконец, оно исказилось от боли. Нигил снял руку Боба со своего плеча и как неодушевленный предмет положил на стойку, движения его отнюдь не свидетельствовали о мускульном напряжении, они были совершенно естественны, даже замедленны. Керол остолбенело наблюдала за происходящим, глядя на Нигила отупело и обиженно, Боб начал машинально разминать и массировать свою кисть.
— Вы чего? — Он по инерции пытался говорить угрожающе, но в его голосе прозвучала растерянность.
— Я не люблю, когда меня трясут. — Нигил мягко улыбнулся, глядя прямо в глаза мужчины, и деликатно посоветовал: — Садитесь за свой столик, Боб. Я не намерен обижать мисс Керол, мне просто нужно поговорить с ней и рассчитаться за выпитое. Идите, Боб.
— Иди-иди, — торопливо поддержала барменша, выходя из столбняка.
Оглядев еще раз посетителя, она остановила взгляд на его руке, лежащей на стойке. Кисть крупная, но не большая, не мощная, длинные, и это сразу видно, гибкие пальцы. Более машинально, чем сознательно, она прикоснулась к этой руке, легонько погладила ее, а потом перевернула ладонью вверх. Ни ссадин, ни мозолей, ни очевидной загрубелости, хотя не выглядит эта рука и холеной, изнеженной.
— И этой-то лапкой вы сделали больно Бобу? Да у него силы на троих таких, как вы, хватит! Что вы с ним сделали? — Она покосилась на Боба, который залпом допил свой коктейль и теперь сидел за столом с видом человека, решавшего для себя трудную, почти непосильную задачу. Посмотрел на Боба и Нигил.
— Сила человека не только в его мускулах, — сказал он словно про себя.
Она испытующе взглянула на него.
— А в чем? — И вдруг обрадовалась мелькнувшей у нее догадке. — Вы гипнотизер?
— Фокусник.
Нигил печально улыбнулся, сделал кистью скользящее движение и протянул барменше зажатую между указательным и безымянным пальцами новенькую пятидолларовую бумажку. Керол невольно покосилась в сторону кассы — нет, она была далеко, явно в недосягаемости рук этого странного посетителя. Когда она снова перевела на него взгляд, в руке Нигила уже ничего не было — он легонько шевелил в воздухе своими длинными ловкими пальцами.
— Так вы фокусник! — констатировала барменша с облегчением.
Он кивнул, сделал новый санж, и между его пальцами появилась десятидолларовая бумажка. Ловко, будто нечаянно уронив купюру на внутреннюю часть стойки, Нигил с улыбкой сказал:
— Сдачи не нужно.
— А говорили — нет денег, — с невольно прорвавшимся облегчением проговорила Керол.
— Я испытывал вас, мисс Керол. Это испытание вы успешно выдержали. Не откажетесь ли за все те беспокойства, которые я вам причинил, принять от меня подарок?
Он медленно извлек из кармана своего пиджака дамские часы, держа их за самый конец изящной не то золотой, не то позолоченной цепочки-браслета. Керол улыбнулась, с любопытством разглядывая эту всегда Милую женскому сердцу красивую вещицу. Вдруг брови ее нахмурились. Протянув руку, она приподняла часы на ладони, склонилась, приглядываясь к ним, машинально перевела взгляд на собственное запястье и отшатнулась:
— Так это же мои часы!
— Совершенно верно, мисс Керол, — с легким поклоном согласился Нигил.
Барменша все еще не могла взять в толк происшедшее и лишь переводила взгляд то на часы в руке Нигила, то на свое запястье. Нигил аккуратно, только зашуршала цепочка-браслет, опустил часы на стойку и пояснил:
— Я хотел взять их на память о нашей встрече, но теперь передумал.
— Вы и правда фокусник! — Керол наконец-то пришла в себя, взяла часы и нервно, а поэтому не особенно ловко стала прилаживать их на руке. — С вами надо поосторожнее. Где только вы этому научились!
— На Фомальгауте, мисс Керол.
— Это в каком штате?
— Это не в штате, мисс Керол, — безмятежно пояснил незнакомец, — а в созвездии. В созвездии Южной Рыбы. Белый субгигант класса А, и совсем недалеко — всего в двадцати трех световых годах от Солнца.
— Что-то я не пойму вас. — Справившись наконец-то с браслетом, барменша подняла голову, отбросила волосы, упавшие ей на лицо… и насторожилась, глядя на входную дверь. — Полиция, — уверенно констатировала она вполголоса.
Бросив испытующий взгляд на барменшу, Нигил лениво оглянулся через плечо. В двери только что вошли и теперь неторопливо, со скучающими физиономиями шагали к стойке двое крепких мужчин в просторных светлых плащах и мягких шляпах, руки они держали в карманах. Нигил все так же неспешно повернулся к ним спиной, коротко вздохнул и мотнул головой, как человек, допустивший очевидный промах. Какое-то мгновение он сидел неподвижно, потом неуловимым движением извлек из кармана несколько стодолларовых банкнот, бросил их на внутреннюю, низкую часть стойки и указал на них Керол глазами, сделав знак, чтобы та их припрятала. Потом опустил указательный и средний пальцы в нагрудный карманчик пиджака, что-то извлек оттуда, резко повернулся на вертящемся сиденье лицом к двери и мягко спрыгнул на пол.
— Спокойно, мистер Рой. Без глупостей, — негромко, но отчетливо сказал один из вошедших мужчин, не вынимая рук из карманов и продолжая спокойно продвигаться вперед. — Бар оцеплен.
Как бы в подтверждение его слов в бар вошли еще два полицейских, теперь уже в форме. Видимо, руководитель операции, контролировавший развитие событий, понял, что полной внезапности достичь не удалось, и без промедления направил подмогу. Краем глаза Нигил проследил за тем, как барменша скользнула за его спиной в сторону, — она была достаточно опытным человеком и знала, что такие ситуации нередко разрешаются перестрелкой. Несмотря на испуг и спешку, у Керол все же хватило самообладания на то, чтобы незаметно схватить деньги, брошенные посетителем на стойку.
Мужчины в мягких шляпах, фиксируя взглядами лицо Нигила, заходили один с правой стороны, другой — с левой; полицейские в форме двигались прямо на него.
— Без глупостей, мистер Рой!.. — теперь уже с нотой угрозы повторил тот, что заходил справа, немолодой мужчина с суровым лицом и цепким взглядом.
Нигил криво усмехнулся.
— Я проиграл, джентльмены.
Он стоял неподвижно, держа правую руку на груди и заложив большой палец за отворот пиджака. Между указательным и средним пальцами у него была зажата капсула, которую полицейские вряд ли могли заметить. Когда группа захвата, координируя свои действия, перед решающим броском несколько замедлила шаг, Нигил приподнял два пальца, демонстративно положил капсулу в рот и сжал челюсти. Лицо его исказилось, тело свела судорога… и он, словно сбитый ударом невидимого противника, рухнул на пол. Пожилой полицейский с суровым лицом, рванувшись вперед, успел подхватить его в самый последний момент и мягко опустил на пол. Послышался чей-то крик, загудели возбужденные голоса, в бар вбежала группа полицейских.
— Всем оставаться на местах! — прозвучала властная команда, обращенная к немногочисленным посетителям.
Керол, успевшая выбежать из-за стойки, с ужасом смотрела на лежащего в неестественной позе посетителя. Пожилой полицейский пытался разжать ему рот, но безуспешно — с такой силой он был сведен молниеносной судорогой. Убедившись в тщетности своих попыток, он наклонился и понюхал синеющие губы.
— Горький миндаль, — сказал он безнадежно своему напарнику. — Но готов держать пари, что это не чистый циан, а нечто более современное.
После секундного раздумья он расстегнул на упавшем пиджак, ловко ослабил галстук и, не утруждая себя последующими манипуляциями, рывком расстегнул рубашку, оторвав часть пуговиц. Приложив ухо к груди упавшего и меняя его положение, он некоторое время выслушивал грудь. Потом распрямился, кое-как привел в порядок костюм лежавшего и поднялся на ноги.
— Готов, — сказал он хмуро, отряхивая брюки. — Ни дыхания, ни сердца.
ВОСКРЕШЕНИЕ
Врач официально констатировал смерть посетителя, предположительно Кил Роя. Предположительно потому, что никаких документов при погибшем не оказалось, а как потом выяснилось, назвался он в баре не Кил Роем, а другим, еще более странным именем — Немо Нигилом. Развернулась обычная картина обследования и описания места происшествия, в которой самое активное участие принял фотограф. Прямо в зале шел опрос немногочисленных посетителей, фиксировавшийся в магнитофонной записи; после опроса и проверки документов всех, кто не вызывал подозрений и не представлял немедленного интереса для следствия, выпроваживали из зала.
Опросом Керол занялся пожилой инспектор с суровым лицом. Она отвечала как во сне и все косилась на труп, распростертый возле стойки, на это жалкое и жуткое подобие человека, с которым она разговаривала всего несколько минут тому назад и который держался так свободно, уверенно и даже игриво. Керол никак не могла поверить в реальность случившегося, и на ее лице время от времени появлялось выражение ужаса и растерянности. Хотя инспектор усадил ее так, чтобы Керол не видела трупа, он притягивал ее как магнит. Она нет-нет да и оборачивалась через плечо и потом смотрела на инспектора непонимающими глазами, тому приходилось два или три раза повторять один и тот же вопрос.
— Вы были знакомы с умершим?
— Нет.
— Может быть, все-таки были? Подумайте хорошенько.
— Нет!
— Вы уверены?
— Да нет же. Нет! Какой ужас!..
— Не явился ли он к вам по чьей-либо рекомендации?
— Откуда мне знать?
— Но он же говорил вам что-либо в этом роде?
— Нет.
— Подумайте хорошенько. Это могло быть сказано не прямо, а из-за угла, намеком.
Керол невольно припомнилось, с какой точностью незнакомец назвал ее адрес. Конечно, при желании это можно было посчитать и намеком, но не хватало еще впутываться в детективную историю. Тем более, что он умер. Умер! И все еще лежит там, возле стойки, страшный, совсем не похожий на самого себя.
— Никак он не говорил и не намекал.
— О чем же вы так долго с ним разговаривали? Она пожала плечами.
— Посетителей в этот час мало, скучно… — Керол покосилась через плечо. — Боже мой! Да разве это запрещено, разговаривать с посетителями?
— Разумеется, нет.
— Почему же вы пристаете с расспросами? — Керол вдруг закусила губу. — Вы спросите Боба. Он привязался к… нему, к Нигилу. И чуть не устроил драку.
Когда барменша назвала имя Боба, по губам инспектора скользнула мимолетная, почти незаметная улыбка. Керол вдруг догадалась, что пройдоха Боб не просто так привязался к посетителю, а сделал это по наущению полиции, которая выиграла время и подготовилась к операции. Подготовилась, а все равно ничего не вышло!
— Он назвал себя Нигилом? — с любопытством уточнил между тем инспектор.
— Да. Немо Нигилом.
— А вы знаете, что значат эти слова?
— Нет. — Керол вдруг вспомнила одну деталь — как и у многих других людей ее профессии, память у нее была фотографическая. — Я знаю, кто такой Немо. Был такой фильм «Капитан Немо» — капитан Никто.
— Совершенно верно, мисс Керол. Немо — это никто, а вот Нигил — ничто.
— Странно.
— Очень странно, мисс Керол.
Керол заплакала. Она заплакала потому, что труп уложили на носилки и пошли к выходу. Заплакала потому, что тот, живой человек, загадочный Никто-Ничто понравился ей, ухитрился оставить в ее сердце какой-то след Оставил и ушел навсегда.
— А еще говорил — фокусник! — сквозь слезы выговорила она.
— Успокойтесь. — На лице инспектора отразилась некая заинтересованность. — Он называл себя фокусником?
— Да… то есть нет… Это я его так назвала. Но он показывал всякие такие простые фокусы.
И, поощряемая инспектором, барменша довольно подробно описала, как в руке посетителя появлялись и исчезали деньги.
— Простите, мисс Керол, а кроме платы за виски покойный вам ничего не передавал?
Керол неприятно резануло слово «покойный», к тому же она вспомнила о деньгах, которые теперь лежали в ее сумке. Керол была по-своему доброй, отзывчивой, но весьма деловой женщиной. Несмотря на неприкрытое потрясение, которое она испытала в момент внезапной смерти Нигила, в ходе возникшей вслед за этим суматохи барменша успела наскоро пересчитать и перепрятать их. Там оказалось около пятисот долларов, причем четыреста пятьдесят — крупными купюрами, а остальные Керол не пересчитывала, просто оценила на глаз. Поскольку Нигил умер, она совершенно искренне считала эту сумму своей личной собственностью, тем более что он сам показал глазами, но очень выразительно, чтобы Керол забрала деньги. Она вовсе не собиралась говорить о них полиции! Наверное, взамен, чтобы хоть формально соблюсти некую внутреннюю справедливость, она рассказала о часах.
— Еще он передал мне часы, вернее, он мне подарил их, в шутку. Эго были мои собственные часы.
Керол продемонстрировала свои часы инспектору, тот нахмурился.
— Не понимаю! Расскажите-ка об этом хорошенько.
Керол рассказала. Инспектор задумался, собрав в горсть свою физиономию.
— Стало быть, он ухитрился незаметно снять их у вас с руки?
— Да, инспектор. Он же фокусник!
— Был, мисс Керол, был, — хмуро поправил инспектор. — А вы уверены, что он снял у вас часы именно за стойкой? Может быть, это случилось где-нибудь в другом месте? Наконец, вы могли забыть часы дома.
— Нет-нет, — уверенно заявила барменша. — Когда я наливала ему виски, часы были у меня на руке. Я еще подумала — как медленно сегодня тянется время.
— Теперь оно пошло быстрее, — рассеянно заметил инспектор и покосился на рослого молодого человека в сером костюме. Литые плечи, сильная шея, легкая кошачья походка, — все изобличало в нем силу и тренированную ловкость. «Сыщик», — решила про себя Керол. Приблизившись к инспектору, сыщик молча протянул ему претенциозную визитную карточку — черную с золотыми тиснеными буквами. Эту карточку извлекли из кармана покойного, Керол это видела мимоходом. Инспектор положил карточку перед собой на стол. Барменша со своего места конечно же попыталась незаметно рассмотреть ее, но ничего не разобрала, кроме центрального вензеля — золотой рыбы, похожей на акулу, на фоне облака, прописанного тончайшими паутинными нитями. Если бы барменша сидела на месте инспектора, она увидела бы следующий текст:
Фома ль’Гаут
доктор белой, черной и красной магии
«Южная Рыба» (PsA, 22h 52,1m, — 30°09').
Не спуская взгляда с визитной карточки, инспектор буркнул:
— Слушаю, Эйб. — Но поскольку тот молчал, поднял голову. Сыщик показал глазами на барменшу.
— Об этом можно при ней.
Сыщик ухмыльнулся.
— Они смеются, шеф.
— Я слушаю, Эйб, — с легкой ноткой нетерпения повторил суровый инспектор.
— Лицо, означенное на визитной карточке, в картотеке не числится. Выражено сомнение в том, что человек с таким именем был когда-либо официально зарегистрирован на территории Штатов. Специалисты по белой и черной магии в Штатах есть, в том числе и высокой квалификации, а вот красной магии не существует — скорее всего, это выдумка. — Инспектор смотрел на визитную карточку, и сыщик снова позволил себе ухмыльнуться. — Они говорят, Фома неверный — это еще куда ни шло, но Фома ль’Гаут — такого ни в Библии, ни в Коране не отыщешь. Я сказал им, от чьего имени действую, и попросил быть посерьезнее. Тогда они высказали предположение, что Гаут — это испорченное от гайд, или год. Но я думаю шеф, что гиды, проводники и Бог тут ни при чем.
Инспектор поморщился, как бы показывая, что его не интересует мнение подчиненного.
— Что они говорят о частице «ль»?
— Таковой не существует. Но, скорее всего, это означает дворянское происхождение. Вроде немецкого «фон» или французского «де» и «д», как, например, д’Артаньян. Может быть, это самое «ль» имеет отношение к арабскому «эль» — так начинаются многие арабские слова.
— А цифры?
— Скорее всего, это координаты, но что они означают и почему вписаны в визитную карточку — неизвестно. Ну, а «Южная Рыба» — это, скорее всего, название какой-нибудь гостиницы, ресторана или кафе, которое пользуется известностью у этих самых докторов магии.
Инспектор кивнул, показывая, что удовлетворен, взял визитную карточку и повертел ее перед глазами. Атласная черная поверхность поблескивала, как зеркало.
— Фома ль’Гаут, — пробормотал он, хмуря брови. — Фома ль’Гаут… Фомальгаут! Если это имя произнести слитно, в нем определенно слышится что-то знакомое, а?
— Не знаю, шеф, — с запинкой признался сыщик. — Не буду врать, не знаю!
— Фомальгаут, Фомальгаут, — бормотал инспектор. — Город? Остров? Наверное, остров! И тогда понятно, почему указаны координаты.
Наверное, у этого инспектора, как это говорится, были глаза на затылке, потому что он уловил непроизвольное движение барменши и повернулся к ней всем телом.
— Вам что-нибудь известно об этом, мисс Керол?
— Н-нет… то есть да, — растерялась барменша — так неожиданно и резко был поставлен этот вопрос.
У Керол, как и у многих других неглупых женщин, была отличная механическая память. В разговоре с Нигилом, занятая застегиванием браслета, она не обращала внимания на его реплику о Фомальгауте, но когда инспектор, как попугай, принялся повторять это слово, она вдруг вспомнила фразу своего странного собеседника так четко, будто услышала ее всего секунду назад. Эту фразу она и пересказала инспектору почти буквально, однако же с собственными комментариями.
Задав несколько уточняющих вопросов, инспектор вздохнул, снова и снова разглядывая черную визитную карточку.
— Звезда! Теперь я вспомнил и сам. Значится в астрономических справочниках по навигации. Звезда первой или второй величины. Я сам брал ее высоту, когда ходил на крейсерской яхте из Фриско в Лиму. PsA — это созвездие Южная Рыба, а цифры — прямое восхождение и склонение Фомальгаута, — инспектор передернул плечами и засмеялся, отчего его лицо сразу подобрело. — Что вы на это скажете, Эйб?
— Темное дело, шеф. — Он помолчал и добавил рассудительно: — Но кто бы ни был этот Фома ль’Гаут, он умер.
— Умер, — рассеянно согласился инспектор, — а золото исчезло… Вот что, Эйб, уточните все это у ребят из центра. И пусть они поработают по линии эксамотирования.
— Не понял, шеф.
— Эксамотирование, престидижитация, манипуляция. — Инспектор пошевелил в воздухе пальцами. — Ловкость рук и разные фокусы. Профессионалов в Штатах немного, так что пусть они хорошенько пройдутся по всем этим линиям. Действуйте!
Проводив сыщика взглядом, инспектор повернулся к барменше и некоторое время внимательно ее разглядывал. Керол было очень неуютно под его спокойным оценивающим взглядом.
— Будет лучше, мисс Керол, для вас будет лучше, — подчеркнул инспектор, — если вы намертво забудете об этой истории с Фомальгаутом.
— Я понимаю, инспектор.
Тот кивнул, выдержал паузу и уже другим, рабочим тоном спросил:
— А теперь подумайте, прежде чем отвечать. Кроме платы за виски и ваших же собственных часов, этот Немо Нигил ничего не передавал вам?
— Ничего!
— Чемоданчик, кейс, саквояж, мешок, наконец?
— Я же сказала — ничего! Он вошел сюда с пустыми руками. — Керол кивнула головой на зал. — Свидетели найдутся.
— Они уже нашлись, он действительно вошел сюда с пустыми руками, но… — Инспектор задумался и потер себе пальцем кончик носа. — Но как бы это выразиться пояснее, покойный был очень ловким человеком, умел отводить глаза.
На лице Керол снова промелькнула тень растерянности и испуга: она еще и еще раз мысленно видела, как судорога сводит тело Нигила и он, точно подрубленный, валится на пол.
— Да, он был ловким человеком, инспектор, — невыразительно проговорила она вслух.
Инспектор легонько прикоснулся к ее руке, безвольно лежавшей на столе.
— Хорошо, мисс Керол, занимайтесь своими делами Но вы можете понадобиться. Не откажите сообщить адрес, по которому вы проживаете. — И, отвечая на ее встревоженный взгляд, пояснил: — Дело серьезное, мисс Керол. Этот таинственный Немо Нигил похитил внушительное количество золота, и оно до сих пор не найдено. Но я обещаю, что без крайней необходимости мы не будем вас беспокоить.
Керол продиктовала свой адрес, попутно размышляя о том, откуда его мог знать трагически погибший на ее глазах человек. Она подумала, что на всякий случай в квартире надо будет сменить замки, и сделать это надо завтра же, потому что сегодня уже ничего не выйдет. Вдруг она испугалась, что обходительный, но судя по всему, проницательный инспектор как-то угадает ее мысли. Но опасение ее было напрасным, инспектор, не поднимая головы, записывал ее адрес простенькой шариковой ручкой.
Керол не помнила толком, как она доработала этот вечер. Слухи о самоубийстве посетителя быстро распространились по городу, и, как только полиция разрешила свободный доступ, в бар хлынули любопытные во главе с репортерами газет, радио и телевидения. Каждый из них, разумеется, считал нужным промочить горло, взбодриться, а заодно задать целую кучу вопросов. Опытные репортеры в искусстве расспроса и выпытывания, пожалуй, не уступали полицейским, а параллельная беседа с несколькими людьми нередко принимала характер перекрестного допроса. Керол дважды чуть не проговорилась: один раз о том, что самоубийца знал ее адрес, а другой — о том, что он незаметно бросил деньги на стойку. Барменша знала, что вся эта репортерская братия, имеющая отношение к уголовной хронике, имеет тесные связи с полицией, возможность проговориться напугала ее: не хотелось осложнений, к тому же пятьсот долларов были в ее глазах достаточно кругленькой суммой. Стиснув зубы, она перешла на односложные ответы, а то и просто молчала, продолжая споро выполнять свои барменские обязанности. Но ее так донимали со всех сторон, что нервы ее в конце концов не выдержали. Нечаянно разбив бутылку джина (такие происшествия, кстати говоря, случались с ней очень редко), она раскричалась, а потом и расплакалась. Хозяин бара, человек расчетливый, скупой, но не лишенный сентиментальности, сжалился над Керол и отпустил ее домой. «Совсем измучили девочку, горлопаны!» — громогласно обругал он посетителей. Посетители, в особенности репортерская братия, добродушно ржали, отпускали соленые шуточки, всячески намекая на то, что забота хозяина о своей миловидной барменше — акт не вполне бескорыстный. Но когда Керол, ни на кого не глядя, направилась домой, ей уступали дорогу с несколько подчеркнутой почтительностью и вовсе не донимали приставаниями.
Керол жила в двадцатичетырехэтажном доме совсем недалеко от бара — в двадцати минутах ходьбы. Это обстоятельство избавляло ее от необходимости пользоваться автомобилем, а автомобили она ненавидела, боялась ими пользоваться, и каждая поездка была для нее нервотрепкой. Это был стойкий невроз, возникший после смерти мужа, погибшего в автомобильной катастрофе. Мужа она искренне любила. Собственно, и он любил ее, но несколько своеобразно. Он совершенно чистосердечно считал, что переспать с другой женщиной — вовсе не значит изменить жене и как-то обидеть ее; любовь — это одно, а постель — нечто совсем другое, по-своему, разумеется, тоже немаловажное и необходимое для настоящего мужчины занятие. Муж оставил ей не только квартиру, но и некоторую сумму, опираясь на которую она больше года искала подходящую работу где-нибудь поблизости от дома, чтобы не надо было пользоваться этим проклятым Богом четырехколесным чудовищем — автомобилем. Устроиться в бар было не так-то просто, «комиссионные» за трудоустройство съели большую часть ее оставшихся сбережений, но работа пришлась ей по душе. После гибели мужа одиночество было для нее невыносимым, шумная, более чем свободная атмосфера питейного заведения средней руки была для нее своеобразным духовным лекарством. Правда, вскоре она поняла, что это сладенькое лекарство становится иногда липким и приторным, что в больших дозах оно обладает далеко не невинным побочным действием, но что делать? Такова жизнь!
Лифт поднял Керол на четырнадцатый этаж. Выйдя из его кабины, она попала в хорошо освещенный коридор, устланный дешевым синтетическим ковром. По левую и правую стороны его в неглубоких нишах располагались массивные двери, слепо глядевшие на проходящих людей смотровыми глазками из толстого стекла. Керол и вообще-то не любила этот пустынный голый коридор, в котором было нечто зловещее и тюремное, а сегодня она пробежала его почти бегом, благо, ковер заглушал звук ее шагов.
В прихожей Керол первым делом включила свет, а затем захлопнула и заперла дверь. Несколько секунд она отдыхала, прислонившись к двери спиной, прислушиваясь к шумам в своей квартире. Собственно, это был не квартирный, а уличный шум, но Керол так привыкла к нему, что считала его своим. На фоне этого шума Керол услышала лишь биение собственного сердца, оно колотилось так, точно барменша не поднялась на свой четырнадцатый этаж на лифте, а взбежала по лестнице. Нервы! Глубоко вздохнув, она сбросила туфли, вяло сняла верхнюю одежду и, оставшись только в юбке и блузке, прошла на кухню. Опустившись на табурет, она некоторое время сидела совершенно неподвижно, устало положив руки на колени, сидела без мыслей и эмоций, оставив за порогом квартиры свои сегодняшние волнения и тревоги, сидела до тех пор, пока взгляд ее случайно не упал на сумку, стоявшую перед ней на столе. Керол оживилась. Она переставила сумку на колени, открыла ее и, не торопясь, внимательно пересчитала так странно и страшно доставшиеся деньги. Ей досталось четыреста девяносто три доллара. Очень неплохо! Половину надо будет положить на свой счет, ну, скажем, не половину, а двести долларов. А на оставшиеся триста долларов, — семь она добавит из своего кошелька, — купить себе приличное вечернее платье и что-нибудь из демисезонной одежды — осень уже на носу. Зажав зеленые бумажки в левой руке, Керол размечталась, на ее лице появилась легкая улыбка, а в усталых глазах замерцала лукавинка.
Вдруг ей послышался из гостиной некий посторонний звук. Сердце у Керол упало. Как она могла забыть о том, что покойный знал ее адрес? Разве не мог на ее квартиру проникнуть и до времени спрятаться кто-нибудь из его сообщников? Мало того, ее адресом интересовалась и полиция, а разве можно доверять полиции?
Керол поспешно сунула деньги в сумку, осторожно закрыла ее, обшарила глазами кухню и воровато, точно совершая нехорошее дело, сунула сумку во встроенный шкафчик, в котором у нее хранились консервы и сухие продукты. Выпрямившись, она передохнула и прислушалась. Уличный шум, баюкающий, бархатный шепот холодильника — вот и все, что мог уловить ее болезненно обостренный слух. Наверное, почудилось. Нервы, ох уж эти нервы! Поколебавшись, Керол пересилила себя, решительно поднялась на ноги, прошла в гостиную и, включив свет, внимательно оглядела комнату. Не ограничившись этим, она заглянула за оконные портьеры, зачем-то открыла и снова закрыла дверцу серванта. Все было на своих местах. Ни одной вещи, ни единой безделушки не касалась чужая рука.
С еще большим тщанием Керол обследовала маленькую спальню. Эта комнатка была для нее не только местом для ночного отдыха, иногда безмятежного, а чаще беспокойного, но и своеобразной памятью о погибшем и все еще любимом муже. Сразу же после похорон супруга Керол все переделала и переставила в этой комнатке. Привычность интерьера ее пугала, доводила до иллюзий, до состояния, близкого к трансу и истерике. Ей все казалось, что на пороге спальни вот-вот появится ее Герберт. Появится и, прислонившись к косяку двери, негромко спросит со своей лукавой, чуть смущенной улыбкой, которая всегда появлялась на его лице, когда он был в чем-то виноват перед ней: «Керол все еще сердится на своего скверного мальчишку?»
После долгих, тоскливых и трудных месяцев одиночества в жизни Керол появились другие мужчины. Некоторые из них переступили и порог ее спальни. Эти мужчины очень легко относились к интимным отношениям, постель для них была пикантным развлечением, не более того. На какое-то время Керол увлеклась новизной впечатлений, а главное, возможностью забыться и тут же практически навсегда вычеркнуть из памяти очередного партнера. Ей пришлось пережить несколько неприятных сцен, некоторые из мужчин почему-то пытались рассматривать ее как личную собственность, как игрушку, с которой они вольны позабавиться, когда им вздумается, а потом забыть до поры до времени. Однажды, к ее изумлению и бешенству, Керол чувствительно хлопнули по физиономии и назвали вслух, громко так, как иной раз робко и с презрением к самой себе она называла себя в душе. Керол проплакала тогда всю ночь, до утра. Она вдруг с необычной ясностью поняла, что таких отношений, как с Гербертом, отношений по-своему целомудренных, в которых чувственность никогда не играла решающей роли, у нее не будет ни с кем и никогда. Выплакавшись, как это говорится, до дна, она спешно, с какой-то одержимостью восстановила в спальне прежний порядок, тот, который был там еще при Жизни мужа. Слаб человек! А уж что говорить о женщине, которую природа наделила властным инстинктом материнства. Тем самым инстинктом, который давлением разума, вознесшего человека так высоко над миром, расщепился и на бесплодную похоть и на жадное сластолюбие. И после того памятного случая, хотя и очень редко мужчины бывали в доме Керол. Но уже никогда и никому из них Керол не разрешала переступать порога своей спальни. Хватит с них и гостиной!
И в спальне Керол не нашла никаких следов присутствия посторонних. Она оставила свет включенным во всей квартире. Проходя на кухню через гостиную, она щелкнула выключателем приемника и настроила его на станцию, которая вечерами всегда передавала легкую музыку. Вернувшись на кухню, Керол достала из шкафчика сумку и снова пересчитала доставшиеся ей деньги. Она не ошиблась — четыреста девяносто три доллара. Странно, но теперь эти деньги не доставили ей никакой радости, хотя она всячески старалась расшевелить себя, представляя, как обзаведется к осени новым костюмом, пальто и сапожками. Швырнув деньги в сумку, она поставила ее возле себя на пол.
Есть Керол не хотелось, но она все-таки достала из холодильника сыр, ветчину и зеленый горошек, а из шкафчика — заветную бутылку настоящего «Порто». Керол не любила крепких напитков, не любила ни бренди, ни виски, ни вошедшую в моду водку, но иногда выпивала некрепкий коктейль или немного хорошего выдержанного вина. Когда она нарезала ветчину, сквозь доносящуюся из гостиной музыку ей послышалось, будто мягко щелкнул замок входной двери. С екнувшим сердцем Керол замерла с ножом в руке. Но было тихо, лишь звучала спокойная лиричная мелодия в стиле кантри. Керол перевела дыхание и, убеждая себя, что все это иллюзии и нервы, снова принялась резать ветчину. Покончив с этим занятием, она подцепила ложкой зеленого горошка… И в этот момент периферическим зрением уловила некое движение в проеме кухонной двери. Она подняла глаза, ложка выпала из ее ослабевшей руки, горошины рассыпались по столу, часть их упала на пол. Перед ней стоял Немо Нигил в старом костюме явно с чужого плеча, в рубашке без галстука, но аккуратно причесанный и улыбающийся.
— Простите мое внезапное вторжение, — мягко проговорил он, чуть склоняя голову в вежливом поклоне.
Он не спускал глаз с Керол, когда кланялся, в прихожей было заметно темнее, чем на кухне. И Керол вдруг ясно увидела, что его глаза, как у кошки, вдруг вспыхнули зеленоватым фосфорическим светом. Она пронзительно вскрикнула, попыталась вскочить на ноги и потеряла сознание.
ТРЕВОГА, МЕЙСЕДОН
В восемь часов утра полковник Мейседон отправился в бассейн на так называемые водные процедуры, записав на доске «странствующих и путешествующих» свою фамилию и номер телефона, по которому его можно было бы отыскать в случае срочной необходимости. Доска при выходе из отдела была повешена по распоряжению его начальника генерала Фицджеральда Скотта, который очень любил порядок и страшно не любил, когда понадобившегося работника вдруг не оказывалось под рукой. Когда волнующее мероприятие с доской «странствующих и путешествующих» еще только внедрялось в жизнь, в отделе начали циркулировать весьма вольные шуточки, связанные с тем печальным обстоятельством, что даже пентагоновские офицеры время от времени должны посещать туалет, а кабины этого самого популярного в мире заведения, увы, пока еще не оборудованы телефонными аппаратами. Особенно активно и весело обсуждались проблемы, которые встают перед индивидуумами, страдающими таким невинным, но не очень приятным заболеванием, как запор. Эти разговорчики в конце концов достигли ушей генерала. Фицджеральд Скотт прошел долгий и трудный путь от уорен-офицера до генерала, а потому был начисто лишен чувства юмора. Собрав подчиненных, он довел до общего сведения, что доска при выходе выполняет самое серьезное служебное назначение и поэтому он не потерпит, чтобы ее делали предметом зубоскальства и непристойных шуточек. Отныне, добавил он, уточняя свое первоначальное распоряжение, на доске должны фиксироваться лишь те случаи отсутствия, которые продолжаются более четверти часа. Этого времени, строго заметил генерал, вполне достаточно. Те же лица, кишечник которых функционирует недостаточно активно, должны обратиться к врачу. Офицер, страдающий запором, — не настоящий офицер! Нельзя забывать о том, что все, делающееся в священных стенах Пентагона, лишь подготовка к главному и основному в бытии человечества — к войне. В условиях же ведения войны офицер, сидящий на поле боя без штанов и все свои силы расходующий в напрасных попытках отдать естественную дань природе, — вернейший кандидат в покойники. Мало того, что он совершенно беззащитен против разнообразных поражающих факторов ядерного взрыва, он являет собой еще и идеальную неподвижную мишень, и очень удобный объект в качестве «языка» для поисковых групп противника. Под рукой генерала сейчас нет официальной статистики, но на основании личного опыта он берется утверждать, что не менее трети всех «языков» захватывается именно в таком пикантном положении.
Короткая и энергичная речь генерала имела потрясающий успех. В течение ближайших часов она не обошла, а буквально облетела все гигантское здание Пентагона, совершенно затмив своей популярностью и самые свежие анекдоты, и самые злободневные «утки». А конечный результат этой балаганной истории был утилитарным и довольно неожиданным: доски «странствующих и путешествующих» появились в множестве других отделов, в которых о них раньше и понятия не имели. Мейседон потом задумался — на самом ли деле генерал Скотт был лишен чувства юмора? Во всяком случае, теперь Генри не стал бы утверждать это безапелляционно.
Мейседон посещал по утрам бассейн по предписаниям врача, которые были даны, когда у Генри из-за семейных неурядиц несколько расшатались нервы. Нервы его уже давно пришли в порядок, но добровольно отказываться от этих приятнейших утренних процедур Мейседон не собирался. А поскольку генерал Скотт терпел его отлучки и помалкивал, купания продолжались. Генри принял сначала горячий, потом холодный, почти ледяной душ и лишь затем прыгнул в прозрачную тепловатую воду бассейна. Он с наслаждением плавал и плескался, когда вдруг расслышал объявление:
— Полковник Мейседон! Вас просят срочно зайти в кабинет администратора бассейна.
Судя по всему, информатору пришлось повторить эту фразу несколько раз, пока она дошла не только до слуха, но и до сознания Генри. Чертыхнувшись, Мейседон выбрался из воды, растерся полотенцем, накинул на плечи махровый халат, прошел в кабинет администратора и коротко представился.
— Вас просили позвонить вот по этому телефону, — администратор протянул полковнику листок бумаги.
— Разрешите?
— Прошу.
Номер был не пятизначным, не пентагоновским. Набирая его, Мейседон вдруг ощутил укол острого любопытства и легкого беспокойства — это был телефон группы «Озма», которой фактически заправлял его приятель доктор Чарльз Уотсон.
— «Озма» слушает, — последовал бесстрастный доклад.
— Полковник Мейседон, — коротко представился Генри.
— Инвазия, сэр. Тревога. Режим — обсервация.
Вместо того чтобы как-то ответить на эту фразу, Мейседон молчал. На него напал легкий столбняк, точно он держал в руке не телефонную трубку, а пистолет с взведенным курком. Точно в маленький кабинет администратора заглянул не уборщик, а зловеще ухмыляющееся привидение. Ведь одно дело теоретизировать по поводу возможности невозможного и разрабатывать различные операции его реализации, и совсем другое — ощутить, как это невозможное вдруг материализуется и вполне буднично и осязаемо входит в жизнь. Конечно, Уотсон предупреждал его о возможности тревоги, но Мейседон не отнесся к этому серьезно, как он не мог отнестись серьезно к сообщению, скажем, о том, что его скоро назначат министром обороны или запустят в качестве специального наблюдателя в окрестности Луны.
— Вы меня поняли, сэр? — Дежурный «Озмы» был обеспокоен. — Повторяю. Инвазия. Режим — обсервация.
— Понял, — ответил Мейседон, точно стряхивая глубокий сон. — Инвазия, режим — обсервация.
— О’кей, поняли правильно.
Конечно, этот хладнокровный дежурный совершенно не знал смысла сообщения, которое он передавал по телефону. Рассеянно кладя на место телефонную трубку, Мейседон заметил любопытный взгляд администратора бассейна и с досадой понял, что недостаточно хорошо владеет собой. Переодевался Мейседон специально неторопливо, однако сообщение «Озмы» так и не желало по-настоящему укладываться в его голове. Ему вдруг представились орды индейцев в боевой раскраске, с головными уборами из перьев, скачущие по берегу Потомака к Белому дому. Многотысячные орды орущих, вопящих индейцев, палящих из кремневых ружей, брызгающих тучами стрел, сеющих вокруг себя смерть и разрушение. Возмездие! Оно всегда приходит рано или поздно, приходит негаданно, непрошенно и неотвратимо, как сама судьба. А поэтому, наслаждаясь жизнью, помни о смерти. Разглядывая в зеркале свое озабоченное, хмурое лицо, Мейседон вдруг рассмеялся, и ему стало легче. Индейцы на берегах Потомака! Боже, какая чушь лезет в голову!
Из бассейна Мейседон машинально направился к себе в отдел, но на полдороге спохватился — при объявлении тревоги «Инвазия» все прямые начальники Мейседона оповещались о том, что полковник срочно задействован для выполнения секретного задания государственной важности и временно освобождается от выполнения постоянных служебных обязанностей. В отделе Мейседону делать было нечего, для приличия потом, в свободное время, можно будет позвонить генералу по телефону. Потом! Мейседон усмехнулся, он постепенно приходил в себя, обретал спокойствие и некую ироничность по отношению к разворачивающимся и еще неведомым ему трансцендентным событиям. Будет ли это самое, такое емкое и многозначное «потом»? Может быть, и действительно для бедного, заблудшего в грехах человечества настал судный день, как об этом поэтично говорится в одной из рекомендаций специального комитета «Инвазия»?
В коридоре «С» навстречу Мейседону катился электрокар, ведомый невозмутимым солдатом в армейской форме. Кар приветливо помаргивал желтым предупредительным огнем, негромко мурлыкал и вообще выглядел этаким послушным, хорошо приученным зверем-машиной. Электрокар в Файв-Сайдид Вигвам — явление самое заурядное, общая протяженность пентагоновских коридоров составляет 17 миль! Но сейчас, в эти минуты инстинктивного недоверия к случившемуся, смутной тревоги и тайной растерянности, Мейседон при виде этого неторопливого, флегматичного механизма испытал неожиданный прилив теплого, даже сентиментального чувства, точно в трудный момент жизни повстречал доброго старого друга. Мейседон замедлил шаг и посторонился, пропуская электрокар, а потом, глядя ему вслед, вдруг поймал себя на странной мысли — он ничуть не удивился бы, если бы встретил здесь, в коридоре «С», вместо этой привычной машины некоего стального паука-гиганта, столь же неторопливо и деловито спешащего по своим делам, могучего робота с клешнями вместо рук или какое-нибудь другое чудище в этом роде.
Пройдя мимо дежурного, который с путеводителем-буклетом в руке объяснял какому-то новичку-капитану, как ориентироваться в огромном пятиугольном лабиринте и попасть в нужное место, Мейседон спустился на первый этаж. Здесь располагались отделы управления общих служб, тех служб, которые ведали уборкой, ремонтом и охраной здания вместе со всем его оборудованием. Миновав несколько комнат, Мейседон вошел в помещение, где располагался отряд специальной полиции. Прямо при входе, отгороженный барьером высотою в ярда полтора, сидел дюжий негр-полицейский; форменная рубашка на фоне его черной кожи резала глаза своей белизной. Не обращая на него внимания, Мейседон прошел прямо в кабинет начальника полицейского отряда. Начальник с золотыми майорскими нашивками на белой рубашке сидел, откинувшись на спинку кресла и заложив руки за голову. Его ноги в тяжелых форменных ботинках покоились на краю стола. Майор со смехом рассказывал о чем-то своему заместителю — подтянутому пожилому капитану с тяжелым пистолетом в кобуре на боку. Капитан улыбнулся чуть-чуть, уголками губ, у него было загорелое рубленое лицо с длинным белым шрамом от скользящего пулевого ранения и седоватый ежик коротко стриженных волос. Майор поздоровался, лениво поднялся на ноги и с оттенком таинственности и иронии раздельно проговорил:
— Инвазия, полковник.
— Я осведомлен, — холодно ответил Мейседон.
Майор понимающе покивал головой, вразвалку — он весил не меньше двадцати стонов — подошел к сейфу, достал из него связку из двух ключей и протянул Мейседону. Один из ключей был обыкновенным, а другой невольно привлекал взгляд своей массивностью и высоким классом обработки.
— Ваши ключи, полковник.
— Благодарю.
— Центр «Обсервер» развернут. Оперативный отряд с двумя машинами в готовности.
— О’кей.
— Особые указания?
— Пока ничего. Ждите.
Майор лениво усмехнулся, он всегда вел себя с Мейседоном очень независимо и, честно говоря, имел на это некоторое право: только генералов и адмиралов в Пентагоне трудилось более четырехсот, а он, майор полицейской службы, был один на все это ведомство.
— Ждать будет оперативный дежурный, полковник. У меня свои дела.
— Я буду здесь, сэр, — сдержанно заметил пожилой капитан.
Ни начальник отряда, ни его заместитель ничего не знали о существе тревоги и особого положения «Инвазия». Но если преуспевающий самодовольный майор считал всю эту кутерьму с центром наблюдения и оперативным отрядом обычной штабной игрой, то его многоопытный заместитель определенно догадывался, что за этими мероприятиями крылось нечто необычное и серьезное.
— Рад этому, капитан, — с подчеркнутой вежливостью сказал ему Мейседон, кивнул начальнику отряда и покинул кабинет.
Пройдя по коридору десятка три шагов, Мейседон остановился перед дверью, на которой, кроме буквенно-цифрового шифра, не было никаких пояснительных надписей. Почему-то помедлив, Мейседон отворил дверь и вошел в приемную, которая несколько напоминала собой полицейский участок. При входе — барьер, помещение за барьером разделено прозрачными пластиковыми перегородками в рост человека высотой на узкий коридорчик, через который можно было пройти в кабинет, и два рабочих места. Слева за столом сидел лейтенант, справа возле спецаппаратуры и радиотелефонного коммутатора сержант, оба в повседневной армейской форме с пистолетами на поясах. Мейседон хорошо знал и лейтенанта и сержанта, равно как и они его: им не раз приходилось совместно работать во время учебных тревог и оперативных игр по программе «Инвазия». Тем не менее каждый из них, вытянувшись, как это и полагается по уставу, представился.
— Лейтенант Армстронг, дежурный по центру.
— Сержант Бредли, оператор.
Мейседон поздоровался, разрешил им заниматься своими делами и, выяснив, что никаких особых указаний не поступало, прошел в свой кабинет, проверив предварительно правильность оттиска личной печати.
Мейседон набрал на крышке сейфа цифровой код, пустил в дело ключ, врученный ему начальником полицейского отряда, и откинул тяжелую дверцу. Секретное контрольное устройство, которое непосвященный попросту бы не заметил, молчаливо свидетельствовало, что негласно сейф никем не вскрывался. Мейседон вынул и положил на письменный стол толстую тяжелую папку. На папке белела наклейка, на ней крупными печатными буквами было написано «Инвазия». Из специальной шкатулки, смонтированной внутри сейфа, Мейседон взял небольшой ключик с бородкой хитроумной формы, сел за стол и вставил этот ключик в гнездо красного телефона. Это был специальный аппарат с шифрустройством, по которому разрешалось вести секретные переговоры государственной важности открытым текстом. Мейседон снял трубку и нажал одну из клавиш на корпусе красного телефона.
— «Озма» слушает, — без паузы послышался ответ.
— Полковник Мейседон. «Обсервер» в готовности номер один.
— Понял, сэр. Момент, с вами будут говорить.
Момент растянулся на добрых полминуты. Наконец телефонная трубка ожила, послышались шорох, дыхание, и знакомый певучий тенорок спросил:
— Хэлло! Генри?
— Он самый. Доброе утро, Чарльз.
— Разве уже утро? Да еще доброе? — насмешливо пропел тенорок.
— Не тяните, Чарльз, — попросил Мейседон.
Уотсон засмеялся. Чувствовалось, что ему доставляет истинное удовольствие испытывать терпение обычно такого хладнокровного офицера и мучить его неизвестностью. Уотсон был сугубо гражданским человеком несколько анархического склада. Вел он себя подчеркнуто независимо, игнорируя субординацию и другие воинские условности, но к своим профессиональным обязанностям относился добросовестно и, честно говоря, был попросту незаменим. Формально информационный центр «Озма» возглавлял полковник Крафт, Уотсон числился у него заместителем по техническим вопросам, но именно доктор Уотсон, гражданский человек и кабинетный ученый, фактически руководил всеми работами, а полковник выступал лишь в роли администратора и коменданта. Военные не очень-то любили доктора Уотсона, но терпели. Уотсон, со своей стороны, жаловал своим добрым отношением немногих, и среди этих немногих был начальник оперативного центра «Обсервер» полковник Мейседон.
— Вы счастливый человек, Генри, — с ироничной сентиментальностью пропела телефонная трубка. — Вы из своего, пусть зарешеченного, окна можете любоваться зеленью деревьев, лоскутком неба и золотом лучей восходящего солнца. А в нашей дыре, как в храме Божьем, все времена суток тошнотворно одинаковы, они отличаются друг от друга только положением стрелок на циферблатах часов.
— Вам не надоело паясничать, Чарльз?
Телефонная трубка понимающе ухмыльнулась.
— Дрожите, баззард?
— Нервничаю, — признался Мейседон.
— И правильно делаете! Ситуация серьезная. — Уотсон сделал внушительную паузу, во время которой Мейседон мысленно и очень искренне пожелал провалиться ему в преисподнюю, и закончил успокоительно: — Но не очень — малая инвазия, по нижнему уровню трансцендентности.
Мейседон перевел дух.
— Почему бы вам не сказать об этом сразу?
— А потому, дорогой баззард, что я провел бессонную ночь, чертовски устал, истерзался муками за судьбу грешного человечества, а когда несколько успокоился, то почувствовал острую необходимость хоть как-нибудь развлечься. А разве разговор с храбрым, но дрожащим от страха полковником — не пикантное развлечение?
Мейседон вдруг представил себе, что пережил сегодняшней ночью этот щуплый, хилый человек, который вряд ли подвергал сомнению происходящее — ведь он был главным разработчиком обсервационной программы «Инвазия». Обижаться на Чарльза было бы просто глупо.
— Хелло, баззард, вы сердитесь? — лукаво пропела трубка. — Не надо, я больше не буду.
— Я не сержусь, Чарльз.
— Вот и прекрасно. Теперь о некоторых подробностях. — Как и всегда, когда Уотсон переходил на серьезный деловой тон, голос его приобрел резкую, несколько писклявую окраску. — Вам хорошо известно, что обычно уровень мировой трансцендентности характеризуется кривой синусоидального типа, амплитуда которой много ниже критического уровня. А за последнее время этот уровень начал нарастать. Региональная селекция выявила, что аномалия приурочена к территории Соединенных Штатов. Рост трансцендентности тут был совершенно очевиден. Сначала мы апроксимировали его линейным законом, потом начало вырисовываться нечто вроде экспоненты. Я не очень специален, Генри?
— Нет-нет, продолжайте.
— Масса любопытных фактов! Судя по всему, действует единичный агент, в самом худшем случае — небольшая группа, два-три фантома, не больше. Спусковым событием, развитие которого в конце концов и привело к объявлению тревоги, явилось хищение тринадцати килограммов золота из подвалов одного нью-йоркского банка. Кстати, направьте офицера… В вашем распоряжении есть офицер?
— Есть, — успокоил Мейседон.
— Так вот, направьте его в Фоли-Сквер за оперативными документами. Именно офицера! На одной из ваших спецмашин.
— У меня одна. Вторая отправлена за С-3. Слушайте, Уотсон, а при чем тут ФБР?
— Откуда мне знать? Конечно же эти рыцари плаща и кинжала ничего не знают об «Инвазии». У них наиболее полные и концентрированные оперативные материалы. Они передадут их вашему офицеру через дежурного по управлению. Только и всего!
— Понял.
— Как там чувствует себя наш великий детектив, Рей Харви? Ему будет над чем поломать голову! Белая магия атомного века! Вы поможете ему, Генри. Не так-то легко бывшему рейнджеру освоиться с ролью охотника за нечистой силой. Ха-ха-ха!
— С-3 дома не оказалось. Он отправился удить форель, но, как и положено дисциплинированному работнику и бывшему солдату, оставил свой адрес секретарше. — Мейседон заглянул в справку, лежащую перед ним. — Платная зона на какой-то речушке близ Бетседа. За ним отправлена спецмашина, так что черновое знакомство с программой начнется у него в дороге.
— Представляю! Ну, не смею вас задерживать, баззард. Ждите вестей. Хай!
Итак, инвазия? И это не шутка, не розыгрыш, не очередная проверка готовности, выполненная в максимально правдоподобной форме? Мейседона смущало, что Уотсон все время, как только для этого появлялась возможность, сбивался на шутливый тон. А когда складывается по-настоящему катастрофическая обстановка, грозящая пертурбациями глобального масштаба, особенно не расшутишься. Но… с другой стороны, Уотсон имел обыкновение шутить именно в те минуты, когда нервничал и не был уверен в себе. Надо подождать. Подождать прибытия оперативных документов. Факты расставят по своим местам действующих лиц конфликта и прояснят ситуацию. Мейседон испытывал странное чувство раздвоенности: осознанной, подкрепленной разумом веры в происходящее и слепого инстинктивного неверия, которое бьется в человеке, наблюдающем, скажем, за цирковыми чудесами классного иллюзиониста.
Пожалуй, нечто подобное Мейседон испытал, когда Кейсуэлл познакомил его с письмом ученых, адресованным президенту. Это событие помнилось ему детально, во всех подробностях.
ПИСЬМО
Услышав о письме президенту, написанном группой ученых и датированном столь многозначительно, Мейседон насторожился и не смог скрыть своей заинтересованности.
— Новое оружие? — живо спросил он. — Сверхмощные боевые лазеры? Или микроядерное оружие на трансуранах?
— Не угадали. В письме речь идет не о лазерах, не о трансуранах и вообще не об оружии. Будет лучше, если вы лично ознакомитесь с этим оригинальным письмом. — И Кейсуэлл пододвинул собеседнику красную папку.
Мейседон почтительно взял эту папку — не каждый день приходится читать письма ученых, адресованные лично президенту, — и осторожно раскрыл ее. Краем глаза он заметил, что Кейсуэлл поднялся из кресла и, видимо не желая мешать, остановился возле него спиной к полковнику. Письмо было отпечатано на тонкой, плотной бумаге. Мейседон, как и любой другой пентагоновец, имел громадный опыт в обращении со всякого рода бумагами. Письмо показалось ему слишком свежим и чистеньким, поэтому он сразу же заглянул в самый конец этого мемо. Там значились имена пяти лиц, но самих подписей не было. Мейседон вопросительно взглянул на советника, и тот словно почувствовал его взгляд затылком, потому что сказал:
— Это копия, полковник, но копия точная. В конце нашей беседы вы поймете, почему я знакомлю вас с копией, а не с подлинником.
Успокоенный Мейседон устроился в кресле поудобнее и начал чтение письма. На первой странице значилось:
«Стэнфордский университет,
Пало-Альто, штат Калифорния.
2 августа 19… года.
Президенту Соединенных Штатов
Белый дом, 1600, Пенсильвания-авеню
Вашингтон, дистрикт Колумбия
Уважаемый господин президент!
По современным представлениям, разделяемым подавляющим большинством ученых, во Вселенной размещено множество обитаемых миров — внеземных цивилизаций. Уровень развития этих цивилизаций может заметно превышать земной, обеспечивая решение множества технических проблем, которые ныне представляются человечеству неразрешенными, в частности, проблемы межзвездных сообщений и инопланетных контактов.
— Ряд археологических находок и письменных свидетельств, включая и библейские тексты, может быть истолкован в пользу фактов посещения Земли инопланетянами в историческом прошлом. За последние десятилетия активность земной ионосферы и ее космическая отдача возросли многократно, а это не может не привлечь внимания развитых внеземных цивилизаций, не стимулировать их интереса к человечеству и его местообитанию. В ходе метеорологических, гидрологических и ряда иных наблюдений, а также случайным образом на территории Соединенных Штатов и в других районах Земли систематически фиксируются трансцендентные явления, не находящие рационального и исчерпывающего объяснения в рамках ортодоксальной науки. Часть этих явлений, прежде всего феномен НЛО, может быть истолкована в пользу предположения, что в современный период Земля импульсивно, но с нарастающей активностью обследуется зондирующе-информационными устройствами инопланетян с целью установления характера и возможностей человеческой цивилизации.
По нашему мнению, ситуация такова, что с определенной степенью достоверности в любой день и час можно ожидать прямой космической инвазии — тайного или явного вторжения инопланетных сил на Землю. Преобладающая активность НЛО над территорией Соединенных Штатов, ведущего и доминирующего земного государства, занимающего выгоднейшее глобально-стратегическое положение, придает сделанному выводу особую значимость и наводит на самые серьезные размышления.
Цели космической инвазии могут быть самыми различными: от предельно агрессивных и беспощадных до самых мирных и благородных. Общественное мнение отдает предпочтение последней концепции, априорно наделяя высокоразвитые внеземные цивилизации чертами пацифизма, биологической терпимости и антропофилии. Но эта точка зрения не столько отражает истинное положение вещей, сколько является воплощением сентиментальных мифов и чаяний, находящихся в резком противоречии с реальностями нашего мира. Мира рассудочного, расчетливого и эгоцентричного, мира, в котором эмоциональные категории и моральные ценности играют релятивную и второстепенную роль. История межконтинентальных контактов между человеческими сообществами, имеющими в космическом аспекте крайне незначительные биологические и социальные различия, — это история непреднамеренно, стихийно развивающихся конфликтов и продуманных, хорошо организованных войн, в ходе которых сильные истребляли слабых. В этом свете вера в космический пацифизм представляется опасным заблуждением, а отсутствие психологической и административной готовности к отражению внезапной агрессии — недопустимым благодушием. Молниеносный крах огромной, хорошо организованной и вооруженной империи инков под локальным натиском крохотного, но дерзкого отряда конкистадоров, лишь незначительно превосходящего аборигенов по уровню технической оснащенности, — наглядная иллюстрация тех поистине катастрофических последствий, к которым может привести космическая беспечность в наши дни.
Жесткий контроль и регулировка процесса контактирования необходимы и в том случае, когда космическая инвазия носит самый мирный и благородный характер. Знания и технические средства высокоразвитых внеземных цивилизаций, вне всякого сомнения, представляют собой уникальную ценность и должны быть заимствованы в максимальной степени. Стихийно же развивающиеся контакты, как это убедительно иллюстрирует история земных путешествий и открытий, даже при изначально мирных настроениях сторон склонны быстро перерождаться в конфронтацию, вражду и открытые вооруженные столкновения.
Исходя из вышеизложенного, мы считаем необходимым безотлагательное создание специальной службы, а равно развернутой программы действий с целью наблюдения, сотрудничества, сдерживания и нейтрализации или ликвидации сил космической инвазии в зависимости от конкретной развивающейся ситуации. Решение каждой частной задачи должно предусматривать разные степени вовлеченности: от некоторого разумного минимума до всей мощи Соединенных Штатов и их союзников. Специальная служба, создание которой нами рекомендуется, могла бы взять на себя попутно параллельное решение целого ряда менее трансцендентных, но тем не менее важных с точки зрения обеспечения национальной безопасности задач.
С искренним уважением
Джерми Стоун, Джон Блэк,
Сэмуэл Холден, Терренс Лиссет,
Эндрю Вайс».
Прочитав письмо один раз, Мейседон прочитал его и повторно, бегло просматривая одни части и внимательно, даже более внимательно, нежели первый раз, — другие. Потом аккуратно, но без прежней почтительности закрыл папку. Этот своеобразный, порхающий звук расслышал Кейсуэлл и, оставшись стоять возле окна, повернулся лицом к Мейседону.
— Разочарованы? Только не юлите, Генри, говорите откровенно.
— Разочарован — не то слово, но…
— Понимаю. Я тоже был разочарован, когда меня познакомили с этим письмом. Оригинально, неглупо, недурно читалось бы в рамках специального исследования или в качестве предисловия к хорошему фантастическому роману. Но как основа для реальной программы выглядит слишком экзотично и недостаточно солидно. Не так ли?
Советник президента стоял спиной к свету. Мейседон не видел выражения его лица, поэтому он ограничился тем, что осторожно согласился:
— Примерно так.
Кейсуэлл оттолкнулся от подоконника, на который опирался сцепленными за спиной руками, и подошел к курительному столику. Не торопясь, выбрал трубку и, набивая ее «кэпстеном», негромко спросил:
— Вам сорок восемь, Генри? Не приходила вам еще мысль, что пора увековечить свое имя каким-нибудь великим деянием?
Несколько огорошенный этим вопросом, Мейседон не сразу нашелся с ответом, а Кейсуэлл, покосившись на него, с прежней размеренностью продолжал:
— Все мы в зрелом возрасте грешим мечтами о славе. Честолюбие — двигатель прогресса и источник личных ошибок. Прославиться, вписать свое имя в скрижали истории можно разными путями. Мы в равной мере… — Кейсуэлл чиркнул длинной, тонкой спичкой, раскурил трубку и пыхнул дымом. — Мы в равной мере помним и Фидия, который создал бессмертные произведения искусства, и Герострата, спалившего в Эфесе храм Артемиды. Мы помним Александра Македонского и Нерона, Гарибальди и Аль Капоне.
Мейседон не совсем понимал, куда клонит советник президента, и терпеливо ждал продолжения. Кейсуэлл присел на угол письменного стола с трубкой в правой руке, Мейседон механически отметил, что, скорее всего, это пенковая трубка.
— Франклин Рузвельт был великим человеком и остался бы в памяти людей даже в том случае, если бы судьба не сделала его крестным отцом атомной бомбы. А Гарри Трумэн? — Кейсуэлл пыхнул дымом и посмотрел на полковника своим загадочным, серьезно-улыбчивым взглядом. — Боюсь, что, подписывая приказ об атомной бомбардировке мирных японских городов, он руководствовался не только объективными военными и политическими мотивами, но и соображениями пусть скандальной, но все-таки бессмертной славы. Чем же еще этот безликий Гарри мог зацепиться в памяти народов? — Кейсуэлл поднял глаза на портрет покойного Кеннеди и продолжал печально, понизив голос: — Судьба Джона Фицджеральда противоречива и трагична, но люди сохранят добрую память о нем. Сохранят хотя бы потому, что шаг Армстронга на лунную поверхность был ретроспективным выражением его воли и решимости. Но чем может похвалиться последующая вереница президентов? Бесславным завершением войны во Вьетнаме? Иранской катастрофой? Возвеличиванием сионизма? Или, может быть, расовыми волнениями, инфляцией, безработицей и энергетическим кризисом?
Мейседон кашлянул и беспокойно заерзал в кресле. Кейсуэлл искоса взглянул на него и усмехнулся, последний раз пыхнул ароматным дымом и, неторопливо выбивая пепел из трубки, успокоил:
— Не волнуйтесь, полковник. Я не собираюсь организовывать дворцовый переворот, покушение на президента или хотя бы в малейшей степени способствовать трансформации нашей социальной системы. Моя сфера не политика, а специальные вопросы. Но я обязан уметь мыслить четко, логично и беспристрастно. Собственно, за это я и получаю деньги, поверьте мне, немалые. — Кейсуэлл продул трубку, аккуратно уложил ее на подставочку и поднял взор на девиз, начертанный китайскими иероглифами. — В течение долгого времени здесь красовалось латинское изречение: «Синэ ира эт студио», что значит — без гнева и пристрастия. Я всегда стараюсь следовать этому правилу. Мои единственные божества — факты, лишь перед ними склоняю я свою голову.
Мейседона начал раздражать этот тон — тон ненавязчивого, но ощутимого превосходства. Раздражать в тем большей степени еще и потому, что в глубине души полковник чувствовал — для выбранной линии поведения у Кейсуэлла были определенные основания. По этой и по некоторым другим, весьма прозрачным для искушенного человека причинам Мейседон счел нужным сказать:
— Должен признать — я человек военный, а потому и консервативный. Я, простите меня, как-то не привык к тому, чтобы в моем присутствии о президентах и нашей политике говорили так вольно и свободно.
Довольно бесцеремонно разглядывая полковника, Кейсуэлл усмехнулся:
— Понимаю. Подстраховка никогда не мешает.
— Вы не так меня поняли, — с некоторым смущением возразил Мейседон.
— Может быть, — охотно согласился советник. — Не всегда понимаешь самого себя, как же можно претендовать на безошибочное понимание других? Вот нам с вами письмо пятерых ученых, обеспокоенных космической угрозой, якобы нависшей над Землей, показалось недостаточно солидным, а вот на президента оно произвело куда более серьезное впечатление.
Лицо Мейседона вытянулось, такого поворота событий он никак не ожидал! Мейседон весьма определенно полагал, что его пригласили как раз для того, чтобы оценить серьезность письма и целесообразность представления его на суд президента. И вдруг…
— Последовало распоряжение, и государственная машина послушно завертелась в этом несколько неожиданном направлении. — Кейсуэлл загадочно посматривал на полковника своим серьезно-насмешливым взглядом, и было совершенно непонятно, как сам-то он относится к случившемуся. — Совокупность разрабатываемых контркосмических мероприятий получила наименование программы «Инвазия». Разработка ее велась большой группой ученых под руководством личного советника президента по специальным вопросам — моего предшественника на этом ответственном посту.
Кейсуэлл задумчиво посмотрел на бутылку сухого мартини, словно размышляя, стоит выпить рюмочку или нет. Мейседон не без интереса ждал продолжения.
— Вы, наверное, полагаете, что мой предшественник проявил безответственность или оказался недостаточно компетентным в инопланетных делах? Наоборот! Он развил бешеную энергию, признаюсь откровенно, я бы не сделал и десятой доли того, что удалось сделать ему. Это объясняется тем, что он был человеком несколько мистического склада, издавна увлекался сбором и анализом фактов о трансцендентных явлениях. И нет ничего удивительного в том, что он с удовольствием возился с программой «Инвазия» и, проталкивая ее по лабиринту бюрократического аппарата, проявил удивительную настойчивость и изворотливость. Например, он быстро понял, что идея контркосмических мероприятий в своем рафинированном виде вряд ли найдет достаточное число солидных сторонников и, опираясь на одну из проходных фраз письма, обратился за поддержкой к военным. В этом лагере он встретил полное взаимопонимание и заручился своего рода рекомендательным письмом, подписанным группой влиятельных генералов. С этим дополнительным письмом программа «Инвазия» начала уже практическое коловращение. Последовали осторожные консультации. Программа была представлена так, будто речь идет о сугубо теоретическом исследовании, а не о комплексе практических мероприятий. Был создан специальный комитет, финансирование шло через НАСА и министерство обороны по графе неподотчетных расходов. Поддержка военных, выступивших с идеей борьбы с космическими десантами вероятных противников, позволила сравнительно легко утвердить эти ассигнования в конгрессе, тем более что они оказались весьма скромными и вполне укладывались в понятие неподотчетных — в масштабах государства это ведь нечто вроде карманных денег для любимого сына.
Мейседон засмеялся, сравнение показалось ему удачным, снисходительно улыбнулся и Кейсуэлл.
— Результатом усилий специальной комиссии явился мемо, в котором осуществлена детальная теоретическая разработка программы «Инвазия». На этой основе нам, дорогой Генри, предстоит в самый короткий срок разработать систему специальных служб и мероприятий. А затем провести ее в жизнь!
— Располагайте мной, — коротко и с достоинством сказал Мейседон.
— Прекрасно! Но я вижу, у вас есть какой-то вопрос?
— Да, — после некоторого колебания признался полковник, — но я не знаю, будет ли этот вопрос уместным?
— Смелее, Генри. Нам ведь предстоит работать в одной упряжке.
— Верно. Скажите, Джон, если ваш предшественник так успешно вел дела, почему же он получил отставку?
— А он не получал отставки, — спокойно ответил Кейсуэлл, глядя на Мейседона своим загадочным, непроницаемым взглядом. — Он умер.
— Как? — Этот вопрос вырвался у Генри непроизвольно, он ощутил в груди некий неприятный холодок.
— Самым прозаическим образом. Скоропостижно скончался от инфаркта миокарда. — Кейсуэлл поднял очи к небу и секунду-другую молчал, сохраняя в меру скорбное выражение лица. — Все мы смертны! К этому печальному факту следует относиться с должной серьезностью, но без ненужного трагизма. После похорон меня извлекли из относительного небытия, в котором я пребывал последние годы, и поручили вести программу «Инвазия». Вот и все, просто и прозаично.
— Рука судьбы, — машинально проговорил Мейседон, хотя и сознавал, что высказывает очевидную банальность.
— Эта же рука ввела в эту программу и вас, Генри.
— Верно. И я готов принять в ней посильное участие.
Подняв брови и наморщив лоб, Кейсуэлл некоторое время внимательно смотрел на бравого полковника, а потом отрицательно покачал головой.
— Нет, Генри, вы не готовы, — мягко возразил он, — пока не готовы. Вы не знаете еще самого существенного в программе «Инвазия». В некотором смысле это вовсе не программа, а нечто ей совершенно противоположное.
ЗОЛОТО
Уотсон достал из сейфа объемистый том приложений к программе, начал было по памяти искать нужный раздел, но потом, чертыхнувшись, заглянул в оглавление. Так дело пошло быстрее, и ученый быстро отыскал нужную страницу. На ней значилось: «Программа «Инвазия», приложения. Раздел: факторы трансцендентности. Спецификация: материалы и средства. Текст: Золото. Золото является материалом, который находит широкое и все прогрессирующее применение в земной, космической и компьютерной технике. Все трансцендентные случаи хищения золота, особенно в крупных масштабах, являются событиями, подлежащими детальному анализу с позиций программы «Инвазия». С одной стороны, эти случаи могут способствовать установлению самого факта космической инвазии, с другой — оказаться действенным средством выявления истинных целей, характера и местонахождения космической агентуры. Заметим, что золото может использоваться не только как оригинальный конструктивный материал, но и как весьма универсальный заменитель. Золотые изделия, детали, элементы могут применяться не только для собственного машинного ремонта, но и для протезирования в биологических или машинно-биологических организмах и системах. Земная медицина издревле применяет золото для зубопротезирования и ортопедии, золотые пластины используются для замены черепных костей и элементов груд, ной клетки, золотые трубки — в качестве магистральных организменных компонентов.
Земные золотые запасы, созданные человечеством, неизбежно должны привлечь внимание высокоразвитых внеземных цивилизаций не только с экономической и утилитарной точек зрения, но и в гносеологическом — познавательном аспекте. В настоящее время роль золота как мировых денег, как всеобщей валюты, как максимально подвижного капитала, обладающего абсолютной ликвидностью, отнюдь не лежит на поверхности социально-экономических явлений. Подавляющее большинство финансовых операций выполняется с помощью бумажных банкнот, безналичных банковских расчетов, двухсторонних соглашений о взаимных поставках и т. п. Эти операции демонетизированы, «обеззолочены», драгоценный металл продолжает лежать на своем привычном месте в сейфах того или иного банка, меняется лишь адрес его владельца. Аналогичным образом обстоит дело и при частной тезаврации — покупка золота отнюдь не сопровождается его перевозкой в собственный дом или на квартиру, металл остается в надежно охраняемых банковских сейфах, но его владелец имеет возможность в любой момент располагать крупной, в высокой степени гарантированной суммой денежных средств. Тяжкая монолитная неподвижность физических запасов монетарного золота при исключительной подвижности, взрывчатости и неустойчивости обеспечиваемых им финансовых операций не может не потрясти воображение неподготовленного человека, не предстать перед ним в качестве неразрешимого парадокса, мистической загадки. Впечатления внеземных наблюдателей могут быть еще более неожиданными и экзотичными.
Большинство материалов, используемых человечеством, потребляется сразу же, по мере их производства, их резервные запасы заметно ниже уровня ежегодной добычи. Происходит не натуральное, а функциональное потребление этих материалов — они используются как источники энергии, полуфабрикаты производства или конструктивные элементы действующих устройств. Эти обстоятельства радикально, чудовищно меняются при переходе к золоту. Ежегодные поступления рыночного золота составляют ничтожную часть его мирового запаса, не более 1-2 процентов, причем в технике и медицине используется не более пятой части этого количества. Централизованные золотые запасы в течение длительного времени поддерживаются на примерно постоянном уровне. Золото потребляется не функционально и даже не натурально, а ритуализованно — его запасы омертвлены в виде стандартизованных высокопробных слитков. Функциональность золота как такового, золота как металла выступает в форме отрицания какой бы то ни было функциональности, она реализована через неподвижность, недейственность и сохранность. Хранилища золота обладают такой изощренной и надежной системой охраны и защиты, какой даже в близкой степени не обладают никакие другие объекты, созданные человеком. У стороннего наблюдателя, лишь постигающего социальную структуру человечества, на определенной стадии анализа неизбежно возникает мысль, что золото играет роль фетиша, своеобразного божества, являющегося объектом ритуализованного поклонения людей, поклонения, носящего мистический характер и не имеющего рациональной основы. И следует признать, что такой вывод в известной мере отражает подлинное положение вещей. Инопланетный наблюдатель найдет этому множество подтверждений. Централизованные хранилища золота типа Форт-Нокса он примет за храмы, подвалы и сейфы — за святилища и алтари, охрану — за низших служителей культа, ответственных должностных лиц — за высших жрецов, сам процесс входа, связанный, скажем, с открытием 90-тонной стальной двери манхэттенских подвалов тремя лицами, имеющими разные ключи, — за ритуализованный культовый обряд, за своего рода мистерию. Потрясающее, внушающее ужас и жалость впечатление произведут на такого наблюдателя картины беснующейся биржи в моменты золотого бума или краха, а равно полубезумный стихийный наплыв жадного людского стада в районы вновь открытых месторождений золота. Инопланетный наблюдатель узнает, что мировая литература и киноискусство переполнены самыми различными вариантами «золотой» тематики, убедится, что сравнительно небольшие количества золота могут и безмерно осчастливить людей, и послужить причиной их жестоких несчастий и безвременной гибели.
Прямой захват мирового золотого запаса, его эксдепортация или уничтожение (распыление, рассредоточение) — эффективнейшие меры для тотальной дезорганизации мирового человеческого сообщества, которые могут быть сравнительно легко осуществлены в ситуации прямой и превосходящей космической агрессии. Такая «золотая дезорганизация» является удобным и рациональным промежуточным шагом на пути частичного или полного подавления человечества, которое может завершиться глобальным…»
Уотсона отвлек от чтения сигнал телефонного вызова, наверное, аппарат зуммерил довольно долго, прежде чем этот звук дошел до сознания ученого. Громко, во весь голос чертыхнувшись, Уотсон раздраженно взял телефонную трубку.
— Уотсон! Что там еще?
— Новые данные о действиях фантома, сэр. Будете просматривать или сразу…
— Буду, — перебил Уотсон. — Обязательно буду! И до моего просмотра ничего в машину не вводите!
— Да, сэр.
МЕМОРАНДУМ
Услышав от Кейсуэлла странное заявление о том, что программа «Инвазия» — это не программа, а нечто ей совершенно противоположное, Мейседон, мягко говоря, растерялся. Если советник поставил перед собой цель озадачить собеседника, то он этого вполне добился! Некоторое время полковник ворочал в голове фразу Кейсуэлла и так и этак, а затем со вздохом признался:
— Не понимаю.
Кейсуэлл довольно усмехнулся, не торопясь с объяснениями. Судя по всему, его забавляла растерянность энергичного офицера.
— Нечто противоположное, — вслух повторил Мейседон. — Видимо, это программа всемерного сокрытия инопланетян от общественности, если уж они прибудут?
Кейсуэлл снова усмехнулся и направился к сейфу.
— Насчет сокрытия вы угадали, Генри. Но спрятать нам надлежит вовсе не космических пришельцев.
Кейсуэлл извлек из сейфа увесистую пачку бумаг, упакованную в серую папку специального изготовления, из тех, что применяются для хранения секретных документов.
— Меморандум программы «Инвазия», — уведомил Кейсуэлл и без особой почтительности положил этот сборник бумаг, весящий несколько фунтов, перед полковником. — Познакомьтесь для начала с титульным листом.
Мейседон взял папку обеими руками, взвесил, уважительно качнул головой и, снова положив ее на стол, раскрыл. На титульном листе значилось:
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Программа «Инвазия» (теоретическая разработка)
Все материалы настоящего дела совершенно секретны.
Ознакомление с ними лиц, не имеющих на то полномочий, карается тюремным заключением сроком до 20 лет и штрафом 20 тысяч долларов.
В случае повреждения печатей от курьера не принимать.
Закон обязывает курьера потребовать от вас предъявления удостоверения (форма N 9134).
Без такого удостоверения личности курьер не имеет права передать вам настоящее дело».
Внимательно прочитав этот текст и не найдя в нем ничего особенного или настораживающего, Мейседон поднял глаза на советника:
— Внушительно. Ну, и оформлено в полном соответствии с правилами секретного делопроизводства.
Кейсуэлл утвердительно кивнул.
— Верно. Форма соблюдена.
Соскользнув с угла стола, на котором он сидел, Кейсуэлл достал из сейфа небольшую книжку, по внешнему виду и оформлению типичную покет-бук, и аккуратно положил поверх меморандума.
— А теперь полистайте этот роман.
Мейседон с некоторым недоумением взял книжицу. Действительно, покет-бук страниц на триста, творение некоего Майкла Крайтона «Штамм «Андромеда», издано Альфредом А.Кнопфом в Нью-Йорке в 1969 году. На обложке рисунок, изображающий пятерых интеллигентных, обнаженных по пояс мужчин. Не то камера пыток, не то больница, не то общественная баня. Мейседон вопросительно взглянул на Кейсуэлла.
— Полистайте. Очень любопытно, — поощрил тот с легкой, но уловимой иронией, направляясь к курительному столику.
Теряясь в догадках, Мейседон перевернул обложку. Посвящение некоему доктору А.Д., который первым предложил автору эту проблему. Какую? Может быть, в книжке речь идет о борьбе с инопланетянами с помощью бактериологических средств? Бог мой, как трудно после Герберта Уэллса придумать что-нибудь новенькое! Эпиграф: «Чем ближе к истине, тем дороже обходится каждый шаг. Р.А.Янек». Какой-то еврей или чех. Мейседон невольно поднял глаза на китайские иероглифы: «Трудно поймать в темной комнате кошку. Особенно, когда ее там нет». Конфуций выразился покрепче, хотя между его изречением и эпиграфом определенно есть какое-то внутреннее созвучие. Поехали дальше. Авторское предисловие. Кто их только читает? Написана в Кембридже, в штате Массачусетс, в этом пристанище далеких от будней жизни ученых людей. Мейседон перевернул страницу, вгляделся в текст и удивленно откинулся назад.
Некоторое время, недоуменно поджав губы, он переводил взгляд с совершенно секретного меморандума на покет-бук, лежавший рядом с ним. Титульные листы этих совершенно различных творений человеческого разума, созданных с совершенно несходными целями, были поразительно сходны не только по содержанию, но и по форме! Тот же гриф совершенной секретности, то же суровое предупреждение о тюремном заключении сроком на 20 лет и штрафе в 20 тысяч долларов, то же самое уведомление о печатях, удостоверении и правах курьера. Буква в букву! Изменено лишь наименование: вместо «Программа «Инвазия», фигурирующего в меморандуме, в покет-буке значилось «Штамм «Андромеда». Впрочем, недоумение Мейседона длилось не так уж долго, тем более что он с негодованием подавил разного рода нелепые догадки, предательски шевельнувшиеся в его душе. В конце концов, все секретные мемо оформляются по общей схеме! Ну, а сходство деталей можно объяснить простым совпадением. Разве так уж редко всякие ученые и инженеры делали очень похожие, а то и просто совпадающие открытия и изобретения? Поэтому детальное совпадение оформления истинных изысканий ученых с писательской выдумкой хотя и удивительно, но вполне понятно без привлечения какой-либо мистики и чертовщины. Мейседон так и сказал обо всем этом.
— Верно, это можно объяснить и простым совпадением, — спокойно согласился советник. Он раскурил новую трубку, несколько большей вместимости, загасил длинную, наполовину сгоревшую спичку, аккуратно положил ее в пепельницу и посоветовал: — Отодвиньте в сторонку меморандум и снова обратитесь к письму, откройте его в самом конце — там, где красуются имена ученых, которых гложет страшное беспокойство за судьбы бедного человечества и которые жаждут обезопасить Землю от космической агрессии. Открыли? А в романе Крайтона, по-моему, на шестидесятой странице, найдите другое письмо президенту. Письмо, разумеется, вымышленное, подписанное группой выдуманных, несуществующих ученых. Нашли?
— Нашел, — ответил Мейседон. Он уже начал догадываться, как должны развернуться события, но тем не менее упрямо не желал верить происходящему.
— Прекрасно, — одобрил Кейсуэлл. — Теперь сличите имена ученых под этими письмами. Имена в вымышленном и так называемом истинном письме, которое хранится за семью печатями и явилось основой для создания программы «Инвазия». Сличили?
— Сличил, — севшим голосом отозвался Мейседон.
Невероятно! Отупение полковника не помешало ему сравнить не только подписи, но и даты создания меморандума и выхода в свет книги Крайтона. Книга вышла много раньше, а следовательно… Невероятно! Имена под вымышленным и так называемым истинным письмами президенту совпадали буква в букву! Джерми Стоун, Джон Блэк, Семуэл Холден, Терренс Лиссет, Эндрю Вайс — абсолютная идентичность. Комическая разгадка этого невероятного, невозможного совпадения, родившаяся в голове Генри, была столь же невероятной. Она придавала всей этой безмерно ответственной истории с программой «Инвазия» фарсовый, прямо-таки шуточный характер. Вот это сюрприз! Мейседон глубоко вздохнул и откинулся на спинку кресла. Кейсуэлл усмехнулся, пыхнул ароматным дымком, забрал со стола красную папку, злополучный покет-бук и, укладывая их в сейф, хладнокровно резюмировал:
— Вот как обстоят дела на самом деле, полковник.
Состояние полной мышечной расслабленности позволило Мейседону сравнительно быстро овладеть собой и обрести привычную ясность мышления.
— Стало быть, это письмо — липа, — со странным удовлетворением констатировал он вслух.
— Ну, не совсем. Точнее, это не только липа. Хуже. Это провокация.
Кейсуэлл, невозмутимый, насмешливый, сидел на краю стола, покачивал ногой, обутой в мягкую замшевую туфлю, и попыхивал трубочкой. Разглядывая его, Мейседон вдруг ощутил острый укол тревоги: сработал звериный инстинкт, не раз выручавший его в критических ситуациях.
— Но зачем было меня посвящать во все это? Я не понимаю своей роли!
Кейсуэлл одобрительно кивнул.,
— У вас хорошее чутье, Генри. Да, это дело смертельно опасно. По официальной версии мой предшественник, им занимавшийся, умер от инфаркта. Может быть, и так’ но мне представляется, что все обстояло несколько иначе. Вместо изречения Конфуция для нашего, — советник подчеркнул эти слова легким жестом правой руки, в которой была зажата трубка, — для нашего дела недурно подошел бы и другой девиз — «Помни о смерти!».
Как ни странно, но эта недвусмысленная угроза успокоила Мейседона и помогла ему окончательно обрести самого себя.
— Не надо пугать меня, — холодновато сказал он. — Я боевой офицер, а не канцелярская крыса. Мне приходилось беседовать с «мисс костлявой» не только в кабинетах высокопоставленных чиновников.
Кейсуэлл чуть развел руками, отдавая должное Мейседону и признавая за ним право на такой тон.
— Именно по этой причине, дорогой Генри, я и пригласил вас в дело.
— Да, но на какую роль?
— На роль негра. Нам предстоит сделать из этой липы и провокации вполне добротную и респектабельную программу, к которой не смог бы придраться самый неистовый лобби из лагеря противников президента.
— Не проще ли похоронить эту космическую затею?
— Невозможно. Программа «Инвазия» утверждена, ассигнована и вчерне уже разработана. С отдельными, по счастью, разными аспектами программы ознакомлены представители министерства обороны, НАСА, ЦРУ, ФБР. В самых общих чертах о программе известно и конгрессу. Если затормозить естественное развитие программы, а тем более реверсировать события, возникнут толки, потом потребуют и официальных объяснений. Дело может завершиться грандиозным скандалом!
— Не совсем понимаю, — упрямо сказал Мейседон, ему не хотелось играть роль искушенного политика, да и бесполезно было пытаться провести хитроумного Кейсуэлла.
— Я поясню. — Советник был предупредителен, это была та самая холодная предупредительность, которая проявляется у иных воспитанных людей в обращении со слугами и вообще с подчиненными. — Президента, как и короля, можно низложить разными способами. Его можно убить, как убили Эйба Линкольна и Джона Кеннеди. Его можно сбросить е поста юридически, инкриминировав ему незаконные деяния, как это сделали с Никсоном. Наконец, президента можно раздавить морально и провалить на выборах. Например, Джонсон грязной войной во Вьетнаме сам себя раздавил морально.
— Понимаю. Нынешнего президента хотят скомпрометировать с помощью программы «Инвазия».
— Именно, — вздохнул Кейсуэлл.
— Но, судя по всему, враги президента не торопятся?
— Почему враги? — искренне удивился советник. — Политические противники, конкуренты, но не враги. Вот коммунисты и капиталисты — враги настоящие и непримиримые, враги по убеждениям, враги навеки. А противники сегодня усердно обливают друг друга помоями, а завтра пьют на брудершафт. В принципе же вы правы — оппозиция Белого дома не торопится. Они ждут, чтобы президент увяз и замарался в программе по-настоящему. Ждут и благоприятной ситуации: политического кризиса, решающего момента в предвыборной кампании и тому подобного. Но если мы попытаемся похоронить программу «Инвазия», они отреагируют немедленно: потребуют расследования и сделают почти самое страшное, что можно сделать с администратором, олицетворяющим собой верховную власть Соединенных Штатов, — представят его смешным и наивным человеком.
Мейседон надолго задумался.
— Нет, — признался он наконец, — в этом деле я вряд ли смогу вам помочь. По-моему, огласка предрешена. Можно думать лишь о компенсации политического ущерба.
— Это годится вообще. Но не годится в канун выборов.
— Как бы то ни было, Джон, но выхода я не вижу. Сожалею, но не вижу!
Кейсуэлл мягко улыбнулся. Однако в ответной реплике голос его прозвучал холодно:
— По-видимому, именно эту фразу и произнес мой бедняга предшественник.
— Вы уверены?
— Я знаю. Конечно, мне неизвестен буквальный текст его ответа, но о смысле его я проинформирован хорошо. Мой предшественник не сумел предложить хотя бы сколько-нибудь приемлемого выхода. Что произошло дальше, одному Богу известно! В соответствии с официальной версией он скончался от инфаркта, и, я думаю, нам следует этим удовлетвориться.
Мейседон механически ответил на улыбку Кейсуэлла но почувствовал под ложечкой холодок. Точно выглядывал из окопа в зоне, которая обстреливается снайперами Однако он тут же овладел собой и вежливо сказал:
— Право же, Джон, не знаю, чем я могу вам помочь.
— Нам, Генри, теперь уже нам. — Советник президента выдержал внушительную паузу и мягко добавил: — Не буду мучить вас. В принципе, выход найден. Вас введет в курс дела Чарли, а уж потом вы займетесь официальными документами и влезете в программу по-настоящему.
Полковник засмеялся.
— Чарли? Это любопытно!
— Почему?
Мейседон объяснил, что в военной среде имя Чарли является нарицательным. Оно означает глуповатого, наивного солдата, вечного неудачника, все время попадающего впросак и в разные забавные переделки. Кейсуэлл посмеялся вместе с полковником.
— Действительно любопытно. Но речь идет не о глупом солдате. Чарльз Уотсон — видный ученый, кибернетик и программист. Он будет работать в одной упряжке с нами. Кстати, не обращайте внимания на его колкости. Как и многие незаурядные люди, он экстравагантен. И не особенно любит военных.
ЧАРЛЬЗ УОТСОН
За липами и кленами, окружавшими коттедж, располагалась небольшая спортивная зона: бассейн с трехметровым трамплином, травяной теннисный корт, в глубь рощи уходила широкая ухоженная тропа для прогулок и пробежек. На корте шла игра. По зеленому полю двигались две фигуры в белоснежной одежде, негромко звучал женский грудной смех, слышались азартные выкрики и тугие удары ракеток по мячу.
Подойдя ближе, Мейседон обнаружил, что играют мужчина и женщина — смуглая стройная красавица, гибкая, подвижная, но отнюдь не тонкая и уж вовсе не изнеженная. Этакая современная Артемида, получившая отличное физическое воспитание и тренировку. Она непринужденно скользила, будто танцевала, по коротко стриженной пружинистой траве, ракетка казалась естественным продолжением ее руки. Играла она с улыбкой и явно не в полную силу. По другую сторону сетки по полю сердито катался забавный взмыленный человечек, размахивая ракеткой так, словно он пытался отбиться от кучи разъяренных ос. У него было маленькое, хлипкое, но какое-то кругленькое туловище и длинные жилистые руки и ноги. Он неутомимо, как челнок, сновал по всему полю, ухитрялся доставать по-настоящему трудные, правда, не очень сильно посланные мячи и азартно покрикивал резким тенорком. Кого-то он напоминал Мейседону, но кого? Как будто бы в его арсенале не было знакомых с такой оригинальной фигурой и повадками. Хмуря брови, Мейседон внимательно вгляделся в происходящее на корте… и вдруг рассмеялся! Он понял, кого напоминает ему этот забавный упрямый теннисист — паучка, азартно снующего по своей сети вокруг крупной добычи, к которой не так-то легко подступиться. Кейсуэлл, который стоял рядом, держась пальцами левой руки за тончайшую, почти невидимую нейлоновую сеть, окружавшую корт, усмехнулся и указал глазами на мужчину.
— Это и есть Чарльз Уотсон.
Мейседон недоверчиво взглянул на него.
— Не будем им мешать. — Кейсуэлл отошел в густую тень дуба, сел на скамью и жестом пригласил полковника. — Партия подходит к концу, а Чарльз страшно азартен и бывает просто вне себя, когда прерывают игру.
— А кто с ним играет? — стараясь не выдать своей заинтересованности, спросил Мейседон
Девушка определенно произвела на него впечатление, хотя несколько не укладывалась в голливудские и телевизионные стандарты. Не хватало ей изнеженности, этакой капризности фигуры и стати, которая была модной вот уже несколько сезонов и которую старательно «носили» даже те женщины, которым для этого явно не хватало природных данных.
— Это наша общая знакомая, — неопределенно ответил Кейсуэлл, и было в его ответе нечто, давшее полковнику понять, что от дальнейших вопросов на эту тему лучше воздержаться.
Надо полагать, что девушка заметила прибывших, она, почти не прибавляя темпа, резко прибавила в силе ударов и быстро закончила партию в свою пользу, выиграв подряд два гейма.
— Я жду! — крикнула она Кейсуэллу, направляясь в Душ, располагавшийся возле бассейна.
Уотсон подошел очень сердитый, вытирая разгоряченное лицо большим махровым полотенцем, висевшим у него через плечо. Ему было лет сорок, он был невысок но все-таки повыше, чем это показалось Мейседону сначала. Уотсон был рыжеват, веснушчат не только лицом но и телом; кожа его от пребывания на солнце не столько загорела, сколько покраснела. Он вполне мог сойти за представителя славного племени делаваров или ирокезов тем более что глаза у него оказались неожиданно темными, почти черными.
— Не дали вволю поиграть? — с улыбкой спросил Кейсуэлл.
— Наигрался, — пропел Уотсон, — ваша Доллорес кого угодно доведет до седьмого пота.
— Это Генри Мейседон, Чарльз. Он не обижается, — Кейсуэлл легонько сжал предплечье полковника, — когда его называют просто Генри.
Мейседон счел нужным утвердительно склонить голову.
— Очень приятно. А я в восторге, когда меня называют просто Чарльзом. Именем, которое носил этот великий и неповторимый актер-коротышка. — Уотсон еще раз прошелся полотенцем по лицу, шее и полюбопытствовал: — А где же этот меднолобый солдафон из Пентагона, которого вам приспичило ввести в дело?
Кейсуэлл тихонько, почти беззвучно рассмеялся и снова легонько сжал предплечье Мейседона.
— Генри Мейседон и есть тот самый полковник, Чарльз.
Мейседон еще раз поклонился, теперь уже с очевидной насмешкой. Уотсон удивился, но ничуть не смутился. Бесцеремонно оглядывая Мейседона с головы до ног, он спросил:
— Вы и правда полковник? Черт знает что! А где же ваш мундир? Где ваши аксельбанты, эполеты и ордена? Где ваш кольт, из которого вы без промаха попадаете в подброшенную десятицентовую монету?
— Чтобы удовлетворить ваше любопытство, я в следующий раз захвачу его с собой.
— Ради Бога не надо! Вдруг я рассержу вас ненароком, и вы мигом превратите меня в решето. Вам приходилось убивать людей, полковник?
— Я боевой офицер, мистер Уотсон.
— Надо же! Первый раз вижу живого боевого полковника. И все-таки отсутствие мундира сбивает меня с толку, шокирует, что ли, не пойму. Мне почему-то представлялось, что полковники даже спят в форме, застегнутые на все пуговицы и затянутые в ремни. И это обстоятельство наводило меня на серьезнейшие размышления об особенностях их интимной семейной жизни!
Покачивая головой, Кейсуэлл положил руку на плечо Уотсона, прикрытое полотенцем.
— Хватит паясничать, Чарльз. Генри может подумать о вас черт знает что.
— Завидую вам, Джон. Вы называете полковника запросто — Генри, как будто перед вами не пентагоновский офицер, а простой смертный. У меня язык не повернется сказать такое!
— А вы попробуйте, — мягко посоветовал Мейседон.
— Как? Вы не сердитесь на меня? Или все это тонкая ловушка, а стоит нашему патрону удалиться, как вы придушите меня каким-нибудь изощренным приемом каратэ или джиу-джитсу?
Кейсуэлл поморщился.
— Хватит, Чарльз, — в его голосе прозвучали холодноватые нотки, — надо же знать меру! Введите, пожалуйста, Генри в курс дела, как вы это умеете — коротко, ясно, сообщите о самой сути наших затруднений. К сожалению, я должен ненадолго отлучиться. Надеюсь, вы не подеретесь?
Провожая взглядом статную фигуру советника, Уотсон тяжело вздохнул и завистливо пропел тенорком:
— Отправился к своей Долли.
— А кто она, эта Долли? — не удержался от вопроса Мейседон.
Уотсон внимательно взглянул на него.
— Прежде всего это женщина, полковник. Молодая, здоровая, красивая самка. Вы видели ее на корте и не могли не обратить внимания на ее несомненные женские достоинства. Кроме того, Долли — подружка Джона, в известном смысле на нее наложено табу, поэтому я не рекомендовал бы вам смотреть на нее слишком жадными глазами.
Мейседон закусил губу — этот книжный червь не был лишен наблюдательности. Впрочем, в этой специфической области человеческих взаимоотношений многие обнаруживают совершенно неожиданную наблюдательность. Тем не менее, следуя своему правилу всегда доводить до конца начатое дело, Мейседон спросил:
— А что это значит — подружка?
— Это значит — подружка, — сварливо пропел Уотсон. — Иначе говоря, дорогой генштабист, потаскушка
Он покосился на медальное лицо Мейседона, на котором вместе с тенью огорчения появилась этакая снисходительная барская надменность, я очень довольный, злорадно расхохотался. И тут же вздохнул.
— Не надо думать о ней плохо, полковник — Долли — вполне приличная девка. Она учится в университете и мечтает стать археологом, помимо тенниса вполне при лично играет в крикет и гольф, отлично стреляет. Если бы она занимала в обществе более весомое место, то и называлась бы более благопристойно — любовница, возлюбленная, а может быть, и невеста. Равно, спустись она по общественной лестнице пониже, как получила бы романтичную кличку галл, бар-герл или что-нибудь в этом роде. А ныне Долли именно подружка! — И, резко меняя тему спросил: — Вы не страдаете водобоязнью полковник?
Мейседон взглянул на него удивленно.
— Я имею в виду не бешенство, — снисходительно и ехидно пояснил Уотсон, — а самую заурядную воду, точнее говоря — бассейн. В конце концов, какая разница, где решать дела — на суше или на море? Германия подписала капитуляцию на суше, Япония — на море а что от этого изменилось? И белокурые бестии и косоглазые камикадзе заново вооружаются и во всех смыслах наступают нам на пятки.
— Насколько я понял, вы предлагаете выкупаться в бассейне, а заодно и поговорить о делах? — вежливо уточнил Мейседон.
— Вы удивительно догадливы, полковник!
— Я не против. — И уже на ходу Мейседон полюбопытствовал: — Скажите, мистер Уотсон, а вы всегда выражаете свои мысли столь сложным образом?
Уотсон одобрительно мотнул своей рыжей башкой.
— А с вами можно иметь дело, полковник. — Он по молчал и сердито, с резкими, писклявыми нотками в голосе добавил: — Я говорю заумно, когда сержусь!
— Вы считаете, что Долли заслуживает лучшей участи, — Уотсон поморщился.
— Не пытайтесь строить из себя Порфирия Порфирьевича.
— Простите?
— Это один из героев произведения Достоевского, судебный следователь. — Ученый покосился на идущего рядом собеседника. — Большой любитель копаться в чужих душах.
— Упаси Бог! Я и в своей-то боюсь копаться.
— Естественно Вы же боевой офицер, вам есть что вспомнить. — Уотсон еще раз скользнул взглядом по лицу Мейседона и круто сменил тему разговора: — Кстати, вы напрасно думаете, что Долли мечтает о лучшей доле. Она прекрасно чувствует себя в своем нынешнем положении и вряд ли согласится променять его на какое-либо другое.
Мейседон взглянул на него недоверчиво. Уотсон усмехнулся.
— Уверяю вас! Время белолилейных скромниц кануло в Лету. Нынешние девы мечтают не о нежной любви и не о детях, а о сногсшибательных нарядах, дорогих машинах и экзотических развлечениях. Вообще-то женщины лучше мужчин! Они добрее, терпимее, многограннее, сбалансированнее. Они более люди, ближе к будущему! — Уотсон покосился на Мейседона. — Да-да! Что из того, что женщины в своей массе глуповаты? Развитый интеллект — болезнь вроде флюса, калечащая человеческую душу. Уродство вроде отвислого брюха штангиста-тяжеловеса или рекордных титек какой-нибудь там мисс Вселенной! Развитый интеллект подминает под себя все христианские идеалы, на которых с трудом балансирует наша ублюдочная цивилизация. Остается голый расчет — дело, деньги, власть. Тьфу! Вспомните Гиммлера и сразу поймете, куда может завести человека голый интеллект.
— Мистер Уотсон, — проговорил наконец Мейседон, — вы говорите любопытные вещи, но, по-моему, вы сами себе противоречите.
Ученый остановился, явно оскорбленный.
— Это почему же? Извольте объяснить!
Мейседон улыбнулся.
— Очень просто. Говоря о Долли, вы утверждали одно, а о женщинах вообще — нечто совсем другое.
Уотсон с очевидной снисходительностью взглянул на полковника.
— Разве Долли женщина? Она же потаскушка! Я и начал с констатации этого очевидного факта. А возвеличивал я женщину, понимаете? Женщину!
— Понимаю. Но, простите, как вы отличаете презираемых потаскушек от уважаемых женщин?
— Как? — Пожалуй, впервые за время общения с полковником Уотсон несколько растерялся, но уже через секунду на его лице появилась хитроватая улыбочка. — А как наши доблестные воины отличают свои самолеты от вражеских?
Мейседон пожал плечами.
— Существует масса самых разнородных признаков.,
— Вот-вот, — с торжеством перебил Уотсон. — Масса самых разнородных признаков! Опознание самолетов возможно лишь при тщательном изучении техники и длительной кропотливой тренировке, не так ли? Ну, а самый процесс опознания происходит подсознательно, и говорить о нем нет никакого смысла.
Плавал Уотсон примерно в том же стиле, что играл в теннис. Словно мельница крыльями, размахивая руками и подымая тучи брызг, он с каким-то остервенением плавал плохо поставленным кролем до тех пор, пока совершенно не выбился из сил. Настоящих поворотов он, видимо, делать не умел. Уотсон предпочитал попросту хвататься руками за край бассейна и изо всех сил толкаться ногами, выполняя в воздухе нечто вроде полувинта. С трамплина Уотсон прыгать отказался, сказав, что презирает обезьянье занятие. Мейседону подумалось, что позиция эта определяется прежде всего тем, что Уотсон и без прыжков напоминает обезьяну — гиббона, несколько укоротившего передние конечности и научившегося довольно ловко ходить на задних. В пику этому зазнайке-ученому Мейседон несколько раз прыгнул, и довольно удачно, хотя каждый его прыжок вызывал серию язвительных и довольно остроумных замечаний Уотсона. Но замечания замечаниями, а поглядывал Уотсон на полковника явно одобрительно. Мейседон, решив, так сказать, окончательно «добить» его, попытался выполнить полуторное сальто с винтом, но перекрутил и смачно хлопнулся на плечи и спину, хорошо еще, не плашмя. Уотсон пришел в восторг — и расхохотался и развеселился так, что чуть не захлебнулся. В его радости по поводу неудачи коллеги было столько ребяческой непосредственности, что Мейседон не обиделся, а поэтому отшучивался добродушно и довольно ловко.
На территории бассейна была небольшая зона отдыха, прикрытая высоко расположенным тентом, а в этой зоне — бар с секретом, который был известен Уотсону. Было приятно, развалясь в прогретом, теплом шезлонге, тянуть понемногу прохладный грейпфрутовый сок, в который Уотсон добавил немного джина.
— Приступим к делам, полковник?
— Приступим, мистер Уотсон.
— С меморандумом, разумеется, вы познакомиться не удосужились?
— Просто не успел, — мягко поправил Мейседон.
— Узнаю стиль Джона, — вздохнул Уотсон, — сразу в седло и в дорогу, не проверив, хорошо ли подкован конь и крепко ли затянута подпруга. Ну да ладно, это не боль тая беда. Но впоследствии вы непременно должны познакомиться с меморандумом основательно, не пропуская ни страниц, ни параграфов — программу разрабатывала очень авторитетная комиссия: физики, химики, математики, инженеры, экономисты, политики, криминалисты, даже служители церкви. И все это ученые с именами.
Привлечение в комиссию профессиональных разведчиков Мейседона не удивило, но служители церкви? Какой прок от священников или кардиналов? Он не постеснялся высказать свое недоумение вслух. Уотсон взглянул на него с сожалением.
— Церковь, в особенности католическая, давным-давно не чурается серьезной науки. Аббат Леметр был фактическим отцом современной теории горячей, расширяющейся Вселенной. Гамов лишь математически обработал его идеи — биг-банг, файрбол, слышали?
Мейседон скромно кивнул. Разглядывая его энергичное, но интеллигентное лицо, Уотсон неопределенно хмыкнул. Он никак не мог выработать определенного отношения к этому несколько загадочному пентагоновцу, а поэтому и не торопился устанавливать более простые отношения.
Содержание программы «Инвазия» Уотсон изложил очень сухо, добавив немного к тому, что Мейседон узнал от Кейсуэлла. И сразу перешел к проблемам, напомнив об основном требовании: реализовав программу «Инвазия», в то же время похоронить ее так, чтобы невозможно было отыскать могилу и эксгумировать!
— Кстати, догадываетесь, откуда президент узнал об этой инопланетной мине, которую под него подложили?
Мейседон на секунду задумался.
— Кейсуэлл? Да неужели?
Уотсон одобрительно кивнул.
— Эта догадка делает вам честь, полковник. Он самый. Хитер, бестия! Он работал еще с Джоном Кеннеди, у него старые связи в самых высоких сферах. Умен, ничего не скажешь. Но мыслитель он крупноблочный — Гумбольдт, а отнюдь не Максвелл. Из тех, кто хорошо ориентируется в лесу, но не разбирается в отдельных деревьях. Для таких частностей он нанимает негров вроде меня или вас. Кстати, сколько он вам положил за успех?
В голосе Уотсона прозвучали ноты искреннего интереса, и Мейседон, поколебавшись, честно сказал, что об этом разговора еще не было.
— Так заведите этот разговор сами! Не будьте дураком не стройте из себя ультрапатриота и не стесняйтесь. Кстати, жадность не значится в числе пороков Кейсуэлла. Он делец-эстет, делец-любитель, состояние позволяет ему искать в делах не только труд, но и удовольствие.
— Учту.
— Догадываюсь. Вы хоть и тихоня, а своего не упустите. — Уотсон захохотал, бесцеремонно разглядывая полковника, но поскольку тот никак не отреагировал на эту шуточку, продолжил рассказ: — Признаюсь честно, я изрядно поломал голову над проблемой нон-эксгумации программы, пока не набрел на идею мимикрии.
— А это что за зверь?
Очень довольный тем, что озадачил полковника, Уотсон многозначительно кивнул.
— Прелюбопытное явление! Я познакомился с ним случайно, когда вместе с биониками работал над одним вариантом головки самонаведения. Мимикрия — вариант маскировки, распространенный в мире насекомых. Например, безобидная муха маскируется под ядовитую осу и за счет этого пользуется всеми правами и привилегиями последней. Вспомнив о мимикрии, я предложил Джону замаскировать оперативную часть программы «Инвазия», нарядив ее в более респектабельные одежды. И мистер советник с радостью ухватился за мою идею. Ныне она реализована и воплощена в конкретную машинную программу, которая может быть в любой момент введена в действие на достаточно мощном компьютере. По предварительным наметкам нам дадут канал в разведцентре военно-воздушных сил.
— Там превосходные компьютеры. И далеко не перегружены.
— Вам виднее, полковник. — Уотсон зажмурился от удовольствия, как кот на солнышке. — Представьте, однако, как бы полезли глаза на лоб у работников этого почтеннейшего учреждения, если бы им предложили обрабатывать данные по вторжению на континент инопланетян и по слежению за космической аппаратурой!
Мейседон представил и не мог сдержать ухмылки, а Уотсон захохотал, по-щенячьи повизгивая от восторга.
— Так вот, — в голосе ученого послышались те самые нотки горделивости и самодовольства, которые можно услышать в голосе шеф-повара, лично подающего на стол фирменное блюдо, — чтобы избежать ненужных толков, а заодно лишить президентскую оппозицию львиной доли материалов для политического скандала, я заменил инопланетян явлением трансцендентности. Что, может быть, и не понятно для профанов, но вполне удовлетворяет специалистов.
ЯВЛЕНИЕ ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТИ
Глядя, как Уотсон самодовольно кутает в яркую махровую простыню свое хилое тельце, Мейседон вслух подумал:
— Я хорошо знаю, что такое трансцендентные функции, но не очень четко представляю, что такое трансцендентные явления.
Уотсон презрительно фыркнул.
— Естественно. Зачем военным, да еще полковникам, философия? Ваше дело выпускать кишки да раскалывать черепа, а не размышлять о высоких материях. Трансцендентными, полковник, называют явления, находящиеся за границами нашего опыта, а может быть, и принципиального осмысления.
— Понятно.
— Рад за вас. Честно говоря, я обратился к трансцендентности не только из-за этой проклятой нон-эксгумации. Это ведь легко сказать — инвазия, космическое вторжение! А как определить, что оно состоялось? Конечно, если в один прекрасный день в трубном звуке с небес на купол Капитолия слетит некий небожитель, огласит свою волю и, для порядка поразив молниями десяток-другой тысяч людишек, поведет человечество за собой, то все и всем будет ясно. А если эта самая инвазия состоится тайно? Может быть, инопланетяне уже давно живут в самой гуще нашей жизни, только нам сие неведомо. Может быть вы, полковник Мейседон, и есть космический агент, которого надо потихоньку ликвидировать или всенародно усадить на позолоченный трон!
В словах Уотсона был определенный смысл, Мейседон слушал его с интересом. Действительно, почему бы высокоразвитой внеземной цивилизации не замаскировать своих посланников под самых обычных людей? Любое широкое общение, независимо от того, дружеское оно или враждебное, предваряется глубокой детальной разведкой, которая ведется по очень узким, как правило, тайным каналам. Мейседону, работнику разведуправления, это было известно лучше, чем кому-нибудь другому. Разведчики ЦРУ, Интеллидженс сикрет сервис или Второго бюро всегда и непременно маскируются, стараясь максимально перевоплотиться в жителей тех стран, где они работают Почему же от этого приема должны отказаться звездные странники, инопланетяне, обладающие техническими и биологическими возможностями, которые и не снятся еще человечеству? Будь на их месте Мейседон, уж он бы не отказался!
— И надо сказать, — продолжал между тем Уотсон все с теми же самодовольными нотками в голосе, — что пока инопланетянин достаточно хорошо замаскирован под человека, собаку, дерево или шкаф, пока он не предпринимает никаких нечеловеческих, неземных или, более общо говоря, трансцендентных действий, обнаружить его в принципе невозможно. Другое дело, если дерево вдруг вздумает прогуляться по Бродвею, собака в один миг превратится в сыплющий искрами огненный шар, а у хорошенькой особы, за которой вы решили приударить, в заднице вдруг заработает реактивный двигатель и вознесет ее в небеса.
Мейседон не очень охотно посмеялся вместе с ученым, он не любил скабрезностей.
— Ведя пассивное наблюдение за землянами, инопланетяне могут оставаться неузнанными долгое время. Но стоит им перейти к активным действиям, попасть в экстремальные условия, выйти на грань провала, как их скрытая трансцендентность непременно должна проявиться, — продолжал с удовольствием развивать свои идеи Уотсон. — Равно как и земные шпионы непременно проявляют свою трансцендентность в критических ситуациях: бесшумные пистолеты, мгновенно действующие яды, приемы каратэ, микроподслушивающие устройства, — все пускается в ход для сохранения жизни и достижения цели. Не так ли, полковник? Как бы то ни было, но контрольную программу для установления факта инвазии я разработал, взяв за основу слежение за уровнем мировой трансцендентности. Понимаете ли, в мире непрерывно случаются всякие необычности — чудеса, нелепости, загадочные происшествия и катастрофы. Подобно тому, как существует некий глобальный радиоактивный фон, так существует и фон мировой трансцендентности. Всплески радиоактивности свидетельствуют о катаклизмах — солнечных вспышках, рождении новых и сверхновых звезд, взрывах ядерных устройств и авариях реакторов. Вспышка трансцендентности косвенно свидетельствует о космическом вторжении. Когда амплитуда такой вспышки превышает некоторый критический уровень, объявляется тревога и начинается активный поиск инопланетян. Надеюсь, вы поняли, в чем суть мимикрии? Никаких инопланетян! Никаких инвазий! Конкретные исполнители ничего не знают об этом, они следят за уровнем мировой трансцендентности, поэтому оперативная часть программы «Инвазия» выглядит вполне солидно и респектабельно. И лишь в критической ситуации…
— Простите, что я перебиваю вас, мистер Уотсон. — Мейседон задумался, формулируя свою мысль. — Ваша идея подмены, точнее, выражение космического вторжения через уровень мировой трансцендентности и практична и весьма элегантна.
Явно паясничая, Уотсон раскланялся. Не обращая внимания на его шутовство, Мейседон продолжал:
— Но для реализации программы надо как-то фиксировать текущий уровень трансцендентности — все эти необычности, чудеса и загадки, которые и действительно иногда случаются в нашей жизни.
— Я же говорил, что эта операция будет проводиться на компьютерах разведцентра ВВС, — скучным голосом напомнил Уотсон. — Информация о трансцендентных событиях будет поступать в компьютер по донесениям всех наших служб социального, биологического и геофизического наблюдения, начиная от метеорологической и кончая полицией и Федеральным бюро. Если что-нибудь интересное засекут летчики или узрят в свои телескопы астрономы, и это пойдет на перфокарту. Делается это просто: в форму ежесуточных отчетов станций, пунктов и служб будет введен специальный раздел — трансцендентные явления. Остальное дело техники и нашей прославленной американской деловитости. За деталями обращайтесь к Джону, он лично разрабатывал эту часть оперативной программы.
— Все продумано, слажено и пригнано, — в раздумье констатировал Мейседон.
— Старались, — съязвил Уотсон. Мейседон внимательно взглянул на него.
— Но в таком случае я не понимаю своей роли. Для чего я вам понадобился?
— Ха! — Уотсон сделал такой энергичный жест, что вылупился из простыни, в которую был завернут. — А если этот проклятый компьютер все-таки выдаст сигнал тревоги? Вдруг он все-таки сработает и сообщит, что инопланетяне высадились на нашу старушку планету!
Мейседон задумался, немало озадаченный, Уотсон поглядывал на него ехидно и вопросительно.
— Что ж, — проговорил наконец Мейседон, — если компьютер выдаст сигнал тревоги, придется действовать.
— Браво, полковник! Великолепная идея. Если вас выбросят из окна, то волей-неволей придется падать, — истина примерно такого же порядка, не так ли?
— С одной оговоркой: падать можно только вниз, а вот действовать можно в очень разных направлениях. — Мейседон погладил свой гладко выскобленный подбородок. — Нельзя ли машинную программу составить таким образом, чтобы тревогу всегда можно было объявить ложной?
Уотсон ухмыльнулся, чем-то очень довольный.
— Примерно такого ответа я и ждал от вас. Небось вспомнили ложные атомные тревоги из-за сбоев компьютеров или из-за того, что радары принимали стаи перелетных птиц за армады советских самолетов? Вы прирожденный провокатор, полковник. Ну-ну, не обижайтесь, я сказал вам это в похвалу, а никак не в осуждение. Я и сам носился с этой провокационной идейкой, но потом уяснил, что не могу принять ее по сугубо принципиальным соображениям.
— А именно?
— Неужели не догадываетесь? Вдруг сигнал тревоги соответствует действительности! Инопланетяне на нашей планете вот-вот схватят за горло человечество, а мы спрятались в кусты и хихикаем от радости потому, что удалось запихать в карман лишний десяток тысяч долларов. Нет, на такую подлость я не могу пойти принципиально!
Мейседон смотрел на ученого с изумлением.
— Послушайте, вы, стало быть, все-таки верите, что космическая инвазия может состояться?
— Верю, не верю, разве дело в этом? Дело в принципе! — проворчал Уотсон, поплотнее заворачиваясь в простыню. И вдруг рассердился: — А вы что — не верите? Совсем не верите? Даже самую крошечку?
Ученый даже на пальцах показал эту самую крошечку. Мейседон задумался, хмуря брови, потом медленно признался:
— Пожалуй, если речь идет о самой крошечке, то верю.
— Вот видите! — Уотсон, очень довольный, завозился в шезлонге, устраиваясь поудобнее, но когда заговорил, в его голосе появились резкие, обиженные нотки. — Программа составлена так, что случайное срабатывание исключено — критический уровень мировой трансцендентности я установил с огромным запасом, в целых четыре сигмы. Вам это говорит о чем-нибудь?
— Говорит.
— Как же можно отказаться от расследования сигнала тревоги? В конце концов это наш долг! Не личный долг, а общечеловеческий, долг перед нашим миром, перед родной планетой… — Заметив выражение скепсиса на лице Мейседона, Уотсон нахмурился и оборвал себя на полуслове. — Не смотрите на меня как на идиота, полковник. Я и сам терпеть не могу слюнтяйской лирики и абстрактного философствования. Но погодите, вот вы влезете в программу по-настоящему и почувствуете, как незаметно начнет меняться ваша идеологическая платформа. Ведь приходится думать черт его знает о чем, о чем истинные прагматики, вроде нас с вами, никогда не думают по своей воле.
Мейседон задумался, постукивая пальцами по мраморной столешнице низенького, блестящего хромом столика на колесиках.
— Насколько я понимаю, вас беспокоит возможная огласка?
— Нас, полковник, нас, — саркастически поправил Уотсон. — Именно огласка. Представляете, сколько будет смеха, если тревога окажется ложной или охота на ведьм неудачной? Современного аутодафе нам не миновать!
— Можно, — на секунду задумался Мейседон, — вести расследование по закрытым каналам.
— Каким? — с самым скучным видом уточнил Уотсон.
— ФБР, ЦРУ, полиция! Выбирайте, что вам больше по вкусу.
Ученый затрясся от смеха, простыня снова попыталась соскользнуть с его худых плеч.
— Боже, как вы наивны, полковник! Наши секретные службы оберегают секреты от разведок других государств, но охотно делятся ими с промышленниками, сенаторами, а то и журналистами. Не безвозмездно, конечно. Капитал и наука, биржа и политика, конгресс и разведка переплелись сейчас в такой тесный клубок, что сам Господь Бог не разберется. В кулуарах администрации говорят, об этом я знаю от Джона, и в этом аспекте я верю ему безусловно, — если хочешь сделать какое-то дело достоянием прессы, постарайся засекретить его как можно глубже. К такой заманчивой тайне сейчас же потянутся десятки тончайших незримых щупалец от множества сильных мира сего, облеченных явной или тайной властью. И если один из них решает, что целесообразна огласка, глубокий секрет через хорошо оплачиваемых подставных лиц будет предан общественному суду, во всяком случае, станет тайной Полишинеля. А программа «Инвазия» — это же лакомый кусочек для оппозиции.
Мейседон надолго задумался, опустив свою красивую голову. Уотсон терпеливо ждал.
— Наше министерство, комитет и штабы вооруженных сил не меньше втянуты в тот финансово-промышленный клубок, о котором вы говорили, — произнес наконец Мейседон. — Военно-промышленный комплекс, слышали? В тоталитарных социалистических странах им пугают детей. Не вижу особой разницы в том, по какому каналу будет проведена программа — по армейскому или одной из секретных служб.
— Разница есть. — По уверенному тону ученого Мейседон понял, что эта проблема предварительно и очень тщательно обсуждалась. — Армия — механизм гораздо более громоздкий, чем любая из секретных служб. Армия — это миллионы людей, масса разнообразной техники, многие тысячи самых разных больших и малых проблем. Если секретные службы осваивают единицы миллиардов долларов, то вооруженные силы — десятки и сотни. Как и в любой суперорганизации, в армии велик уровень шумов — разных помех, неразберихи, накладок и путаницы. Спрятать в этих дебрях нашу скромную «Инвазию» гораздо проще, чем на хорошо расчищенных пространствах сплошной секретности ФБР или ЦРУ. В Нью-Йорке спрятаться легче, чем в Нью-Арке.
Мейседон кивнул в знак согласия, но было видно, что он отнюдь не расстался со своими сомнениями.
— Мы хорошенько прикроем, закамуфлируем программу, — успокоительно добавил Уотсон. — Назовем нашу организацию службой трансцендентности или как-нибудь в этом роде. Только считанные единицы будут знать ее истинные цели.
Мейседон молча кивнул. Ему вдруг припомнилось лицо Рэя Харви с глубокими рублеными морщинами в углах рта и лбу, его тяжелые могучие длани. Казалось, ему трудно носить свои руки, и, как только подвертывается благоприятный случай, он отдыхает от этой утомительной каждодневной работы. Когда Харви стоял, руки тяжелыми плетьми висели в иллюзорном бессилии; опытный глаз однако же непременно замечал, что они готовы к взрывным хлестким действиям. Когда Харви сидел, кисти тяжело покоились либо на столе, либо на коленях, при этом Рэй не забывал прятать изуродованные многолетней тренировкой указательный и средний пальцы левой руки. Странная штука — человеческий облик и человеческая память! Одни люди запоминаются абрисом лица, другие улыбкой или выражением глаз, третьи фигурой и походкой, а вот вспоминая о Харви, Мейседон всегда мысленно видел его тяжелые, разработанные, как бы дремлющие кисти рук. Сейчас этот руковоплощенный облик Рэя Харви беспокоил Мейседона не только сам по себе, как таковой, но и по иной, косвенной, тревожащей причине.
— Послушайте, Уотсон! — Мейседон впервые назвал собеседника без «мистера», но не заметил этого. — Кажется, я нашел выход.
— Откуда и куда?
— Я не шучу, Уотсон. Частный детектив!
ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
Услышав от Мейседона предложение ввести в программу частного детектива, Уотсон в глубине души сразу одобрил эту идею и даже посетовал на себя за то, что сам не додумался до такого простого, сам собой напрашивающегося хода. Тем более что Уотсон знал то, что было еще неведомо этому неглупому и не слишком чванливому вояке: верхняя часть программы «Инвазия» была уже разработана и вчерне одобрена. Одобрено было все, что касалось действий Соединенных Штатов в ответ на открытое посещение или вторжение инопланетян. В соответствии с разработкой на контакт с инопланетянами выводились ученые, инженеры, полиция и армия, причем в зависимости от конкретной ситуации пропорции между этими силами взаимодействия и противодействия могли быть самыми различными. Непроработанной оставалась лишь нижняя часть программы, когда факт инопланетного вторжения был гадательным, сомнительным, когда ситуация требовала дополнительного закрытого расследования. Частный детектив, профессионал экстракласса, был бы удобным и достаточно эффективным орудием для решения задач такого рода. Ведь всякое хитроумное, неразгаданное преступление — своего рода трансцендентное явление, детективы привыкли к тайнам, загадкам, непонятному и на первый взгляд необъяснимому. Но чем глубже вникал Уотсон в предложение Мейседона, тем больше его одолевали сомнения. Уотсон вдруг понял, что именно эти сомнения, работавшие на подсознательном уровне помешали ему самостоятельно прийти к идее частного детектива. Точно умываясь, он провел обеими ладонями по лицу, поправил сползающую простыню и признал:
— Мысль хороша. Но не порочна ли?
— Это в каком же смысле? — обиделся Мейседон.
— Отнюдь не в смысле добронравия, полковник, — с усмешкой успокоил Уотсон. — Просто я подумал о том, что отдельного человека всегда проще подкупить, чем целую организацию. Достаточно оппозиции пронюхать о том, что некий детектив введен в программу «Инвазия», как его купят со всеми потрохами.
— Купить можно и организацию.
— Верно. И все-таки это много сложнее. Даже когда в организации покупается один-единственный человек, в некотором роде покупается организация в целом. А это и сложно и очень дорого, и с отдельным человеком все обстоит проще.
— Но…
— Подождите, полковник, я еще не закончил свою мысль. Разница существует не только между отдельными лицами и организациями, но и между частными предпринимателями и государственными служащими. Последние стоят дороже и менее охотно идут на сделки.
Мейседон засмеялся прямо в лицо собеседнику, Уотсон не обиделся и хладнокровно продолжал:
— Конечно, покупают и судей, и генералов, и министров, вы правы. И все-таки государственные лица дополнительно прикованы к добродетели цепями долга, чести и присяги, цепями отнюдь не эфемерными — над ними всегда незримо витает топор суровой Фемиды. А за что вы потянете в суд частного детектива? За разглашение тайн слежки за инопланетянами? — Уотсон затрясся от смеха, очевидно, зримо представив себе этот процесс. — Его же наверняка оправдают!
Открыто выражая нетерпение, Мейседон хотел заговорить, но Уотсон опять перебил его:
— Я еще не исчерпал своих доводов, полковник. Догадываюсь, о чем вы хотите сказать: при необходимости частное лицо гораздо проще вывести из игры, чем целую организацию, да еще государственную! Его можно упрятать в сумасшедший дом, спровадить на Соломоновы острова или сделать жертвой несчастного случая, убрать, как мило выражаются ваши коллеги разведчики. Все это верно, но такие же козыри на руках и у наших противников! Они тоже могут убрать вашего частного детектива.
— Вы мне дадите наконец открыть рот? — сдерживая раздражение спросил Мейседон
— А разве я неточно рисую ситуацию?
— Неточно Я предлагаю не частного детектива вообще, а конкретного человека, которого хорошо знаю. Это бывший офицер войсковой разведки, мустанг.
— Как вы сказали?
— Мустанг. Это значит, что он стал офицером добравшись до этого звания от рядового солдата.
— Любопытно!
— Не очень. Путь мустанга — тяжкий путь. Без настойчивости, дисциплины и отменных боевых качеств пройти его разведчику невозможно.
— И все эти добродетели есть у вашего протеже?
— Это профессионал высокого класса. Его непросто будет убрать, если даже этого очень захочется нашим противникам. К тому же он неподкупен.
Уотсон взглянул на Мейседона с интересом, сквозь который проглядывала насмешка.
— Вы серьезно верите в неподкупных людей, полковник?
Мейседон смутился.
— Я не совсем точно выразился. Если он пойдет к нам на службу, перекупить его будет невозможно. Во всяком случае, очень и очень трудно.
Уотсон удовлетворенно хмыкнул.
— В это еще можно поверить, с некоторым трудом. — Он задумался, приглядываясь к полковнику, и с неожиданной проницательностью спросил. — Этот самый мустанг и спас вашу драгоценную жизнь?
— Этот самый.
— И где же это случилось, если не секрет?
— Теперь не секрет. В Египте, в окрестностях Суэцкого канала, когда гиппо еще не числились нашими друзьями.
— Бог мой! Вы пачкались не только во Вьетнаме, но и в этом дерьме?
— Почему вы думаете что я бывал во Вьетнаме?
Уотсон усмехнулся
— Я же говорил вам, что Джон никогда не покупает котов в мешке. Как имя вашего протеже?
— Харви. Рэй Харви.
— Я полагаю, что независимо от того, возьмем мы этого Харви в дело или нет с ним стоит познакомиться. Если конечно, не будет возражать наш верховный главнокомандующий.
Джон Патрик Кейсуэлл не возражал. Он легко одобрил идею ввода в программу частного детектива вообще и не возражал против конкретной кандидатуры Рэя Харви в частности.
— Согласен с одной оговоркой, — уточнил он свою позицию. — Частный детектив, Рэй Харви или кто-либо иной, ничего не должен знать о существе программы «Инвазия». До поры до времени, пока система обсервации не выдаст сигнала тревоги.
Мейседон сразу понял и одобрил идею советника президента, но Уотсон нахмурился.
— Но его же надо подготовить!
— Мы и будем готовить. Скажем, к слежке за особо опасными преступниками экстракласса. Только и всего!
— А потом как топором трахнем его по башке сообщением, что ему придется охотиться за инопланетянами? А если такая неожиданность выбьет его из колеи?
— Надо выбрать такого человека, чтобы этого не случилось. — Кейсуэлл повернулся к Мейседону. — Как вы полагаете, Генри, Рэй Харви выдержит такое сообщение?
Мейседон улыбнулся.
— Полагаю, что выдержит. Боюсь только, что он не поверит в реальность присутствия на Земле инопланетян.
— А это уж ваша забота! Надо составить персональное извлечение для детектива из программы таким образом, чтобы он не только поверил, но и немножко испугался. Страх в небольших дозах помогает человеку проникнуться чувством ответственности.
Прошел день, другой, целая неделя, а Кейсуэлл, казалось бы, вовсе не торопился возвращаться к вопросу об участии Рэя Харви в программе. Уотсон, время от времени вспоминая об этом деле, подшучивал над медлительностью «патрона» и задавал всякие ехидные вопросы насчет роли детективов в жизни Кейсуэлла как таковой. Советник президента лишь посмеивался в ответ и отшучивался очень ловко и хладнокровно. Мейседон помалкивал, он знал, в чем причина задержки. Знал не по каким-либо конкретным фактам, а чисто теоретически, но тем не менее был совершенно уверен в том, что не ошибается: Кейсуэлл собирал сведения о Харви, проверял его по всем доступным ему каналам с той же тщательностью, с какой в свое время он проверял самого Мейседона. Генри был озабочен не самим фактом проверки, — эта операция представлялась ему и необходимой и совершенно естественной, а обстоятельность Кейсуэлла в ведении дела вызывала уважение и стимулировала доверие к нему. Мейседона смущала совсем другая, куда более деликатная сторона дела: в свое время, каким-то образом узнав о том, что его, полковника Мейседона, так сказать, посадили под колпак, Харви счел нужным сообщить об этом. Как же поступить ему? Со своей совестью Мейседон уж как-нибудь бы справился, жизнь, а особенно служба в Пентагоне хорошо закалили его в этом отношении. Но Генри волновали и чисто утилитарные соображения: скорее всего, рано или поздно Харви станет известно, что полковник Мейседон нечто знал о тотальной проверке и тем не менее промолчал. А это уже некрасиво, это явно не по-товарищески! Даже никак внешне не отреагировав на такой поступок, Харви мог обидеться и затаить в глубине души неприязнь. Ведь Рэй был из тех несколько примитивных, грубовато-сентиментальных натур, которые чувство товарищества ценят очень высоко. Это не Кейсуэлл, который бы лишь одобрительно улыбнулся, узнав о хитроумии коллеги. Портить отношения с Харви Мейседону определенно не хотелось, причем не только по деловым, но, как это ни странно, и по чисто человеческим, моральным соображениям. В общем, обнаружив, что проверка Харви затягивается, а чем дольше ведется проверка, тем легче ее обнаружить, Мейседон устроил себе нечаянную встречу с детективом.
— Знаете, Рэй, — заметил он словно мимоходом, — теперь ведь на вас кто-то катит бочку.
Харви взглянул на него с интересом и усмехнулся.
— Знаю. Знаю даже, кто катит.
— Кто? — живо поинтересовался полковник, широта осведомленности Харви его не только интриговала, но и несколько беспокоила.
— А вот этого я вам не скажу, баззард. Вы уж извините. О некоторых вещах лучше не знать, если к тому нет острой необходимости.
Харви задумался, разглядывая свою левую руку с деформированными долгой тренировкой пальцами.
— Но вот что стоит за этим, не знаю. Не знаю! — И Харви вопросительно взглянул на полковника.
— И я не знаю, Рэй, — мягко ответил Мейседон и ободряюще подмигнул. — Но убежден, что за всем этим для вас не кроется ничего плохого.
— Серьезно?
— Вполне. — Генри улыбнулся. — Если, конечно, вдруг не выплывут какие-нибудь страшные грехи прошлого.
Харви вздохнул.
— Кто из нас безгрешен? — Он испытующе взглянул на Мейседона и усмехнулся — Но ничего страшного Так, грешки, за которые умные люди дают подзатыльник не более того.
— Тогда можете спать спокойно. Вами интересуются умные люди.
— Серьезно? — снова переспросил Харви. Мейседон утвердительно кивнул и Харви к этой скользкой теме более не возвращался.
В этот же день вечером Харви встретился с Линклейтором. Такого рода визиты без предупреждения, согласования и даже без особых на то оснований были в их взаимоотношениях явлением обычным. В этот вечер Линклейтор был именно Линклейтором, а не Хобо, то есть он был, по его собственному выражению, непростительно трезв — трезв, как свинья! Как и всегда в таких случаях, Линклейтор угостил Харви крепчайшим кофе, сваренным в медном кофейнике, без сахара, но с хорошей порцией десятипроцентных сливок.
— А вы ошиблись, Хил, — заметил Харви. Полковник Мейседон все-таки предупредил меня.
Чашечка кофе повисла в воздухе.
— Но я не ошибся в другом. — Линклейтор отхлебнул обжигающий напиток, сливки подавались кипящими. — Он в курсе затеваемого дела. Если представится случай, не упусти его!
Харви кивнул в знак согласия, налил себе кофе, капнул в него сливок и повторил задумчиво:
— А все-таки он меня предупредил.
— А ты и рассиропился? — Линклейтор насмешливо фыркнул, его жирное брюхо колыхнулось. — Он тебя просто боится!
Харви пожал плечами и Линклейтор поправился:
— Ну, не боится, так старается заручиться твоей поддержкой, обеспечивает тылы. Устраивает свои дела, короче говоря.
Не без того, — согласился Харви и без всякого нажима повторил еще раз: — И все-таки…
Линклейтор шумно вздохнул. Его брюхо уперлось в столик и слегка катнуло его, столик был на колесиках Он допил кофе и лишь после этого мирно заметил:
— Вообще-то ты прав. Случай неожиданный. В конце концов это только естественно, когда среди кучи подонков находится один порядочный человек. Но не торопись с выводами.
— Я не мальчик, Хил, — обиделся Харви.
В тот же день вечером донесение о доверительной беседе полковника Генри Мейседона и частного детектива Рэя Харви легло на рабочий стол советника президента. Кейсуэлл сначала бегло просмотрел этот документ, задержавшись взглядом на примечании, в котором указывалось, что из-за сильных помех передается лишь общий смысл и отдельные фрагменты разговора. А потом уже заново, внимательно скорее проработал, чем прочитал текст. Фразу «знаете, Рэй, теперь уж на вас кто-то катит бочку» с примечанием, что это идиома, выражающая то-то и то-то, Кейсуэлл жирно подчеркнул и надолго задумался. Раздумье его кончилось тем, что он взял трубку спецтелефона кодовой линии связи, набрал некий домашний номер и попросил к аппарату шефа. После взаимных приветствий и недолгого разговора о пустяках Кейсуэлл спросил:
— Послушайте, Фредди, вы уверены, что Мейседон прямо, без посредников работает на своего тестя?
— Ну-ну, за руку мы его не схватили. Нет ни бумаг, ни голоса на пленке. Но все говорит за то, что именно Мейседон поставляет информацию «Радио корпорейшн». Причем прямо через старика Милтона, а не как-либо иначе.
— О’кей. Но улики отсутствуют?
— Отсутствуют. Они нужны?
— Нет-нет! И Бога ради никаких провокаций или подлогов! — Кейсуэлл помолчал, формулируя свою мысль так, чтобы сказать ровно столько, сколько нужно. — Скажите, как Милтон относится к своему зятю? Я имею в виду не только деловой аспект их отношений.
— По-отцовски.
— Я серьезно, Фредди.
— Я серьезен, как на скамье подсудимых. Почитает за сына и мечтает с дальним прицелом ввести в правление фирмы. Чем вас не устроил Мейседон?
— Так вопрос пока не стоит.
— Ну а все-таки? Для меня, Джонни.
— Сентиментален.
— Небольшая сентиментальность лишь украшает бизнесменов и генералов.
— Он сентиментален в делах. По-моему, он служит не только конкретному человеку и конкретной задаче, но и неким расплывчатым идеям. Долг, отчизна, товарищество и все такое прочее, трудно учитываемое.
— Это хуже. Что будем делать?
— По отношению к Мейседону пока ничего. Скажите, а трудно ли поссорить его с Милтоном?
Трубка засмеялась.
— Побаиваетесь старика? И правильно делаете. Страшен не столько он, сколько его разветвленные деловые связи. А поссорить нетрудно, Милтон очень подозрителен. Если он узнает, скажем, что его зять делится информацией с некоей конкурирующей фирмой, дело будет сделано.
— Проработайте этот вариант, Фредди. Просто так, на всякий случай.
— О’кей. Что еще?
— Это все. Бай-бай, Фредди.
— Бай-бай, Джонни.
ПРОБЛЕМЫ БОЕВОГО КАРАТЭ
Когда Мейседон получил от Кейсуэлла приглашение прибыть к нему в прайвет на файф о’клок, он сразу подумал о «смотринах» Рэя Харви. И не ошибся. На них присутствовал самый узкий круг лиц: сам хозяин, Мейседон и Уотсон, — вот и все. Видимо, Харви был приглашен с интервалом, на несколько более поздний час, ибо «инвазисты», как Уотсон насмешливо называл всех, причастных к программе, успели посидеть на веранде, выпить чаю или чего-либо другого по своему вкусу, поболтать о пустяках и поговорить о делах. Здесь, на веранде, и был принят Харви.
Харви прибыл ровно в семнадцать часов тридцать минут, Мейседон потом ради любопытства установил, что Рэй был приглашен именно на это время, точность детектива была своеобразным шиком и, если угодно, маленькой рекламой. Глядя, как по широким ступеням неторопливо, несколько тяжеловато ступая, поднимается Харви, Мейседон ощутил нечто вроде волнения или беспокойства. Оказывается, он переживал за своего протеже. Ему, видите ли, хотелось, чтобы Харви произвел благоприятное впечатление не только как организатор сыска и прямой исполнитель, но и просто как человек. Наблюдая за первыми шагами Харви в этом новом для него мире, полковник почувствовал, как тают его сомнения, — для новичка Рэй выглядел и держался прекрасно. Одет Харви был в недорогой, но отлично сшитый вечерний костюм, как-то догадался отказаться от своих так называемых драгоценностей, которыми иногда щеголял в офицерском клубе, — броских запонок и золотой заколки с жемчужиной. Зато на его руке красовался великолепный швейцарский хронометр в подчеркнуто простом корпусе из вороненой стали. Харви как должное воспринял присутствие на веранде Мейседона: не стал делать вид, будто не знает его, и вместе с тем не стал подчеркивать близость знакомства — корректно поздоровался, вот и все. И вообще Харви держался подчеркнуто скромно, вежливо, но с большим достоинством. Он и не пытался вести себя как равный с пригласившими его сюда людьми, но в то же время в его поведении не было ничего приниженного, лакейского. Прошло всего несколько минут, а Мейседон не без удивления и несколько ревнивого одобрения почувствовал, что дистанция, которую Харви сознательно установил и поддерживал между собой и собеседником, вовсе не была односторонней. Она недвусмысленно требовала ответного уважения и совершенно исключала попытки небрежной снисходительности и фамильярности. В разговоре с Харви Кейсуэлл был дружелюбен и подчеркнуто вежлив, из его речи как-то сами собой исчезли свойственная ей французская легкость, ироничность, не обидная, но ощутимая насмешливость. Харви отвечал очень коротко, может быть, не всегда исчерпывающе, но толково, почти не применяя любимых и метких сленговых словечек. Ни дать ни взять провинциальный бизнесмен, несколько подавленный столичным размахом и шиком, но тем не менее непробиваемо уверенный в себе! Слушая эту сухую деловую беседу, Уотсон откровенно таращил глаза на детектива, а переводя взгляд на Мейседона, без особого стеснения строил недоуменные гримасы и выразительно пожимал плечами. Мейседон хорошо понимал ученого и в какой-то мере разделял его чувства: Уотсон жаждал лицезреть обещанную ему гориллу, способную голыми руками прикончить не только человека, но и быка, а ему преподнесли явно неглупого, воспитанного, может быть, лишь самую малость смущенного и скованного человека. Если бы они знали, сколько трудов вложил Хилари Линклейтор в формирование светского облика Харви, сколько раз в самых разных вариантах была прорепетирована эта встреча, они удивлялись бы заметно меньше. Как бы то ни было, Харви оказался не только прилежным, но и способным учеником. Если бы Хобо, который в данный момент в изрядном подпитии сидел в баре и вел увлекательную беседу с некоей юной девой, одетой с предельной экономией материалов, видел своего воспитанника, он мог бы определенно возгордиться и предложить свои услуги в одну из школ хороших манер.
— Мистер Харви, — проговорил наконец Кейсуэлл, — я вполне удовлетворен результатами нашей предварительной беседы. Но должен оговориться, что от вашей конторы может потребоваться организация не только слежки, но и операций прямого захвата. Захвата преступников экстракласса или… м-м… вражеских агентов, экипированных по последнему слову техники и соответствующим образом обученных и натренированных. Можете ли вы гарантировать эффективное проведение такого рода операций силами своей конторы?
— Да, сэр.
— Не могли бы вы несколько подробнее осветить свои возможности?
— Да, сэр. — Харви ненадолго задумался, машинально массируя правой ладонью пальцы левой руки. — Обычно операции захвата я осуществляю лично, опираясь на свои возможности. При необходимости я привлекаю и других лиц, профессионалов, которым доверяю и возможности которых мне хорошо известны.
— Эти профессионалы — детективы?
— Не всегда, сэр. Я бы даже сказал так — чаще всего это не настоящие детективы, не агенты.
— Кто же они?
— Это разные люди, сэр. Все зависит от конкретной ситуации. И правильность выбора часто определяет успех операции.
— Я понимаю. И все-таки, каких людей вы привлекаете чаще всего? В какой сфере они трудятся обычно?
— Это разные люди, сэр, — медленно, в раздумье повторил Харви. — Спортсмены, мотогонщики, каскадеры.
— И снайперы? — тонко улыбнулся Кейсуэлл.
— И снайперы, если это необходимо, — спокойно ответил Харви, — но я не занимаюсь организацией убийств, сэр. Моя контора вполне добропорядочна.
— На черта лысого вам тогда снайперы? — не удержался от вопроса Уотсон.
Харви внимательно взглянул на ученого, снова перевел взгляд на Кейсуэлла и ответил лишь после того, как тот поощрительно кивнул головой.
— Иногда полезно подстраховаться и держать преследуемого под верным прицелом. — Харви на секунду задумался. — Для острастки дать ему услышать свист пули возле уха, сбить с головы шляпу, выбить из рук оружие. Снайпер может продырявить прямо с колес, на хорошем ходу автомобильную камеру, перебить натянутую веревку или электрический провод. Снайперы весьма полезны в нашем деле, сэр.
Кейсуэлл не сдержал улыбки.
— Вы что же, сами не умеете стрелять как следует? — ядовито поинтересовался Уотсон.
— Я неплохо стреляю из пистолета, но почти не прибегаю к винтовке. Навыки стрельбы из этих видов оружия, в принципе, совершенно разные и разрушающе влияют друг на друга.
Остановив настырного ученого движением руки, Кейсуэлл обернулся к детективу.
— Мистер Харви, вы не согласитесь продемонстрировать нам свое искусство нападения и самозащиты?
Харви покосился на Мейседона, поощрительно опустившего веки, и оглядел веранду.
— Здесь? Боюсь, что это небезопасно.
— Зачем же здесь, — улыбнулся Кейсуэлл, поднимаясь на ноги и вызывая тем самым цепную реакцию покидания плетеных кресел. — У меня, право же, неплохой тир. Там оборудован татами для схваток, есть и кое-что другое. Своего рода боевой мини-стадион!
Конечно же Кейсуэлл кокетничал: тир у него был прекрасный, хотя и не имел стандартных бетонных перекрытий — здесь они были просто ни к чему. Для его устройства был использован небольшой естественный холм, взгорок, в котором была выкопана горизонтальная траншея, длиной ярдов семьдесят и шириной не меньше сорока футов. Дно траншеи было идеально выровнено и засеяно плотной, ухоженной, коротко стриженной травой, чувствовалось, что здесь использована та же методика, которая применяется для подготовки и ухода за травяными теннисными кортами. Сразу при входе был оборудован татами и установлены некоторые гимнастические снаряды, мишени — в дальнем конце, в самом центре прорезанного взгорка. Над спортивной площадкой и позицией для ведения огня была установлена легкая металлическая ферма с раздвижным тентом. По случаю хорошей погоды тент был раздвинут, косые лучи вечернего солнца золотили изумрудную, чуточку пожелтевшую внутри своей массы траву.
— Кажется, вы говорили, что неплохо стреляете? — осведомился Кейсуэлл, подходя к большому металлическому шкафу — своего рода упрощенному, но достаточно прочному сейфу.
— Да, сэр. — Харви критически оглядел себя. — Но боюсь, что в этой одежде я не смогу показать всего, на что способен.
— Это дело поправимое — мы с вами примерно одинакового роста, а спортивная одежда не подгоняется по фигуре. Что бы вы предпочли?
— Обычный комбинезон. Из тех, что в ходу у десантников.
— Есть и такой. Зайдите в крайнюю кабину. — Кейсуэлл улыбнулся. — Честно говоря, я позаботился о вашей одежде заранее.
— Благодарю.
Пока Харви переодевался, Кейсуэлл открыл шкаф. Там было не менее дюжины пистолетов разных марок и калибров, автоматы, винтовки — целый арсенал. Судя по всему, оружие было высшего качества, штучного производства — с выборным комплектованием, специальной подгонкой и заказным оформлением. Разглядывая этот стоящий немалые деньги арсенал со знанием знатока, Мейседон полюбопытствовал:
— Не боитесь за свое хозяйство? Этот шкаф вовсе не выглядит несокрушимым.
Кейсуэлл усмехнулся.
— Зато у него прекрасная сигнализация. — Он перевел взгляд на успевшего переодеться Харви. — Будете стрелять из своего оружия или воспользуетесь моим?
— Я не беру с собой оружия, когда наношу такие визиты, сэр.
— И напрасно. — Уотсон возлегал прямо на траве, опираясь на локоть. — На такие-то визиты его и надо брать. И лучше не пистолет, а базуку. И пару гранат в придачу.
— Выбирайте любой, Харви. Все пристреляны. И спуск профессиональный — мягкий. Только подумаешь — и уже выстрел. Но есть небольшая слабинка, свободный ход.
— Как и полагается при таком спуске, — рассеянно заметил Харви, он разглядывал пистолеты. — С вашего разрешения я возьму кольт. Привычен.
— Прошу. А вот и патроны. Учтите только, это не стандартный, не армейский кольт. Для заряжения…
— Простите, сэр, — с подчеркнутой вежливостью перебил Харви, — но я знаком с этой системой. У меня точно такой же, может быть, даже от одного мастера. Дороговато, правда, но дело требует.
Кейсуэлл молча развел руками, а Уотсон захохотал. Мейседон, вполголоса спросив о чем-то Харви, взял другой пистолет того же калибра и начал снаряжать его магазин.
— Собираетесь посостязаться? — удивился Уотсон. — Браво, полковник!
— Должен разочаровать вас, просто помогаю.
— Зачем?
— Для стрельбы с обеих рук.
— О! Это интересно.
Харви взял у Мейседона пистолет, сунул его за пояс и машинально, мысленно он уже проигрывал предстоящую стрельбу, поблагодарил:
— Спасибо, баззард.
Уотсон вскинул голову.
— Баззард? — Он некоторое время переводил недоуменный взгляд с Мейседона на Харви и обратно, а потом захохотал. — Баззард! Да эта же кличка чудесно к вам подходит, полковник!
— Простите меня, — виновато сказал Харви. — Вырвалось!
— Пустое!
— Баззард! Великолепно звучит! Хотя внешне вы не очень-то походите на эту ночную птицу, есть у вас в характере что-то такое от мудрого семейства сов. Этакая бесшумность, мертвая хватка и способность видеть в темноте. Баззард! Прекрасно сказано! Вы не возражаете, полковник, если я буду иногда называть вас именно так? В приливе теплых чувств и дружеского расположения?
— Пожалуйста, если это доставит вам удовольствие.
— Разумеется, доставит! Но почему баззард? Тут есть какой-нибудь секрет? Мистер Харви, поделитесь.
Чтобы успокоить Уотсона, пришлось объяснить ему, что баззард на армейском сленге — это не только сыч в собственном смысле этого слова, но еще и орел на государственном гербе, и полковник, хотя иногда говорят не просто баззард, а баззард-колонель. Уотсон презрительно сморщился.
— Ну, зачем этот коктейль? Эта ублюдочная помесь американского с французским? Нет, неразбавленный баззард и крепче и благороднее. Не правда ли, Джон?
— Может быть, мы вернемся, наконец, к делам? — несколько суховато осведомился Кейсуэлл.
— Вы спешите, господин советник? — Уотсона, когда он разойдется, оказывается, было не так-то просто угомонить. — Впрочем, солнце клонится к закату, впереди обед, а клич римских пролетариев «Хлеба и зрелищ!» — вовсе не чужд моей душе и телу.
Он еще настаивал, чтобы Харви, выходя на линию огня, воскликнул: «Аве, Кейсуэлл! Моритури те салютант!», интересовался, смог ли бы мистер Харви без своих автоматических пистолетов справиться с гладиатором и вообще говорил глупости и мешал. Но как только детектив начал стрелять, быстро притих и наблюдал за происходящим с неослабным вниманием и интересом. Правда, выстрелы из крупнокалиберных пистолетов терзали его нежный слух, но он быстро нашелся — вставил себе в каждое ухо по стреляной гильзе. Так и сидел на траве, напоминая бледнокожего итурийского пигмея, наслаждающегося увлекательным зрелищем и совершенно необычным украшением.
А стрелял Харви блестяще, он удивил даже такого знатока, как Мейседон, который, хотя и был осведомлен о талантах детектива, но еще не видел их демонстрации в таком объеме. Он, правда, не клал пуля в пулю, а такое умение иногда демонстрируют на аренах цирка, но стрелял навскидку, без выцеливания, полагаясь не только на зрение, но и на мышечное чувство. Он стрелял одинаково хорошо от плеча, от пояса, из-под руки, стрелял с места и на бегу, с одной руки и с обеих рук, по одной мишени и по двум мишеням сразу. Стрелял в прыжке, успевая выпустить в полете две-три пули, выполнял кульбит на одной руке, оберегая оружие, и, вскакивая, всаживал в цель остальные пули. Стрелял на слух, с завязанными глазами, для такой стрельбы в тире Кейсуэлла была оборудована кукующая мишень, и пули послушно ложились в ее черный силуэт. Разумеется, Уотсон не упустил возможности поязвить и заметил, что было бы гораздо эстетичнее, если бы мишень не куковала, а кричала сычом.
Продемонстрировал Харви и свое умение в обращении с ножом. С расстояния около десяти шагов Харви бросал его взмахом снизу, сверху, сбоку, и нож неизменно втыкался в дерево с такой силой, что Уотсон вытаскивал его лишь с трудом, силы одной его руки иногда не хватало.
— Ножом я владею неважно, — признался Харви, — на всякий случай. А есть настоящие мастера!
— Почему такое пренебрежение? — полюбопытствовал Кейсуэлл.
— Нож — незаменимое оружие для убийцы тайком, а при игре в открытую он всегда проигрывает пистолету. — Харви скупо улыбнулся. — А я ведь не убийца.
— Значит, кинофильмы врут? Ведь там нож нередко опережает пулю!
Харви пожал плечами.
— Если нож в руке мастера, а пистолет у новичка, то и нож может быть первым. А на равных — никогда! Слабо бросать нож нет смысла, а сильный бросок требует замаха — тут уж никуда не денешься. — Харви задумался. — К нам приезжали светлые головы, хронометрировали, делали съемки. На сильный бросок с дистанции десять шагов от начала замаха и до поражения уходит не менее полусекунды, а выстрел доходит до цели за одну десятую. И при нужде его можно повторить столько раз, сколько потребуется.
После небольшой передышки, во время которой Кейсуэлл предложил перекусить или чего-нибудь выпить, но поддержки не встретил, Харви продемонстрировал и некоторые приемы каратэ. Каратэ чистого, изначального назначения — жестокое искусство, рожденное в народе тяжкой необходимостью драться голыми руками с хорошо вооруженными воинами. Харви показывал болевые точки и области, воздействуя на которые разным образом и с различной силой, можно ошеломить человека, вывести его из строя или убить. Уступая просьбам, Харви проделал и общеизвестные силовые фокусы: ломал деревянные брусья ребром ладони и локтями, забивал гвозди, коротким тычком пробивал пальцами насквозь довольно толстую фанеру.
— Послушайте, Харви. — Вид у Уотсона был несколько ошарашенный, а в голосе звучали тревожные, пожалуй, даже истеричные нотки. — Вы что же, действительно можете просто так, без ножа и пистолета, одним движением убить живого человека?
— А разве можно убить мертвого? — тихонько спросил Мейседон, но Уотсон не то не слышал его, не то не обратил внимания на его слова.
— Я не люблю говорить на эту тему, сэр, — после долгой паузы с явной неохотой проговорил наконец детектив.
— Простите, мистер Харви, но это полезно выяснить и по чисто деловым соображениям. — Реплика Кейсуэлла прозвучала безукоризненно вежливо, но можно было легко понять, что это не столько просьба, сколько приказание.
Харви вздохнул, пальцы его тяжелых рук, с кажущимся бессилием висевших вдоль тела, шевельнулись.
— Убить человека просто, очень просто, сэр. Если знаешь, как это делается, — ответил наконец детектив.
— Это, наверное, тяжкое знание, мистер Харви?
Детектив живо поднял голову.
— Вы верно подметили: это тяжкое знание. Но в нем есть и своя польза. И польза эта не в умении убивать.
Кейсуэлл приподнял брови, разглядывая Харви своим непонятным серьезно-улыбчивым взглядом.
— А в чем же?
— В ответственности, сэр.
— Любопытно! Ну, а если несколько подробнее?
— Начинаешь более жестко контролировать свои поступки, больше думать о других людях. Ну, и если даже не становишься добрее, то все равно меньше зла причиняешь себе подобным.
— Любопытно! Стало быть, груз этого страшного знания действует на человека так же, как и груз большой власти?
Харви усмехнулся.
— Не совсем.
— Какая же разница?
— Очень простая. Люди, обладающие большой властью, убивают не своими, а чужими руками. А это большая разница, сэр.
— Вы в этом уверены?
После заметной паузы, во время которой он присматривался к лицу и рукам советника президента, Харви ответил:
— Я мало сталкивался с людьми, облеченными по-настоящему большой властью, сэр. И не берусь судить о них. Я знаю свое место, сэр.
Кейсуэлл одобрительно кивнул, воспринимая слова детектива как нечто само собой разумеющееся, и, обращаясь уже ко всем, проговорил:
— Харви высказал очень верную мысль, но сформулировал ее недостаточно точно. Большая власть — это всегда большая ответственность. А большая ответственность волей-неволей облагораживает любого человека, даже злодея. Не правда ли, Генри?
Мейседон энергично кивнул в знак согласия, но нельзя сказать, что в глубине души он был полностью согласен с советником президента. Все, что сейчас говорил Кейсуэлл, полковник не один раз слышал от своего тестя — Милтона. Свои мысли Милтон любил подтверждать той политической метаморфозой, которая происходила с кандидатами в президенты. Как агрессивны были их предвыборные заявления, когда всеми правдами и неправдами они тянулись к штурвалу большой власти!
Но на первый план выступал трезвый расчет! Казалось бы, все правильно, но… имело ли отношение ко всему этому благородство, порожденное высокой ответственностью государственного штурвального? Как военный теоретик Мейседон хорошо знал, что точный трезвый расчет лишь безликий механизм, который мог использоваться в очень разных целях. Купаясь в сплетнях военного автономного государства в государстве, называемого Пентагоном, Мейседон хорошо знал, что политикой управляла вовсе не забота о человечестве, а сугубо эгоистическое желание подольше держать штурвал большой власти в своих руках. Можно ли такое желание совместить с высочайшей ответственностью и благородством? Люди не похожи друг на друга, и высокая ответственность действует на них очень по-разному.
— Мистер Харви, видимо, вы пользуетесь услугами сторонних специалистов не только при проведении операций захвата, но и в ходе самого сыска?
— Разумеется, сэр.
— Это криминалисты? Агенты-наблюдатели, не так ли? Харви сравнительно надолго задумался.
— Не только, сэр, — проговорил он наконец. — Все зависит от ситуации. Приходится прибегать к услугам врачей, графологов, искусствоведов. Очень, очень разных специалистов, сэр.
— Во всяком случае, потенциальный круг ваших сотрудников широк, вариативен и среди них есть и государственные служащие?
— Да, сэр. — Харви счел нужным улыбнуться. — Но ни я, ни они не склонны афишировать этого сотрудничества.
Кейсуэлл задумался, внимательно разглядывая Харви своим несколько загадочным, улыбчиво-серьезным взглядом.
— А не могли бы вы в рамках дела, которое я собираюсь вам предложить, некоторым образом очертить, ограничить круг ваших сотрудников-специалистов? И представить мне их список для некоторой дополнительной проверки?
Харви, ни секунды не размышляя, отрицательно покачал головой.
— Нет, сэр. Это совершенно исключено.
Кейсуэлл поднял брови и холодновато поинтересовался:
— Почему?
— Мой бизнес основан на доверии и соблюдении полной тайны взаимоотношений.
— В любом деле возможны исключения.
— Нет, сэр. Отказ Харви звучал мягко, но решительно и определенно. — В данном случае речь идет о самом принципе. Любая огласка способна нанести моему делу непоправимый ущерб или даже разрушить его. А любая проверка — это огласка.
Кейсуэлл кивнул в знак понимания, но не торопился с одобрением, размышляя о чем-то Харви счел нужным добавить.
— И потом, некоторые лица сотрудничают со мной, вовсе не подозревая об этом. Например, я могу, в принципе, использовать для дела посещение вашего прайвет и состоявшуюся беседу. Но ведь я не могу, Харви склонил голову с подчеркнутой почтительностью, — занести вас в списки своих сотрудников, сэр. Ни вас. ни кого-либо другого из присутствующих.
Мейседон ожидал, что хитроумный Кейсуэлл так или иначе попытается заставить Рэя Харви раскрыть, расшифровать свою систему сыска. И, честно говоря, не видел, как Харви может избежать этого, если только он хочет подписать контракт с Кейсуэллом. Но Мейседон ошибся К его великому удивлению, советник президента не стал настаивать.
— Хорошо, мистер Харви. — покладисто согласился он после паузы. — Работа вашей конторы основана на доверии, пусть этот принцип, святой принцип, ляжет в основу и наших отношений. Но! Ваша работа будет весьма специфичной. Не исключено, что операции слежки и захвата вам придется проводить одновременно в разных, далеко стоящих друг от друга точках округа Колумбия и всего Вашингтона. Ваше личное участие во всех операциях сразу исключено, а поэтому в вашу систему следует внести известные коррективы. Средства для этого вы получите. И с избытком!
Харви на лету схватил ситуацию.
— Понимаю сэр. Нужно создать несколько автономных групп слежки и захвата.
— Причем так, чтобы они не знали о существовании друг друга.
Харви не удержался от улыбки.
— Я довольно долго работал в армейской разведке, сэр Основы конспирации мне известны.
— Вот и прекрасно. И самое главное, — Кейсуэлл выдержал паузу, сопроводив ее дипломатической улыбкой, — я не посягаю на тайны вашей фирмы, вашей системы, как вы называете ее с Хилари Линклейтором. Пусть этот фундамент сохранится в первозданном состоянии. Но вторичная надстройка, образованная автономными группами слежки и захвата, должна быть мне известна поименно и досконально. Это непременное условие нашего сотрудничества, — жестко закончил советник.
После достаточно долгого размышления Харви с достоинством ответил:
— Я принимаю ваше предложение, сэр. Но… — Детектив замялся, подбирая нужные слова. — Мне хотелось бы получить хотя бы самые общие представления о цели моей деятельности. От этого обстоятельства зависит подбор людей.
— Понимаю. — Кейсуэлл задумался. — В самом общем виде вашу задачу можно сформулировать так: слежка, а может быть, и захват одного или нескольких агентов экстракласса, угрожающих безопасности Соединенных Штатов. На данном этапе нашего сотрудничества ничего более определенного сказать вам я не имею права.
— Понимаю, сэр, понимаю, — с некоторой запинкой произнес Харви, выстраивая некие собственные предположения. — Но, простите, не имеет ли все это какого-либо отношения к безопасности президента?
— Имеет, Рэй, — после секундного колебания ответил Кейсуэлл. — Может быть, не такое уж прямое, но имеет.
ЭНДИ КЛАЙНСТОН
Обнаружив себя лежащей на диване в гостиной в рабочей одежде, блузке, юбке и колготах, Керол не сразу поняла, как она тут оказалась в таком виде и что, собственно, случилось. Переведя взгляд налево, в глубину комнаты, она обнаружила рядом с диваном в кресле сидящего мужчину: сидел он в расслабленной позе, склонив голову несколько набок, глаза его были закрыты, дышал он ровно и спокойно. И опять Керол ничего не поняла — мужчина, почему? Он был не молод, но и не стар, что-нибудь лет тридцати пяти, лицо его показалось Керол знакомым, но, хоть убей, она не могла вспомнить, где видела его раньше. Она шевельнула головой, приглядываясь к этому знакомому незнакомцу, и в ту же секунду он открыл глаза — синие-синие глаза. Они сощурились в легкой улыбке, размякшее во сне лицо подобралось, черты его отвердели, определились… И Керол испуганно вскрикнула, сразу узнав этого человека и вспомнив все, что предшествовало его невероятному появлению в ее квартире.
— Спокойно, миссис Керол, — мягко, вполголоса проговорил Немо Нигил. — Я отнюдь не призрак и не плод вашего больного воображения.
Но Керол не могла вести себя спокойно. Глядя расширенными от ужаса глазами на своего страшного визитера, она медленно сжималась в комочек, стараясь занять как можно меньше места.
— Миссис Керол, — увещевающе проговорил Нигил, — будьте же мужественной и благоразумной!
Нигил хорошо, немного насмешливо улыбался, его синие глаза излучали доброту и спокойствие, на щеках играл легкий румянец. Он ничуть не походил ни на злодея, ни на выходца с того света, и Керол начала понемногу успокаиваться. Она провела ладонью по горлу, точно снимая удушье, и спросила:
— Зачем вы здесь? Что вам нужно? — Голос ее прозвучал едва слышно. Опасаясь, что Нигил ее не понял, Керол откашлялась и уже громче, с прорвавшейся ноткой истеричности, повторила: — Что вам нужно от меня?
— Ничего особенного. — Мужчина по-прежнему улыбался, голос его звучал мягко и доброжелательно. — Я все объясню. Но сначала успокойтесь. Может быть, глоток вина?
Керол хотелось вина, и не глоток, а по меньшей мере полстакана, но она покачала головой. Пить вино в присутствии выходца с того света? Нет, это было ей не по силам!
— Послушайте, — сказала она, в голосе ее прозвучали неуместные не то умоляющие, не то убеждающие ноты. — Вы же умерли!
Нигил с улыбкой покачал головой.
— Должен вас огорчить. Я жив!
— Но я сама видела, как вы умерли! — Керол оперлась на локоть и села на диван, подогнув колени и не забыв одернуть юбку. — И полицейский констатировал смерть. И врач потом подтвердил!
Нигил с показным смущением и скорбью развел руками.
— Мне жаль огорчать вас, миссис Керол. Но, как вы сами можете убедиться, все они ошиблись. Я жив, и жив самым безнадежным образом.
Барменша смутилась, и это помогло ей окончательно овладеть собой.
— Вы меня не поняли, — пробормотала она.
— Понимаю, — перебил ее Нигил — Вы растеряны, смущены и так далее. Может быть, все-таки выпьете глоток вина?
— Выпью! — решительно сказала Керол.
Бутылка «Порто», сыр, ветчина и два бокала стояли рядом — возле дивана, на журнальном столике. Керол не за метила его раньше по той простой причине, что сначала вообще ничего не видела вокруг, кроме незнакомца.
— Лейте больше, больше! Вот так, — сказала Керол, когда бокал оказался наполненным на две трети.
Нигил налил и себе, совсем немного, и пояснил:
— Я уже выпил, без вашего разрешения. Прошу прощения, но это было необходимо.
Он подал ей бокал, взял в руки свой и поднял его на уровень глаз.
— За удачу!
Керол, поднесшая было бокал ко рту, приостановилась
— За какую удачу?
— За нашу, разумеется. Пейте, я все объясню. Ну-ну не бойтесь! Это именно портвейн, а не адский напиток.
Барменша засмеялась, этот оживший покойник сумел угадать ее мысли, и одним духом — будь что будет — осушила бокал. Нигил опорожнил свой бокал и занялся сыром, откусывая его небольшими кусочками и тщательно пережевывая. Казалось, он целиком погрузился в это не хитрое занятие, но время от времени он с легкой, едва приметной улыбкой поднимал глаза на Керол. Она и не думала закусывать, просто ждала, не без удовольствия ощущая, как крепкое добротное вино ласкающим теплом разливается по всему телу. Когда щеки Керол зарумянились, Нигил отодвинул тарелку, аккуратно вытер губы носовым платком и, точно размышляя вслух, негромко произнес:
— А теперь поговорим серьезно.
Сердечко Керол, порядком замученное перипетиями этого необыкновенного дня, интуитивно сжалось в пред чувствии беды. Пусть этот синеглазый человек не вурдалак, не выходец с того света, но что же все-таки нужно ему от нее в такой поздний час? Как он проник в тщательно запертую квартиру? Зачем он пошел на этот шаг? Да и не зря же полиция собиралась его арестовать. И вдруг ее озарило — деньги! Конечно же этот Немо Нигил при шел за деньгами, которые бросил ей на прилавок.
Казалось бы, догадка эта должна была огорчить Керол — прощай, запланированные покупки! — но, как это ни странно, она обрадовалась: мир, вдруг повернувшийся к ней своей фантастической стороной, снова принял свое обычное положение.
— Ваши деньги я сохранила, — торопливо сказала Керол и вот только теперь вздохнула с импульсивно прорвавшимся огорчением. — Принести?
Нигил взглянул на нее не то с недоумением, не то с одобрением.
— В деньгах я не нуждаюсь, — рассеянно ответил он. Видимо, преодолев некие внутренние колебания, решительно спросил:
— Миссис Керол, ваш муж… — Он запнулся и поправился: — Ваш покойный муж не говорил вам о своем друге, некоем Эндимионе Клайнстоне? Или — просто Энди?
Барменша думала не более секунды.
— Говорил. Особенно часто он говорил о нем… — Она оборвала себя, поджала губы и уже с непонятно откуда вырвавшейся враждебностью — а все, связанное со смертью мужа, порождало у нее настороженность и враждебность, — подтвердила: — Говорил. Ну и что?
— Дело в том, миссис Керол, что Энди — это я, — вежливо представился Нигил.
— Вы?!
— Я.
Несколько полновесных секунд барменша в упор, бесцеремонно разглядывала новоявленного друга своего покойного мужа, а потом рассмеялась ему в лицо в том вульгарном стиле, в каком она смеялась за своей стойкой, желая досадить клиенту, чьи настойчивые ухаживания были ей противны.
— Не вешайте лапшу!
— Простите?
— Не врите! Друг! Знаю я этих друзей!
Керол не на шутку разбушевалась, но Нигил, или Клайнстон, сохранил полную невозмутимость, даже голоса не повысил.
— Простите, но почему вы решили, что я лгу?
— Врете вы, а не лжете! У Энди были не синие глаза, а светлые! Совсем светлые, как утренний туман, так говорил мне Берт. — Керол понемногу успокаивалась, правда, за этим спокойствием могли последовать и слезы. — Я хорошо помню. Берт говорил, что когда у человека темные глаза, то сразу можно догадаться — радуется он, печалится или злится. А вот у Энди, говорил он, глаза такие светлые, что никак не поймешь, о чем он думает и что чувствует.
— Вот в чем дело! — протянул Нигил и, попросив прощения, отвернулся.
Недоумевающая барменша видела, как ее незваный гость приложил пальцы левой руки сначала к левому глазу, затем к правому, производя при этом некие непонятные ей манипуляции. Эти операции заняли у него не более двух-трех секунд каждая, после чего он повернулся лицом к Керол и с мягкой улыбкой поинтересовался:
— Надеюсь, теперь я больше похож на Энди Клайнстона?
Керол ахнула, в ее возгласе прозвучал не испуг, а изумление, может быть, даже некое ребячье восхищение. Нигил смотрел на нее не теми синими, которые были ей хорошо известны, а серыми глазами, такими светлыми, что радужка их почти сливалась с белками глаз. И правда — глаза, как утренний туман! Предупреждая ее вопросы, Энди протянул ладонь, на которой лежало нечто прозрачное, слабо играющее отраженными бликами света.
— Цветные контактные линзы, — пояснил он со своей обычной вежливостью, — точнее, не линзы, а простые светофильтры для изменения цвета глаз.
— Вы опять взялись за свои фокусы. — Керол восхищенно качнула головой. — Здорово! Удивляюсь, почему женщины не носят такие? Цвет глаз на выбор! Модницы с ума сойдут!
Встряхнув линзы на ладони, Энди аккуратно положил их на журнальный столик и поднял свои светлые глаза на барменшу.
— Теперь вы верите, что я именно Энди Клайнстон, миссис Керол?
Оживление на лице барменши растаяло, уступив место настороженности, а потом и недоверию.
— А документы у вас есть? — с некоторым вызовом спросила она.
— Есть, миссис Керол.
— Покажите.
— Они лежат у вас в сейфе, миссис Керол, — заметив протестующее движение барменши, Клайнстон с некоторым нажимом уточнил: — В том самом сейфе, который руками Берта установлен в вашей спальне.
Сделав легкую паузу, чтобы Керол могла осмыслить услышанное, но не успела бы вмешаться, Клайнстон продолжал:
— Видите ли, прежде чем посетить бар, в котором вы работаете, я побывал здесь. Искренне прошу прощения за такую бесцеремонность, но обстоятельства заставили меня пренебречь приличиями.
— Да уж, — не удержалась барменша, — когда вламываются в квартиру, трудно говорить о приличиях.
— Еще раз прошу прощения. — Клайнстон был само терпение, как и тогда, во время беседы в баре с Бобом.
Вспомнив о случае с Бобом, Керол испугалась и наказала себе вести себя с этим удивительным человеком — не то Немо Нигилом, не то Энди Клайнстоном — осмотрительнее и осторожнее. Между тем Клайнстон продолжал
— Так или иначе я побывал здесь и оставил в сейфе свой атташе-кейс. Если вы разрешите мне взять его, я покажу вам свои документы… И кое-что иное.
Эту оговорку Керол пропустила мимо ушей, она размышляла. Керол полагала, что после смерти Герберта, который и правда собственными руками вделал в стену спальни плоский специальный сейф, никто, кроме нее самой, не знал о существовании этого тайника. Допустим, о существовании сейфа Энди Клайнстон узнал от Берта, но как он проник в него?
— А ключ? — вслух спросила она живо, точно уличая собеседника во лжи. — Где вы взяли ключ?
Клайнстон чуть улыбнулся.
— Я не нуждаюсь в ключах. Умение открывать замки без ключа входит в состав профессии хорошего клишника.
— Вы взломщик, специалист по сейфам? Как это, медвежатник?
— Нет, миссис Керол. Я не медвежатник. Я клишник.
— Как это — клишник?
— Это одна из цирковых профессий. Клишники освобождаются от веревок, которыми их связывают, оков, цепей, выбираются из ящиков, забитых гвоздями. Ну, а по совместительству умеют открывать замки без ключей.
— В общем, вы — фокусник, — не без облегчения подытожила барменша.
— Отчасти. Во всяком случае, если вы потеряли ключ от своего сейфа, то мы сможем обойтись и без него.
— Нет, я не потеряла ключ от сейфа, — с достоинством сказала Керол и направилась в спальню. Отсутствовала она довольно долго, за это время Клайнстон освободил журнальный столик.
— Ваш? — спросила барменша, появляясь в гостиной.
— Мой, миссис Керол.
— Тяжелый! Что в нем?
— Золото, — рассеянно ответил Клайнстон, вежливо помогая Керол водрузить в самом деле нелегкий атташе-кейс на журнальный столик. Приняв его ответ за шутку, барменша рассмеялась, но смех застыл на ее губах, когда, щелкнув замками, Клайнстон откинул крышку чемоданчика. В кожаных кармашках атташе-кейса, выставляясь из них наполовину, тускло блестели неповторимым и благородным, истинно золотым цветом аккуратные слитки. Глядя на золото широко открытыми глазами, Керол, беззвучно шевеля губами, машинально пересчитала слитки; пять — в нижнем ряду, пять — в среднем ряду и три — в верхнем. Всего — тринадцать! Глаза Керол бегали по лениво, солидно сияющим слиткам, как пальцы пианиста по клавишам при исполнении пассажей. Даже голова закружилась! И тонко зазвенело в ушах.
Клайнстон поднял голову, присмотрелся к барменше, и грустноватая улыбка тронула его губы.
— Нравятся? — спросил он вполголоса.
Его светлые глаза, в которых играли золотые искорки, казались теперь рыжими. «Как у кота», — подумалось Керол, и эта нелепая мысль помогла ей овладеть собой. Она присела на диван и самыми кончиками пальцев пугливо прикоснулась к одному брусочку, точно опасаясь ожога. Но металл был холодным. Холодным и гладким, точно кожа после утреннего купания в море.
— Савонетт, — все так же вполголоса проговорил Клайнстон и провел пальцем по среднему золотому ряду, — что по-французски значит — мыльце. В каждом таком мыльце — килограмм, чуть меньше двух фунтов с четвертью.
Быстрым, почти неуловимым движением сильных пальцев Клайнстон извлек из верхнего кармашка слиток и опустил на услужливо подставленную ладонь барменши. Ладонь потянуло вниз.
— Какой тяжелый! — уважительно прошептала Керол.
— Это золото, миссис Керол. — Клайнстон извлек еще одно золотое мыльце и положил его поверх первого. — Оно в двадцать раз тяжелее воды.
Ладонь ее совершала легкие движения вверх и вниз, впитывая в себя эту упоительную тяжесть потенциального богатства. Клайнстон чуть насмешливо, но более грустно наблюдал за ней. Вдруг ладонь барменши замерла, наклонилась, и слиток золотой рыбкой, только что не вильнув хвостиком, выскользнул на столик.
— Но это золото — краденое!
— Не совсем так, миссис Керол. Я выиграл его на пари.
— Нет! Вы украли, я знаю. Мне сказал этот тип, который меня допрашивал. Вы украли это золото в банке. Поэтому-то за вами и явилась полиция.
— Я не украл его, а похитил, миссис Керол, — спокойно возразил Клайнстон, укладывая слиток в свободный кармашек. — Похитил на пари, чтобы доказать, что нет на свете таких дверей, через которые было бы невозможно пройти.
Керол хмурила брови в непривычном для себя напряжении мысли. Не то чтобы она не привыкла или не умела думать, скорее наоборот. Если не умеешь ориентироваться в хаосе разных, удивительно не похожих друг на друга людей и событий, так лучше вовсе не становиться за стойку бара. Один знакомый бартендер, посмеиваясь, говорил Керол, что стойка — та же кабина реактивного самолета, только за ошибки приходится расплачиваться не жизнью, а монетами. Но мысли Керол всегда вращались в простом мире обыденных событии и привычных представлений. В этом мире Керол чувствовала себя уверенно и готова была обсуждать и спорить о чем угодно и с кем угодно. Но теперь ей предстояло заговорить о чуждых ей, непонятных, а поэтому страшноватых вещах, о которых, она знала об этом от мужа, даже самые умные люди не имели четкого представления. Керол чувствовала себя выбитой из колеи и словно поглупевшей. И потом… тут не было привычной стойки! Той самой стойки, которая отделяла ее в баре от собеседников, как-то нивелировала их — и умных и глупых, превращая в безликих, в общем-то зависимых от нее, барменши, клиентов. С любопытством и тайным страхом разглядывая склоненную голову Клайнстона, уверенные движения его сильных ловких пальцев, Керол нерешительно спросила:
— Скажите, Энди… ничего, что я вас так называю?
Клайнстон захлопнул чемоданчик, поднял голову и ободряюще улыбнулся.
— Я рад этому, миссис Керол.
Улыбнулась и барменша.
— Почему же тогда миссис? Зовите меня просто Керол. — Она помолчала, все еще не решаясь задать вопрос, который вертелся у нее на языке.
— Я слушаю, Керол.
— Скажите, Энди, — она понизила голос почти до шепота, — а вы — человек?
Клайнстон засмеялся, довольный чем-то для нее непонятным.
— Человек, Керол. И, как говорил Теренций, ничто человеческое мне не чуждо.
— Кто такой Теренций?
— Драматург. Жил в Риме и писал веселые комедии.
— Вы бывали в Италии?
Клайнстон вздохнул.
— Где я только не бывал! Но, к слову сказать, Теренций давно умер. Он жил во втором веке до Рождества Христова.
— О! — Керол помолчала, в глазах ее появилось то самое лукавое выражение, которое свойственно женщинам, считающим, что они знают много больше, чем это кажется их собеседникам. — А вот Берт говорил… может быть, вы — и не человек вовсе!
Разглядывая барменшу, Клайнстон спокойно уточнил:
— Кто же?
— Инопланетянин!
Керол ждала ответа, затаив дыхание. Но Клайнстон лишь усмехнулся, явно не намереваясь серьезно говорить на эту тему.
— На мой счет ходит много разных слухов.
Керол. Барменша кивнула.
— Берт и говорил о слухах. Но он говорил и про то, что если бы не эти слухи, то вас давно бы заставили работать на гангстеров. Или убили!
— Так уж и убили!
— Убили же Берта? Убили! И не рассказывайте мне, что он попал в автокатастрофу случайно! — И вдруг без всякой логики Керол раздраженно добавила: — А вы вот сидите живой и здоровый!
— Я сочувствую вашему горю, Керол, — после паузы мягко сказал Клайнстон. — Но из того, что Герберт погиб, а я остался жив, еще не значит, что я инопланетянин, не правда ли?
Барменша вздохнула, успокаиваясь, поправила волосы и с вновь просыпающимся любопытством спросила:
— А Фольмагаут?
Клайнстон не сразу понял, что она имеет в виду, а когда понял, деликатно поправил:
— Фомальгаут.
— Верно, Фомальгаут! Я сначала не обратила внимания на ваши слова. Но когда инспектор меня допрашивал, вдруг вспомнила — и про Фомальгаут, и о созвездии Южной Рыбы. — И Керол пересказала всю сцену, свидетельницей и участницей которой она была.
— Ну и что же? — безмятежно спросил Клайнстон.
— Как это что? Это же звезда! А вы говорили, что обучались своим фокусам на Фомальгауте! Как же так?
— Чего только не говорят люди, когда попадают в трудное положение. — В тоне Клайнстона прозвучали нотки извинения.
— Но и в визитной карточке значился Фомальгаут. Я видела своими глазами!
— Ожидая беды, человек еще и не такое напишет. И напечатает, будьте уверены!
— Не пойму я вас, — вздохнула барменша. — Все-то вы юлите и выкручиваетесь! Почему вы не хотите сказать мне правду?
— А зачем вам правда, Керол?
Барменша взглянула на него растерянно.
— Как это зачем? Правда — она и есть правда!
— Правда опасна, Керол. Опаснее черной вдовы и гремучей змеи. Этих тварей нужно растревожить и обидеть. А правда порой жалит просто так и без всякого предупреждения. И жалит смертельно! — Клайнстон глубоко вздохнул, дернул головой, точно прогоняя некую навязчивую, неприятную мысль, и продолжал уже вполне доброжелательно: — Мой совет, Керол, когда вас будет допрашивать полиция… Да-да, рано или поздно полиция установит мое официальное лицо, раскопает мои связи с Гербертом и будет вас допрашивать. Допрашивать с пристрастием! Так мой совет — утверждайте, что не знали меня в лицо, ведь это правда. А заочно, по рассказам Герберта, принимали меня за инопланетянина, гостя с Фомальгаута. В Штатах нет такого закона, который осуждал бы граждан за связи с инопланетянами. Стойте на своем, и от вас быстренько отстанут. Только не вздумайте признаться, что я побывал у вас в гостях!
— Вы напрасно принимаете меня за дурочку, Энди, — обиженно сказала Керол. — Ну, а если моя квартира под наблюдением? Если вас засекли?
Клайнстон кивнул.
— Вы угадали. И под наблюдением, и засекли. Но я принял свои меры. Гамшу, что околачивается возле вашего подъезда, будет под присягой утверждать, что к вам не входила и не выходила ни одна живая или мертвая душа.
Барменша передернула плечами.
— Как вы легко об этом говорите!
Клайнстон развел руками.
— Привычка! Мертвые души, знаете ли, гораздо безобиднее живых людей. — И, сразу же становясь серьезным, скорее приказал, чем попросил: — Мне нужна ваша помощь, Керол.
Прочитав в глазах барменши мгновенно вспыхнувший испуг, он с улыбкой добавил:
— Не бойтесь! Мне не нужна ваша душа. И я не потребую у вас расписки кровью с каким-нибудь жутким обещанием. Мне нужен «понтиак», который, как мне известно, без дела стоит в вашем гараже после гибели Герберта.
Клайнстону нужен был именно этот «понтиак», а не какая-либо другая машина, которую он мог бы раздобыть без особого труда. Дело в том, что «понтиак» Герберта располагал превосходным тайником, который он сам помогал встраивать. Обнаружить этот тайник мог бы разве лишь очень опытный специалист, да и то при целевом поиске, а не в ходе рядового осмотра. Везти золото в тайнике было много безопаснее, чем просто так, в атташе-кейсе, который уже помозолил глаза полиции. Клайнстон знал, где находится гараж, и мог бы взять «понтиак» без разрешения Керол, но, обнаружив пропажу, она могла, чего доброго, заявить в полицию, а розыск поставил бы Клайнстона под прямой удар, которого он теперь всячески старался избежать.
Керол вздохнула.
— Да, после того как Берта не стало, я принципиально не пользуюсь карами. Но иногда я разрешаю пользоваться «понтиаком» своим друзьям.
Клайнстон все понял, молча полез во внутренний карман пиджака, достал оттуда и положил на столик пачку стодолларовых банкнот.
— Здесь полторы тысячи. Я бы предложил вам больше, но кроме этого наличных у меня нет. А моими чеками пользоваться сейчас неблагоразумно.
Конечно, полторы тысячи за подержанную, даже старую машину — это хорошая, даже избыточная цена, но Керол все-таки не могла удержаться от выразительного взгляда, брошенного ею на атташе-кейс.
Клайнстон легко прочитал ее мысль.
— Я бы с удовольствием подарил вам на память «мыльце», — мягко заметил он, — но это банковское золото, маркированное не только обычным, но и радиоизотопным способом. Вечное, неубираемое клеймо! Если слиток обнаружат, а полиция может устроить обыск в вашей квартире, вы попадете в тюрьму, Керол.
— Я и не думала о золоте! — вспыхнула Керол, с трудом подавляя вдруг закипевшее раздражение.
Конечно же она подумала о золоте. Клайнстон угадал, Керол устыдилась, но вместе с тем и рассердилась на Клайнстона — кто его просил высказываться вслух! Но дело было не только в золоте, Клайнстон подавлял ее своим превосходством. Конечно, он никак не декларировал этого и старался вести себя возможно деликатнее, но Керол ощущала его всем своим существом, а тут не было даже стойки! Той самой стойки, которая придавала ей дополнительную уверенность в себе. И потом, Клайнстон даже самую чуточку не попытался поухаживать за ней! А за последние годы Керол привыкла к ухаживаниям и к комплиментам. И, наконец, Клайнстон так и не удовлетворил мучившего ее любопытства, как угорь увернулся от всех вопросов. А ведь был другом Берта! Керол и не пыталась сколько-нибудь детально анализировать свои чувства, ей вполне достаточно было темной волны раздражения, чтобы ощутить сладкое желание сделать этому Клайнстону какую-нибудь, пусть самую маленькую, пакость, чтобы хотя бы мысленно поставить его на место!
— А я могу быть уверена, что это не краденые деньги? — невинно осведомилась Керол, брезгливо прикасаясь к ассигнациям кончиками пальцев.
— Безусловно, — сдерживая улыбку, подтвердил Клайнстон.
— Ну что ж, я их пересчитаю. Не возражаете?
— Это ваше право, Керол.
Понимая, что делает глупость, стыдясь себя самой, но в то же время испытывая острое удовольствие, Керол, с порозовевшими щеками, принялась перекладывать купюры, делая вид, что считает их. Искоса взглянув на Клайнстона, она поймала его вовсе не насмешливый, а грустный и сочувственный взгляд. И вдруг вспомнила о тех долларах, которые Клайнстон оставил ей в качестве подарка. Отшвырнув деньги, Керол закрыла лицо руками.
— Простите меня! Я и сама не знаю, что делаю.
— Нервы, Керол. Забудем об этом, — мягко сказал Клайнстон, но не встал и не сделал даже попытки, чтобы утешить ее более определенно.
— «Понтиак» не стоит и тысячи. Просто память!
— Я постараюсь вернуть его, Керол.
— Тогда берите бесплатно!
— Деньги вам пригодятся. — Привычная ироничная улыбка легла на лицо Клайнстона. — А мне они теперь ни к чему. Вот машина мне нужна, очень нужна!
— Вы знаете, где гараж?
— Знаю.
— А ключ висит там, возле входной двери. Клайнстон поднялся на ноги, легко взял тяжелый атташе-кейс левой рукой.
— Ключ останется на месте, мне он не нужен. Если вмешается полиция, твердите, что «понтиак» угнали, и стойте на своем.
— Понимаю.
Керол проводила его до двери и, вручая ключ от машины, вдруг спросила:
— А хорошо у вас на Фомальгауте?
Клайнстон засмеялся.
— Отлично! Как в Диснейленде в воскресный день. Даже лучше!
ТРЕВОГА, ХАРВИ
Когда солнце поднялось над лесом, начала клевать настоящая форель, а не мелочь, которую Харви с досадой, однако же бережно снимал с крючка и швырял обратно в реку. Уже трижды после особенно удачных забросов, когда хитроумная мормышка ложилась на быстрину, в самую струю, играющую солнечными бликами, тонкое деликатное удилище вздрагивало и сгибалось дугой. И Харви, вздрагивая вместе с удилищем, чувствовал, осязал — попалась настоящая рыба! Две форели фунта по два, а одна по меньшей мере три! Несомненная удача.
Делая очередной заброс, Харви досадливо поморщился. Какой-то дурак, нарушая первозданную тишину и разрушая чарующее таинство рыбалки, орал во всю глотку. Голос был резкий, квакающий, противный, скорее всего, обладатель его был в стельку пьян или взбодрил себя спозаранку хитом — хорошей дозой наркотика. Разве нормальный человек будет так вопить на платном рыболовном участке реки? И разве хорошая форель польстится на мормышку под такой аккомпанемент? Сердито выбирая леску из воды, Харви вдруг насторожился: ему почудилось, что этот пьяница или наркоман выкрикивает его собственное имя. Несколькими секундами позже Харви понял, что так оно и есть и что это не просто вопли ненормального человека, а объявление, которое кто-то делал, пользуясь мегафоном.
— Рэй Харви! — кощунственно грохотал и квакал мегафон, слова падали в струящееся золото реки, как тяжелые камни. — Рэй Харви! Подойдите сюда по срочному делу! Повторяю. Рэй Харви!
Не так-то просто было определить место, откуда доносился этот громоподобный голос, казалось, он рушился на струящуюся реку и просыпающуюся землю прямо с безоблачного неба. Но, обежав глазами оба берега, Харви заметил в сотне шагов от себя ниже по течению рослого «МР», его белую каску золотили лучи утреннего солнца.
— Рэй Харви! — квакал мегафон. — Вас просят подойти по срочному делу!
— Понял! Иду! — крикнул Харви, торопливо сматывая удочку.
«МР» обернулся в его сторону. Харви помахал ему рукой. Полицейский сделал ответный жест и опустил мегафон, висевший у него на ремешке через плечо подобно фотоаппарату.
Наступила тишина, которая теперь показалась Рэю особенно глубокой, а поэтому и тревожной.
Направляясь к полицейскому, Харви испытывал и досаду и тревогу. Чувство досады было естественным — какой рыбак не рассердится, если его священное занятие прерывают в самый разгар клева! А тревога объяснялась куда более прозаическими и весомыми причинами. Несколько дней тому назад ему позвонил Хилари Линклейтор по прозвищу Хобо и попросил навестить его.
— Серьезное дело, Рэй, не для телефона. Я бы сам приехал к тебе, да не могу. — Хрипловатый голос Хобо звучал устало. — Нездоровится.
— Сердце?
— Оно самое.
— А лечитесь опять «Блади-мэри»?
— Ты вещаешь, как оракул, Рэй. Почему бы параллельно с сыском тебе не заняться предсказанием судеб?
Не отвечая на эту реплику, Харви спросил:
— Когда удобнее к вам подъехать?
— Когда хочешь. Я целый день на диване.
— О’кей.
Харви и Линклейтора связывали сложные взаимоотношения. Собственно, нынешний Линклейтор по прозвищу Хобо был осведомителем Харви. Вообще, у Рэя Харви было множество самых различных осведомителей. Свою идею открытия частной сыскной конторы, которая размещалась бы в округе Колумбия и обслуживала главным образом и по преимуществу пентагоновских офицеров, Харви вынашивал много лет. Не отличаясь гениальностью и не имея достаточно глубокого образования, Харви тем не менее был далеко не дураком, а кроме того, обладал огромным опытом сыскной работы, который он приобрел в полиции, а отчасти и во время последующей службы в десантных войсках. Он хорошо понимал: чтобы стать не просто сыщиком, а заметным процветающим детективом, нужен какой-то конек, какая-то палочка-выручалочка в работе. Ориентация на пентагоновскую среду была одним из результатов этих размышлений. Но одной специфики ориентации для успеха было мало. Харви не поленился прочитать кучу детективной литературы, благо это было далеко не самым скучным занятием на свете. Литература подтвердила, что светлая голова и обостренная наблюдательность — Харви считал, что минимум этих качеств у него имеется, — не являются достаточными критериями успеха. Нужно что-то еще! Например, у Шерлока Холмса эти качества дополнялись обширнейшими энциклопедическими познаниями, которые сделали бы честь крупному ученому; комиссар Мегрэ ничего не стоил бы без глубокой любви ко всем людям и великолепного знания моря житейского. Увы, в арсенале Харви не было ни того, ни другого, по крайней мере, в тех количествах, которые необходимы для успеха и процветания. Палочкой-выручалочкой Харви стала развитая система осведомителей. Содержать ее было трудно и накладно, из-за подобного рода расходов Харви всегда испытывал определенный дефицит в наличных средствах. Работать с осведомителями было увлекательно, но смертельно опасно, это была не просто работа, а искусство, сродни искусству эквилибриста, жонглирующего зажженными факелами под самым куполом цирка на туго натянутой проволоке. Но зато система осведомителей стала могучим орудием, которое иной раз приводило к успеху в таких ситуациях, перед которыми определенно спасовали бы и Патер Браун, и Шерлок Холмс, и комиссар Мегрэ, не говоря уже о фатоватом Эркюле Пуаро. Харви гордился своей системой, любил, холил и охранял ее с той заботливостью, с которой относятся к чистокровному скакуну-рекордисту.
Осведомители Харви были платными и бесплатными, сознательными, отлично знавшими, что они делают, и бессознательными, у которых Харви черпал нужные сведения в дружеских беседах и профессиональных разговорах, вовсе не пытаясь выставить собеседников в роли своих агентов, а наоборот, самым тщательным образом маскируя это щекотливое обстоятельство. Среди платных осведомителей были такие, которые получали твердую недельную зарплату, и работавшие сдельно — их гонорар зависел от ценности и оперативности поставляемой информации. Далеко не все осведомители получали плату долларами. Некоторые поставляли сведения в благодарность за то что в свое время Харви оказал им услугу, и в надежде на то что его услуги еще понадобятся в будущем. Другие не отказывали Рэю Харви в его просьбах, потому что рыльце у них было в пушку, а проклятый частный детектив, — это им было доподлинно известно, — слишком много знал и ссориться с ним было неразумно; такие люди, например, были в отряде военной полиции Пентагона. Конечно, недруги Харви, к которым относились все лица, поставлявшие ему информацию нехотя, под давлением, а равно и все его контрклиенты, которым он когда-то насолил, работая в пользу других, не задумываясь и с удовольствием растоптали бы, уничтожили его физически, юридически или морально, в зависимости от своих возможностей. Но на страже Харви стояли другие люди и организации, которым он был позарез нужен! Ведь помимо всего прочего, пользуясь услугами этой сети осведомителей, Харви и сам, хотел он этого или не хотел, становился весьма ценным осведомителем заинтересованных лиц. И эти лица бдительно охраняли и самого Харви и благополучие его сыскной конторы.
В системе осведомителей Харви Хобо занимал совершенно особое положение. Оно определялось тем простым обстоятельством, что именно у Хилари Линклейтора Харви в свое время купил сыскную контору вместе с системой осведомителей, которая в те времена была заметно меньше нынешней, но производила внушительное впечатление качеством своих кадров. Линклейтор ушел от сыскного дела не потому, что оскудел его интеллект или иссякло искусство, тончайшее искусство проникновения в чужие дела и мысли. Он попросту спился. «Я наглотался слишком много помоев, — сказал он Харви, — и потерял уважение к людям. А талантливому детективу, — я талантлив, мустанг, вы должны учесть это — презирающему простых людей, нельзя заниматься сыском — слишком много бед он может натворить. Его дело — жрать, пить и тискать похотливых баб. Мое дело пришло в непримиримое противоречие с образом моих мыслей и поступками, поэтому я и продаю его». Нельзя сказать, чтобы Линклейтор лгал он говорил правду, но не всю правду: Хилари продавал свою контору не только по моральным соображениям, но и по финансовым — у него не было денег для того, чтобы достойно и без ущерба для нее содержать свою систему осведомителей.
Продав контору, Линклейтор не потерял к ней интереса. Будучи человеком более чем незаурядным — интеллектуальное превосходство Линклейтора над окружающими было несомненным и обычно воспринималось как нечто должное, — он опекал Харви, тактично направлял его действия и охотно, часто по собственной инициативе поставлял ему самую разнообразную информацию. Его можно было бы назвать самым бескорыстным осведомителем Харви, если бы он время от времени не просил взаймы то больше, то меньше и был бы более аккуратен и памятлив в отношении своих долгов. Харви ценил помощь Хобо. Морально опустившись, Линклейтор никогда не падал на самое дно, сохраняя определенный минимум порядочности и воспитанности. Пьянство выжгло множество интересов Хилари, но не смогло окончательно погасить пламя его интеллекта и притупить природных сыскных способностей.
Харви доверял Хобо больше, чем кому бы то ни было, но не абсолютно — на такое доверие Рэй вообще не был способен. Отчасти по этой причине, отчасти из чистого любопытства Харви собрал о Линклейторе некоторые сведения. Оказалось, что Хилари родом из Вирджинии, из когда-то богатой, с аристократическими замашками, но уже разорившейся семьи, связи и безденежье привели его в Вест-Пойнт. Он блестяще закончил его, быстро пошел в гору, но вскоре вылетел из армии: уже тогда слишком много пил и слишком близко принял к сердцу сердитые слова Айка о военно-промышленном комплексе — вел в этом плане совершенно нетерпимые с точки зрения кадровых военных разговоры. Надев шляпу, Линклейтор на некоторое время бросил пить и, пользуясь своими связями и помощью друзей, открыл частную сыскную контору, которую потом и посчастливилось перекупить Харви. Рэя интересовало, на какие средства живет Хилари. Ясного ответа на этот вопрос Харви не получил, однако некоторые сведения позволяли догадываться, что Хобо некоторым образом сотрудничает с влиятельными гангстерскими группами. Эта операция по удовлетворению любознательности кончилась тем, что однажды перед ленчем Линклейтор позвонил Харви и сердито спросил:
— Зачем тебе это нужно?
Харви сразу понял, о чем идет речь, но на всякий случай посчитал нужным уточнить:
— Ты о чем?
— Знаешь о чем, — отрезал Хилари. — Коего черта ты копаешь вокруг меня?
Темнить с Хобо у Рэя не было ни смысла, ни желания, поэтому он чистосердечно признался:
— В личных интересах, на всякий случай. Да и любопытство заиграло.
— Это дурацкое любопытство может дорого тебе обойтись! — Линклейтор помолчал и уже спокойнее посоветовал: — Прекрати это немедленно. Ты неплохой парень, и мне вовсе не понравится, если любознательность преждевременно сведет тебя в могилу.
— Я все понял.
— Вот и хорошо. И впредь будь благоразумен. Не забывай, что ты частный детектив, а не Зевс.
— А это кто такой?
Хилари засмеялся и пояснил:
— Это древнегреческий бог-громовержец. Он любил делать глупости, а ему все сходило с рук. Но что позволено Зевсу, не дозволено быку!
Харви вздохнул и признался:
— Я не понял и про быка.
— А ты покопайся в литературе. Тебе это полезно.
Харви послушался и дал своей секретарше Джейн задание представить ему письменную справку о некоей истории с Зевсом и быком, которая произошла в Древней Греции.
Джейн грустно взглянула на него и спросила:
— Может быть, вы обойдетесь устной справкой?
Харви подумал и разрешил:
— Валяйте.
— А может быть, не стоит? Это скабрезная история, а вы ведь не любите скабрезностей.
— Не люблю, — без раздумий согласился Харви, но после этого опять задумался. — Но все-таки расскажите в порядке исключения. Черт с ними, со скабрезностями — дело требует.
Джейн коротко поведала ему драматическую историю о Зевсе, Европе и быке.
Харви испытующе посмотрел на нее и резюмировал:
— Не ожидал я такого от древних греков. А все жужжат об их удивительной культуре. Хм! Но я понял, что хотел сказать мне Хилари, хотя я не совсем понимаю почему он выразился так заумно и аллегорически.
По всем этим причинам владелец сыскной конторы Рэй Харви отправился на квартиру к своему осведомителю Хилари Линклейтору, когда тот попросил его об этом одолжении. У Хобо была однокомнатная квартира с большой удобной кухней, оборудованной так, что этому могла позавидовать самая домовитая и придирчивая хозяйка. И вообще Линклейтор представлял собой в чисто бытовом плане, если отвлечься от пьянства, редкую разновидность сноба-спартанца. Мебель в комнате Хобо была совсем дешевой и простой, можно сказать, убогой. Эту убогость еще более подчеркивала электронная аппаратура самого высокого класса — «Панасоник», «Грюндиг». Причем никаких комбайнов: магнитофон, квадрофонический проигрыватель, радиоприемник, цветной телевизор с относительно небольшим экраном и превосходным изображением, — все это по отдельности. Линклейтор не держал в квартире никаких безделушек, украшений, хрусталя и прочей чепухи, столь любимой и почитаемой обывателем. На стенах комнаты, оклеенных простыми однотонными обоями веселого солнечно-зеленого цвета, висело всего две картины в тонких деревянных рамочках. Впрочем, называть эти творения картинами, по мнению Харви, можно было лишь при наличии большой фантазии и дара к преувеличению. Это были рисунки, выполненные черным карандашом на белых листах бумаги размером с ученическую тетрадку, правда, судя по всему, и карандаш и бумага были хорошего качества. Линклейтор объяснил Харви, что это эскизы-подлинники, принадлежащие двум великим художникам современности: Сальвадору Дали и Пабло Пикассо. Одна из картин изображала огромного слона, огромного потому что перед слоном маячила фигурка крохотного, похожего на муравья человека. У грузного, дирижаблеподобного слона были удивительно тонкие, прямо-таки оленьи ноги, поэтому казалось, что слон не бежит, а летит, плывет по пустыне Харви как-то указал Линклейтору на эту несообразность. Тряся своим жирным пузом. Хобо оглушительно расхохотался как это он умел делать в минуты хорошего настроения и сказал, что у Рэя острый глаз, но что именно в этом несоответствии, в левитации грузного слона и состоит главная прелесть картины. Линклейтор почему-то воодушевился и принялся расписывать Харви достоинства другого рисунка, на котором карандашной линией был очерчен девичий профиль. Когда Хобо мимоходом упомянул, что за этот рисунок, с виду такой простой, он мог бы получить кучу денег, Харви не сдержал скептически-недоверчивой улыбки. Конечно, девица была недурна, а этот самый Пикассо был неплохим художником, но Харви отлично видел, что на этот рисунок он затратил секунд тридцать, а то и меньше: взял карандаш и, не отрывая его от бумаги, начертил профиль. Вот и все! Конечно, сделано это было довольно ловко, но мало ли на чем можно набить руку! Харви не мог поверить, что за такую пустяковую работу можно получить большие деньги. Если бы дело обстояло именно так, люди бы только тем и занимались, что рисовали профили своих подружек, а потом с выгодой сбывали бы их любителям искусства. По этой причине Харви и улыбнулся. Хилари конечно же заметил эту улыбку, в наблюдательности ему не откажешь, прервал свои объяснения на полуслове и некоторое время хмуро разглядывал Харви из-под насупленных бровей. Потом вздохнул и скучным голосом сказал:
— Не пойму я тебя, Рэй. Странный ты человек!
— Вы тоже странный, Хил, — вежливо ответил Харви. — Может быть, именно поэтому мы сошлись с вами?
Секунду Линклейтор ошарашенно разглядывал Харви, а потом расхохотался и дружески хлопнул его по плечу.
Видимо, не без влияния Хобо Харви начал себя чувствовать в своей роскошно оформленной квартире не совсем уютно. Особенно его почему-то начали раздражать многочисленные, превосходно выполненные цветные фотографии самых разнообразных роскошно одетых и полуодетых красавиц; обнаженной натуры Харви не признавал по целому ряду веских соображений — и теоретико-моральных и чисто практических. Нет-нет, а иногда, порой вовсе вроде бы ни к чему, ему вдруг припоминался незатейливый профиль грустной девушки, мимоходом нарисованный этим самым Пабло Пикассо простым безотрывным движением черного карандаша. Эта девушка, задумавшаяся о чем-то своем и тайном, была совсем не похожа ни на испанок, ни на мексиканок, которые, по идее, должны были вдохновлять художника. Значит, она была выдумана! Это удивительное обстоятельство, тот факт, что какая-то дурацкая надуманная линия, небрежно прочерченная на листе бумаги, затемнит собой полнокровные фотографии несомненно существующих и благоденствующих красавиц, и раздражало и тревожило, почти пугало Харви. Прямо наваждение какое-то! Надо было что-то предпринимать.
Как-то Рэя осенило: надо выкинуть всех этих прелестниц, которые украшали стены его квартиры! Исчезнет материал для сопоставления, ассоциаций, и нарисованная карандашная девушка перестанет его тревожить. Харви так и поступил, заодно он существенно упростил и весь интерьер — прежнее великолепие как-то не гармонировало с голыми стенами. Из всех фотографий он оставил лишь одну — большой черно-белый портрет матери. Он был сделан путем увеличения с небольшой, не очень четко выполненной фотографии, поэтому лицо матери смотрело на Рэя словно из призрачного, невидимого, но тем не менее существующего тумана. Избавившись от соседства обольстительно улыбающихся красавиц, портрет матери обрел новую жизнь. Знакомые черты этой сравнительно молодой женщины — мать умерла в неполные тридцать восемь лет — приобрели неожиданную значимость и некоторую таинственность: порой Харви казалось, что мать действительно смотрит на него из потустороннего мира, это ощущение его, кстати говоря, нисколько не пугало.
Джейн, посетившая его квартиру по делам службы вскоре после реконструкции, шумно одобрила перемены, но Харви принял ее комплименты весьма прохладно. Он не очень-то доверял вкусам женщин вообще и самой Джейн в частности, а потом ему нередко было до смешного жалко прежнего великолепия, которым он в свое время так гордился. Харви было любопытно, что скажет о переменах в квартире Хобо, и он специально подстроил свои дела так, чтобы Линклейтор посетил его. Но Хилари ничего не сказал, он просто подошел к портрету матери и долго его разглядывал.
— Мать? — спросил он, не оборачиваясь.
— Мать.
— Наверное, в кафетерии работала? — опять спросил Хобо, разглядывая руку, на которую мать опиралась подбородком.
— В прачечной.
Они перекусили, и Хобо много пил. Всем напиткам он предпочитал водку, Харви для этой встречи припас бутылку «Смирновской».
— Он и раньше тут висел? — спросил Хобо, кивая на портрет.
— Висел. Только вон там, ближе к окну.
— А я как-то не замечал.
— Да и я тоже.
Разглядывая Харви, Линклейтор усмехнулся.
— Учиться тебе надо, Рэй. Учиться!
Харви пожал литыми плечами.
— Поздно. Да и зачем?
Линклейтор вздохнул.
— И верно, зачем тебе учиться? Ты и так все знаешь.
— Нет. Я знаю мало, много меньше, чем это нужно. — Харви проговорил это негромко, но уверенно. — Но я умею слушать. И запоминать то, что требуется для дела.
— Это ты умеешь, — насмешливо протянул Хобо, и было непонятно — одобряет он Харви или порицает.
Уже поднявшись из-за стола, Хобо вдруг сказал:
— А ты знаешь, они ведь похожи.
— Кто? — не понял Рэй.
— Твоя мать и парижанка.
— Какая еще парижанка?
— Помнишь рисунок Пикассо? Это и есть парижанка.
Харви нахмурился.
— Не мелите ерунды, Хил.
Предположение Линклейтора показалось ему кощунственным: мать для него была только матерью, он считал просто невозможным как-то оценивать ее или сравнивать с кем бы то ни было. Он и не сравнивал — ни до этого разговора с Хобо, ни когда бы то ни было после него. И вообще, после того, как Харви расстался с цветными изображениями нахальных, скалящихся неизвестно по какой причине грудастых красавиц, грустная карандашная девушка перестала его тревожить. Но, как однажды подумалось Харви, если уж судить по совести, то коли уж и похожа на кого-нибудь нарисованная парижанка, так это на его секретаршу — Джейн Хиллз. Естественно, на ту Джейн, какой она была лет десять тому назад.
Харви застал Линклейтора лежащим на диване. Собственно, это был не Линклейтор, а Хобо. Большой, тучный, за двести фунтов весом, полупьяный, он возлежал на диване кверху брюхом, а перед ним на низеньком столике стояла початая бутылка дешевой водки и большой кувшин томатного сока, который был заранее посолен, поперчен и сдобрен всякими пряностями. Такой сок в армии называли коротко, выразительно и довольно метко — блад, а смесь этого сока с водкой и являла собой тот обожаемый Линклейтором коктейль, который назывался «Блади-мэри». Рожа у Хобо была опухшая, но, как и всегда, он был чисто выбрит и благоухал дезодорантом, из-под старой мятой куртки выглядывало тонкое чистое белье. В квартире было прибрано, в ней и намека не было на тот хаос и запустение, которые так характерны для местообитания обычных пьяниц.
— Спасибо, что зашел. Выпьешь?
— Воздержусь.
— Как знаешь. Эни, посиди на кухне.
Молоденькая, поджарая, но уже потасканная девица пожала плечами и лениво вышла, презрительно кривя губы большого, ярко накрашенного рта. Дверь на кухню она оставила приоткрытой. Харви встал, закрыл ее со всем тщанием и запер на маленькую символическую шеколдочку, которая была специально предназначена для гарантии деликатнейшей миссии — изоляции.
— Опять новая?
— И эту выгоню. Как только оклемаюсь. — Хобо вздохнул. — Уж очень тоскливо одному, пока неможется.
Харви дипломатично промолчал.
— Рэй, мне нужны деньги, — без всяких околичностей заявил Линклейтор.
— Много?
— Много. Десять грандов.
— Десять тысяч долларов? — удивился Харви. — Нет у меня такой свободной суммы. Тысяча — куда ни шло.
— Мне надо десять тысяч. Я отдам, это точно.
— Сожалею, Хил.
— Что, все съедает система? Ты ведь недурно зарабатываешь.
— Съедает, — вздохнул Харви.
— И пусть съедает, не жалей. Система — дело верное.
Хобо не выглядел огорченным, похоже, он был готов к такому обороту дела. Помолчав, он сказал:
— Ладно. Тогда дашь мне чистый картон, чтобы туда можно было вписать то имя, которое потребуется по обстоятельствам. — Он покосился на Харви и с раздражением добавил: — Только не вздумай говорить, что у тебя нет этой дребедени!
Конечно, у Харви были чистые бланки паспортов и некоторых других документов, без них иногда было как без рук. Но Рэй очень не любил делиться своим фондом чистых документов с кем бы то ни было. В случае провала по такому липовому документу можно было, в принципе, добраться и до его поставщика, и до самого Харви, а это было вовсе ни к чему. Но Линклейтору Рэй отказать не мог.
— Хорошо. Тебе привезет его Джейн.
— О’кей. Выпусти, пожалуйста, эту скво, а то она, чего доброго, начнет бить посуду.
Из-за этой истории с картоном, приключившейся несколько дней тому назад, Харви и испытывал некоторую тревогу, приближаясь к военным полицейским. Их было двое. Харви сначала заметил лишь одного, потому что сержант кричал, стоя на камне, как на пьедестале, да и вообще был повыше и представительнее рядового, стоявшего рядом.
Спрыгнув со своего камня-пьедестала, сержант спросил:
— Мистер Харви?
— Он самый.
Сержант, вглядываясь в лицо Харви тем фотографическим взглядом, которым профессионалы опознают лица, знакомые им лишь по снимкам, уточнил:
— Рэй Харви, владелец частной сыскной конторы?
— Да, сержант.
Сержант еще раз оглядел Харви с головы до ног, задержавшись на физиономии, и вежливо проговорил:
— Вы должны следовать за мной, мистер Харви.
— Куда?
— На дороге нас ждет машина.
— У меня своя машина! Здесь, на стоянке.
— Вам все объяснят. — В голосе сержанта прописались холодноватые требовательные ноты. — Следуйте за мной!
Харви пожал плечами.
— Слушаюсь.
Сержант шел уверенно. Сначала они прошли десятка два ярдов вниз по течению реки, потом забрались на невысокий, но крутой берег, прошли через полосу кустарника и вышли прямо к автомобилю, стоявшему у обочины шоссе. Это был не фургон, в котором возят арестованных, не военный джип и не полицейская машина; это был большой семиместный крайслеровский лимузин белого цвета. Возле него прохаживался лейтенант «МР» в форменной одежде, но без головного убора. Позади «крайслера», возле мощного мотоцикла, опираясь на его руль, стоял водитель в белом костюме из синтетической кожи, яйцевидный защитный шлем он держал в руке за ремешок на манер корзины. Харви все это охватил одним взглядом, сработал профессиональный рефлекс, и ощутил, как в груди, под ложечкой, сформировался и растекся по всему телу, отдаваясь слабостью, острый холодок тревоги — уж очень внушительно, даже торжественно выглядел присланный за ним эскорт.
— Рэй Харви, луут, — отрапортовал сержант.
Лейтенант молча кивнул, разглядывая физиономию Харви так же равнодушно — профессионально-фотографически, как это делал несколько минут тому назад сержант. По-видимому, физиономический контроль удовлетворил полицейского офицера, потому что, не уточняя более личность Харви каким-либо иным способом, лейтенант спросил:
— Вам знакомо имя Генри Мейседон?
— Да, я знаю полковника Мейседона, — с облегчением ответил Харви.
— Примите сигнал — «Инвазия», — раздельно проговорил лейтенант. — Тревога!
Харви домиком приподнял брови и наморщил лоб.
— Простите?
— Инвазия, сэр, — почти по буквам повторил лейтенант. — Тревога!
КОНТУРЫ ПРОГРАММЫ
Прослушав повторное сообщение офицера военной полиции, Харви наконец-то понял, в чем дело.
— Ах, инвазия! — В голосе Харви прозвучало и облегчение и любопытство. — Я в вашем распоряжении, лейтенант.
Больше года прошло с того момента, когда Рэя Харви вместе с его конторой, разумеется, ввели в русло таинственной программы. Ежеквартально он получал немалые государственные деньги за то, что находился, так сказать, в состоянии постоянной боевой готовности, но конкретно о своих задачах так ничего и не знал помимо того, что в случае тревоги ему придется вести слежку не то за некими супершпионами, не то за преступниками экстракласса. Еще он был осведомлен о том, что на время тревоги государственная дотация его конторе сразу возрастет втрое. И это помимо того, что ему будут полностью компенсированы все оперативные расходы! Естественно, объявление тревоги было для Харви хотя и страшноватым, но вместе с тем и желанным событием. Но он ждал его так долго, что потерял всякую веру в реальность программы, а поэтому и был застигнут врасплох.
Между тем полицейский офицер, убедившись, что сигнал тревоги принят должным образом, критически оглядел с головы до ног своего необычного клиента, его старую кожаную куртку, коттоновые грубые брюки, резиновые сапоги с высокими, подвернутыми до колен голенищами.
— Где ваша машина?
— В трехстах ярдах отсюда, у съезда к реке. Там платная стоянка.
— В машине есть более приличная одежда?
— Нет. Я не рассчитывал ехать отсюда на званый обед.
Полицейский офицер никак не отреагировал на эту шутку, он в раздумье смотрел на огромные резиновые сапоги.
— На вас сапоги — и все? Ничего больше?
Рэй не сразу понял суть вопроса, а когда понял, то молча стянул один сапог, наступив на его носок свободной ногой. На освобожденной от сапога ноге красовалась джинсовая туфля сомнительной новизны.
— Сойдет, — решил лейтенант и протянул руку. — Ключ от машины, сэр.
Харви натянул сапог, достал из кармана солидную сцепку ключей, отделил автомобильный и протянул лейтенанту.
— Номер машины…
— Номер машины нам известен, — прервал его лейтенант. — Вы поедете со мной. О вашем «паккарде» позаботятся.
— Понял.
По короткой команде лейтенанта мотоциклист запустил мотор, сунул в один из карманов ключ от «паккарда», надел защитный шлем и опустил на лоб очки. С-белой яйцевидной головой, громадными глазами-очками, плотно упакованный в защитный костюм, мотоциклист стал очень похож на инопланетянина, какими их любят показывать в дешевых фантастических фильмах. На заднее сиденье мотоцикла взгромоздился рядовой. Взревел мотор, мощная машина круто развернулась и, набирая скорость, понеслась по шоссе к платной автомобильной стоянке.
Лейтенант открыл дверцу.
— Прошу, сэр.
Харви поблагодарил и занял указанное ему место в среднем салоне полицейской машины. Он был тут некоторым образом изолирован — отделен опускающимися тонированными чернью стеклами от переднего салона, где расположились шофер и лейтенант, и заднего, в который сел сержант. Автомобиль плавно тронулся с места. Дойдя до отметки шестьдесят миль в час, стрелка спидометра замерла и далее, за редкими исключениями, поддерживалась постоянной. Спустя некоторое время машину обогнал мотоциклист, похожий на инопланетянина, и занял позицию на десятиярдовой дистанции. Харви обернулся назад и через заднее стекло сумел разглядеть свой «паккард», который тащился на такой же десятиярдовой дистанции в хвосте этого кортежа.
Раздался короткий звуковой сигнал, переднее изолирующее стекло опустилось, и лейтенант, полуобернувшись назад, спросил:
— Личная печать при вас, сэр?
— При мне.
— Разрешите?
Харви достал из кармана и протянул лейтенанту сцепку, на которой вместе с ключами висела и печать, в свое время врученная ему полковником Мейседоном. Лейтенант взял сцепку, внимательно осмотрел печать и вернул ключи Рэю.
— Все в порядке, сэр.
Откуда-то снизу, видимо, из сейфа, смонтированного в машине, лейтенант достал кожаную папку и подал ее Харви.
— Ознакомьтесь, сэр. Постарайтесь быть внимательным.
— Постараюсь, луут.
Папка была опечатана, оттиск был тот же самый, что и на личной печати Харви, он мимоходом отметил это обстоятельство. На папке не было ни заголовка, ни каких-либо пояснительных надписей, только в левом верхнем углу белела наклейка с шифром из буквы и четырех цифр. В самой папке была подшивка из тонких и плотных листов бумаги. На титульном листе крупно значилось «Инвазия», а ниже шел машинописный текст: «Лицо, получившее сигнал тревоги «Инвазия», обязано принять все доступные меры, чтобы передать этот сигнал по нижним каналам связи или убедиться, что сигнал передан». Харви качнул головой — своевременное предупреждение, положил папку рядом с собой на сиденье и постучал по переднему изолирующему стеклу. Стекло опустилось.
— Было бы разумнее нажать вот на эту кнопку, сэр.
— Вы не проинструктировали меня об этом.
— Приношу вам свои извинения, сэр. Чем могу служить?
— Мы располагаем телефонной связью?
— Безусловно, сэр. Номер?
Харви назвал номер. Полицейский офицер поднес к уху телефонную трубку, поколдовал над невидимым, судя по звукам, кнопочным телефонным аппаратом, подождал и протянул телефонную трубку Харви.
— Отвечают. Говорите, сэр.
Харви прижал еще теплую трубку к уху.
— Джейн?
— Я, кто же еще? — У Джейн был сонный голос. Она любила поспать, а поскольку Рэй уехал на рыбалку, она отдалась своей слабости в полной мере. — Меня будят из-за вас уже второй раз. Доброе утро, шеф.
— О’кей. Примите сигнал — гэнгвей. Повторяю — гэнгвей.
— Трап? Вы о чем, шеф? Не поняла.
Рэй вздохнул и покосился на упрямый, неукоснительно официальный затылок полицейского офицера.
— Я же объяснял вам, — скрывая раздражение, вполголоса, но очень четко проговорил он, — гэнгвей — сигнал тревоги.
— Вот вы о чем! Поняла, только…
Последовало секундное замешательство. Джейн знала, что нужно делать по этому сигналу, отдававшему дурным казарменным запахом. Но список лиц, которых ей полагалось оповестить с передачей вышеупомянутого шифрованного слова, хранился в конторе. Стало быть, ей нужно было немедленно выбираться из постели — процедура не из приятных для любительницы поспать.
— Что — только? — раздраженно уточнил Харви.
— Ничего. Вы в конторе, шеф?
Теперь Харви на мгновение замешкался.
— Нет.
— Как мне найти вас, если будут накладки? Умница, Джейн. Накладки, разумеется, могли возникнуть, и лучше узнать о них заблаговременно.
— Не вешайте трубку.
Прикрыв микрофон ладонью, Харви обратился к полицейскому офицеру.
— Простите, лейтенант, мне могут телефонировать сюда, в машину?
— Да, пока мы в пути, — полицейский посмотрел в окна автомобиля, на часы, — около сорока минут.
Он продиктовал номер телефона, по составу цифр — самый обычный, городской.
— Джейн? Запишите номер телефона.
— Момент… Давайте, шеф. — Записав номер, Джейн повторила его и спросила: — Что еще?
— Этим телефоном можете пользоваться в течение сорока минут, а если не успеете…
— Я успею, — самолюбиво перебила Джейн.
— Если не успеете, — терпеливо повторил Харви, — то ждите моего звонка. В конторе, разумеется. А не в постели.
Джейн засмеялась.
— О’кей, шеф.
Передавая трубку, Харви уловил на лице лейтенанта легчайшую, почти неприметную улыбку. Конечно же «МР» слышал весь этот бестолковый, не совсем, а может быть, и совсем не деловой разговор по телефону.
— Частная контора — это не армия, луут, — счел нужным со вздохом заметить Рэй, видимо, в порядке интуитивного самооправдания.
— Я понимаю, сэр. — Лейтенант был корректен, как слуга в доме негостеприимного миллиардера. — Ваши разговоры не контролируются. Продолжительность их не ограничена.
Изолирующее стекло, тонированное чернью, поднялось. Харви посидел несколько секунд, передернул плечами и взял в руки папку, открытую на титульном листе с крупной надписью «Инвазия».
За предупреждением о необходимости передачи сигнала тревоги по нижним каналам связи шел подзаголовок «Извлечение С-3», а потом следовало еще одно предупреждение, на этот раз о том, что ознакомление с материалами программы лиц, которые не имеют на то полномочий, грозит им весьма печальными последствиями: тюремным заключением сроком до двадцати лет и денежным штрафом в 20 тысяч долларов. Харви присвистнул и усмехнулся. Предупреждение произвело на него некоторое впечатление, но не очень сильное. За время службы в армии и сыскной деятельности ему приходилось получать и более радикальные предупреждения. Перевернув лист, Харви устроился на мягко плавающем сиденье поудобнее и углубился в чтение: «Программа: «Инвазия». Компетенция: НАСА. Гриф: совершенно секретно. Содержание…»
Содержания программы Харви после первого прочтения не уловил. Не то чтобы он не понял написанного, — понял. Но смысл не очень ловко скроенных, бюрократических фраз не желал укладываться в его сознании. Слова, в общем-то хорошо знакомые и понятные слова, отскакивали от его разума так же легко и естественно, как горох от каменной стенки. Харви тряхнул головой, точно прогоняя сон, и перечитал строки, излагающие содержание программы, медленно, почти по слогам раз и еще раз. Нет! Он не ошибся, ему не почудилось, он не стал жертвой иллюзии или самообмана. Написано черным по белому под грифом «Совершенно секретно». И классифицирована эта ахинея, этот бред собачий как сведения государственной важности. Что они там, с ума посходили в своем Биг-Хаус? Но одно дело сумасшедшие люди, это еще куда ни шло, и совсем другое — сумасшедшие документы! Ведь чем далее Харви просматривал программу «Инвазия», тем все более убеждался в безумстве этой подшивки бумажных листов.
Захлопнув папку, Харви раздраженно постучал в изолирующее стекло и уже потом, спохватившись, нажал нужную кнопку. Стекло опустилось.
— Чем могу быть полезен, сэр?
Харви повертел папку перед глазами лейтенанта.
— Скажите, луут, это серьезно? Или…
Полицейский офицер холодно и решительно покачал головой.
— Мне об этом ровно ничего не известно. Я не правомочен ни просматривать, ни обсуждать содержание этого документа. Единственное, что я могу сделать, это принять от вас опечатанную папку. Сожалею, но больше ничем не могу помочь.
Харви задумался.
— Куда мы направляемся, в Биг-Хаус?
— Да, в Пентагон.
— Я могу связаться с полковником Мейседоном?
— Сожалею, но приказано не беспокоить его. Однако я доставлю вас именно к нему, сэр.
— Что ж, подождем.
— Это самое разумное, сэр. Не забудьте продолжить знакомство с документами. Вам настоятельно рекомендовано это.
— Слушаюсь, луут.
Против судьбы не попрешь. Харви вздохнул, проследил за пейзажем, открывавшимся за окном, и, убедившись, что времени у него достаточно, снова раскрыл злополучную папку. Он еще раз внимательнейшим образом перечитал строки, излагавшие содержание программы, смутно, как-то по-ребячьи надеясь, что, может быть, чего-то не понял и что-то перепутал, что фактически речь идет не о страстях господних, тьфу, космических, а о вещах гораздо более определенных и реальных. «Содержание: создание особо секретной службы с целью обнаружения космического (инопланетного) вторжения на Землю, выявления космической агентуры и последующего наблюдения за ней. Сопутствующие программы: «Нейтрализация», «Ограничение», «Контакт», «Ликвидация».
Харви тяжело вздохнул. Нет, зрение его не обмануло, голова не подвела — речь действительно шла о слежке за инопланетянами. Ни больше ни меньше! Написано черным по белому, бумага и машинка прекрасные, каждая буковка отпечатана с четкостью хорошего книжного шрифта.
Составитель извлечения С-3, предназначенного для ознакомления и руководства рядовым исполнителям, каковым являлся законтрактированный частный детектив Рэй Харви, не затруднял себя кропотливой аналитической работой. Он попросту вставил в это самое извлечение целые, отнюдь не купированные разделы из общей программы, разделы, в принципе предназначенные для ответственных лиц и высоких просвещенных умов. Поэтому мемо, который держал в руках Харви, оказался перегруженным организационными сведениями, теоретическими рассуждениями и прочей чепухой, знать которую было вовсе не обязательно. Конечно, на досуге Харви отнесся бы к этому оригинальному документу более лояльно и любознательно, но какой же это досуг, когда тебя умыкают в самый разгар клева форели, запихивают в автомобиль и везут под охраной, словно преступника или министра!
«Космическая инвазия, — читал Харви, — т.е. вторжение инопланетных сил на Землю, может быть преднамеренной, случайной и вынужденной — предопределенной технической аварией, болезнями инопланетного экипажа, недостатком энергетических ресурсов или жизненных запасов. Сценарные варианты развития постинвазийных событий по существу адекватны для всех этих случаев. Если в первом варианте действия космической агентуры спланированы заранее и подчинены некоей разветвленной программе, то во втором…»
Харви мысленно плюнул — Господи, прости составителей этого мемо!
Поразмыслив, Харви отказался от дословного чтения и начал бегло просматривать текст, автоматически выуживая из него то, что могло как-то пригодиться ему на практике. В таком бегло-избирательном изучении объемистых мемо он настропалился еще в армейской разведке, ибо лодыри-офицеры иногда попросту перепоручали ему подготовку операций, ну а окончательно он отшлифовал это искусство под руководством Хобо.
Полистав программу «Инвазия» минут двадцать, Харви понемногу разобрался, какого рода сыскные услуги потребует от него полковник Мейседон. Ни более ни менее как слежка за инопланетянами, которые в этом сумасшедшем мемо именовались космической агентурой локальной инвазии недекларированного типа. Но ведь это что-то вроде слежки за нечистой силой попыток захватить и переправить пентагоновским олд-джентльменам самого дьявола, а может быть, и архангела! Харви смешило то, что всей этой чертовщиной должно заниматься почему-то частное сыскное агентство, а не Фоли-Сквер, не Форт-Фамбл и не Эйдженси с их могучими аппаратами наблюдения за всем и вся! Но, поразмыслив, он понял, что для него лично, а может быть, и для всего человечества в объявлении этой тревоги нет ничего смешного. Ведь это значило, что на Землю и, скорее всего на территорию Штатов, раз это дело касалось Рэя Харви, вторглись инопланетяне! И раз его сунули в эту программу больше года назад, значит, ребята из госдепартамента уже тогда догадывались или знали, что эта самая инвазия может произойти! И он, Рэй Харви, отставной лейтенант армейской разведки, будет вынужден пойти на контакт с этой нечистой силой новейшей формации! Бр-р-р! Причина для нервозности была полновесной. Сухие, выдержанные в высоком научном стиле строки меморандума как-то незаметно убедили Харви, заставили его подсознательно поверить и в глупость наивной беспечности человечества, окруженного жаждущим зла космосом, и в неотвратимость космической угрозы, нависшей над Землей. Глядя в окно автомобиля на летящие мимо окраины Вашингтона, Рэй вдруг отдал себе отчет в том, что ничуть не удивился бы, если эти здания и парки разом охватило, превращая все в прах и пепел, дымное пламя и ясное солнечное утро внезапно сменила гудящая багровая ночь!
Харви отвлек от размышлений короткий гудок зуммера. Подняв голову, он заметил, как опускается переднее дымчатое стекло и машинально закрыл папку: недвусмысленное предупреждение о суровых последствиях за разглашение тайны механически делало свое дело. Лейтенант протянул ему телефонную трубку.
— Вас, сэр
Звонила конечно же Джейн.
— Все в порядке, шеф. За одним исключением. Хобо ссылается на нездоровье и просит освободить его от дела. Когда я стала настаивать, он послал меня ко всем чертям. Может быть, обойдемся без него? Вы ведь знаете, какое у него бывает нездоровье! Я подумала, что вместо Хобо можно было бы привлечь Брауна — у него голова тоже неплохо варит.
— Обойдусь без ваших советов, — с неожиданной даже для самого себя резкостью оборвал Харви секретаршу.
Последовала пауза. Джейн конечно же была удивлена, она не привыкла к такому тону, а Харви досадовал на себя за несдержанность.
— Что с вами, шеф? — В ее голосе прозвучала искренняя тревога. — Неприятности?
Харви неохотно подтвердил.
— Неприятности.
— Что-нибудь серьезное? Я могу помочь?
— Можете. — Харви уже овладел собой. — Позвоните еще раз Линклейтору и скажите ему, что он мне непременно понадобится. Непременно! Дело очень серьезное.
— Я поняла.
— Пусть он себе хворает и лечится, но чтобы и не думал куда-нибудь отлучаться! Я обязательно навещу его сегодня и объясню, в чем дело.
— О’кей. Что еще?
Харви опять покосился в окно автомобиля и неожиданно для самого себя спросил:
— Как вы там?
— Не поняла.
Ответ был совершенно естественным: отношения Джейн и Харви сложились таким образом, что они почти никогда не говорили о пустяках по телефону. А тем более вперемешку с делом!
— Я спрашиваю, как здоровье? — Харви был несколько смущен, а поэтому в его голосе снова появились нотки раздражения. — Позавтракать успели?
— Здоровье в порядке. — Джейн явно недоумевала. — А позавтракать еще не успела.
— Так позавтракайте! Неужели не понятно, что если предстоят серьезные дела, то вы должны быть в хорошей форме.
— Шеф, — в голосе Джейн теперь слышалась решимость, — что случилось, в конце концов? Можете вы сказать толком?
Харви вздохнул и мягко ответил:
— Ничего особенного, Джейн. Вернусь — расскажу.
— О’кей, шеф. Жду.
Передавая трубку, Харви снова уловил на лице лейтенанта легчайшую, почти неприметную улыбку.
— Частная контора — это не армия, луут, далеко не армия, — заметил Харви машинально, однако же без всякого огорчения.
НЕОЖИДАННОЕ
Полицейская машина плавно затормозила, повернула вправо и остановилась возле высокого бетонного забора, который за экономной полосой дорожного отчуждения отделял от федеральной дороги какие-то угрюмые серые здания, очевидно склады. Тонированное стекло опустилось.
— Прошу прощения, сэр, — все тем же тоном хорошо воспитанного дворецкого проговорил лейтенант, — но ситуация изменилась. Далее вы поедете на собственной машине. И не в Пентагон, а в собственный офис. Прошу сдать документы.
Опечатывая папку, Харви полюбопытствовал:
— А что, собственно, случилось, лейтенант?
У Рэя возникла смутная надежда, что вся эта затея с инопланетной агентурой — что-то вроде неудачной шутки скучающего высокопоставленного начальника. Теперь, поняв, что в своем желании поразвлечься он зашел слишком далеко, генерал спохватился, и все должно стать на свои законные места.
Принимая папку, полицейский офицер равнодушно сказал:
— Я получил новые указания, сэр, только и всего. — Лейтенанта удовлетворил осмотр оттиска, он аккуратно положил папку рядом с собой на сиденье и откуда-то снизу достал и передал Харви опечатанный атташе-кейс. — Оперативные сведения, сэр. Вскрыть его вы имеете право только в своем офисе, приняв все меры предосторожности, которые узаконены при обращении с совершенно секретными документами. Проверьте номер печати.
Харви молча подчинился этой обходительной машине в образе офицера. Сдвинув предохранительную заслонку, он убедился, что на красной мастике значится номер его печати.
— Все в порядке, лейтенант.
Полицейский офицер вышел из машины, открыл дверь в салоне Харви.
— Прошу, сэр.
Не дожидаясь, пока Рэй выберется из лимузина, он жестом подозвал солдата, сидевшего за рулем «паккарда», стоявшего на несколько ярдов позади, и мотоциклиста, возглавлявшего «министерский» кортеж. Мотоциклисту он коротко бросил.
— Получите особые указания. И обернулся к «МР».
— Ключ.
— Он на своем месте, сэр.
— Делаю вам замечание. Выходя из машины даже на секунду, ключ надо брать с собой.
— Виноват, сэр. Лейтенант обернулся к Харви.
— Можете следовать, сэр. В выборе маршрута вы не ограничены. О своем прибытии в офис доложите по номеру, который указан в оперативных документах. Счастливого пути, сэр.
— И вам, луут, попутного ветра и три фута под килем.
Сев за руль, Харви прогазовал мотор Убедившись, что он работает чистенько, как и прежде, внимательно осмотрел салон, не поленившись заглянуть под сиденья, поставил тяжелый чемоданчик — настоящий переносной сейф — понадежнее и осторожно влился в поток автомобилей, правда, не очень плотный в этот сравнительно ранний час. Проезжая мимо полицейского автомобиля, он обратил внимание на то, что лейтенант дает какие-то подробные указания своим подчиненным, стоявшим возле него тесным полукругом, — сержанту, солдату и мотоциклисту, похожему на инопланетянина. Харви искренне пожалел этих ребят. Сам долго тянувший нелегкую солдатскую и сержантскую лямку, он хорошо представлял, как тяжко служить под началом такого офицера-фанатика.
Харви отъехал не больше, чем на полусотню ярдов, когда заметил в обзорном зеркальце ослепительную вспышку света, а секундой позже машину тряхнуло и занесло, как будто по ней ударили сзади огромной мягкой подушкой… и рев мощного взрыва, несколько смягченный кузовом, ворвался в салон. Харви вывернул руль, блокируя занос, затормозил, хотел рефлекторно выскочить из «паккарда», но в последний момент удержался. И правильно сделал, по кузову точно палкой стукнули, а совсем рядом на дорогу упал искореженный дымящийся и рваный кусок листового металла. Харви знал, что между ним и полицейским автомобилем не успело вклиниться ни одной другой машины, поэтому о том, что взорвалось, размышлять не требовалось. На месте, где пунктуальный, похожий на вышколенного дворецкого лейтенант только что давал указания подчиненным, полыхал разбросанный дымный костер. Взрыв был такой мощный, что машина не просто развалилась — ее разнесло буквально на куски. Огромный рефрижератор на противоположной стороне дороги завалился набок, и трудно было судить о причиненных ему повреждениях. «Может быть, это не обычный, а ядерный взрыв? — мелькнуло в голове Харви. — Мини-бомба на трансуранах?» Под влиянием этой мысли владелец сыскной конторы сорвал «паккард» с места и, набрав скорость почти до максимальной, понесся прочь от места катастрофы.
Промчавшись несколько миль, Харви взял себя в руки, притормозил, свернул с федеральной магистрали на одну из боковых улиц и медленно поехал по ней. О насторожившемся человеке говорят, что он весь обратился в слух, примерно то же самое можно было сказать и о Харви, только обратился он не в слух, а в зрение. Совершив несколько неожиданных поворотов, Харви убедился, что слежки за ним нет и, выбрав подходящее место, припарковал свой «паккард» так, чтобы можно было сразу набрать скорость, но из машины не вышел. Прежде чем оценивать трагедию, происшедшую на федеральной дороге, Рэю нужно было решить одну неотложную проблему, и промедление тут было смерти подобно. Прикрыв глаза, Харви несколько секунд отдыхал, приводя нервы в порядок, а потом вздохнул, помедлил и положил себе на колени тяжелый атташе-кейс. Ему было приказано вскрыть этот металлический чемоданчик в офисе, то есть в сыскной конторе. Но там сейчас Джейн! Да и вообще сыскная контора размещена в доме, где целая куча людей. А что если этот чемоданчик сработает так же эффектно, как бомба, подложенная в полицейский автомобиль? Целая куча никому не нужных, невинных жертв! Лучше уж испытать свою судьбу здесь, в относительно безлюдном и безопасном месте.
Может быть, бросить этот чемоданчик на произвол судьбы, может быть, даже вместе с «паккардом»? Нет. Могучая сила, скрывающаяся за программой «Инвазия» и замыкающаяся конечно же на известном ему советнике президента, никогда не простит ему этого и не только уничтожит его самого, но постарается как можно больнее ударить по всем, кто ему дорог. Выход из дела исключался, стало быть, чемоданчик надо было открыть. Здесь, сейчас, прямо в машине. Харви открыл свой автомобильный сейф, достал оттуда стетоскоп, задернул шторки окон и, точно врач больного, авансом уплатившего солидный гонорар, со всей дотошностью и тщательностью прослушал опечатанный атташе-кейс. Даже если этот чемоданчик — адская машина, Харви не рассчитывал услышать ординарного тиканья часов — слишком уж солидной была фирма, которая предоставила сие устройство в его распоряжение. Но даже самые совершенные электронные сюрпризы, поставленные на боевой взвод, иногда выдают себя еле слышным гудением, шелестом реле, шорохом взводимых пружин — да и мало ли чем? Самою сущностью машинного бытия!
Атташе-кейс был безмолвен, как кирпич.
Харви выдернул из ушей резиновые трубочки, швырнул стетоскоп в сейф и положил руку на замок чемоданчика. Собственно, риск был не так уж и велик. Если бы Харви хотели убрать, его убрали бы вместе с полицейской машиной и всем ее экипажем. Судя по всему, дело обстояло как раз наоборот — в самый последний момент Харви вывели из-под удара, сохранили ему жизнь, и теперь… Это самое «теперь» зависело от того, кто сохранил жизнь владельцу частного сыскного агентства. Если это сделали руководители программы «Инвазия», то теперь Харви придется ловить инопланетян. А если… если это сделали инопланетяне (разве инопланетянам не могут понадобиться сыскные услуги?), то Рэю придется теперь работать в их интересах. И ответы на эти сумасшедшие вопросы лежат в этом вот атташе-кейсе не за семью печатями, а всего за одной!
Риск был, конечно, невелик, но тем не менее, когда Харви щелкнул замком, откинул крышку и ничего, ровно ничего при этом не произошло, он обессиленно вздохнул и прямо ладонью, тыльной ее стороной, вытер со лба обильную испарину. Немного передохнув, он просмотрел содержимое чемоданчика. В нем действительно находились оперативные материалы о некоем Кил Рое, ограбившем банк на тринадцать килограммов слитков золота девятьсот девяносто пятой пробы. Кроме чисто оперативных материалов, оформленных стандартным полицейским способом, который был хорошо знаком Харви, в папке лежало какое-то объемистое приложение о золоте — про его удельный вес, температуру плавления, способы хранения и все такое прочее. Харви недоуменно хмыкнул — уж очень не соответствовали друг другу оперативная информация, изложенная штампованными рублеными фразами, и тягучий нудный реферат о золоте, — захлопнул папку и аккуратно уложил ее в автомобильный сейф. Потом тщательно обследовал теперь уже пустой чемоданчик, снова прибегнув к помощи стетоскопа. Этот сейфоподобный атташе-кейс ему не нравился: у него были явно двойные стенки, и, скорее всего, как подсказывал Харви многолетний опыт, между этими стенками была уложена пластиковая взрывчатка. Такие самоликвидирующиеся чемоданы, чемоданчики, сумки и портфели — аппаратура весьма заурядная, хотя и штучного производства. Но порядочные люди, передавая клиенту такой чемоданчик, обычно прилагают к нему подробную устную или письменную инструкцию по эксплуатации, а Рэй такой инструкции не получил. Накладка? Халатность? Или преднамеренный акт?
Занимаясь чемоданчиком, Харви не переставал наблюдать за окружающей обстановкой, благо занавески, надежно изолируя его от внешнего наблюдения, изнутри были достаточно прозрачными. Осмотрительность в рабочих ситуациях давно стала второй натурой Харви, она велась сама собой, не требуя сознательных усилий, как не требует от классного пилота сознательных усилии чтение показаний приборов. В районе паркинга все было спокойно, никаких признаков слежки. Не закрывая атташе-кейса и для страховки придерживая его крышку пальцем — береженого Бог бережет, Харви вышел из машины, открыл багажник и аккуратно уложил в него чемоданчик так, чтобы тот не мог закрыться. Закрыв багажник, Харви удовлетворенно хлопнул по нему своей тяжелой ладонью: если теперь и произойдет взрыв, то вряд ли он сам пострадает, ибо от салона автомобиля багажник отделяла толстая бронированная плита. Даже солидный заряд взрывчатки разнесет лишь заднюю часть «паккарда», передняя же, прикрытая стальной плитой, уцелеет.
Заняв водительское место, Харви раздвинул светозащитные шторки, запустил мотор и тронул машину с места. Ехал он в контору кратчайшим путем, на умеренной скорости, время от времени совершая неожиданные повороты, ломавшие маршрут, и тщательно контролировался. Слежки не было! Это обстоятельство не только радовало Харви, но и беспокоило: во всем, что сейчас происходило с ним, отсутствовала логика, обычно целенаправляющая заранее спланированные события. То есть отсутствовала логика земная, а что касается логики инопланетной, то Харви конечно же не имел о ней никакого представления. И, может быть, как раз в соответствии с этой инопланетной логикой все шло очень гладко и целеустремленно. Эти-то соображения и заставили тревожиться Рэя Харви. Хотя, если рассудить здраво, на черта он нужен инопланетянам — заурядный частный детектив? А может быть, и не такой уж заурядный? Разве нельзя предположить, что инопланетяне нуждаются в золоте, без которого, как это было известно Харви, не обходятся конструкции электронных часов, дисплеев и всяких карманных калькуляторов9 Этот самый Кил Рой, имя, надо сказать, многозначительное, украл золото по приказу инопланетян и с их помощью, а потом решил это золотишко присвоить и сбежал! А разве легко этим самым инопланетянам отыскать человека в самой гуще незнакомой им толком земной жизни, в том самом кипящем человеческом муравейнике, который являет собой оскалившийся на звезды клыками-небоскребами Нью-Йорк? Вот им и потребовался частный детектив вместе со всей сыскной конторой! А поскольку частных детективов в Штатах великое множество, а выбрали инопланетяне именно Рэя Харви, то можно полагать, что Кил Рой вместе со своим золотом находится где-то в Вашингтоне и неподалеку, в смысле связей, разумеется, от Пентагона. Именно так, именно в этой военной и околовоенной среде Рэй Харви много знает и многое может. Если бы Кил Рой со своим золотом направился в другое место, инопланетяне, коли они не круглые идиоты, выбрали бы себе в помощники другого частного детектива, это уж наверняка!
Харви вдруг поймал себя на, казалось бы, таком нелепом, а между тем естественном в его теперешнем положении моменте, — он думал об инопланетянах как о несомненной объективной реальности. Логика, точнее, отсутствие логики в разыгрывающейся сейчас партии, в которой он выступал заурядной пешкой, — вот что способствовало материализации инопланетян в сознании Харви. В самом деле, его, нужного для дела частного детектива, решили вывести из-под удара и благополучно пересадили в собственную машину. Казалось бы, все логично, но… зачем понадобилось взрывать полицейскую машину прямо на его глазах? Разве нельзя было сделать это минутой-другой позже? Тогда Харви не узнал бы об этом! Частный детектив Рэй Харви в этом случае спокойно бы выполнял указания сверху, не стал бы задумываться, не вскрыл бы атташе-кейс по дороге, не переложил бы его, уже пустой, в багажник, не… Их было очень много — этих «не», которые породил поспешный взрыв, происшедший на его глазах. Часовой механизм? Тогда Харви повезло самым невероятным образом! Но часовой механизм — это примитив, кустарщина, которая никак не вписывается в контуры такой серьезной операции государственного и даже всемирного значения, какой является программа «Инвазия». Н-да, вовсе не случайно бутафорские злодеи-инопланетяне, чуть ли не обязательный атрибут дешевой черной фантастики, вдруг обрели в сознании Харви живые, реальные черты.
В приемную собственной конторы Харви вошел с папкой, в которой лежали оперативные документы, чемоданчик он предусмотрительно оставил в багажнике «паккарда».
— Доброе утро, Джейн.
— Доброе утро, шеф. — В глазах молодой женщины светились и любопытство и легкая усмешка. — По-моему, вы мне желаете его не в первый раз. С чего бы это?
— Мне кто-нибудь звонил?
— Три раза! Последний раз буквально за минуту до вашего появления. Какая-то дама.
— Дама?
— Именно дама. С очень странным именем — Инвазия!
— Инвазия, — протянул Харви, — тогда понятно. Что ей было угодно?
— В том-то и дело, что ничего. Просто спрашивала — приехали вы или нет. Во второй раз я поинтересовалась, что ей, собственно, нужно. Дама ответила, что нужны именно вы, персонально. Номер своего телефона она дать отказалась, сказала, что позвонит еще.
— Понятно.
— А мне, если говорить честно, ничего не понятно. Что все-таки стряслось, шеф? У вас появились от меня деловые тайны?
— Появились, Джейн, — серьезно ответил Харви после паузы.
Зазуммерил городской телефон. Джейн сняла трубку, представилась и тут же, прикрыв микрофон ладонью, шепотом сказала:
— Легка на помине. Опять эта таинственная мадам Инвазия. И тот же самый вопрос — изволили вы прибыть или нет.
— Скажите, что я на месте и работаю над оперативными документами, — так же шепотом ответил Харви.
Джейн повторила эти слова в телефонную трубку и, кивая головой, выслушала довольно длинную фразу. Положив трубку, она обернулась к Харви.
— Мадам передала, чтобы вы работали без излишней спешки. И чтобы при разработке операции учли — интересующий вас объект находится здесь, в округе Колумбия. Во всяком случае, здесь найдена машина марки «понтиак», на которой он приехал. Более подробные сведения вам доставят почтой. Все.
Харви молча кивнул. Он испытывал профессиональное удовлетворение — не ошибся ни в своих прогнозах, ни в наблюдениях. Кил Рой действительно в Вашингтоне, и слежки за ним, за Харви, действительно не было, иначе не было бы необходимости в трех звонках мадам Инвазии. Эти три звонка говорят и еще кое о чем: о нем беспокоятся, он нужен, а стало быть, по крайней мере пока, находится вместе со своей конторой в относительной безопасности. Харви внимательно взглянул на свою секретаршу, и та не замедлила спросить:
— Как она хоть выглядит — эта мадам Инвазия?
— Я хотел бы и сам знать это, — совершенно искренне ответил Харви.
— Так вы не видели ее? Почему-то я так и думала. — Джейн помолчала. — Инвазия… Странное имя!
— Странных имен сколько угодно. Чем лучше Грин или Стоун?
— Не лучше, а привычнее. У меня такое впечатление, — гнула свою линию Джейн, — что над конторой нависла какая-то беда. Какая, Рэй?
Харви ободряюще улыбнулся.
— Не беда, а тревога. Гэнгвей!
— Гэнгвей — и что? Агенты нервничают!
— Я же их предварительно инструктировал! Никуда не отлучаться! Сидеть и ждать указаний!
— Они ждут. Поэтому и нервничают. — Джейн вздохнула. — Я тоже нервничаю. Вы так и не скажете мне, что же такое стряслось?
Харви чуть не вспылил, внутренне он был готов к этому, но в последний момент сдержался. И осторожно, он делал это очень редко, положил свою тяжелую руку на плечо секретарши.
— Пока все идет по плану, Джейн. — И, сменив тон на официальный, он добавил: — Я буду работать. Все мои телефоны отключите. Для всех, кто будет обращаться без пароля — меня нет.
— А для мадам Инвазии? — не без лукавства спросила Джейн.
— Это — тоже пароль, — уже через плечо, проходя к себе в кабинет, ответил Харви.
ПЕРЕМЕНЫ
Уединившись в кабинете, Харви не только закрыл, но и запер его дверь, что делал лишь в исключительных случаях. Прежде всего он внимательно изучил приказ за подписями трех лиц. Одна из них, принадлежавшая старшему начальнику, была ему незнакома, зато две других — подписи Г.Мейседона и Ч.Уотсона — Харви знал отлично. Приказ переводил Рэя Харви вкупе со всей его действующей агентурой в подчинение некоего начальника группы захвата Френсиса Ли, все указания которого надлежало выполнять в соответствии с воинскими уставами, как это и обусловлено предварительным договором. Главной задачей приказ определил захват некоего Кил Роя, похитившего тринадцать килограммов золота девятьсот девяносто пятой пробы, в возможно короткий срок. Желателен захват этого лица вместе с золотом, однако первоочередной целью действий является пленение Кил Роя живым и невредимым с последующим соблюдением предельно жестких мер по содержанию и охране. Эти меры были пунктуально перечислены, и, штудируя их, Харви почувствовал, как тревога сжимает его сердце: эти меры были явно чрезмерными даже по отношению к самому ловкому и опытному преступнику. Чрезмерными в том случае, разумеется, если этот Кил Рой был человеком, землянином, но если он… Думать об этом Рэю не хотелось. Он постарался сосредоточиться на деловых, оперативных вопросах, и это ему удалось — сказалась давняя привычка, умение отвлекаться от эмоций и личных переживаний в ответственные моменты.
Поскольку приказ предписывал осуществить захват Кил Роя в кратчайший срок, Харви сразу же, еще не войдя полностью в курс дела, отдал серию предварительных распоряжений той части своей разветвленной системы, которая была задействована по программе «Инвазия». Отдав эти распоряжения, Харви вернулся к приказу и заново перечитал его вплоть до приложений, в которых перечислялись номера телефонов, которыми он мог пользоваться для связи с оперативным руководством, медицинскими специалистами и так далее. Обращаться в штатные медицинские учреждения приказ запрещал категорически! Во время повторного чтения приказа в глаза Харви бросилась деталь, на которую он не обратил внимания сразу — нигде и никак не говорилось прямо о программе «Инвазия»! Рэй интуитивно чувствовал, что этот факт заслуживает серьезного внимания, у него бродили некие смутные тревожные соображения на этот счет, но это были жалкие тени четких умозаключений, скорее эмоции, нежели соображения. И Харви резонно решил держать этот необычный факт в уме, не тратя времени на его анализ. Тем не менее он перебрал оперативные документы, бегло просматривая заголовки и хвосты. Стандартная полицейская оперативная информация и ни слова об «Инвазии». За единственным исключением! Этим исключением была развернутая справка о золоте: «Программа: «Инвазия». Раздел: факторы трансцендентности. Спецификация: приложения, материалы и средства. Текст: Золото».
Повинуясь не логике, а наитию, рождаемому многолетним опытом, Харви достал из шкафа заряженный фотоаппарат и с профессиональной сноровкой лист за листом сфотографировал всю эту справку о золоте. Потом вышел к секретарше.
— Вызовите Фишера. Передайте ему пленку. Негатив и позитив в единственном экземпляре. Срочно!
— Сделаю, шеф.
— Чтобы ни одна душа не знала! Передай, будет утечка, он ответит головой. В случае чего — уничтожить. — И Харви на всякий случай показал на кнопку самоликвидатора, которым была оборудована кассета.
— Поняла, шеф. Не первый раз! Харви задержался возле ее стола.
— Первый, Джейн. Первый, — хмуро сказал он после паузы. И вернулся в кабинет.
Харви проработал около получаса, постепенно вводя своих агентов в наиболее горячие точки наблюдения. Его работу прервал зуммер телефона.
— Шеф, к нам гости, — услышал он голос Джейн.
На их условном языке гостями значились не те, кто искал помощи у сыскного агентства, а полиция, налоговые инспекторы и другие не очень приятные лица.
Нажатием кнопки Рэй открыл дистанционный дверной замок и ответил:
— Пусть войдут.
Опустив руку в карман, он снял свой пистолет с предохранителя. И только потом с некоторым недоумением подумал — а зачем и почему он, собственно, сделал это? Определенно, у него начали сдавать нервы!
В кабинет вошел пожилой человек среднего роста с сухим суровым лицом и притворил за собой дверь. Если бы Харви был в баре, где работала Керол Уолш, в момент задержания Немо Нигила, он бы узнал в этом человеке руководителя группы захвата. Но он там не был. Тем не менее лицо вошедшего показалось ему знакомым, хотя Харви и не мог вспомнить сразу, где они встречались раньше. Вошедший был в плаще, подчеркивая этим краткость своего визита.
— Френсис Ли, — представился вошедший. — Надеюсь, вам известно это имя.
— Документы, — сдержанно попросил Харви.
Документы были предъявлены. Их было более чем достаточно, вплоть до выписки из приказа, который открывал оперативные сводки.
— Я к вашим услугам, сэр, — проговорил Харви, поднимаясь на ноги и возвращая документы.
— Вы полностью вошли в курс дела? — спросил Ли, продолжая стоять возле стола и не предлагая сесть детективу.
Харви на мгновение замешкался.
— Нет, сэр, — он улыбнулся, — видите ли, я иду по информации сверху вниз и, чтобы не терять времени, сразу же стараюсь реагировать в оперативном аспекте.
Харви и сам не мог бы ответить толком, почему он, если и не солгал в полном смысле этого слова, то видоизменил истину. Это был расчетливый ход, не предчувствие, но обычная осторожность опытного исполнителя, избегающего демонстрировать свою осведомленность. Ли кивнул в знак понимания.
— Я вынужден забрать у вас одну бумагу, попавшую к вам по ошибке, — справку о золоте.
Теперь Харви, на лету ухватив суть дела, начал уже расчетливые действия и удивленно приподнял брови.
— Справку о золоте? По-моему, здесь лишь оперативные данные!
— Вы разве не просматривали всю подшивку?
— Бегло, сэр. Очень бегло. На оперативно несущественное я попросту не обращал внимания. Дефицит времени!
Ли снова кивнул.
— Понимаю. И тем не менее такая справка есть. Я ее забираю. И расписываюсь. — Он проделал это стоя. — Надеюсь, все в порядке?
— Да, сэр.
Ли перегнул справку о золоте пополам и спрятал во внутренний карман плаща.
— А теперь коротко об оперативных делах. Руководство ждет быстрого результата, мистер Харви. Кил Рой очень ловок, рекомендации по этому аспекту есть в этих бумагах, но очень неосторожен. Проще говоря, он плохой конспиратор, и выйти на него не так уж сложно. Вы получите любую помощь, которая потребуется. Но в течение ближайших суток Кил Рой должен быть схвачен. Вы получите персональное вознаграждение. И немалое! Но будет весьма, весьма огорчительно, если вы не справитесь с поставленной задачей.
Провожая своего нового дэдди, Харви обнаружил в приемной еще двух людей, типичных оперативников: сильных, рослых, тренированных. Один из них сидел в кресле с равнодушным выражением лица, далеко вытянув длинные ноги, второй оживленно болтал с Джейн. Когда визитеры удалились, Джейн сказала:
— Предложил поужинать вместе. Красивый парень!
— Согласились?
Джейн, с улыбкой разглядывая Харви, отрицательно покачала головой.
— Он расспрашивал о вас, шеф.
— Расспрашивал?
— Пробовал расспрашивать. Тяжелый ли чемодан принесли с собой. Много ли там было для меня подарков. С шуточками, но расспрашивал настойчиво.
Харви задумался.
— И что вы отвечали?
— Сказала, что подарков от вас не дождешься. А тяжел или легок чемодан — не знаю. Вы же здоровы, как призовой бык! Не разберешь.
— Спасибо. Но я пришел без чемодана, Джейн.
— Ему так хотелось услышать про чемодан! Я уж не стала его огорчать.
— Вы умница, Джейн. — Харви погладил подбородок. — На всякий случай обходите мой «паккард» подальше.
— Чемодан там?
— Там, в багажнике.
Не успел Харви расположиться за столом, как зазуммерил внутренний телефон.
— Просят по паролю, шеф, — услышал он голос Джейн.
— Соедините.
После некоторой паузы приглушенный голос спросил:
— Рэй?
— Харви.
— Рэй Харви или Харви Рэй?
Это был еще один контрольный пароль. Агент страховался, что называется, намертво.
— Как вам будет угодно.
Трубка молчала. Харви собрался было подтолкнуть агента, но в этот момент услышал голос:
— Монсеньер вышел в отставку.
Харви насторожился. Монсеньером значился полковник Мейседон. Отставка его в такой момент была фактом невероятным, однако этот факт неплохо укладывался в логическую кашу событий, начавшихся взрывом полицейского автомобиля. Однако же на армейском жаргоне выход в отставку имел не только буквальное значение.
— Хит? — спросил он.
— Аффирматив.
Харви чуть не выпустил из рук трубку, получив это подтверждение. Мейседон мертв! Страшная таинственная сила, уничтожившая полицейскую машину и пощадившая его, Рэя Харви, не пощадила Генри Мейседона. Теперь Харви понял, кто ему звонит — капитан Стенли, заместитель начальника пентагоновской полиции. Харви купил его услуги, и купил недешево, когда ввязался в дела этой проклятой программы. Он не мог позволить себе оставаться слепым, а Дейв Стенли нуждался — у него тяжело болела жена, жена, судя по всему, любимая. Две операции, сделанные ей за последние три года, и санаторное лечение съели все сбережения капитана Стенли. И он не устоял, когда Харви предложил крупную сумму единовременно и дополнительное вознаграждение за каждое сообщение.
— Подробности.
— Позже. Я и так рискую.
— Самую суть!
— Самоубийство, по официальной версии. Пока никто и ничего не знает.
Харви положил телефонную трубку и задумался. Полковник Мейседон, Генри Мейседон — мертв! И если это самоубийство по официальной версии, то фактически это, конечно же, убийство. Убийство в самом Биг-Хаусе! И не какого-то там лейтенанта военной полиции, а полковника, ответственного офицера разведки! Личность Рэя Харви лежала где-то в середине диапазона, отделявшего друг от друга офицеров, принимавших участие в программе «Инвазия» Поэтому если Харви допустит ошибку, его, не колеблясь, уберут с арены неведомой ему таинственной игры… Но как не ошибиться, если не знаешь правил этой игры?
Харви резко поднялся из-за стола и направился в приемную.
— Джейн!
— Да, шеф.
Харви открыл было рот, но спохватился, вернулся в кабинет и включил «гуделку» — довольно хитроумное устройство, исключавшее возможность электронного подслушивания, прослушивания и, к сожалению, даже самую возможность радио-и телефонных переговоров.
— Джейн, — повторил он, появляясь на пороге приемной. — Если мне вдруг придется покинуть Вашингтон, вы поедете со мной?
— Надолго, шеф? — деловым тоном уточнила секретарша.
— Навсегда.
Джейн молчала, разглядывая Харви. По ее лицу невозможно было догадаться, о чем она сейчас думает.
— И в какой же, собственно, роли вы предлагаете мне сопровождать вас? — медленно спросила она наконец.
— В роли жены, конечно.
Джейн засмеялась.
Харви хмуро смотрел на нее. Впрочем, чувства его быстро переменились, когда он увидел, как она достает из сумочки платок, и понял, что она не только смеется.
Харви подошел, наклонился и поцеловал ее в губы. Это был дружеский поцелуй — официальная обстановка конторы всегда действовала на них обоих самым дисциплинирующим образом. Распрямившись и считая затеянное им брачное дело решенным, Харви пододвинул стул и сел напротив секретарши.
— А теперь слушайте меня внимательно, Джейн.
— Все-таки беда?
— Не знаю пока, — честно признался Харви. — Но что она бродит где-то рядом, это уж точно.
— Что за беда?
Харви хотел промолчать, но потом нехотя сказал:
— Смерть. Шесть трупов за час с четвертью во главе с баззардом. — Харви помолчал, разглядывая свои большие, сильные рукч. — Если бы вы знали, Джейн, как мне надоели кровь и смерть!
— Надо уходить, — рассудительно сказала Джейн. — Я пойду с вами, Рэй Харви.
— Тогда слушайте. Внимательно! Ошибок быть не должно.
ВОДЫ СТИКСА
Мейседон встал из-за стола и прошелся по кабинету. Пройтись было где: кабинет был неожиданно просторен — площадь его соответствовала генеральским пентагоновским нормам и составляла тридцать квадратных метров. Но обставлен он был очень просто, без генеральской роскоши. Вся мебель металлическая, из алюминиевого сплава. Письменный стол, приставной столик с электролампой и телефонами, сейф, шкаф и стеллажи для книг и документов, кресла и стулья. У дальней стены за прозрачной отгородкой — еще один стол и стул возле него; это место для посетителей, которым предстоит, не выходя из кабинета, в той или иной мере познакомиться с программой «Инвазия». Окно в кабинете большое, до самого пола, забранное решеткой из толстых металлических прутьев. Выходило окно во внутренний двор — небольшой сквер с газонами, аллеями для прогулок и скамьями для отдыха. В центре этого внутреннего островка зелени и свежего воздуха небольшой бар.
Мейседон нервничал. Более получаса прошло после объявления тревоги, вернее, после того, как он переступил порог этого кабинета. И ничего! Молчат телефоны. Никаких вестей ни от лейтенанта Армстронга, отправившегося в Фоли-Сквер за документами, ни от лейтенанта Сейрована, который должен доставить сюда Рэя Харви. Когда Мейседон будет видеть там, за стеклянной отгородкой, его крупную фигуру, склонившуюся над столом, на душе будет спокойнее. Зазвонил телефон. Мейседон поспешил к столу, сорвал трубку — он по звуку сигнала понял, что заработал спецаппарат.
— Полковник Мейседон.
— Си-один, баззард, си-один, а не полковник Мейседон, — насмешливо пропела трубка голосом Чарльза Уотсона. — Харви прибыл?
— Си-три, а не Харви, — отпарировал Мейседон. — Нет, не прибыл.
— Жаль. А офицер с оперативными документами?
— Тоже пока не прибыл.
— Жаль-жаль. Послушайте, баззард. — По изменившемуся звуку голоса Мейседон догадался, что Уотсон прикрыл микрофон ладонью — наивная, инстинктивная и зряшная предосторожность доверительного разговора. — Вы поверили в реальность тревоги?
Мейседону стало тревожно. Ему задал этот вопрос фактический руководитель программы в ее техническом аспекте!
— Что вам сказать, Уотсон…
— Правду, одну правду и только правду! — перебила трубка.
— Руку на библию возложить? — пошутил Мейседон. Но Уотсон не принял шутки.
— Да или нет? — жестко переспросил он.
В трубке послышался щелчок, и легкий фон нормально работающего телефона пропал.
— Хэлло! Уотсон, вы слышите меня? Хэлло!
Трубка молчала. А потом безликий женский голос проговорил:
— Авария на линии связи. Об исправлении повреждения вас уведомят.
Мейседон положил телефонную трубку. Постоял неподвижно и вдруг услышал, как бьется его сердце — часто, торопливо, нервно. Происходило что-то непонятное и непредвиденное. Что? Он снова прошелся по кабинету, стараясь привести нервы в порядок. Уотсон что-то хотел сказать ему — это несомненно! Но сначала пожелал убедиться — верит ли Мейседон в реальность тревоги. А надо было говорить сразу, сразу! Уотсона прервали, разъединили, авария на линии связи — стандартный, набивший оскомину, неуклюжий камуфляж. Уотсону помешали сказать нечто весьма важное. Но, пожалуй, вопрос вопросов — это не что помешали ему сказать, а кто помешал. Если ЦРУ, ФБР, госдепартамент, Пентагон — полбеды. Но если это сделали силы инвазии, вызвавшие тревогу? Испуг, животный ужас заставил Мейседона стиснуть зубы. Если инвазия — реальность, то, парализуя волю и сопротивление человечества, космические силы в первую очередь обрушатся на программу, которая создана для противодействия.
Мейседон расслышал наконец стук в дверь. Стук был громкий, стучали, наверное, не первый раз.
— Войдите!
Вошел капитан Стенли, заместитель начальника пентагоновской полиции — подтянутый, корректный, с суровым, ничего не выражающим лицом, на котором четко выделялся шрам — след касательного пулевого ранения. Приблизившись к Мейседону, капитан протянул ему опечатанный пакет.
— На ваше имя, сэр. Лично!
Принимая пакет, Мейседон спросил:
— А где же лейтенант Армстронг?
— Он еще не прибыл, сэр. Пакет доставлен солдатом-курьером.
Мейседон кивнул и, проходя к столу, поинтересовался:
— Чем занят сержант Бредли?
Следуя за полковником, капитан пояснил:
— Сержант Бредли отлучился в туалет, сэр. Он постеснялся беспокоить вас по такому пустяку.
— В следующий раз пусть не стесняется, — рассеянно проговорил Мейседон, опускаясь в кресло и разглядывая опечатанный конверт без всяких сопроводительных надписей.
— Вы уверены, что это для меня?
— Уверен, сэр. Извините, но вы не рассмотрели одной детали.
Капитан зашел сбоку, естественным, свободным движением достал из кармана пистолет, приставил к правому виску Мейседона и выстрелил. Голова полковника дернулась от удара крупнокалиберной пули и со стуком упала на стол. Тело Мейседона напряглось, свершило несколько конвульсивных движений и обмякло.
— Господи, прости меня, — прошептал капитан.
Достав большой носовой платок, он тщательно протер пистолет — личный пистолет Мейседона, изъятый из его ординарного служебного кабинета, — наклонился, вложил рукоятку пистолета в безвольно свисавшую правую руку покойника, обжал ее пальцы и отпустил. Пистолет почти без стука упал на палас. Капитан распрямился, созерцая деяние рук своих. Теперь, когда ему уже не нужно было контролировать себя, а дело было сделано, его суровое лицо смялось, сделав капитана похожим на измученного, убитого горем старика. С видимым трудом подойдя к покойнику вплотную, он осторожно вытащил из-под тяжелой головы пакет, с одного угла залитый кровью, смял его в комок. Потом спохватился, расправил, сложил пополам и спрятал в карман. С отвращением посмотрев на свои руки, на которых остались от конверта слабые следы крови, он принялся ожесточенно вытирать их платком, используя в качестве моющего средства собственную слюну. Сунув платок в карман, он судорожно вздохнул.
— Прости меня, Боже! — капитан поцеловал обручальное кольцо. — И ты прости меня, Кэт. Ради тебя я пошел на это!
Если бы некий беспристрастный наблюдатель мог следить за капитаном Стенли, он стал бы свидетелем любопытного зрелища, свидетельствующего об удивительной гибкости человеческой натуры: к двери кабинета двинулся убитый горем, едва волочащий ноги старик, но с каждым шагом лицо его твердело, а походка становилась все более упругой. Из кабинета вышел подтянутый, суровый и корректный заместитель начальника полиции. Он тщательно запер за собой дверь, снял с нее табличку с шифрованным названием — дверь стала безликой и, по крайней мере на некоторое время, никому не нужной. Пакет и носовой платок капитан Стенли сжег в железном ящике, который специально для этой цели стоял в углу, пепел тщательно растер и забросал мусором. Выпрямившись, капитан критически осмотрел помещение, задержавшись взглядом на пустующих местах дежурного офицера и оператора. Потом вышел в коридор, запер за собой и эту дверь, осмотрелся — никого не было, Мейседон со своей группой размещался в тупичке. И с этой двери капитан снял шифрованную табличку, обезличив ее, растворив в великом множестве других дверей гигантского здания. И, печатая шаг, направился к центральному входу.
При входе Стенли подошел к свободному телефону-автомату и набрал номер. Услышав ответ, произнесенный женским голосом, он спросил:
— Я не ошибся, это номер… — И он с ошибкой на три цифры в большую сторону, что соответствовало паролю на текущий день, назвал только что набранный номер.
— Ошиблись, но попали по адресу.
— Мне дедди.
— О’кей!
Капитан огляделся. Все было спокойно, никто не вертелся рядом.
Лейтенант Армстронг, загрузивший автомобильный сейф не только оперативными документами, но и кипой каких-то секретных папок, по дороге в Пентагон был переориентирован на сложный объездной маршрут. Лейтенант не удивился: когда везешь столько секретных бумаг, принимаются самые разные меры предосторожности, в том числе и неожиданные изменения маршрута следования. Когда спецмашина проезжала мимо забора с прозрачными пластмассовыми окнами, ограждавшего строительную площадку, она взорвалась. Взрыв был как две капли воды похож на тот, который наблюдал Рэй Харви. Машину разнесло буквально на куски. Харви ошибался, подозревая ядерный взрыв. Взорвалась пластиковая прокладка автомобильного сейфа, вделанная конечно же давно и заблаговременно. Пластиковая взрывчатка была неординарной — она была сделана на основе соединений с инертными газами, мощность ее взрыва на целый порядок превышала мощность взрыва стандартного тринитротолуола. Оболочка сейфа играла при этом роль обычного корпуса бомбы, что усиливало бризантное действие взрыва и способствовало превращению хранящихся в сейфе документов в прах и пыль.
Сержант Бредли, оператор, был найден в туалетной комнате повесившимся. Он повесился в странной позе, сидя на унитазе. Шелковый шнурок, привязанный к крюку на стене над его головой, охватывал его горло. Сержант, видимо уже в агонии, с такой силой рванулся, что сломал себе шейные позвонки. Вскрытие показало, что Бредли принял чрезмерную дозу героина. Наркотик был найден и в его кармане. Это был героин высшего качества, называемый наркоманами динамитом. По-видимому, Бредли перепутал его с гораздо менее эффективным героином кустарного производства, это и стимулировало роковой исход: банг-ап динамита вызвал полное помрачение рассудка со сдвигом к крайнему мазохизму. Ретроспективное расследование позволило установить, что сержант Бредли был скрытым наркоманом-тихушником и уже несколько лет весьма ловко, не вызывая особых подозрений сослуживцев, предавался этому пороку. Этот акт никого не удивил. Все знали, что в Пентагоне немало наркоманов на всех без исключения ступенях служебной лестницы.
Харви остался в неведении относительно судьбы сержанта Бредли, он его и не интересовал. Но о машине лейтенанта Армстронга, вывезшей из ФБР некие секретные документы, он кое-что узнал. Сначала тот же капитан Стенли сообщил ему, что спецмашина, отправленная в Фоли-Сквер монсеньером, не вернулась, так сказать, на свою базу. А когда Харви потормошил свою агентуру, то узнал и о взрыве, который превратил автомобиль военной полиции в разбросанную груду металлолома, удобренную человеческими останками.
СНОВА НЕОЖИДАННОЕ
Харви позвонил несколько раз в дверь Линклейтора и убедился, что тот не только не собирается открывать, но, скорее всего, попросту отключил дверной звонок, благо в его цепь был вмонтирован соответствующий тумблер. Тогда он постучал, и достаточно громко, известным Хобо условным образом, постучал трижды, а потом встал так, чтобы его можно было хорошо рассмотреть через дверной глазок. Это возымело свое действие. Через некоторое время щелкнул замок, дверь распахнулась, и Харви узрел Хобо — в свежей белой рубашке, расстегнутый ворот которой обнажал жирную волосатую грудь, и, что самое поразительное, трезвого и недовольного.
— А Джейн сказала, что ты нездоров, — сказал Харви, проходя в квартиру и не без удивления разглядывая довольно свежее лицо Линклейтора. Только мешки под глазами да красные прожилки и желтизна белков глаз выдавали в нем сейчас крепко пьющего человека.
— Нездоровье, мой милый, бывает разное, — пробурчал Хобо, закрывая дверь на один замок, а потом и на другой. Харви первый раз видел, чтобы Хобо пользовался вторым замком, и удивился еще больше.
— Боишься, чтобы не улетело прекрасное создание? — спросил Харви, намекая на очередную девицу из тех, что время от времени неизвестно на каких правах обитали в этой квартире. Хобо почему-то засмеялся, отчего заколыхался вместе с тонкой рубашкой его объемистый живот.
— Насчет небесного создания — это ты здорово. — Линклейтор приобнял Харви своей мягкой, теплой рукой. — Проходи, садись, где тебе удобнее.
Харви выбрал стул, а Хобо плюхнулся на жалобно вздохнувший диван и развалился, растекся на его подушках. По некоторым признакам Рэй понял, что его первое впечатление о том, что Хобо вовсе не брал сегодня в рот спиртного, — ошибочно. Брал, но был более чем достаточно трезв и для серьезных разговоров, и для серьезных дел. В гостиной, как и всегда, был идеальный порядок, но, странно, в ней стоял некий чужой, не свойственный ей изначально запах.
— Между прочим, — лениво и не без сарказма заметил Хобо, — твоя Джейн четверть часа тому назад звонила мне и сообщила, представь себе, по твоему поручению, что я тебе сегодня совсем не нужен и могу располагать временем по своему усмотрению.
— Все течет, все изменяется, — рассеянно ответил Харви, все еще принюхиваясь к необычным квартирным запахам.
— Вот как! — усмехнулся Хобо, колыхнув жирным животом. — Ты познакомился с Гераклитом?
— Кто такой Гераклит? — заинтересовался Харви.
— Был такой философ в античные времена. Он высказал ту же самую мысль, которую только что произнесли твои уста. И так же, как и тебя, понять этого философа было трудно. Да будет тебе известно, что в переводе на наш грешный и несовершенный язык Гераклит — значит темный.
— Нет, с Гераклитом я не знаком.
Харви выразительно показал глазами на спальню: квартирные ароматы определенно свидетельствовали, что в ней не то побывал, не то и сейчас находился кто-то чужой.
Хобо сделал вид, что не понимает, о чем, собственно, идет речь.
Тогда Харви демонстративно повел носом и снова показал глазами на спальню. Хобо захохотал.
— Ну и нюх у тебя! Как у чистокровного сеттера. — Опершись ладонями на пухлые колени, Хобо тяжело поднялся с дивана. — Пойдем на кухню. Там и потолкуем.
Тщательно прикрыв дверь гостиной, Харви вполголоса спросил:
— Кто у тебя?
— А вот это уж не твое дело, — лениво ответил Хобо и пододвинул ему ногой белую, как в больнице, табуретку. — Садись.
Сам он, кряхтя — мешало брюхо, — наклонился к холодильнику и достал оттуда початую бутылку водки и кувшин с томатным соком. Кувшин поставить Харви разрешил, а вот бутылку перехватил. Хобо не сопротивлялся — знал, что ему не справиться с Рэем. Все так же лениво он поинтересовался:
— Я тебе нужен трезвый или работоспособный?
— И трезвый, и работоспособный!
Хобо широко улыбнулся.
— У меня так не бывает! Ты же знаешь. — Он спокойно забрал бутылку из рук Харви, подхватил с полки два высоких узкогорлых стакана и поставил рядом с кувшином. Пристраиваясь на табуретке, спросил меланхолично: — Ты не находишь, что табуретки нынче делают уж слишком миниатюрными? Тебе налить глоточек?
Харви покачал головой. Уже в который раз он убеждался, что Хила Линклейтора надо принимать таким, каков он есть, или вообще не принимать. Пытаться изменить его — все равно, что носить воду в решете: потрудиться можно, но толку не будет.
— Не беспокойся, я сегодня и сам по себе должен быть в форме. — Хобо и правда налил водки немного, на два пальца, не больше, долил томатным соком и с видимым удовольствием хлебнул свой любимый коктейль. — Слушаю, Рэй.
— Серьезное дело, Хил. Кстати, твой телефон, скорее всего, прослушивается. Джейн звонила, собственно, не для тебя, а для тех, кто слушает.
Лицо Хобо помрачнело. Он еще раз глотнул своего пойла и спросил:
— А точно узнать — прослушивается или нет — сможешь? Я же знаю, у тебя есть связи!
— Не смогу. Я должен делать вид, что меня не интересуют ни ты, ни твой телефон.
— Это почему же? — ворчливо полюбопытствовал Хобо.
— А потому что мне нужна твоя помощь, нет расчета давать зацепку и привлекать к тебе внимание. Дело серьезное, Хил. На моих глазах полицейский лимузин, мотоцикл, а вместе с ними и пять «МР», один из них лейтенант, взлетели на воздух.
Обо всем остальном, в том числе и об убийстве полковника Мейседона, Харви пока решил благоразумно промолчать.
Линклейтор присвистнул.
— Пять «МР» — это серьезно! Но на кой черт? Они же ни деньги, ни золото не возят. Охраняли какую-нибудь шишку?
Харви усмехнулся.
— Меня.
— Тебя? — Хобо смотрел на детектива недоверчиво, а когда разобрался, что тот не шутит, не нашел ничего лучшего, как допить свою «Блади-мэри». — Ты говори толком, не темни.
Харви через плечо покосился на дверь.
— Она не подслушивает?
— Почему ты решил, что там именно она? — Хобо хохотнул, очень довольный тем, что озадачил товарища, и успокоил: — Исключено. Можешь говорить спокойно, как в своей конторе при включенной «гуделке».
Харви задумался.
— И все-таки кто там?
— Да какое твое дело! — Линклейтор почесал свою широкую волосатую грудь, разглядывая Харви. — Впрочем, изволь: там некий Эндрью Грин, коммивояжер. А вообще, это тот самый парень, для которого я доставал у тебя чистый картон. У меня с ним давние связи и дела. Помнишь, ты доставал по моей просьбе целую кучу наркотиков, нейролептиков и психогенов, которыми забавляются ребята из Фоли-Сквер? Это для него.
— И сам наркоман?
— Наркоман? — Линклейтор как-то странно взглянул на Харви, непонятно чему засмеялся. — Нет, Рэй. Тут совсем другое. Чудны дела твои, Господи! Но и люди иногда занимаются чудными, дивными делами.
Харви не совсем понял, что хотел сказать ему Хобо, упоминая о Господе Боге и его делах. Но это упоминание вдруг породило у него странную догадку, которая была в одно и то же время и совершенно невероятна и по-домашнему естественна. Пока Харви ломал себе голову, как бы высказать эту догадку, да так, чтобы Хил не принял его за сумасшедшего, Линклейтор поднес стакан ко рту. Рэй насторожился. И точно в нужный момент спросил, словно выстрелил:
— Кил Рой! Не так ли имя твоего клиента?
Хобо поперхнулся, но все-таки протолкнул алкоголь в свое луженое горло, с отвращением покрутил головой и разок-другой откашлялся.
— Кил Рой, он же Немо Нигил, — без всякого торжества констатировал Харви. Вместо торжества он испытывал чувство, похожее на разочарование. Таинственный похититель золота, умеющий умирать так, что его отвозят в морг полицейские, а потом воскресать как ни в чем не бывало, превращался в заурядного человека, который торговал наркотиками и прятался в спальне Хобо. Нет, определенно, вопреки всякой утилитарной логике и здравому сыскному смыслу, Рэй Харви испытывал все более явное разочарование. Хобо между тем налил себе томатного сока, залпом выпил его, еще раз прочистил горло и лишь после этого спокойно проговорил:
— Угадал. — И крутнул большой головой, с интересом приглядываясь к Рэю. — Ловко ты подцепил меня, старого, травленого-перетравленного волка, на крючок!
— По Интерполу он проходит?
Хобо непонимающе взглянул на Харви, потом сообразил, что тот имеет в виду. И ответил вопросом на вопрос:
— Ты знаешь, кто такой Гудини?
Харви знал, что Линклейтор редко спрашивает о чем-нибудь, как будто бы не относящемся к делу, без дальнего прицела, а поэтому наморщил лоб и добросовестно задумался.
— Знаю, — сказал он наконец удовлетворенно. — Это совладелец небольшого итальянского ресторанчика, куда заглядывают иногда офицеры, в штатском, само собой. Несколько раз он оказывался полезным. Пронырливый малый!
— Ты слишком деловой человек, Рэй, — философски заметил он. — Слишком. Для мелких дел это даже полезно, но в омуте дел крупных становится пороком. Мотай на ус: Гудини — не только совладелец итальянского ресторанчика, но и великий, неповторимый клишник. Ты, конечно, знаешь, что такое клишник.
— Просвещался под твоим руководством.
— Ты профессионал — и этим все сказано. Но Гудини был не просто клишник, это был, если перефразировать Библию, клишник клишников и всяческое клишнение. Гудини заковывали, зашивали в мешок, укладывали в ящик, обвязывали оный канатами, швыряли в реку… И через несколько минут он показывался на поверхности воды, свободный как птица, я хотел сказать — как рыба. В присутствии авторитетной комиссии его — голого — сажали в надежную тюремную камеру, запирали на все существующие засовы, замки… И спустя несколько минут он появлялся перед членами комиссии во фраке и цилиндре. Его главные фокусы, если это лишь одни фокусы и только фокусы, не разгаданы и до сих пор. Но что самое интересное, ты держи это в уме как второй ингредиент, Гудини оставил в абонированном банковском сейфе завещание, в котором, по его собственному заявлению, изложил секреты всех этих фокусов. И наказал вскрыть это завещание ровно через сто лет после его смерти. Когда банковский сейф по прошествии вековой паузы был вскрыт, он оказался пустым, как выпитая бутылка. Пустым! Никто толком не знает, в чем тут дело, а я, Хилари Линклейтор, знаю. — Хобо доверительно понизил голос. — Завещание у Энди! Изъять его было проще, чем эти тринадцать килограммов золота, которые Энди конфисковал в банке на пари.
— Это было пари? — удивился Харви.
— Самое настоящее пари по джентльменскому соглашению. Но потом один из джентльменов — не Энди, а его контрагент — повел себя не по-джентльменски. Начались неувязки, вмешалась полиция. Хорошо еще, что по моему совету Энди заблаговременно подготовил для себя запасной ход.
— Кто он, этот Энди — Кил Рой? — нетерпеливо перебил Харви. — В своей обычной жизни? Поверь, Хил, это не пустое любопытство. Чуть позже я тебе все объясню.
Хобо пожал рыхлыми плечами.
— Секрета нет. Энди окончил колледж, но работает в мастерской по ремонту сейфов, шкатулок с секретами и сюрпризами, сложных замков. Мастер высшего класса! Хозяин в нем души не чает и дает хорошо заработать. Но Энди нищ и наг! Все свои деньги он просаживает на исследования и эксперименты. И они того стоят!
— Странно. — Харви задумался, спрятав лицо в ладонях. — У меня есть оперативные данные на Кил Роя от местной, федеральной полиции и даже, я так полагаю, из ФБР. Как же они не докопались, что это — Энди Клайнстон?
— Я вижу, ты работаешь с размахом!
Харви досадливо махнул своей тяжелой дланью, случайно задел край стола, бутылка водки качнулась, и Хобо с неожиданной ловкостью подхватил ее.
— Осторожнее, гиппо! Оставишь меня без горючего.
— Это не я работаю, Хил.
— Кто же?
— Если бы я знал это! — Харви тяжело вздохнул и с некоторым лукавством добавил: — Мне дали сутки, чтобы я зацапал Кил Роя и живым и невредимым доставил своим хозяевам.
Линклейтор чуть не уронил бутылку, которую любовно устанавливал рядом с кувшином.
— Шутишь? — сухо спросил он.
— Какие шутки! Но не беспокойся, я не трону твоего Энди. — Он грустно усмехнулся. — Видишь ли, Хил, я почти уверен, что, как только я передам Кил Роя по назначению, опытный триггерман отправит меня в бессрочную командировку. В гости к полковнику Мейседону.
— Что ты мелешь?
— Баззард застрелился в собственном кабинете. Но это лишь официальная версия.
— Ни черта не понимаю! Можешь ты мне толком сказать, в чем дело? — рассердился Хобо.
Не отвечая ему, Харви провел своей большой грубой ладонью по лицу, точно стирая с нее пыль или грязь.
— Скажи мне, Хил, — просительно проговорил он. — Ты уверен, что Энди — Кил Рой — человек?
— Кем же он может быть еще? — Хобо хмыкнул, приглядываясь к товарищу. — Ты никак вообразил, что он и в самом деле с Фомальгаута?
— С какого еще Фомальгаута?
Линклейтор перестал смеяться.
— А что, в оперативных сводках Фомальгаут не значится?
— Нет, Хил.
— Может быть, ты плохо смотрел?
— Я смотрел хорошо. И не один раз. Про этот Фомальгаут там нет ни строчки!
Хобо сделал в сторону спальни приветственный жест.
— Молодец, Энди! Если в документах об этом ни строчки, значит, они клюнули. Теперь они и волосок на его голове побоятся тронуть! Хитрую штуку подбросил им Энди. — Опираясь на пухлые колени, Хобо принялся было подниматься на ноги, но снова шлепнулся на табурет, похлопал себя по карманам и достал визитную карточку, тисненную золотом на черном глянцевом картоне. — Вот как он представился полиции.
Пока Харви с любопытством разглядывал необычную визитку, Линклейтор ввел его в курс дела и пояснил, что Фомальгаут — это яркая белая звезда первой величины, альфа в созвездии Южная Рыба, видимая лишь на небе Южного полушария. До звезды семь парсеков, свет идет оттуда до Земли двадцать три года, ну, а если туда лететь самолетом, то не хватит не только жизни, но и всего времени существования человеческой цивилизации. — Энди и подбросил полиции мысль, что он звездный пришелец с Фомальгаута! — И Хобо, очень довольный этой проделкой, захохотал.
Но Харви не смеялся.
— А если он и правда с Фомальгаута?
Линклейтор покачал головой, точно услышал несусветную глупость, и лениво возразил:
— Ты же здравомыслящий человек, Рэй.
— Но он умер! Полицейские врачи официально констатировали его смерть. А их никак не заподозришь в неумении ставить этот диагноз. А потом воскрес!
Хобо с довольным видом мотнул своей башкой.
— Энди мастер на такие штуки! — Он покосился на непривычно встревоженное лицо Харви и ухмыльнулся. — Как тебя перекосило! Ты ли это, знаменитый мустанг и гамшу, который, как утверждает молва, не боится ни Бога, ни черта, ни ножа, ни пистолета? Успокойся! Энди не Иисус Христос — он не воскресал, просто очень ловко притворился мертвым. Искусство!
— Где же колледж, в котором твой Энди учился этому искусству?
На физиономию Линклейтора набежало облачко раздумья.
— Я не раз пытал его по этому поводу. Но Энди темнит! И сознательно напускает вокруг себя туману. Не будь этого тумана, гангстеры давно бы прибрали его к рукам, а так побаиваются. Сами не зная чего. — Хобо помолчал, оглаживая пухлой рукой гладко выбритые щеки, и усмехнулся, переводя взгляд на детектива. — Энди утверждает, что научился этому искусству в Шамбале.
Харви поморщил лоб.
— Это в каком штате?
Линклейтор удовлетворенно кивнул.
— Вот-вот! Для янки весь мир умещается в пятидесяти штатах, а что сверх того — от лукавого. — Он вздохнул. — С Шамбалой мы заберемся в такие дебри, что не выберемся оттуда и до конца недели. Вот что, пригласим сюда Энди и обсудим все спокойно и не торопясь.
— Почему бы нам не пойти в гостиную?
ТУМАН
Линклейтор возлегал на подушке дивана с дорогой сигарой — настоящей гаваной — в руке. Курил он редко, только в тех случаях, когда нервничал, а обстоятельства не позволяли напиться в привычной норме. Вид у него был сердитый и отсутствующий: он весь ушел в собственные мысли, воспарил духом, как он сам характеризовал это состояние. Харви просто отдыхал, откинувшись на спинку кресла и далеко вытянув ноги: сказывалась физическая усталость — он поднялся на ноги еще до восхода солнца и до сих пор в потоке захлестнувших его событий не имел ни секунды передышки. Клайнстон в белой шелковой рубашке, которая была ему явно широковата, подтянутый и свежий, еще раз перебирал и просматривал фотокопии справки о золоте, принесенные Харви. Отложив наконец большую старинную лупу в серебряной оправе, Клайнстон собрал фотокопии аккуратной стопочкой, несколькими скользящими движениями перетасовал их, точно колоду игральных карт, и протянул детективу.
— Любопытно. На фоне этой справки мои действия и в самом деле приобретают инопланетную окраску.
Линклейтор повернулся на эту реплику, и высокий светлый столбик пепла на конце его сигары осыпался. Чертыхнувшись, Хобо приподнялся на локте, отряхнул рубашку и принял полулежачее положение, отчего стал похож на обжору-римлянина, рассерженного задержкой очередной серии пиршественных блюд.
— Послушай, Рэй, ты уверен, что тебе не пригрезился этот мемо с предупреждением о двадцатилетнем тюремном заключении. Тот, что ты листал в полицейском каре?
Детектив ограничился тем, что отрицательно покачал головой.
— Не понимаю, — невнятно пробурчал Хобо, жуя в углу рта конец сигары. — Познакомили — и тут же уничтожили и документы, и машину, и всех свидетелей! Мало того, отправили к праотцам технического руководителя всей программы — полковника Мейседона! Кому это выгодно?
— Инопланетянам! — с улыбкой подсказал Клайнстон.
Хобо поморщился.
— Я серьезно, Энди.
— И я серьезно! Утренний визит супругов в банк, в котором я изъял золото, — чистая случайность. Не случись этого, где гарантия, что в мой номер в «Тюдор-отеле» не явились бы звездные пришельцы, потерпевшие аварию и нуждающиеся в золоте для ремонта корабля? Ну, а потеряв мой след, пришельцы на всякий случай вывели из строя программу «Инвазия», а Харви с его конторой мобилизовали для поисков и меня и золота. Разве не логично? — Клайнстон усмехнулся. — К тому же, может быть, инопланетяне узрели во мне брата по крови!
Харви удивленно взглянул на Клайнстона.
— Какого там еще брата? — проворчал Хобо, но в голосе его прозвучал некий абстрактный интерес.
— Самого настоящего! Я — круглый сирота, рос в приюте, учился и воспитывался в интернате. Способности к глубокой медитации у меня врожденные. Я долгое время был уверен, что все люди умеют регулировать ритм своего сердца, задерживать дыхание, погружать себя в сон, когда это заблагорассудится, подавлять чувство голода и боли. Я был потрясен, когда узнал, что это не так. Я пожалел людей и в то же время почувствовал себя очень одиноким. Так где же гарантия, что я не подкидыш-инопланетянин?
— Вы все шутите, Энди.
— Почему же обязательно шучу? — Клайнстон продолжал улыбаться. — Вселенная бесконечна! В ней бесчисленное множество обитаемых миров. Почему бы некоторым из братьев по разуму не возжаждать земных радостей или не попросить человеческой помощи?
— Вы все шутите, — миролюбиво повторил Хобо, метко швыряя окурок в бронзовую пепельницу. — А вот Харви не до шуток. Что ты скажешь на этот счет, Рэй?
Харви потянулся, разминая затекшие мышцы, кресло испуганно скрипнуло.
— Инопланетяне — не по моей части, Хил. Поэтому скажу, что я попал в патентованный, на совесть сработанный капкан. Если я завтра не доставлю своему боссу Кил Роя, Немо Нигила и Фому ль’Гаута, скованного, связанного, усыпленного наркотиком и аккуратно упакованного в пластиковый мешок особой прочности, как это диктует инструкция, — Харви не без мрачноватого юмора поклонился Клайнстону, — то мне будет плохо. Если же я сделаю это, то мне будет, скорее всего, еще хуже! А что сверх этого — сплошной туман!
Линклейтор смотрел на Харви любовно, как смотрят хорошие скульпторы на удавшееся творение рук своих.
— Вот это называется взять быка за рога! — Энергичным движением руки Хобо взлохматил свою шевелюру. — Ставлю доллар против гранда, что вся эта программа «Инвазия» — дым, мимикрия, камуфляж для маскировки чисто земных, каких-то очень пакостных дел. Поверьте моему чутью! Готов сесть на электрический стул и лично выбрить себе проплешину, если это не так. Я не понимаю, зачем кому-то из верхов, скорее всего Кейсуэллу, понадобилось это дурацкое пари и эти еще более дурацкие тринадцать килограммов золота. Но совершенно ясно — в их операции произошла какая-то накладка! И по ходу событий они переориентировались. Теперь им нужны вы — Эндимион Клайнстон!
Жестом римского сенатора Линклейтор указал на своего гостя и выдержал внушительную паузу.
— И пока у них есть надежда получить означенного Зндимиона с помощью частного детектива Рэя Харви, они будут ждать. Они изъяли дело о золоте из рук полиции, напустили тумана с этой «Инвазией», убрали лишних свидетелей, сделали ставку на Харви и теперь будут ждать. А мы ждать не будем! — Лицо Линклейтора подобралось, резче прописались складки в углах рта. — Впереди вечер, ночь, до утра еще далеко. Надо выйти на этого советника, на Джона Кейсуэлла и выпотрошить его безо всякой жалости! Туман рассеется, и можно будет принять толковое решение. Что ты скажешь, Рэй?
Харви размышлял. Его крупные сильные руки неподвижно, точно отдыхая и накапливая силу, лежали на столе.
— Подходов к самому Кейсуэллу у меня нет, — наконец неторопливо проговорил он. — Слишком крупная фигура, не по зубам. Но план его дома я раздобыл в свое время. Просто так, на всякий случай. Хороший план Хил. Со всеми системами охраны и сигнализации.
— Умница!
— Если Энди согласится мне помочь, я возьмусь за это дело. Потрясти Кейсуэлла следует!
Линклейтор волчком, несмотря на свой вес, повернулся к Клайнстону.
— Ваше слово?
Клайнстон сдержанно поклонился.
— Я к вашим услугам, мистер Харви.
Линклейтор возбужденно прошелся по комнате, зацепил бедром стол и беззлобно, мимоходом чертыхнулся.
— Послушай, Рэй, моя контора под наблюдением? Признавая прозорливость товарища, Харви развел руками.
— Под двойным. Мои ребята следят за теми, кто следит за тобой. К тебе я прошел незамеченным — обычная операция на отвлечение.
— Ты придумал, куда и как мы будем уходить отсюда?
— С этим все в порядке. У меня есть резервная конспиративная квартирка. Я использовал ее всего три раза для встреч с иногородними, причем доставляли и увозили их так, чтобы они не могли зафиксировать маршрут. Место надежное, по крайней мере на несколько суток. Уверен, что ни полиции, ни ФБР ничего о ней не известно, пока, разумеется.
Линклейтор одобрительно кивнул.
— Фор-оу. — И, с некоторым сожалением оглядывая гостиную, добавил: — Из этой мышеловки конечно же надо уходить. Но сначала перекусим. И поплотнее! Кто знает, как обернутся дела? Я отлучусь на кухню, а вы готовьте желудки — через четверть часа я накрою стол.
Уже в дверях Хобо обернулся и порекомендовал:
— Побеседуйте. Проинформируйте друг друга. Пройдитесь по всем горячим точкам. Может быть, кое-что и прояснится!
СУПЕРЙОГА
Харви и Клайнстон с интересом присматривались друг к другу — они впервые остались вот так, с глазу на глаз, а им предстояло рискованное дело, за которое не стоило браться без некоторого минимума взаимного доверия. Посторонний наблюдатель, несмотря на очевидную несхожесть этих людей, постепенно и не без удивления начал бы обнаруживать в них некое скрытое внутреннее родство, называвшееся в эпоху господства церкви и веры родством душ.
Харви был по-крестьянски прост и открыт, сухощав, широк в кости и, очевидно, силен, о чем говорили и некоторая скованность позы, и нарочитая замедленность движений, свойственная людям, которые боятся ненароком что-нибудь сломать или разбить. Но стоило собеседнику вглядеться в спокойные карие глаза Харви, как он ощущал через них напряженное биение пусть не очень отшлифованной, но незаурядной мысли. И тогда становилось ясно, что простота Харви более кажущаяся, чем реальная, и что ею далеко не исчерпывается этот неординарный характер.
Клайнстон был аристократически сдержан и как бы овеян тайной, его замкнутость лишь подчеркивала вежливость и холодноватый, ироничный юмор. Его физическая сила, может быть, не уступала силе Харви, но она была глубоко запрятана в литом тренированном теле, размыта высокой культурой движений, когда каждый жест предельно экономен и точно служит поставленной цели. Клайнстон, казалось, без всяких усилий с его стороны, держал собеседников на почтительной дистанции. Но человек, удостоенный доверия, присмотревшись к его легкой, скользящей улыбке, к выражению его светлых, почти бесцветных глаз, в которых иногда, казалось бы совсем некстати, проглядывало выражение непонятной грусти, понимал, что Клайнстон и добр и надежен.
Поначалу разговор не клеился. Без особой охоты Харви взял инициативу на себя и принялся за расспросы. Клайнстон, вопреки его опасениям, отвечал откровенно и хотя очень коротко, но точно. Он рассказал, что неоднократно получал предложения участвовать в хищениях со взломом или вскрытием сейфов. Клайнстона пытались припугнуть — и письмами, и мордобоем, и имитацией покушений, но он держался твердо, знал, что стоит уступить один раз, как гангстерские сети запутают его намертво. Одна из имитаций покушения — хозяин мастерской клялся, что гангстеры высоко ценят Клайнстона и никогда не покушались всерьез на его жизнь, — закончилась трагично — погиб давний друг Клайнстона Герберт Уолш. Клайнстон, тяжело переживавший эту нелепую смерть, окончательно прозрел — понял, что не сможет долго сопротивляться натиску преступного мира и рано ли, поздно ли, но вынужден будет сдаться. Клайнстон почти физически ощущал, как липкая гангстерская паутина опутывает его все туже и туже. Надо было что-то предпринимать, но что? Даже Хил Линклейтор признался, что если у Клайнстона нет приличной суммы наличными, которая позволила бы ему бросить работу и затаиться на годик-другой, то он не может посоветовать ничего, кроме выгодной сделки с гангстерами. Все воруют в нашем свободном мире, успокаивал Хобо Клайнстона. Важно не продешевить. Воровать — так сразу миллион! Тогда, если и попадешь в тюрьму, то и там можно жить с комфортом. Клайнстон был, что называется, на распутье. И вот тут-то и появился некий джентльмен, предложивший Клайнстону необычное пари.
— Это был именно джентльмен?
— Именно джентльмен! Во всяком случае, он так выглядел и так держался. Прекрасно одетый, респектабельный мужчина средних лет, говоривший скорее по-английски, чем по-американски. Приехал на «кадиллаке» последней модели, за рулем сидел шофер, который вел себя, как слуга. Приехавший представился Смитом, но дал понять, что это — не настоящее его имя. Сказал, что представляет двух богатых людей. Богатых по-американски. Очень богатых и заключивших между собой пари, разыграть которое они поручают мне.
Харви усмехнулся.
— И вы поверили?
Клайнстон пожал плечами.
— Я тогда не думал об этом. Согласитесь, пари — это все-таки не открытое преступление. И приятнее чувствовать поддержку двух очень богатых людей, чем гангстерской шайки.
— Вас хорошо подготовили к этому шагу. Вы согласились сразу?
— Нет. Я попросил разрешения подумать. И отправился на консультацию к Хилу. Он порекомендовал мне согласиться с двумя оговорками. Во-первых, совместно с ним проработать аварийный вариант действий, отнюдь не уведомляя об этом контрагентов. Во-вторых, выговорить в свою пользу золота — золото, сказал он, никогда не бывает лишним. На мои условия согласились.
— Кто? Все тот же Смит?
— Он самый. На том же «кадиллаке» и с тем же шофером.
— Кроме Смита вы ни с кем по этому пари не общались, нет? Шофера в лицо запомнили? Прекрасно. — Харви достал из кармана конверт. Вынул из него фотографии величиной с визитную карточку и веером раскинул на столе. — Посмотрите внимательно. Может быть, кто-нибудь из них похож на Смита или его шофера?
На столе лежали фотографии Кейсуэлла, Мейседона, Уотсона, Стенли и Френсиса Ли, теперешнего оперативного начальника Харви, сфотографированного автоматической скрытой камерой прямо в его кабинете. Склоняясь к фотографиям, Клайнстон проговорил:
— У вас не пиджак, а фотолаборатория, мистер Харви.
— Перестаньте называть меня мистером, Энди, Не тот момент. Пиджак частного детектива — тот же сейф, когда это требуется, конечно.
Добросовестно просмотрев каждую фотографию, Клайнстон отрицательно качнул головой.
— Нет здесь ни Смита, ни его шофера. Это совершенно точно.
Харви, от которого не укрылось, что Клайнстон улыбнулся, разглядывая одну из фотографий, изменил форму вопроса.
— Посмотрите еще раз. Может быть, с кем-нибудь из этих людей вы все-таки встречались по ходу своей «золотой» операции? В банке? На выходе из него? По пути…
— Тут и смотреть нечего, — перебил Клайнстон, передавая Харви фотографию Френсиса. — Вот этот человек руководил моим арестом в баре, когда я был вынужден выдать себя за мертвеца.
Харви не сдержал своего удовлетворения, благо в такой сдержанности не было ровно никакой необходимости.
— Кэйсуэлл? — полюбопытствовал Клайнстон, следивший за выражением лица детектива.
Харви ограничился тем, что отрицательно покачал головой — ему не хотелось вдаваться в подробности.
— Итак, Энди, вы спрятались в подвале банка, дождались закрытия, изъяли из указанного вам сейфа тринадцать слитков девятьсот девяносто пятой пробы. И что же дальше?
Клайнстон улыбнулся.
— Сущие пустяки. Закрыл сейф так, чтобы не осталось никаких следов, уложил слитки в атташе-кейс, дождался открытия банка, спокойно вышел из него и доставил золото в номер «Тюдор-отеля», как и было условлено.
Харви откинулся на спинку кресла, разглядывая Клайнстона.
— Пустяки! Но ведь вам потребовалось чуть ли не двенадцать часов просидеть в подвале, заполненном азотом!
Клайнстон улыбнулся.
— У меня был кислород — целый литр под давлением сто пятьдесят атмосфер, итого сто пятьдесят литров. И простейший портативный респиратор с полузамкнутой циркуляцией и регулируемым подсосом окружающей среды. В состоянии глубокой медитации потребление кислорода снижается во много раз. Я провел несколько тренировок и убедился, что двенадцать часов с моим снаряжением, — далеко не предел. Так что риск был минимальным.
Харви тяжко вздохнул.
— Опять эта медитация! Неужели нельзя попроще объяснить — что и как?
— Никто не знает — что и как, ни попроще, ни посложнее. Есть психическое состояние, добытое опытом многих и многих поколений людей, есть разные названия этого состояния. И никто не знает — что и как. — Клайнстон слегка поклонился. — Кроме меня, разумеется.
— В это можно поверить. Не поделитесь? Удержаться от соблазна проникнуть в такую тайну
Харви не смог. Не случайно же он стал частным детективом и недекларированным хранителем многих и разных чужих тайн и секретов. Тяга к тайному, к сверхъестественному, доступному немногим, жила у него в крови с раннего детства.
— Кое-чем могу поделиться, — поразмыслив, решил Клайнстон.
— Слушаю!
Харви так поторопился с этим ответом, что Клайнстон не сдержал улыбку.
— Придется начать издалека, Рэй. Когда человек еще только формировался в своем современном облике, среди ранних палеантропов, которых называют еще неандертальцами, выделилась специфическая ветвь эволюции. Я не очень специален?
— Нет, — успокоил Харви, усаживаясь в кресле поудобнее. — Я слышал о неандертальцах. И даже видел в музее — не помню в каком — скульптуру в натуральную величину. Должен сказать, что среди подонков встречаются типы и пострашнее.
Они посмеялись, и Клайнстон продолжал:
— Часть ранних неандертальцев, попавших в критические условия бытия из-за прогресса оледенения и общего похолодания, свернула с пути прямого покорения природы, что характерно для антропогенеза как такового, в сторону приспособления к ней. В этом особом русле антропогенеза выживали те палеантропы, которые в экстремальных условиях голода, холода и бескормицы приобретали способность впадать в особое анабиотическое состояние, напоминающее спячку животных.
— Вроде спячки медведей? — с усмешкой уточнил Харви.
— Сходство, конечно, есть, но есть и существенные различия. Медведи впадают в спячку бессознательно, а неандертальцы были без пяти минут людьми, они уже обладали прототипом разума, сознанием, хотя еще и не развитым в полном объеме. И в своеобразную спячку, в первобытную медитацию они вводили себя преднамеренно, осознанно замедляя биение сердца и сводя до минимума все обменные процессы, включая и дыхание. Погружался в оцепенение и мозг этих древнейших йогов-неандертальцев. Оставалась лишь дежурная искорка бытия, через которую они контактировали с окружающим миром. И когда наступало потепление, а вместе с ним и возможность добывать пищу, древнейшие йоги будили себя и возвращались к жизни. Ну, а если потепления своевременно не наступало, то тлеющая искра сознания постепенно гасла, и наш далекий предок спокойно и безболезненно умирал. И поэтому йоги-палеантропы не испытывали такого страха перед смертью, как остальные древние люди.
— Так это же было давно, Энди. Вы-то не палеантроп!
— Верно. Но гены этой древней естественной йоги частично сохранились. И у некоторых людей они подбираются таким удачным образом, что древние возможности медитации пробуждаются, если на них, конечно, своевременно обратить внимание.
— И вы — один из таких людей?
— Совершенно верно. Существуют прирожденные силачи и акробаты, математики и поэты. А я — прирожденный йог.
С интересом разглядывая Клайнстона, Харви полюбопытствовал:
— А Фомальгаут к этим способностям имеет какое-нибудь отношение?
— Дался вам этот Фомальгаут! Визитная карточка — просто шутка, чтобы озадачить и сбить с толку полицию.
Харви почесал затылок.
— Но, Энди, вы и в наших разговорах все время шутите! Меня и Хила вы тоже хотите озадачить и сбить с толку?
Клайнстон негромко рассмеялся.
— А почему бы мне не подстраховаться? Хилари Линклейтор — неплохой человек, но он пьет. И пьет здорово! К тому же у него много темных для меня связей в преступном мире, а мы живем в такой стране, где все продается и все покупается. Что же касается вас, Рэй, — Клайнстон сделал извинительный жест, — то вас я вижу сегодня впервые в жизни.
— Понимаю. — Харви наморщил лоб, стараясь поточнее сформулировать свою мысль. — Но нам вместе идти на серьезное дело. Стоит ли таиться друг от друга?
— Фомальгаут нашему делу не помешает.
Харви с интересом разглядывал своего товарища по делу.
— И все-таки, вы уж простите мою настойчивость, человек вы, Энди, или инопланетянин?
— Разве инопланетянин не может быть человеком?
— Это в каком же смысле?
— В самом прямом. Разве инопланетяне волею случая не могут оказаться подобны людям? Так подобны, так схожи, что не только случайный собеседник, но и врач при осмотре не заметит в таком инопланетянине ничего особенного?
Харви в сомнении погладил подбородок.
— Не думал, что такое возможно.
— И я не знаю этого. — С лица Клайнстона не сходила легкая улыбка. — Просто предполагаю, думаю вслух.
Харви кивнул.
— Понимаю, у каждого есть свои тайны. — Он снова и снова оглядывал Клайнстона с ног до головы, непривычное напряжение мысли, работавшей в нестандартном, необычном направлении, избороздило его лоб глубокими морщинами. — Мне вы согласились помочь. А почему бы вам не помочь всем людям?
— Вы о чем, Рэй?
— О помощи людям, Энди. Конечно, если вы просто человек с необыкновенными способностями, то мои слова не имеют никакого смысла. Но если вы не просто человек, а кто-то там другой, я уж не знаю кто, и можете многое, что нам неведомо, то почему бы вам не помочь людям?
— Как?
Харви пожал сильными плечами.
— Вам виднее!
— Подарить вам волшебную палочку, хай-спай, с помощью которой можно стать невидимкой и, как в сказках Шехерезады, в один миг построить дворец или разрушить город?
Теперь уже заулыбался и Харви.
— Попробуйте. Хотя разрушать в один миг целые города мы уже научились.
— Вот видите. По-моему, вы ответственный человек, мистер Харви, и, наверное, постараетесь применять хай-спай для добрых, а не для злых дел, хотя разграничить их совсем не просто. Но ведь палочку у вас непременно отнимут! И доставят в Пентагон. И что из этого выйдет?
— Да, наверное, ничего хорошего. — Харви поскреб затылок. — Но ведь людям можно помочь не палочкой, а словом. Нужным словом!
Клайнстон хотел сказать, что времена, когда вначале было слово, времена пророков и апостолов, давно прошли. Капитал девальвировал слово, превратил его в один из самых дешевых и ходовых товаров, который продается и покупается и оптом и в розницу. И эта бесстыдная торговля подменяет мысли риторикой, истину — рекламой, любовь — сексом, счастье — вульгарным наслаждением, а высокие цели бытия — выгодой. Эта торговля подтасовывает факты, корежит и оглупляет самые чистые идеи, чернит добро и облагораживает зло! Что может слово, когда, подобно золоченой скорлупе сгнившего елочного ореха, оно скрывает лишь пустоту? Но Клайнстон лишь подумал об этом, а вслух сказал другое:
— Люди — не дети, нуждающиеся в поводыре, но зрелые мужи. Чужое слово им не поможет. Надо самим искать свою дорогу.
— А вы ищете?
Клайнстон некоторое время смотрел на Харви отсутствующим взглядом, а потом, осознавая его вопрос и переходя на свой обычный, улыбчиво-ироничный тон, ответил:
— Ищу. Но вместо пути в будущее я нашел тринадцать килограммов золота. И теперь не знаю, что мне с ним делать!
— Это по моей части. — Успокоил его Харви. — Можете рассчитывать на мою помощь и не беспокоиться.
— В таком случае можете рассчитывать на хай-спай. Я научу вас искусству суперйоги, Рэй. Не здесь и не теперь, а когда мы будем в безопасности.
— А как же мои гены? Боюсь, что они у меня самые заурядные! Во всяком случае, в спячку я впадать не умею.
— Генам можно помочь. Индийские йоги издревле применяют специальные составы, способствующие резкому углублению медитации. Их держат в глубочайшем секрете, передают лишь достойным и только из рук в руки. Мне удалось проникнуть в эту тайну. Применив современную методологию, я выделил из этих тибетских смесей сильнодействующее начало, которое назвал медитаном. Несколько месяцев тренировки, несколько капель медитана, и, даже не обладая особыми генами, вы сможете на равных посостязаться с прославленными йогами Востока.
Харви как профессионал-детектив не мог не отдать должное предусмотрительности Клайнстона. Конечно, этот загадочный человек страховался еще раз — надежда проникнуть в тайны суперйоги приковывала Харви к их общему делу крепче настоящих цепей. Во всяком случае, Клайнстон мог серьезно рассчитывать на это.
— И вы не боитесь, что ваш медитан попросту украдут? — не без лукавства спросил он вслух.
— Нет, — с улыбкой сказал Клайнстон. — Все дело в дозе, а доза сугубо индивидуальна. Чуть меньше — и человек ничего не почувствует, кроме легкой эйфории и последующей сонливости. Чуть больше — и наступит смерть из-за паралича дыхания и остановки сердца. И даже в рамках допустимой дозы есть опасная крайняя точка — точка ролланга.
— Ролланга?
Харви не успел получить ответа, в гостиную вошел Линклейтор в светлом берете, изображавшем поварской колпак.
Пока Линклейтор с ловкостью заправского кельнера сервировал стол, Клайнстон, отвечая недоуменному взгляду Харви, пояснил:
— Бытует легенда, что ламы-тантристы умеют воскрешать некоторых покойников, превращая их в живые трупы, в зомби. Зомби живут, могут работать по хозяйству, в поле, в мастерских на простых операциях, но лишены высшего слоя сознания — разума. Это — люди-животные, послушные рабы своих хозяев.
— Ну, зомби — это уже не Тибет, а Африка, — возразил Хобо, исчезая на кухне.
— И если… — начал Харви.
Не давая ему договорить, Клайнстон кивнул.
— Совершенно верно. Избыточная доза медитана может быть не только смертельной, но и зомбийной. Человека еще можно спасти, но вернется к жизни он уже вечным рабом — живым трупом.
Хобо был изрядно пьян, находясь в том самом оригинальном критическом состоянии, из которого в равной мере можно скатиться, как с горы, и в сторону полного алкогольного отупения, и в сторону относительной трезвости. Поскольку Харви был убежден, что Линклейтор еще не исчерпал до конца свою роль мозгового центра, то не поленился обыскать его и без труда обнаружил и изъял у него плоскую флягу со спиртным на основе джина и грейпфрутового сока. Линклейтор уверял, что это не коктейль, а холодный грог, от которого люди не только не пьянеют, но наоборот — трезвеют, но это не помогло. Харви был неумолим. Тогда Хобо налился злостью и словно протрезвел.
— Да кто тебе вообще позволил брать чужие вещи?
— Успокойся, Хил, — мягко посоветовал Харви, хорошо знавший, что Хобо, лишенного выпивки, иногда «заносит».
— Кто тебе дал право в нашей свободной стране посягать на чужую собственность? — Физиономия Хобо налилась кровью. — Плебей с белой кожей и рабской душой ниггера! Я, Хилари Линклейтор, вытащил тебя из грязи и сделал человеком!
— Я всегда буду благодарен тебе за это.
— Ты и должен быть мне благодарен. Я, — Хобо стукнул себя кулаком по жирной груди, — стопроцентный американец! А вы — ниггеры с белой кожей, у вас не кровь, а коктейль! Скоты!
— Ради Бога, успокойся, Хил. — Харви был само терпение. — Все знают, что ты настоящий американец.
— Да не то, что ты! Я кончил Вест-Пойнт. Я создал систему, которая тебя кормит, поит и делает похожим на человека! Я пью? А кто из настоящих американцев не пьет? Я вожу к себе девок? А кто из нас, настоящих, не покупает баб? Я участвую в махинациях? А кто из истинных янки не плюет на законы, когда делает свой частный бизнес?
— Если следовать этой логике, — очень спокойно, даже доброжелательно заметил Клайнстон, — вам следовало бы заняться и наркотиками.
Некоторое время Линклейтор разглядывал Клайнстона не вполне осмысленным взглядом. Потом мотнул головой и провел ладонью по покрытому испариной лицу.
— Я пробовал, Энди, — снова пьянея, пробормотал он. — Пробовал! Но понял, что за этой чертой исчезнет не только Хилари… тот, что кончил Вест-Пойнт… но и пьяница Хобо. Ничего не останется! Белый пар… И я сумел шагнуть обратно, сюда, через эту проклятую черту!
Линклейтор уронил голову на грудь и несколько полновесных секунд пребывал в неподвижности, тяжело дыша.
Харви был терпелив, как сестра милосердия монашеского ордена, настойчив и заставил Хобо проглотить чашку кофе. После этого Линклейтор пришел в себя, обрел известную ясность мысли, хотя не утратил болтливости, употребляя на каждую свою мысль по крайней мере вдвое больше слов, чем это требовалось на самом деле.
— Ребята, — доверительно сказал он, хитровато щуря хмельные еще глаза. — А вы хорошо представляете, что вам придется драпать отсюда немедленно и без оглядки после того, как вы потрясете Кейсуэлла?
Харви и Клайнстон переглянулись, понимающе улыбнувшись друг другу, — для них это был вопрос решенный. Клайнстон знал, что ему придется по крайней мере на несколько лет исчезнуть из Нью-Арка, когда согласился на «золотое» пари. Харви и Джейн решили покинуть столицу навсегда.
— Вижу, представляете, а как же иначе? Вы — умные люди. А вы понимаете, что только самолет дает вам какие-то шансы? Решительно не годятся ни автомобиль, ни поезд, ни междугородный бас — непременно перехватят, ставлю доллар против гранда. Билеты надо заказать теперь же! И на несколько разных рейсов, чтобы обеспечить свободу маневра. Ты сделал это, Шерлок Холмс?
— В этом нет необходимости, — спокойно ответил Харви. — У Кейсуэлла есть собственный четырехместный самолет «Игл», а я умею пилотировать машины такого класса. Самолет стоит рядом с домом, в ангаре. Там же — взлетно-посадочная площадка.
— Твою руку, Рэй. Ты — молодчина! И вполне реабилитировал себя в моих глазах. Я прощаю, что ты заставил меня выпить эту навозную жижу под претенциозным названием кофе. — Хобо задумался, ловя ускользающую мысль, потом оживился, глаза его снова обрели хитроватое выражение. — А вы представляете, что вам придется убраться за пределы континента? И чем дальше, тем лучше?
Харви и Клайнстон снова переглянулись, теперь уже с некоторым недоумением.
— Мы обговорили это по пути сюда, Хил, — вслух проговорил Клайнстон, — и остановились на Серебряном штате.
— Отвратительная идея! — Хобо даже передернулся. — Она бы еще годилась, если бы вы могли пришить Кейсуэлла и спрятать концы в воду.
— Мы не собираемся убивать его, Хил, — вежливо возразил Клайнстон.
Будто и не слыша этой реплики, Хобо проникновенно продолжал:
— Кейсуэлна вы, конечно, пришить можете. Наверное, он этого и заслуживает, но вот спрятать концы в воду вам не удастся. Кейсуэлл — исполнитель, исполнитель высокого ранга, но все-таки исполнитель. Тот, кто стоит над ним, сразу поймет, что это дело рук Харви. И тогда его, вместе с вами, Энди, найдут на дне морском, если это дно принадлежит Штатам. Невада, конечно, штат глухой, всего-то полмиллиона жителей, из которых четыре пятых живут в Лас-Вегасе, Рено и Керзон-Сити. А так — один человек на квадратный километр! Именно поэтому мы с Рэем всегда рекомендовали Серебряный штат тем, кому надо отлежаться на дне. Но Кейсуэлл — не тот случай. Не спорь, Рэй, не огорчай меня, а то я буду думать, что зря потратил столько времени. На вас набросят такую частую сеть, что не помогут ни леса, ни горы! Нет, ребята! Вам надо убираться за пределы континента. И чем дальше, тем лучше!
— Ты разве не с нами?
— Куда уж мне? Да и систему жалко — сколько трудов вложено! Конечно, эксплуатировать ее как надо я не смогу, «Блади-мэри» помешает, — рассудительно добавил он, — но поддержать в работоспособности, пока вы не вернетесь, сумею.
Линклейтор заговорщицки подмигнул.
— Мы предложим Кейсуэллу одну наживку, если он ее заглотит, тогда я останусь, а если нет… придется лететь с вами. Хотя в Гаване я уже бывал, и неоднократно. Да и скучно там сейчас, как говорят: бордели ликвидированы, «Тропикана» закрыта, да и знаменитые кубинские ритмы переквалифицировались в революционные гимны.
Если Линклейтор ставил своей задачей удивить товарищей, то он добился этого в полной мере.
— Кто тебе сказал, что мы собираемся на Кубу? — выговорил наконец Харви.
Хобо хмыкнул, почти хрюкнул, снисходительно разглядывая своих собеседников.
— А куда вы денетесь, мои милые, на своем «Игле»? К тому же на черта вам долгие маршруты за территориальными и морскими границами? За ними смотрят! Засекут радарами, вышлют истребителей и собьют как неопознанный самолет. Сыграете ньютона — только и всего! А от Майами до Гаваны — всего двести морских миль. Да и смотрят у нас за этой линией одним глазом: туда — пожалуйста! А обратно вам и не нужно.
— Не пойму, вы что же — серьезно предлагаете лететь на Кубу? — Харви вздохнул.
Хобо недовольно хрюкнул.
— А почему ты, собственно, так боишься коммунистов? Ты не бездельник, не болтун, не пьяница, как твой старый приятель Хобо. Ты — честный труженик, детектив высокого класса. А детективы нужны и коммунистам! Частная собственность или общенародная — какая разница? Охранять-то ее все равно надо! Свободных денег у тебя — кот наплакал, потому что все доходы съедает наша с тобой краса и гордость — система. А там ты будешь работать в государственной системе на пользу всем людям. Платить из своего кармана сотрудникам тебе не Придется, будешь только получать да наращивать счет в банке. Куба — рай для таких, как ты!
Харви размышлял. Собственно, в плане бегства все было готово и продумано, он размышлял лишь о том, стоит ли посвящать во все тонкости своих товарищей по делу. Не то чтобы он не доверял им. Он был практиком и хорошо знал, что если что-то можно скрыть даже от самого близкого и верного друга, то в серьезном деле, не колеблясь, следует скрыть. На всякий случай. Риск состоял в том, что можно было нечаянно, по неведению зацепить нечто запретное и тем самым навлечь на себя громы и молнии с самых вершин бизнеса, финансов и власти. На случай такого катаклизма Харви, по совету того же Линклейтора, совета, который он принял с полным одобрением, подготовил два маршрута для скрытого ухода с арены активной деятельности. Один — в Неваду, в Серебряный штат, если обстановка не будет закритической и можно рассчитывать на безопасность, не покидая континента. Второй — на Багамы, на остров Большой Абако, и вообще — в Карибское море, на Антилы и в океан. Для этой цели он держал в Дайтона-Бич небольшую яхту с мотором и хорошими мореходными качествами. В последней четверти двадцатого века на океанических просторах развелось много любителей вольной жизни и приключений — дружеских компаний, любовников, уставших от условностей регламентированного бытия, семейных людей, и одиноких, и даже с детьми. Вся эта публика на собственных яхтах самых разных конструкций буквально бродяжничала по Мировому океану, то странствуя от одного острова к другому, то совершая дальние и сверхдальние переходы, которые сделали бы честь даже именитым спортсменам. Это была своеобразная аристократия хиппи, чуждая наркомании и бездумного пьянства, зато вдвойне тяготеющая к смене мест и развлекательной жизни, сдобренной приключениями. Затеряться среди этого неорганизованного яхт-флота было так же просто, как иголке в стогу сена, — это был самый кратчайший шаг в программе Харви, связанный с уходом из активной, гласной жизни. Рассчитывая в основном на Неваду и Лас-Вегас, где проживал и работал надежный коллега по частному сыску, Харви на всякий случай дал Джейн задание подготовить и запасной вариант — Флорида, Дайтона-Бич, яхта, о которой никто не знал, кроме его самого, а там… Там видно будет!
— Там видно будет, — проговорил Харви вслух свою последнюю мысль. — Сначала нужно потолковать с Кейсуэллом. Времени у нас хватит.
— Золотые слова! Что вы скажете, Энди?
Клайнстон слегка поклонился.
— В таких делах я полностью полагаюсь на мистера Харви.
ИСХОД
Услышав легкий щелчок дверного запора, Кейсуэлл обернулся, на секунду опешил, а потом потянулся к ящику письменного стола: неслышно ступая по грубому паласу, к нему шагал Рэй Харви.
— Не надо, мистер Кейсуэлл. — Харви с улыбкой приподнял кисти своих сильных рук. — Пока вы достанете пистолет, я буду рядом.
— Добрый вечер, Рэй. Рад вас видеть живым и здоровым. Присаживайтесь, — после легкого замешательства вежливо сказал советник.
— Добрый вечер, мистер Кейсуэлл.
Харви пододвинул стул и сел. Не напротив Кейсуэлла, а сбоку, так, чтобы видеть его с ног до головы. Он не мог не отдать должное Кейсуэллу, — тот мгновенно овладел собой и держался спокойно и естественно, как будто сам пригласил Харви в этот кабинет. То, что этот прожженный политик держался хладнокровно и с достоинством, было и хорошо и плохо. Хорошо потому, что с ним можно было толково и обстоятельно обо всем договориться. А плохо по той причине, что потом он мог столь же хладнокровно и расчетливо, наивыгоднейшим для себя образом нарушить свои обещания.
— Чем обязан? — щуря глаза в легкой, насмешливой улыбке, полюбопытствовал Кейсуэлл.
— Я пришел уточнить правила игры, в которой принимаю участие, сэр.
Кейсуэлл поднял брови.
— Игры? — Советник президента помолчал, прикидывая, очевидно, что известно Харви и что нет, и не стал особенно темнить. — Это не игра, Рэй. Перед вами, правда несколько экзотическим образом, поставлена задача государственной важности: выследить и захватить живым опаснейшего преступника.
— Я его выследил и захватил, сэр.
Кейсуэлл не мог сдержать своего удивления.
— Вот как?
— Он здесь, в доме. И скоро войдет сюда, в кабинет.
— Вот как? — повторил Кейсуэлл.
Мысль его лихорадочно работала, сопоставляя эти неожиданные факты: Харви, Клайнстон, их неожиданный, но очевидный альянс и совместное появление в доме, в который они, в принципе, никак не могли проникнуть, не вызвав сигнала тревоги здесь и в ближайшем полицейском участке.
— По-моему, вам следовало бы радоваться, сэр. Вы так хотели видеть Эндимиона Клайнстона! — Харви специально назвал настоящее имя своего напарника по операции, чтобы ускорить разговор и подтолкнуть советника к откровенности. — А вы, простите, растеряны.
Кейсуэлл всмотрелся в спокойное лицо детектива с тяжелыми, хорошо прописанными чертами, перевел взгляд на крупные, рабочие кисти его рук, обманчиво лениво покоившиеся на коленях.
— Прежде чем мы продолжим разговор, я хотел бы задать несколько вопросов. И дать один неотложный совет.
— Я слушаю, сэр.
— Если вы выключили телефоны, включите их. Случайный звонок, мое молчание — и поднимется тревога. — Кейсуэлл пожал плечами, холодно усмехнулся. — Вы перешли Рубикон, а поэтому можете пойти на крайние меры. Мне бы не хотелось этого.
— Я не знаю, что такое Рубикон, сэр, но мыслите вы здраво и благоразумно. При необходимости мы действительно пойдем на крайние меры. На самые крайние. — Движением тяжелой руки Харви остановил советника, собравшегося сказать что-то. — Телефоны мы не выключали, и поэтому я позволю себе дать вам встречный совет.
— Не надо, Рэй. Я не мальчик и знаю, что нужно ответить, если последует звонок.
— Не вполне знаете, сэр. Вы должны дать клару, я хотел сказать, отбой, сэр, по линии программы «Контринвазия».
Удар попал в цель. Кейсуэлл дрогнул. Выдержав рассчитанную паузу, Харви добавил:
— Если нужно, можете сослаться на то, что Кил Рой схвачен и находится в ваших руках. Тем более, что это соответствует действительности.
— В этом нет необходимости, — с неожиданно прорвавшейся резкостью ответил Кейсуэлл и помолчал, справляясь с собой. — Я дам отбой. Но заранее предупреждаю, что он будет действителен лишь до шести часов утра следующего дня.
— Это нас устроит, сэр.
— А теперь я хочу задать свои вопросы. Что с Долли?
— Она спит, сэр. Спокойно спит в своей, то есть в вашей, спальне. Клайнстон лишь углубил ее сон, но вы не беспокойтесь — он мастер своего дела.
Кейсуэлл кивнул.
— А Бен?
Речь шла о «горилле», о телохранителе советника. Теперь этот «горилла» Бен мирно храпел в своей комнате, убаюканный лошадиной дозой снотворного. Забота о телохранителе делала Кейсуэллу честь.
— С Беном все в порядке, сэр. Он вам еще послужит. — Харви хотел добавить: «Как и Долли», но удержался от этой вольности.
— А что с Ганом?
После секундного раздумья Харви понял, что Кейсуэлл спрашивает его о сторожевой собаке — об огромном пятнистом доге. И еще он понял, что Кейсуэлл просто тянет время и что забота о Бенджамене — фикция, показуха. Харви даже устыдился за самого себя: разве позволительно опытному детективу приписывать политическим боссам обыкновенные человеческие эмоции? Кейсуэлл не был уверен в том, что Харви и в самом деле вышел на Эндимиона Клайнстона и действует с ним заодно. Если Клайнстон появится в кабинете, Кейсуэлл выберет одну линию поведения, не появится — другую. А пока он выжидает и тянет время вопросами. Торопиться ему некуда! И в самом деле, когда Харви сообщил советнику, что собаку пришлось пристрелить, Кейсуэлл лишь рассеянно кивнул — и только.
…Хотя Кейсуэлла и называли советником президента, и сам он в своих делах и связях подчеркивал это обстоятельство, фактически он контактировал не с самим президентом, а с одним из его помощников — Полом Кристи. Кейсуэлл хорошо понимал необходимость такого промежуточного звена — уж таков был характер программы «Инвазия», которая сама по себе не решала сколько-нибудь серьезных проблем, но о которую легко было замараться и скомпрометировать себя в глазах фактических правителей Штатов — крупнейших промышленников и финансистов. Именно от Пола Кристи Кейсуэлл получил указание о необходимости скорейшей, а главное, полной ликвидации программы «Инвазия».
Джон Патрик Кейсуэлл и Пол Матисон Кристи были давно знакомы и доверяли друг другу — в той степени, разумеется, в какой это возможно для политических функционеров, которые сегодня — в одном лагере, а завтра — в другом, сегодня — добрые друзья, а завтра — беспощадные друг к другу противники. Поэтому Кристи не стал блефовать, а повел игру в открытую.
— Послушайте, Джон, вы сколько-нибудь серьезно верите в этих самых инопланетян, которые как друзья или враги могут пожаловать на нашу грешную землю?
Кейсуэлл вежливо улыбнулся.
— Я не занимаюсь инопланетянами, Пол. По плечу ли мне решение таких сложных проблем? Моя задача куда скромнее: я контролирую уровень трансцендентности, если угодно. Вот если он подскочит выше критического уровня, тогда можно будет серьезно, на научной основе поговорить об инопланетянах.
— О’кей, — покладисто сказал Кристи, — поговорим серьезно и на научной основе. Если я не ошибаюсь, вы фиксируете уровень мировой трансцендентности уже более года, не так ли?
— Совершенно верно. Год, один месяц и восемь дней.
— Вы, как всегда, на высоте, Джон. Ну, и хотя бы раз этот уровень приблизился к критическому значению?
— Ни разу, Пол. Он не поднимался даже до пятидесятипроцентной отметки.
— Есть основания полагать, что картина принципиально изменится? Я имею в виду определенные, устойчивые тенденции. Будьте совершенно откровенны, Джон. Это серьезный вопрос.
Кейсуэлл ответил не сразу. Он уже понял, куда дует ветер. Но вот откуда? Это еще предстояло решить, и решить сейчас же, здесь, с глазу на глаз с Полом Кристи.
— Таких оснований нет, Пол, — медленно проговорил Кейсуэлл. — Думаю, что объявление тревоги по каналу «Инвазия» нереально.
— О’кей! — удовлетворенно констатировал Кристи, в голосе его появились интимные, доверительные нотки. — Слушайте, Джон, а на кой черт нам тогда нужна эта самая «Инвазия»?
С того самого момента, когда Кейсуэлл был поставлен во главе программы, он был готов к такому, очень нежелательному для него повороту событий. Посвятив его в истинный политический смысл программы «Инвазия», ему оказали большое доверие. Это было опасное доверие, это было обязывающее доверие, но это было то самое безусловное доверие, которого жаждет каждый настоящий политический функционер. Хотя в мире бизнеса никто толком не знал, чем конкретно занимался Кейсуэлл, все тем не менее были осведомлены, что ему оказано высокое доверие и что он стоит во главе некоей особо секретной программы. Особая секретность всегда ассоциируется с особыми возможностями. Это обстоятельство сразу сделало Кейсуэлла заметной фигурой в высоких деловых, военных и политических кругах, открыв для него множество явных и тайных дверей, намертво заблокированных ранее. Кейсуэлл не преминул воспользоваться этим и за истекший год утроил свое личное состояние. Еще год-другой, и состояние Кейсуэлла выросло бы настолько, что сделало бы его политически независимым. Он смог бы самостоятельно, без этой раздражающей и обязывающей помощи со стороны выставить свою кандидатуру в конгресс, в сенат, а там… Почему бы не помечтать и о большем? И вот явился Пол Кристи и одной фразой разрушил эту перспективу! Ничем не выдав своего состояния, Кейсуэлл хладнокровно проговорил:
— Это уж не моя забота, Пол.
— Верно, дружище, не ваша. — Кристи задумался, поглаживая свою сверкающую лысину. — Что ж, программу «Инвазия» за явной ненадобностью надо ликвидировать. Будто бы ее и не было! Так сказать, истребить ее сущность и растоптать память о ней. Действуйте смелее! Ваша задача — ликвидировать документацию вместе с личностными приложениями, понимаете? А фольклорные воспоминания, догадки, домыслы — кому они страшны?
Кейсуэлл не отвечал.
Он и глаз не поднимал на собеседника, лишая того прямого контакта и инсценируя глубокое раздумье, — старый, хорошо известный, но в то же время безотказно действующий на активные натуры вроде Пола Кристи прием, побуждающий их первыми делать очередной ход. Кейсуэлл не желал уходить с политической арены, не получив компенсации за добросовестное хранение тайны программы «Инвазия». В конце концов, пока программа еще не ликвидирована, в его руках серьезные козыри! И при необходимости Кейсуэлл мог поиграть с оппозицией или, по крайней мере, сделать вид, что может пойти на такую игру. Конечно, этот шантаж был бы очень опасен, но Кейсуэлл был прирожденным политическим игроком — он любил рисковать, когда ситуация для этого оказывалась благоприятной. Он хорошо помнил девиз первого чемпиона мира по шахматам Вильгельма Стейница: имеющий преимущество во избежание его потери обязан атаковать! И, по мере возможности, старался следовать этому правилу. Пол Кристи был опытным политическим функционером, он не мог не догадываться о возможностях и тайных намерениях Кейсуэлла. Поэтому Кристи должен был заранее приготовить либо приличную компенсацию, либо угрозу, которая явилась бы своего рода объявлением войны. Вот почему Кейсуэлл ждал, не поднимая на собеседника глаз, и не без труда сдерживал естественное волнение.
— Вас что-нибудь смущает, Джон? — не выдержав паузы, спросил наконец Кристи, в голосе его прозвучало нетерпение.
— Честно говоря, смущает. — Кейсуэлл поднял голову и взглянул в глаза собеседника. — Шеф знает о программе «Инвазия»? О ее особенностях? О причинах, по которым ее решили ликвидировать?
Хотя на лице Кристи сохранилась привычная улыбка, зрачки его на мгновение расширились. Кейсуэлл с удовлетворением понял, что рассчитал правильно и что удар попал точно в цель. Он дал понять Полу, что без компенсации готов начать встречную игру, причем на самом высоком уровне. Кристи быстро овладел собой, наверное, был готов в принципе к такому повороту дел.
— Если президенты будут обо всем знать, за что же тогда будут получать деньги их советники? — улыбаясь еще более ослепительно, спросил он. — И потом, президенты приходят и уходят, а советники остаются!
— Не преувеличивайте, Пол. Советники приходят и уходят вместе с президентами.
— Согласен, уходят, но как? Они просто отступают с авансцены Белого дома в глубину сценической площадки: в разведку, в частный бизнес, в конгресс, в федеральный суд. Да мало ли областей, где нужны настоящие — умные и волевые — функционеры? Давайте откровенно, Джон, разве нет у вас на примете двух-трех приличных мест, куда вас возьмут в любое время и оптом и в розницу?
Кейсуэлл усмехнулся.
— Вот видите! И еще неизвестно, какая роль, если снять эту приятно щекочущую нервы престижность, выгоднее и весомее. Президенты приходят и уходят, а советники остаются. Правда, сегодня они в одном лагере, завтра в разных, сегодня они друзья, завтра противники, но всегда — они корпоранты, готовы во имя взаимной выгоды пойти на сближение и взаимные компромиссы. Не так ли, коллега?
Кристи не без удивления видел в его словах откровенную насмешку.
— Ваш антипанегирик великолепен, Джон. А теперь послушайте меня. И учтите, что это информация конфиденциальная по самым высшим меркам!
— Я не мальчик в политике, Пол.
— Тем более вы должны оценить серьезность моего предупреждения. — Кристи задумался, поглаживая свою блестящую лысину. — Милитаризация космоса? Да! Но во имя чего? Не для войны, не для агрессии, не во имя господства над всем миром. Нет, нет и еще раз нет. Упаси Боже! Милитаризация во имя обороны, для защиты свободы, демократии, прав человека и всех других священных ценностей западной цивилизации. Космический зонт! Зонт, который надежно укроет наш континент от ракетно-ядерного нападения и позволит Штатам говорить суровым и требовательным языком высшей справедливости с любой страной мира.
Пол Кристи продолжал говорить — увлеченно, зло, азартно. Привычная ослепительная улыбка не покидала его лица, что придавало Полу в сочетании с тайным смыслом его красивых, нарядных слов страшноватый, демонический вид. Но Кэйсуэлл уже не слушал его. Космический зонт!
Об этой принципиально новой схеме массированной, практически неограниченной гонки вооружений в политических кулуарах поговаривали уже не один год. Никто не делал из этой программы особенной тайны, ибо она представлялась фантастической. И не в научно-техническом аспекте, нет, тут все было чисто, — в финансово-экономическом. Даже весьма «дырявый» космический зонт, способный лишь ослабить мощь залпового ракетно-ядерного удара, стоил поистине астрономические суммы: сотни миллиардов, если не триллионы долларов! Если вспомнить, что приемное, но любимое детище Джона Кеннеди — программа «Аполло», связанная с освоением Луны, стоило «всего-то» тридцать с лишним миллиардов, но и то ощутимым бременем лежала на экономике Штатов, то надо ли говорить о том, что такое космический зонт! И эта фантастика становится реальностью? Видимо, так. Пол Кристи поставлен в такую ситуацию, которая исключает и глупые шутки, и легкомысленный блеф. Он расчетливо, в форме платы за молчание и безоговорочную исполнительность уведомил его, Кейсуэлла, о грядущих колоссальных капиталовложениях, а стало быть, и колоссальных доходах.
Автоматически отмечая разного рода сомнительные и привходящие обстоятельства, отряхнув, так сказать, с космического зонта пыль, паутину и мишуру декоративных украшений, Кейсуэлл уцепился за основу и понял: самое главное теперь — не опоздать на пиршество прибылей! Прямая дорога к ним лежала через продукцию заводов старика Милтона, с делами которого Кейсуэлл познакомился очень подробно, ловко маскируя свои личные интересы необходимостью установить все и всякие связи полковника Мейседона. Довольно быстро Кейсуэлл разобрался, что этот по-своему честный, идейный пентагоновский служака ведет активный военно-экономический шпионаж. Это пикантное обстоятельство ничуть не уронило Мейседона в глазах советника, наоборот, послужило полковнику своеобразным паблисити как истинно деловому человеку. Более того, Кейсуэлл почувствовал нечто вроде родственной, а лучше сказать, клановой привязанности к Мейседону как к собрату по морали, образу мыслей и действий. Но космический зонт менял их отношения и менял самым решительным образом. Связи Мейседона и Милтона следовало разорвать, разорвать так, чтобы они никогда уже не смогли бы восстановиться. А потом подставиться старику вместо полковника! И предложить ему разовую и текущую информацию о новой космической программе. Этот деловой канал сулил миллионы, поэтому Кейсуэлл с сожалением и несколько сентиментальной грустью — Мейседон нравился ему, — но без малейших колебаний и угрызений совести подписал полковнику смертный приговор.
Кейсуэлл вдруг уловил, что Пол Кристи уже не говорит, а понимающе, чуть насмешливо, но вместе с тем и дружелюбно разглядывает его.
— Закружилась голова, дружище?
— Если быть откровенным, то закружилась, — медленно проговорил Кейсуэлл.
— У меня она тоже закружилась. Особенно когда узнал, что и своих союзников по НАТО мы постараемся затащить под этот зонтик, хотя, разумеется, для них он будет и поменьше и подырявее. — Кристи вкусно захохотал, во всей красе показывая свои белые и крупные, как у Омара Шарифа, конечно же, вставные зубы. — На одних комиссионных от договоров со старушкой Европой можно разбогатеть.
— Можно. Если Европа пойдет на альянс.
— Пойдет, куда она денется! Мы осторожненько прощупали почву — не у политиков, у деловых людей. Пойдет! Кто устоит перед такими возможностями? Прибыли гарантированы, и никакого риска. Но, — пожалуй, впервые за время этого разговора улыбка спорхнула с лица Пола Кристи, его высокий лоб собрался крупными морщинами, — драка за космический зонт будет страшной.
— Догадываюсь.
— Не обо всем, Джон. Конечно, коммунисты сделают все, чтобы завалить программу космических вооружений. И прямо скажем, козыри в этой игре у них хорошие, а главное, всем понятные — борьба за мир, черт бы ее побрал! Они найдут сторонников всюду, не только в этой гниющей развалюхе — третьем мире, но и в Западной Европе и в Японии.
— Они найдут их и в Штатах, — хладнокровно дополнил Кейсуэлл.
— В том-то и дело! Мы прощупали ситуацию — этакое неофициальное устное анкетирование на коктейлях, брифингах, симпозиумах и пресс-конференциях. В конце концов, наплевать на рабочий класс! Мы его либо купим, либо обезвредим, загнав вожаков в армию безработных. Там они быстро деклассируются, потеряют свой пыл в заботах о хлебе насущном. А народ без вождей — это толпа, стадо баранов: подставим им своих козлов, и они пойдут туда, куда нам захочется. Хоть в пропасть! А уж под космический зонт — с удовольствием.
— Не упрощайте, Пол, — поморщился Кейсуэлл.
— А вы не усложняйте! Гитлер водил свое стадо даже не по разумению, а по мании. И оно с воодушевлением шло на убой!
— Не забывайте, чем все это кончилось.
— А может быть, только началось? Ну, ладно, ладно, — Кристи примирительно покачал кистью руки, — знаю, не любите вы ни Гитлера, ни фашистов. У каждого свои слабости. Так или иначе, а с рабочим классом мы управимся. Но ведь остаются умники, очкарики, савуары, как их называют в Пентагоне. Оппозиция милитаризации космоса в этой среде прямо-таки аномальная! А ведь именно они будут готовить рецепты того самого пирога, полакомиться которым я вас приглашаю. Драка за космический зонт будет страшная! Не забывайте, Джон, мы ведь сидим буквально на вулкане. Я имею в виду и без того чудовищный бюджетный дефицит — он ведь и дальше будет расти, как на дрожжах!
— Тогда зачем рисковать?
Привычная улыбка освещала лицо Пола Кристи, но глаза его смотрели хмуро.
— А чем кормить военно-промышленный комплекс? Если у вас есть разумная альтернатива космическому зонту, я с удовольствием послушаю вас, Джон. Но я знаю, что ее нет. Прямая пропаганда выигрываемой ядерной войны провалилась, нам еле-еле удалось отмыться!
— И неудивительно. Идея крестового похода против коммунизма вплоть до ядерного Армагеддона была очевидной глупостью, — спокойно констатировал Кейсуэлл.
— Не уверен! Может, в этом грязном мире попросту не оказалось нужного числа по-настоящему умных и решительных людей. — Пол Кристи вдруг как-то блудливо, совсем не в своей обычной манере ухмыльнулся. — Уж если на то пошло, то во всем виноват ваш любимый Джон Кеннеди.
Кейсуэлл приподнял брови, лицо его приняло холодное выражение.
— Да-да, именно он! Кеннеди в конце концов ответствен за строительство этой современной египетской пирамиды, за программу «Аполло», за десант на Луну, стоивший тридцать шесть миллиардов долларов, в то время как чуть ли не половина населения земного шара тогда буквально подыхала с голоду. Именно Кеннеди перетряхнул нашу экономику и самые лучшие, жизнеспособные ее силы переориентировал на освоение космоса. Кеннеди выпустил джинна из бутылки! А джинны любят вкусно поесть, к тому же жрут много, и чем больше жрут, тем больше им хочется. Вот после подготовки и родился милый сердцу каждого настоящего бизнесмена проект космического зонта. За ним можно укрыться не только от русских ракет, он отлично скрывает наши самые решительные цели, позволяя говорить об обороне, одной обороне и только обороне. Неужели вы не понимаете, что это единственный шанс по-настоящему, с запасом удовлетворить финансовые запросы тех, кому мы вместе с Пентагоном и Белым домом так верно служим? Поэтому мы не только можем идти на риск, мы вынуждены идти на риск!
— Но ведь президенты приходят и уходят, а советники остаются, — меланхолично напомнил Кейсуэлл. — Поэтому можно и не рисковать.
— Можно, — согласился Кристи и хохотнул. — Но какой же дурак добровольно уйдет от такого роскошного шведского пиршественного стола? Истинно говорю, — бери что хочется!
— Пир во время чумы, — не то спрашивая, не то утверждая, проговорил Кейсуэлл.
— Во время чумы! Но ведь пир. И какой пир! — Пол Кристи прикрыл глаза и потянул носом, точно наслаждался запахом аппетитных блюд.
Кейсуэлл невольно улыбнулся.
— Что ж, будем фаталистами. И начнем пировать!
— Не сразу. Я же говорю, что драка за космический зонт будет страшной. А поэтому сначала надо подготовить пиршественное поле. Надо очистить космос от всего лишнего и компрометирующего идею благородной небесной защиты высших ценностей западной цивилизации от коммунистической ядерной агрессии. Понимаете? То, что элементы космического зонта в своей орбитальной динамике будут буквально висеть над всем миром, что этот благородный зонт может мгновенно вывернуться наизнанку, оскалить свою драконову пасть и сокрушающей мощью обрушиться на любую страну, должно быть скрыто со всевозможным тщанием. И вообще космос должен быть чист и невинен, как непорочная дева. Программа «Инвазия» совершенно не вписывается в эту буколическую картинку! И если раньше мы ее терпели… м-м… из некоторых привходящих соображений, то ныне это становится недопустимым: хиханьки и хаханьки о космических врагах нежелательны еще и потому, что могут породить в неустойчивых умах разные земные аналогии. Ведь в противоположность греческой поговорке то, что позволено Зевсу, иногда дозволяется и быку.
— Я вас понял. Не стоит тратить время, Пол.
— О’кей. Действуйте, Джон. Действуйте смелее!
— Хорошо. Я продумаю ситуацию и обеспокою вас своими предложениями.
Но этот маневр подстраховки у Кейсуэлла не прошел. Осветив лицо профессиональной улыбкой, Кристи возразил:
— К чему эти формальности, Джон? Повторяю, действуйте смелее! Сражения не выигрываются без потерь, более того, жертвы лишь украшают битву. Если потребуется помощь, можете опереться на Френсиса Ли. Вы его знаете. Бай-бай, Джонни!
Не мудрствуя лукаво, Кейсуэлл немедленно привлек к разработке программы «Контринвазия» Чарльза Уотсона. Идею решения, и довольно простую, продиктованную опытом и чисто практической сметкой, не без гордости выдвинул сам Кейсуэлл. Надо было некоторым образом собрать всю документацию по программе «Инвазия» в одну, так сказать, кучу, а затем волею несчастного случая физически уничтожить. Чисто технически эта проблема решалась легко: Кейсуэлл хорошо знал, что по своему абсолютному объему инвазийная документация была миниатюрна — ее можно было погрузить на ординарную штабную машину, оборудованную для перевозки секретных материалов. А мало ли что может произойти с автомобилем на пути следования! Трудности, причем такие, что проблема на первый взгляд казалась абсолютно неразрешимой, носили не технический, а оперативный характер. За инвазийные документы головой отвечала развернутая система шифровально-секретной службы, которая замыкалась на самый верх и на местах в аспекте хранения и выдачи документов никому не подчинялась. Инвазийные документы в режиме строжайшей недоступности на всякий пожарный случай хранились параллельно в разных организациях и в разных территориальных точках — военные любят подстраховываться. Как же их собрать в одну кучу? Да еще таким хитроумным образом, чтобы этот нелепый акт выглядел достаточно естественным, а ретроспективное расследование не выявило ничего, кроме, скажем, заурядной служебной тупости и халатности исполнителей?
Уотсон, нимало не задумываясь об утилитарной стороне контринвазии, со всей страстью погрузился в поиски. Уж такая была у него натура: чем сложнее, чем неразрешимее казалась проблема, тем с большим азартом, с неистовством одержимого он отдавался ее решению. Это свойство натуры было не только достоинством, но и недостатком Уотсона, тормозившим его собственно научные успехи и толкнувшим в итоге в объятия военного ведомства. На исходе второй недели изнурительной работы Чарльз Уотсон нашел блестящее решение от противного — и снисходительно принял самые искренние и сердечные поздравления от Джона Кейсуэлла. В соответствии с его предложениями вскоре был отдан решительный и четкий по форме и весьма туманный по перспективному смыслу приказ по шифровально-секретной службе. В соответствии с этим приказом при объявлении тревоги «Инвазия» все документы по этой программе должны быть во избежание утечки информации по трансцендентным каналам в порядке высшей срочности направлены в один из отделов ФБР. А изюминка решения Уотсона состояла в том, что он предлагал искусственно обострить мировую ситуацию так, чтобы вздернуть уровень трансцендентности событий до закритического уровня и вызвать компьютерный сигнал тревоги — тревоги, связанной с началом инопланетного вторжения на Землю! Кейсуэлл предложил было ограничиться «малой кровью» — вызвать тревогу за счет неисправности компьютера, но Уотсон решительно отверг эту идею. Во-первых, неисправность нужно организовать, а стало быть, привлечь к этому делу квалифицированных специалистов из центра управления. Конечно, потом их можно убрать, но это уж слишком явные следы! Нельзя так рисковать. Во-вторых, неисправность компьютера будет установлена в считанные минуты, в самом лучшем случае ситуацию тревоги можно растянуть на несколько часов. А этого мало для контринвазии! Нет, тревога должна быть натуральной, естественной. Для этого следует выждать, когда уровень мировой трансцендентности сам собой поднимется, а потом провести своего рода трансцендентную диверсию. Хищение золота в достаточно крупных размерах невероятным, неземным способом! Наличие в контрольной программе компьютера развитых золотых акцентов заставит его сработать и выдать тревогу о начале космического вторжения. Поддержать эту ситуацию на протяжении полутора-двух суток не составит труда.
…Принеся заслуженные поздравления Уотсону, Кейсуэлл забросил самую частую сеть в преступный и околопреступный мир в надежде найти талантливого, неординарного исполнителя и таким образом вышел на Эндимиона Клайнстона. Кейсуэлл сразу же распознал одаренность этого несколько таинственного человека и повел с ним личную игру, решив заполучить его в свое распоряжение, а потом полновесно использовать. Он тогда не решал проблемы — как использовать, сначала надо было проверить Клайнстона в серьезном деле. Сначала контринвазия, а потом уже все остальное! Эта встречная программа сначала шла как нельзя лучше. Неожиданно и радикально личную игру Кейсуэлла спутал совершенно непредвиденный визит супругов Ланфельд в банк, из которого буквально на их глазах Клайнстон вынес принадлежащие им слитки золота… Еще в ходе контринвазийных мероприятий советник сделал все, что мог, дабы выйти на Клайнстона, убедить его, что произошла досадная случайность и их «золотое» пари сохраняет полную силу. А когда ликвидация программы «Инвазия» была закончена, на поисках Клайнстона Кейсуэлл сосредоточил все силы, которые еще находились в его собственном распоряжении. Человек, способный вскрывать сейфы, как консервные банки, умевший проходить сквозь стены и воскресать из мертвых, стоил любых трудов и усилий!..
…Дверь открылась, и на пороге показался Клайнстон.
— Добрый вечер, — вежливо поздоровался он с советником и, обращаясь уже непосредственно к Харви, добавил: — Все в норме, Рэй. Нашел кое-что любопытное. Разобраться по-настоящему не было времени, но на всякий случай я обесточил это устройство — вырубил предохранители.
Харви слушал Клайнстона, но смотрел на Кейсуэлла. Он подметил, что советник снова дрогнул психологически — этот надлом проглянул даже сквозь стену странного, похожего на равнодушие спокойствия. Может быть, в глубине души все-таки надеялся, что Харви блефует, говоря о прямом альянсе с Клайнстоном. Может быть, рассчитывал на непонятное устройство, которое на всякий случай обесточил Клайнстон.
— Джон Кейсуэлл, — представил Харви советника. — Эндимион Клайнстон.
— Мистер Кейсуэлл! — Клайнстон вежливо подождал, пока советник обратит на него свое сознательное внимание, и продолжил: — Мы вычислили программу «Контринвазия», но нам неизвестны некоторые ее существенные, касающиеся непосредственно нас детали. Вы не могли бы нам уточнить их?
— Понимаю.
Советник успел хорошо сориентироваться, а поэтому, хотя и говорил достаточно долго, но по верхнему слою ограничился минимум-миниморумом сведений. Фактически он сослался на формальный приказ о ликвидации программы любой ценой, процитировав Пола Кристи, что терпеть ныне программу «Инвазия» — все равно что курить послеобеденную сигару, сидя на открытом бочонке с порохом. Зато он подчеркнул и даже гиперболизовал свой личный интерес к таким профессионалам экстракласса, как Рэй Харви и, в особенности, Эндимион Клайнстон.
— Я сожалею, — с искренним, однако же и театрально-ханжеским огорчением заключил он, — что такие мастера своего дела уйдут из моей деловой сферы.
Это был тот самый поворот беседы, который безошибочно предсказал Линклейтор и дал по этому поводу определенные инструкции.
— Мы могли бы и восстановить контакты, — не замедлил забросить подготовленную наживку Харви.
Из актера-ханжи Кейсуэлл мгновенно превратился в делового человека.
— Каким образом?
— Не сразу, сэр. После некоторой паузы.
— Каким образом? — переспросил Кейсуэлл с оттенком нетерпения.
— Мы дадим вам знать о себе через некоего Хилари Линклейтора. Вы, конечно, хорошо осведомлены о существовании такого человека. Его благополучие будет надежным свидетельством вашего расположения к нам.
— Я принимаю ваше предложение.
— Благодарю, сэр. Однако одна немаловажная деталь: Линклейтор ровно ничего не знает ни о маршруте нашего полета, ни о конечном пункте назначения. Так что в этом аспекте не помогут ни золотые горы обещаний, ни допросы третьей степени.
Кейсуэлл недовольно поморщился.
— Я принимаю ваше предложение, — суховато повторил он. Получив встречное деловое предложение, советник сразу же почувствовал себя в седле. — А напоминание о допросах третьей степени не вполне тактично, Харви.
Детектив нахмурился.
— Однако же, сэр, вы ликвидировали Генри Мейседона!
Кейсуэлл развел руками, тяжело вздохнул и солгал:
— Я искренне сожалею о смерти своего личного друга Генри. Но судьба его была решена не мною.
Советник пошел на ликвидацию Мейседона с легкостью потому, что тот был обычным исправным служакой и не представлял специфической деловой ценности. Таких полковников в Пентагоне тысячи. Но вместе с Мейседоном умерли многие тайны, которые могли впоследствии скомпрометировать Кейсуэлла. А вот Чарльза Уотсона Кейсуэлл сохранил! Хотя в этом был известный риск, хотя Уотсон взбунтовался и с ним было немало возни. Париж стоит мессы!
— А Уотсон? — все так же хмуро спросил Харви. — Он как?
— В добром здравии, — чуть склонил голову Кейсуэлл, — однако переутомился и теперь отдыхает. У вас есть еще вопросы, сэр?
— Есть, мистер Кейсуэлл, — вежливо вмешался Клайнстон, ликвидируя возникшую напряженность и понимая, что советника следует мягонько поставить на место. — Я полагаю, вы и есть мой таинственный контрагент по «золотому» пари?
Кейсуэлл молча склонил голову.
— Я полагаю, вы человек слова, мистер Кейсуэлл, и приготовили сто тысяч долларов для выплаты.
Советник широко улыбнулся.
— В обмен на золото, мистер Клайнстон.
— Золото с нами. Тринадцать слитков «савонетт» девятьсот девяносто пятой пробы.
По лицу советника скользнула тень раздумья.
— Наличными? Боюсь, что я не найду здесь сейчас и десятую часть такой суммы.
Теперь улыбнулся Клайнстон, не менее широко, чем Кейсуэлл.
— Это легко проверить. — И он шевельнул в воздухе своими ловкими и крепкими, как железо, пальцами.
После легкой паузы советник с ощутимой принужденностью рассмеялся.
— Я и забыл, что имею дело с чемпионом по вскрытию сейфов!
Клайнстон молча поклонился.
— Ну что ж, если я вытрясу свои карманы, то пятьдесят тысяч у меня наберется, — решил Кейсуэлл.
— Это половина пари. А поэтому вы получите взамен не тринадцать, а только семь слитков, — невозмутимо заключил Клайнстон, словно импровизацию, предлагая очередной, заранее продуманный ход.
Брови советника взлетели вверх.
— Вы согласны, мистер Кейсуэлл?
— Разумеется, — советник заколебался. — Но вы теряете на этой сделке по меньшей мере вдвое!
— Золото для меня не цель, а лишь средство, мистер Кейсуэлл.
— А цель? Какова ваша цель?
Клайнстон мягко улыбнулся.
— Мы поговорим об этом позже, если состоятся наши повторные контакты. А сейчас, извините, мы вынуждены торопиться.
— Что ж, поторопимся. — Кейсуэлл повернулся к детективу. — Надеюсь, Рэй, вы не сердитесь на меня за некоторую резкость?
— Что вы, сэр! — совершенно искренне удивился Харви. — Я знаю свое место.
И, поднявшись на ноги, уже другим, деловым тоном сказал:
— Итак, сэр, вы даете нам пятьдесят тысяч в обмен на семь слитков. Затем провожаете нас в ангар, вместе с нами осматриваете самолет, проверяете его заправку и готовите к полету. И, наконец, там же, в ангаре, засыпаете до утра.
Заметив, как изменилось лицо советника, Клайнстон поспешил добавить:
— Это будет спокойный сон под действием умеренной дозы патентованного снотворного, только и всего. Мы уже приготовили превосходный спальный мешок! Это ваш собственный мешок, мистер Кейсуэлл. В шесть часов утра будет снят отбой, вас начнут искать, и уж никак не позже семи вы примете ванну!
Ночь была звездной и тихой. В ходе последних суток наступило похолодание, и прежде неугомонные сверчки, эти крохотные кузнецы с серебряными наковаленками, затаились, примолкли. Лишь порою, когда дремотной волной накатывал порыв теплого ветра, недовольно шуршали уставшие за лето и невидимые сейчас травы. Линклейтор курил сигару, привалившись спиной к кузову автомобиля, загнанного в кустарник. Хобо нервничал, то и дело поглядывая на светящийся циферблат часов. Если операция там, в доме советника президента, прошла успешно и развивалась строго по намеченному плану, то самолет должен был пролететь над его головой около получаса тому назад. Конечно, в таких делах получасовая накладка — это не причина для серьезного беспокойства, но тем не менее Хобо нервничал. Сам категорически настаивал, чтобы никакой радиосвязи! Любая мелочь могла демаскировать и провалить операцию. Настоять настоял, а теперь нервничал, как мальчишка.
Докурив сигару, Линклейтор не бросил окурок, а распахнул оставленную приоткрытой дверцу машины, тяжело взгромоздился на сиденье, нащупал в полном мраке пепельницу и аккуратно запрятал туда окурок. Чем меньше улик, тем лучше. На секунду расслабившись всем своим рыхлым телом, Хобо ощутил флягу во внутреннем кармане плаща и уже в который раз со злобой подавил желание приложиться к ней. Еще сигару? И так уже противно во рту!
Далекий посторонний звук заставил Хобо вздрогнуть и с неуклюжей поспешностью выбраться из машины. Он не ошибся! Это был долгожданный звук предвзлетной пробы реактивных двигателей — одного, потом другого. Сердце, давно изношенное, отравленное алкоголем сердце, билось так гулко и нервно, что Хобо неверной рукой достал из кармана давно подготовленную таблетку, бросил в рот и раздавил вставными зубами. Ровный, деликатный звук маломощных двигателей окреп и тягучей, долгой нотой повис между звездным небом и темной, спящей землей. А еще через несколько секунд Хобо увидел аэронавигационные огни самолета — красный и зеленый. Они быстро приближались вместе со звенящим гулом работающих на взлетном режиме двигателей. Вот они неторопливо мигнули — раз, два и три! И снова — раз, два и три! Самолет шел всего метрах на пятидесяти, а поэтому буквально промелькнул над головой Хобо. Он повернулся вслед самолету и теперь видел уже не два, а три быстро удаляющихся огня — красный, белый и зеленый. Но видел их Хобо плохо, огни дрожали и размывались, как будто он смотрел на них через стекло, заливаемое потоками дождя. Хобо плакал. Он плакал, потому что ему уже пятьдесят лет, потому что он уже давно не Хилари Линклейтор, а Хобо. Полицейский Хобо, бродяга Хобо, пьяница Хобо. Еще он плакал потому, что сейчас в звездном небе растаял след человека, в которого он сначала грубо и нехотя, а потом нежно вложил часть своей души. Он плакал и сам не знал нечему — просто плакал, вот и все.
РАССКАЗЫ
ХОДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Транспланетный рейдер «Вихрь» готовился к старту ходовых испытаний. Матово поблескивая черным бронированным корпусом, он лежал на стартовом столе, нацелившись острым носом на Полярную звезду, а под ним неторопливо вращалась громада старт-спутника, казавшаяся снежно-белой в яростных лучах космического солнца.
Командир рейдера Ларин, опоясанный страховочными ремнями, сидел за ходовым пультом корабля, то и дело поглядывая на циферблат хронометра. В ходовой рубке было непривычно тихо, сиротливо стояли пустые кресла вахтенной группы. Ходовые испытания есть ходовые испытания. Они проводятся по однообразной и простой программе в непосредственной близости от старт-спутника. Задействовать для ее выполнения весь экипаж нет никакого смысла, особенно если учесть известный элемент риска. Вот почему в ходовой рубке рейдера так пустынно и тихо, вот почему экипаж гигантского корабля сейчас до смешного мал — командир да инженер-оператор, разместившийся далеко от него, в кормовом отсеке, у самого сердца рейдера — плазменного реактора.
— «Вихрь», я спутник, — послышался неторопливый бас руководителя испытаний, — как меня слышите?
— «Вихрь» на приеме. Слышу хорошо, — ответил Ларин.
— Андрей Николаевич, — проговорил руководитель, подчеркивая этим обращением неофициальность разговора, — вы опаздываете с запуском уже на две минуты.
— Опаздываем, — невозмутимо согласился Ларин.
— Вы бы поторопили своего Шегеля!
Ларин усмехнулся.
— Пусть повозится. Я предпочитаю, чтобы экипаж возился до старта, а не после него.
— Всему есть пределы, — сердито сказал руководитель испытаний и отключился.
Ларин снова усмехнулся, подумал и перешел на внутреннюю связь.
— Как у вас дела, Олег Орестович? — спокойно спросил он.
— Все в порядке, — флегматично пропел тенорок Шегеля. — Ну и намудрила же фирма с замком для ремней!
— К старту готовы?
— Готов! — бодро откликнулся оператор.
Ларин перешел на внешнюю связь.
— Спутник, я «Вихрь». Прошу запуск.
— «Вихрю» запуск разрешаю, — удовлетворенно пробасил руководитель испытаний.
— Понял, — ответил Ларин и подал команду оператору: — К запуску!
— Есть к запуску! — откликнулся Шегель.
Пока оператор делал подготовительные включения, Ларин уселся в кресле поудобнее, подтянул привязные ремни и внутренне подобрался — запуск плазменного реактора не шутка. Эта компактные сверхмощные ядерные машины открывают перед космонавтикой невиданные перспективы, но они еще не доведены до кондиции и полны эксплуатационных загадок. Иногда на них находит, и они начинают капризничать, да так капризничать, что становится жарко. Недаром испытания плазменных реакторов разрешены только в космосе на высоте не менее пятисот километров от Земли. Только после двухчасовой обкатки можно составить определенное мнение о годности реактора. Для этого, собственно, и проводятся ходовые испытания.
— Реактор подготовлен, — доложил Шегель.
— Запуск!
Ларин откинул пластмассовый предохранительный колпачок и нажал пусковую кнопку. Вот и все действия, которые должен выполнить командир, остальное дело автоматики. Ларин смотрел на контрольное табло, на индикаторах которого одна за другой проходили управляющие команды. Подчиняясь этим командам, из горячей зоны реактора в строго рассчитанном темпе выходит сетка стоп-устройства, и в ней начинает циркулировать могучий плазменный поток. Мощность его должна быть строго определенной, чуть меньше — реактор недодаст десятки процентов мощности, чуть больше — плазма пробьется сквозь защиту, и реактор начнет капризничать. Ну а если плазма повредит автоматику, то будет совсем худо. Но если думать об этом, то лучше вообще не садиться в кресло испытателя.
Размышления Ларина прервала контрольная лампа реактора — сигнализируя о нормальном запуске, она вспыхнула ярким зеленым светом. Ларин облегченно вздохнул, поправил наушники и стал ждать доклада Шегеля. Нормальный запуск — понятие относительное. Только оператор, вооруженный специальными приборами и еще больше — специальными знаниями, может дать окончательное заключение о работе этой сложнейшей ядерной машины. Прошло десять секунд, потом еще десять. Ларин нетерпеливо шевельнулся и собрался было уже запросить, в чем дело, когда послышался спокойный тенорок Шегеля:
— Не нравится мне реактор, Андрей Николаевич.
Брови Ларина сдвинулись.
— А конкретнее?
— Во время запуска было три заброса активности и сбой с повторением операции. Мне кажется, где-то есть утечка плазмы.
Ларин слушал оператора с большим вниманием. Конечно, Шегелю еще далеко до классного оператора-космонавта. Плазменная техника развивалась так бурно, что специалистов не хватало. Многим научным работникам пришлось покинуть институты, лаборатории и отправиться в космос. Одним из них был и Шегель. В нем еще крепко сидит закваска кабинетного ученого, зато он великолепный знаток своего дела. Когда Ларин выбрал его в напарники для испытаний, многие удивились, а кое-кто прямо заявил Ларину, что он делает серьезную ошибку. Но Ларин только посмеивался: он знал, что делал. Шегель был одним из соавторов проекта ходового плазменного реактора и знал его как самого себя. Инженером-оператором он стал как-то неожиданно. Поговаривали, что это связано с некой романтической историей. Краем уха Ларин слышал: у Шегеля была неудачная любовь. Он отправился в космос якобы для того, чтобы доказать ей, а может быть, и самому себе, что он не только способный кабинетный ученый, но и настоящий мужчина. Ларин не знал, правда ли это. Он не любил копаться в интимной жизни других людей, а сам Шегель никогда не заговаривал на эту тему. Во всяком случае, подобные акты самоутверждения характерны для людей шегелевского толка. Как бы то ни было, Шегель был превосходным специалистом, и Ларин его слушал с большим вниманием. Когда оператор обстоятельно высказал все, что он думает о капризах своенравной машины, Ларин невозмутимо спросил:
— Каковы ваши предложения?
— Предложения? — с ноткой недоумения переспросил Шегель.
— Предложения, — подтвердил Ларин, — будем продолжать испытания или стоп реактору?
Шегель кашлянул и замялся. Да Ларин и сам хорошо знал, как это не просто произнести — стоп реактору! Ну хорошо, во время запуска реактор забарахлил, но он все-таки вышел на рабочий режим! Остановить реактор значит, по крайней мере, на сутки задержать испытания, результатов которых, прямо-таки сгорая от нетерпения, ждут специалисты. Мало того, остановить реактор — значит косвенно выразить недоверие группе плазменников, которая готовила реактор, дать возможность кое-кому заподозрить тебя, мягко говоря, в излишней осторожности, да и вообще поставить на карту свое реноме испытателя!
Конечно, если в реакторе действительно обнаружатся неполадки, все эти соображения гроша ломаного стоить не будут, но поди-ка узнай — есть там неполадки или нет! Если бы это было известно заранее, незачем было бы проводить и сами испытания.
— Стоп реактору — это, конечно, слишком, — проговорил наконец Шегель, а вот прогнать его на всех режимах вплоть до форсажа стоит.
— Резонно, — согласился Ларин и нажал кнопку внешней связи.
— Спутник, я «Вихрь». Имею арегулярность работы реактора в пределах допусков. Прошу пробный выход на форсаж.
— Понял, ждите.
Через десять секунд послышалась скороговорка главного плазменника:
— «Вихрь», прошу на связь оператора.
— Оператор слушает, — отозвался Шегель.
— Что там стряслось, Олег Орестович?
Между инженерами начался оживленный разговор, столь густо пересыпанный специальными терминами, что разобраться в нем могли лишь посвященные. Ларин вначале прислушивался с интересом, потом потерял нить рассуждении, запутался и заскучал. Нечаянно, боковым зрением он заметил, как контрольная лампа реактора, горевшая зеленым светом, вдруг сменила его на желтый и начала мерно мигать. Секунду Ларин смотрел на нее, ничего не понимая. Потом с некоторым усилием и скрипом воспринял случившееся реактор вышел на форсаж! Вышел на форсаж, хотя Ларин слышал все еще продолжающуюся дискуссию о том, можно и целесообразно ли производить эту операцию! Что-то случилось. Что? Неисправность сигнализации? Ошибочное механическое действие Шегеля? Или самопроизвольное возрастание активности?
— Оператор, — вклинился Ларин в разговор специалистов, — проверьте режим реактора!
— Режим? — удивился Шегель и замолчал.
— Реактор на форсаже, — удивленно доложил он через секунду, — это вы включили?
Этот вопрос разом все поставил на свои места. У Ларина екнуло сердце и засосало под ложечкой. Страх, самый обыкновенный страх. Случилось самое неприятное из того, что может вообще случиться на ядерном корабле, реактор пошел вразнос, подбираясь к бесконтрольному режиму, который закономерно венчается сверхмощным взрывом. Привычным, давно отработанным усилием воли Ларин загнал страх в самые подвалы сознания. С этого момента Ларин словно раздвоился. Один Ларин, командир рейдера и опытнейший испытатель, действовал четко, продуманно, не теряя напрасно ни одного мгновения, а другой, живой, чувствующий Ларин смотрел на него со стороны и, вообще говоря, не совсем верил в происходящее. Авария реактора? Чепуха! Не может наяву случиться такая нелепость!
— Стоп реактору, — коротко приказал Ларин и вышел на внешнюю связь.
— «Спутник», я «Вихрь». Авария реактора. Тревога!
— Что вы говорите? — изумился главный плазменник.
В наушниках что-то клацнуло, видимо, руководитель испытаний задел за тангенту, выхватывая из рук инженера микрофон.
— «Спутник» понял, — послышался его торопливый голос, — объявляю тревогу!
Ларин следил за контрольным табло. На индикаторе одна за другой пробегали стоп-команды: первая, вторая, третья. Ларин был уже готов сбросить с плеч невидимый тяжкий груз, но четвертая? Четвертая, главная? Зависла, проклятая! Неужели автоматику успело сжечь?
— Отказ стоп-системы, перешел на аварийную, — с некоторым недоумением доложил Шегель.
Он еще не осознал до конца, что произошло.
— Тревога объявлена, — послышался подчеркнуто спокойный бас руководителя испытаний.
Ларин знал, что скрывается за этим спокойствием: пронзительный вой сирен, яркие мигающие надписи: «Ядерная тревога!», вереницы людей, спешащих под защиту лучевых экранов, щелканье герметически закрывающихся переборок и молчаливые, сосредоточенные спасатели, натягивающие скафандры высшей защиты. А четвертая, решающая команда снова зависла, зависла, проклятая!
— Отказ аварийной, перешел на дубль! — прокричал Шегель.
Вот когда случившееся стало раскрываться перед ним во всей своей грозной неотвратимости!
— «Вихрь», я «Спутник». Уточните ситуацию.
— Ждите! — отрезал Ларин.
Он не спускал глаз с контрольного табло. Сейчас за считанные мгновения должна была решиться судьба «Вихря». Единственный шанс оставался для его спасенья. Шегель привел в действие дубль-аварийную стоп-систему. Она сработает напрямую, от аккумуляторов, минуя блок автоматики. Все четыре стоп-команды при этом проходят разом. Правда, реактор после этого подлежит обязательной переборке, зато вероятность срабатывания стоп-системы возрастает во много раз. Если сетку не успело сжечь, реактор остановится!
Но он не остановился.
— Отказ дублю! Реактор вышел из-под контроля! — выкрикнул Шегель. Все, рейдер обречен… Взрыв реактора неизбежен. Теперь Ларин должен сделать так, чтобы этот взрыв наделал как можно меньше бед.
— «Спутник», я «Вихрь». Реактор вышел из-под контроля. Обеспечьте старт.
— Понял. Старт разрешаю.
Ларин снял рейдер со стопоров и выжал ходовую педаль. Легкая перегрузка, и стрелки приборов дали знать, что корабль тронулся с места.
— Реактор вышел из-под контроля! Вы меня поняли? Реактор вышел из-под контроля! — кричал между тем Шегель.
Похоже, сорвался и потерял голову. Да разве мудрено? Ядерный взрыв неизбежен. Только спокойно, от старт-спутника надо отойти на самом малом ходу, а то выходная струя двигателя наделает немало бед.
— Понял, Олег Орестович, — будничным тоном ответил он Шегелю. — Сколько до взрыва?
— Мало! Реактор неуправляем!
— Точнее. Сколько до взрыва, — холодно сказал Ларин.
— Это… это надо посчитать по производным.
— Посчитайте.
— По… понял.
Старт-спутник остался в стороне. Ларин довернул рейдер на маяк входных ворот зоны испытаний и прибавил ход.
— Я «Вихрь». Освободите первую зону.
— Зона свободна.
Теперь остались пустяки. Надо катапультировать экипаж, пройти ворота зоны, дать кораблю самый большой ход и катапультироваться самому. В защитной капсуле. Остальное — дело спасателей. Но Шегеля катапультировать рано, он еще нужен.
— Я «Вихрь». Готовьтесь принять оператора.
— Понял. Спасательный бот следует за вами.
Хотя бы раз использовался этот бот по своему прямому назначению? А теперь пробил и его час, придется лезть в самое пекло. Как только не называли этот курбастенький кораблик охочие до шутки и острого словца космонавты! Колобок, черепаха, бронтозавр. Истинно колобок! Корпус у него больше метра толщиной, он и термоядерное облако проскочит.
— Командир, до взрыва сто девяносто плюс-минус пять секунд, — четко доложил Шегель.
Молодчина, взял себя в руки! Ларин пустил секундомер и вышел на внешнюю связь.
— Я «Вихрь». Подхожу к зоне. Имею резерв три минуты.
— Понял, три минуты.
Большая стрелка десятисекундника резво бегала по циферблату.
Оборот десять секунд. Еще семнадцать оборотов с лишним успеет она сделать, а потом «Вихрь» превратится в раскаленное ничто, в маленькое злое солнце, испепеляющее все вокруг.
— Бот, я «Вихрь». Готовьтесь принять оператора.
— Я бот, понял. Иду рядом, слежу за вами.
Рядом, вот так, рядом. Милые вы спасатели!
Рядом!
— Андрей Николаевич, — послышался возбужденный голос Шегеля, — есть выход!
Это было как гром среди ясного неба!
— Выход? — оторопело переспросил Ларин.
— Можно попробовать заморозить реактор ходом. Форсажным ходом! Гарантия успеха — процентов тридцать пять!
— Понял! Все понял!
Как это просто! Почему он сам не додумался до этого? И почему до этого вообще никто не додумался? Может быть, потому, что морозить аварийный реактор — это все равно что ходить по краю пропасти с завязанными глазами?
При разгоне корабля, за счет выброски рабочего тела из горячей зоны, активность ее заметно снижается. Если, например, с места дать сразу форсажный ход, то реактор остановится, замерзнет, как говорят специалисты. Все это давно известно. Но вот Шегеля озарило, и он понял, что можно заморозить не только нормальный, но и аварийный реактор. А почему бы и нет? Гонять рейдер до тех пор, пока реактор не замерзнет. А уж если ничего не выйдет, то в самый последний момент катапультироваться в защитной капсуле. Конечно, полностью от взрыва она не защитит и он получит добрую порцию рентген, но ведь для чего-то существует и медицина! А разве красавец рейдер, над созданием которого три года работали лучшие инженеры Земли, не стоит риска?
Да, это будет не надежная, заранее рассчитанная операция, а бег по краю пропасти, риск, расчет на удачу, игра! Даже не игра, а бой. Встречный бой со стихией, рвущейся на свободу из-под контроля человека. Вряд ли честно от этого боя уклоняться.
— Командир, рискнем? — азартно спрашивал Шегель.
Ларин бросил взгляд на секундомер. Время еще есть, две с лишним минуты. И принял решение.
— Бот, я «Вихрь». Катапультирую оператора.
— Бот понял, готов.
Какое-то мгновение Ларин помедлил.
— Олег Орестович, катапультируйтесь.
— А… а вы?
— Попробую заморозить реактор.
— Но это… нечестно! Реактор — мое дело! Я остаюсь!
Он прав, он тысячу раз прав! И все-таки Ларин не мог оставить его на борту. Дело было даже не в человеколюбии и благородстве. Замораживание аварийного реактора требовало отдачи на самую грань возможного. Одним своим присутствием на борту Шегель связал бы ему руки. Ларин не сделал бы и половины того, на что был потенциально способен.
— Оператор, — раздельно сказал он, — немедленно катапультируйтесь.
— Понял, — дрожащим от обиды голосом ответил Шегель.
Послышался легкий щелчок — это были отстреляны узлы крепления кресла оператора, а потом хлопок. Ларин проследил по экрану за траекторией полета капсулы и, убедившись, что все в порядке, облегченно вздохнул. Он остался на корабле один.
— Бот, оператор катапультирован. Меня не ждите.
— Я бот, оператора принимаем. Вас не понял.
Ларин не стал повторять, не было времени.
— Я «Вихрь». Имею резерв две минуты. Стартую, пробую заморозить реактор.
И хотя все уже было решено, какое-то короткое мгновение Ларин помедлил. Не то чтобы он колебался: пути назад не было. Просто бой за рейдер требовал отличной формы, надо было привести себя в порядок, собраться. Так медлит штангист, уже нагнувшись и обхватив гриф штанги с рекордным весом.
— «Вихрь», вам одна минута. Затем срочное катапультирование!
— Понял. Пошел, не мешайте.
Ларин энергично выжал ходовую педаль. Тело сразу налилось свинцом, отяжелели веки, отвисли щеки, в глазах поплыл туман… А вот и темнота! Мгновение, и Ларин убрал ногу с педали. Рейдер рывком вышел на малый ход, провал в сознании длился доли секунды. Так и было задумано. Однако желтая лампа реактора мигает по-прежнему. А ну еще раз!
Да, так и было задумано. Ларин сознательно шел на риск, на тонкое балансирование на самой грани дозволенного. Он знал, что сбить накал реактора, а потом и заморозить его можно только максимальным ускорением рабочего тела. Надо было жать на ходовую педаль, жать до потери сознания в самом буквальном смысле этого слова. Но в самый последний, критический момент надо было остановиться! Стоило пропустить это мгновение, стоило чуть затянуть перегрузку, как темнота в глазах могла перейти в полную потерю сознания, а в такой обстановке это было равносильно катастрофе. Такая балансировка на самой грани допустимой перегрузки была смертельно опасной, требовала абсолютного самообладания и уверенности в себе, но только она одна и повышала существенно вероятность успеха в этом бою.
Ларин сделал не менее десятка попыток, когда, вынырнув из темноты мгновенного небытия, заметил на приборной доске уже не желтую, а зеленую контрольную лампу. Он-таки сбил накал реактора! Ларин прокричал «ура!», и в тот же самый момент до его слуха донесся подчеркнуто спокойный, требовательный голос руководителя испытаний:
— Ларин, катапультируйтесь. Ларин, срочно катапультируйтесь!
Все, резервное время кончилось. Надо выходить из боя. И это в тот самый момент, когда удалось сбить накал! Лучше бы тогда и не начинать, легче было бы бросить корабль. Ведь реактор почти готов! А что, если попробовать еще раз?
— Ларин, почему молчите? Срочно катапультируйтесь!
Один-единственный, последний раз?
— Ларин, немедленно катапультируйтесь!
Нет, преступно не использовать последний шанс! Ларин щелчком выключил радиостанцию — ведь просил не мешать — и снова энергично выжал ходовую педаль. Когда потемнело в глазах, он не отпустил ее, как это делал в прошлых попытках, а еще чуточку прижал ее. Ту самую чуточку, которой, может быть, и не хватало все это время. Он ведь знал, что реактор почти готов!
Очнулся он не сразу, а словно просыпаясь после глубокого сна. Очнулся и некоторое время недоуменно смотрел на приборную доску. Потом разом вспомнил все, и сердце у него екнуло — значит, все-таки не удержался на тонкой грани дозволенного. Глаза его привычно обежали контрольные приборы и остановились на ярком красном огне. Это был злой, угрожающий сигнал. Глядя на него, Ларин понял, что проиграл бой. Проиграл в самый последний момент, когда победа была рядом, рукой подать. Проиграл бездарно — перестарался. Пока он был без сознания, реактор успел выйти на закритический режим. Взрыв реактора мог произойти каждый миг.
Странно, но Ларин не испугался. Он был слишком измотан, чувства его притупились так, словно по ним прошлись грубым рашпилем. Глаза заливал пот, от перегрузок ныли кости, голова была тяжелой, как после бессонной ночи. Что взрыв? Это не страшно. Он ничего не успеет почувствовать. Просто исчезнет. В тысячные доли секунды температура подскочит до нескольких сот миллионов градусов. Все испарится — реактор, рейдер и он, Ларин. Все превратится в первозданные атомы. Ларин закрыл глаза и обессиленно откинулся на спинку кресла.
И вдруг теперь, когда борьба была уже завершена, когда Ларину ничего больше не оставалось, как сидеть и ждать неизбежного, страх смерти внезапно и властно затопил каждую клеточку его большого, живого тела. Он не хотел умирать! Это было жестоко и несправедливо! Стискивая челюсти до боли в зубах, Ларин из последних сил сдерживал ужас перед небытием. «Скорее же, скорее!» — торопил он и молил ядерный взрыв. Но взрыва все не было.
Тогда он открыл глаза и как в тумане увидел перед собой приборную доску. Пот залил глаза и мешал видеть. Ларин тряхнул головой и почувствовал, как бешено, мощными толчками забилось сердце. Контрольная лампа реактора не горела. Не горела совсем! Реактор замерз! Красный сигнал горел на щитке командной радиостанции. Он горел потому, что его звал, умолял ответить и никак не мог дозваться старт-спутник. Только измотав себя перегрузками, Ларин мог попасть в такой просак!
Ларин потянулся к выключателю радиостанции, но рука не послушалась. Она была чужой, незнакомой. Она крупно дрожала, и Ларин ничего не мог поделать с этими странными, не своими движениями. Нахмурив брови, он с трудом подчинил себе руку и дотянулся до выключателя.
— Ларин! Немедленно катапультируйтесь! — кричал руководитель испытаний.
Прямо ладонью Ларин вытер лицо и, откинувшись на спинку кресла, передохнул. Потом нажал кнопку внешней связи.
— Спутник, я «Вихрь», — начал Ларин и замолчал, удивляясь тому, каким огромным и неповоротливым стал у него язык.
— Спутник, я «Вихрь», — повторил Ларин, старательно выговаривая каждое слово, — реактор заморожен. Хода не имею. Прошу буксир.
После мгновения изумленной тишины космос взорвался пестрым хором голосов и криков. Говорили и кричали разом и руководитель испытаний, и его дублер, и спасательный бот, и главная радиостанция старт-спутника, и даже контрольная радиостанция самой Земли.
— Ура!..
— Молодчина, Андрей!
— Победа!
— Слава Ларину!
А потом глухо прозвучал чей-то слабый, сдавленный голос, и наступила оглушающая тишина. Только слабый шорох космических помех, шепот далеких звезд нарушали ее. И в этой тишине все тот же слабый голос с трудом проговорил:
— Ан… Андрей Николаевич!
Ларин узнал голос Шегеля.
И устало улыбнулся.
ТРОПИНКА
Над черным полем космодрома поднялся к рыхлым серым облакам и повис пронзительный вой сирены.
Затем он внезапно оборвался, в облаках сверкнуло ослепительное голубое пламя, и десятки ветвящихся молний обрушились на космодром. Чудовищный грохот слившихся воедино громовых ударов потряс и разорвал влажный воздух. Молнии, бившие сначала вразброс, постепенно концентрировались у центра финиш-площадки, сливались вместе и образовали, наконец, гудящий ветвящийся столб голубого пламени. Столб этот быстро утолщался, теряя свои ветви, превращаясь в могучую плазменную колонну, упиравшуюся одним концом в землю, а другим в облака. Еще секунда, и на верхнем конце этой колонны показался звездный корабль. Оседая на огненный столб, он плавно, как в замедленной съемке, валился на землю, постепенно теряя скорость. Над самой финиш-площадкой корабль на мгновение завис, проглотил гудящее пламя и, выбросив три мощные посадочные лапы, уперся ими в раскаленную броню посадочной площадки. Корабль грузно осел, качнулся на амортизаторах и остался стоять вертикально, подняв к тревожно клубящимся облакам свое корявое, изъеденное космической пылью тело. Вокруг него плавали и с грохотом рвались десятки шаровых молний. Этот фейерверк еще продолжался, а посадочная площадка дрогнула и плавно тронулась вниз, увлекая за собой в подземную шахту опиравшийся на нее корабль. Корабль укорачивался и толстел на глазах, превращаясь из стройного гиганта в неуклюжего куцего карлика. Когда над финиш-площадкой остался только головной отсек, спуск прекратился и корабль замер в неподвижности. Он имел право на отдых. Сто шесть лет назад он поднялся с Земли и унес к далекому Сириусу Третью звездную экспедицию. Она продолжалась одиннадцать корабельных лет, но субсветовая скорость, с которой корабль резал и рвал пространство, сделала свое странное дело: на Земле пролетело вдесятеро больше времени — сто шесть лет. Целый век!
Когда звездные путешествия были еще проблемой, многие опасались, что космонавты слишком дорого заплатят за страсть человечества к небесным тайнам. Для них остановится, застынет стартовое время, а земная жизнь не будет ждать, она уйдет, умчится вперед. Вернувшиеся со звезд станут чужими на родной планете. Вокруг будет звучать незнакомая речь, люди будут стремиться к непостижимым целям и мечтать о странном непонятном счастье. Что получат космонавты взамен многолетних жертв и лишений? Разве что беззаботную покойную жизнь на каком-нибудь уединенном островке в зоне вечной весны.
Насколько тяжелее и счастливее оказалась действительная судьба звездных скитальцев! Корабль, бесшумно скользящий во мраке вечной ночи, жил напряженнейшей жизнью. Корабельные будни все свободное время были подчинены одной-единственной цели — погоне за как будто неспешной, но неуловимой, все время ускользающей вперед земной жизнью. Каждые полтора месяца, которые уносили с собой земной год, целый год с морозами и метелями, с весенней капелью и шорохом растущих трав, со знойной щедростью лета и грустью осеннего увядания, космонавты получали с Земли горы новостей: научные теории, достижения техники и медицины, шедевры литературы и искусства и очерки о будничной жизни обыкновенных людей. Чтобы не отстать от этой жизни, космонавты не жалели себя. Они делали все возможное и невозможное, но шагали с ней в ногу, разве лишь немного приотставая временами и снова подтягиваясь из последних сил.
Звездный корабль замер в неподвижности, в его несокрушимом корпусе, изъеденном частицами космической пыли, мягко откинулась массивная дверь. И на черные плиты космодрома один за другим вышли шесть человек. Шесть звездных космонавтов, и среди них Тимур Орлов. Со всех сторон к кораблю сходились толпы встречающих; во влажном, остро пахнущем озоном воздухе звенели и плескались приветственные крики. Нет, космонавты не стали чужими на Земле! Они просто вернулись в родной дом, где их нетерпеливо ожидали все эти долгие годы. Что из того, что иглы зданий взлетели к самым звездам, а привычные улицы исчезли, превратившись в сады и парки? Разве плохо, что люди стали красивее, лучше и, наверное, счастливее? Ну и что ж поделаешь, если среди встречающих нет, совсем нет друзей далекой юности?
Открыв глаза, Тимур долго не мог понять, где он находится. Он с недоумением разглядывал странную, необычно просторную каюту с удивительно высоким потолком и несообразно большим окном, прикрытым легкой, как паутинка, занавеской. Занавеска была удивительной, точно живой: она дышала, по ее ткани пробегали мягкие волны, а иногда она надувалась пузырем, круто вздымая свою грудь. Словно под ней прятался кто-то большой, очень мягкий и все ворочался, ворочался и никак не мог угомониться. Пахло чем-то непонятным, хотя приятным и знакомым, скорее всего огурцом, только что сорванным в оранжерее, но откуда в каюте, да еще в такую рань, мог взяться свежий огурец, догадаться было совершенно невозможно. И слышались какие-то забавные звуки, не то звон, не то свист. Можно было подумать, что тот самый большой и мягкий шутник, прячущийся за оконной занавеской, небрежно, но очень мило наигрывает на флейте, а ему все пытаются аккомпанировать на ксилофоне, да никак не могут попасть в такт.
Вздувшись особенно сильно, занавеска трепыхнулась и на мгновение приоткрыла окно в сказочный, зелено-голубой мир. И словно тяжелую пелену сорвало с сознания Тимура! Он вспомнил все: громаду Земли, падающую навстречу кораблю, томительные, свинцовые секунды торможения, горячую встречу на космодроме и ночное путешествие сюда, в санаторий космонавтов.
Тимур сбросил одеяло, в одно мгновение оказался возле оконной занавески, рванул ее в сторону, и сверкающий, звенящий, благоухающий водопад красок, звуков и запахов обрушился на него, смял и завертел, как песчинку. Голова закружилась, и, чтобы не упасть, Тимур закрыл глаза и изо всех сил вцепился пальцами в подоконник. Какая мешанина запахов! Понемногу на фоне острой свежести всплывали приглушенные, полузабытые и тревожные ароматы земли, травы и цветов. Хаос звуков вдруг рассыпался птичьим гомоном, разноголосым, нескладным и праздничным, а на этом радостном фоне слышались вздохи слабого ветра, шепот листвы, шорох трав и прозрачные, как удары маленького колокола, звуки падающих капель воды.
Вдохнув полной грудью, Тимур разжал наконец пальцы, цеплявшиеся за подоконник, и открыл глаза. В них ударил густой голубой свет, похожий на свечение плазмы. Он лился отовсюду, и Тимур не сразу понял, что это никакой не свет, а просто небо. Бездонное, чисто вымытое небо без единого облачка. Оно было совсем не похоже на потолок или крышу, оно не давило, а тянуло к себе, вверх. Брошенный в него взгляд летел долго-долго и безмятежно тонул в его сияющей глубине. Небо было повсюду: оно парило над головой, выглядывало из-за крыш домов и вершин деревьев, мириадами строгих голубых глаз глядело на него сквозь живую зеленую листву. Верхушки деревьев светились, облитые утренним солнцем, а земля еще таилась во влажной прохладной тени. Трава, сплошным ковром покрывавшая все вокруг, была совсем седой от обильной росы.
Тимур оглянулся на безмятежно спящих друзей, сочувственно улыбнулся им, оперся рукой о подоконник, перемахнул через него и приземлился на росистую траву. Ступням босых ног стало мокро, холодно и щекотно. Тимур счастливо засмеялся, присел на корточки и погладил траву ладонями. Они сразу стали мокрыми, точно их окунули в воду. Тимур опять засмеялся, отряхнул ладони, пахнущие влагой, пылью и тленом, и пошел вперед. Темная цепочка следов послушно тянулась за ним, словно он шел не по траве, а по свежевыпавшему снегу.
Увидев в стороне тропинку, тянущуюся вдоль стены кустарника, Тимур круто свернул на нее и через десяток шагов ступил на сухую землю. Легонько изгибаясь то вправо, то влево, тропинка уверенно повела его за собой. Тимуру шагалось удивительно легко, ему казалось, что он плывет над землей. Он шел, оглядывался по сторонам и бездумно улыбался. Куда приведет его эта неприметная стежка?
Стена кустарника, тянущаяся рядом с тропинкой, то карабкалась вверх, забираясь выше его головы, то понижалась, образуя провалы, и тогда солнечные лучи брызгали ему в глаза желтым озорным огнем. Тимур блаженно щурился, каждой клеточкой кожи ощущая бархатные прикосновения утреннего солнца. Там, где его лучи падали на траву, мелкая пыль росы успела высохнуть. И трава помолодела, утратила свою седину, сохранив наряд лишь из самых крупных капель — крохотных колбочек, заполненных волшебным радужным блеском.
Бездумно шагая по тропинке, Тимур вдруг ощутил легкий укол беспокойства. Это так не гармонировало с его общим радостным настроением, что он остановился. Непрерывная космическая вахта приучила его чутко прислушиваться к самым незаметным, подсознательным ощущениям, которые порой, позволяли почувствовать приближение опасности раньше, чем самые чуткие приборы. Оглядываясь по сторонам, Тимур недоумевал — что ему может грозить здесь, в сотне шагов от жилых домов санатория? Случайно остановив взгляд на тропинке, Тимур снова ощутил, как его легонько коснулась и сразу же исчезла непонятная тревога. Тимур был озадачен — тропинка и тревога! Одно никак не вязалось с другим. Не спуская с тропинки внимательного взгляда, Тимур медленно, совсем медленно пошел дальше. Вот, обходя горбатый камень, торчащий из земли, тропинка резко вильнула влево, и сердце Тимура екнуло так явственно, что он невольно прибавил шагу, надеясь прямо здесь, за камнем, найти причину тревоги. Он миновал камень, но ничего не случилось. Все так же пели птицы, вздыхал ветерок, сияло над головой безоблачное небо, вокруг не было ни души, и тропинка неторопливо и уверенно бежала вдаль. Что за наваждение?
В который раз пробегая взглядом по серой неприметной стежке, скользящей по траве, Тимур вдруг каким-то мгновенным наитием понял, в чем дело. Понял и испугался так сильно, что у него перехватило дыхание. Он просто знал эту тропинку, знал, куда она повернет. Он знал, например, что вон за тем пригорком, что впереди, она свернет в чащу кустарника и через него выбежит на берег озера. И веря и не веря себе, незаметно прибавляя шаг, Тимур дошел до пригорка и начал взбираться на него. Шаг, еще шаг, и он увидел, как тропинка, кокетливо изогнувшись, смело нырнула в расступившуюся чащу кустарника.
Теперь Тимур не сомневался, он узнал ее. Прошло сто лет. Спят вечным сном друзья его юности, и вместе с ними его Дийка. Сколько раз они пробегали по этой тропинке, чтобы с первыми лучами солнца выкупаться в озере! Это была светлая, юношеская, бездумная и немного эгоистичная любовь. Они жили тогда не настоящим, а будущим, а потому не отдавались друг другу целиком: каждый мечтал о своем, особом счастье. Тимур душой был уже в просторах неба, а Дийка — глубоко земной человек — жила простой жизнью, добрыми мыслями и никогда не мечтала о звездах. Прошел целый век. Как многое переменилось на Земле! А тропинка — все та же. Старый друг!
Тимур наклонился и положил ладонь на ее шершавую, поросшую редкими былинками, прохладную поверхность. И вдруг сердце его дрогнуло, а мысли затуманились. Полно, может быть, и не было длинной-длинной дороги среди звезд? А вековой прыжок жизни на Земле — сон. Длинный путаный сон! Может быть, он только вчера простился с Дийкой. Может быть, она вот сейчас выглянет из-за кустов и крикнет, как бывало: «Тим, догоняй!» Так она звала его — Тим. И вдруг это «Тим» отчетливо прозвучало в птичьем гомоне. Тимур вздрогнул и огляделся. Ни души. Только птицы, ветер и огромное сияющее небо.
— Дийка! — негромко позвал он.
Никто ему не ответил, только кузнечик, пригревшийся на солнце, подал свой стрекочущий голос.
— Дийка, — уже не позвал, а просто повторил вслух Тимур. И снова застрекотал кузнечик.
Полно! Видел ли он мир, где нет ничего, кроме ночи и звезд? Неистовое голубое пламя чужого злого солнца? Кто он — мужчина или юноша? И куда ведет его эта знакомая тропинка, может быть, в прошлое? Тимур провел по лицу вздрагивающей ладонью. Слабый запах травы, пыли и влаги коснулся его ноздрей. «Это все роса, — машинально подумал он, — это роса». Рука коснулась шрама, который он получил на ближайшей к Сириусу раскаленной планете с озерами жидкого металла. Он грустно улыбнулся. Постоял, прислушиваясь, не заговорит ли с ним озорной кузнечик, сбежал с пригорка и углубился в чащу кустарника. Он шел быстро и уверенно. Кусты то разбегались в сторону, образуя полянки, то жались к тропинке вплотную, смыкая ветви у Тимура над головой. Иногда он нечаянно задевал их то рукой, то плечом, и тогда листья лениво стряхивали на него тяжелые капли холодной росы.
Скоро кустарник начал редеть и расползаться в стороны. В просветах зелени показалась синяя полоска воды. Еще несколько шагов, и Тимур, мокрый от росы, вышел на каменистый берег озера. А вот и скала! Сколько раз Дийка встречала его здесь. «Доброе утро, Тим!» — кричала она, стоя над самой водой. Загородившись ладонью от острых лучей уже набравшего яркость солнца, Тимур вглядывался в плоскую, будто ножом срезанную вершину скалы до тех пор, пока глазам не стало больно от сияния солнца и неба. Тогда он опустил голову.
Озеро в величавом спокойствии лежало перед ним. Даже самая легкая морщинка не касалась его безмятежной глади. Оно было похоже на полированную глыбу синего студеного льда. В нем, как в зеркале, отражались и ясное небо, и зелень кустарника, и серые скалы. В озере был тот же самый мир, что щедро блистал красками и неумолчно звучал вокруг. Тот же и все-таки другой. Он был мягче, задумчивее, печальнее. Он был как сон, как воспоминание, как цветная акварельная тень прошлого.
— Дийка! — тихонько сказал Тимур озеру.
Наверное, он и сам не знал, что обращается не столько к девушке, не столько к своей давней незрелой любви, сколько к самой невозвратно ушедшей юности, к теплым земным снам, которые снились ему в тревожном космосе при холодном свете немигающих звезд. Озерный мир молчал, теперь даже веселый кузнечик не ответил ему. Только издалека, будто и впрямь из прошлого, доносился прозрачный и радостный перезвон птиц.
Вдруг, нарушая тишину, сухо простучал сорвавшийся камень и гулко бултыхнулся в воду. Взлетели в воздух искрящиеся солнцем брызги, и волшебный озерный мир исчез. От него остались лишь атласные волны, нехотя всколыхнувшие озерную гладь. Тимур вздохнул, пробуждаясь от своих грез, и поднял голову. На вершине скалы он увидел стройную девичью фигуру, четко рисовавшуюся в голубом сиянии неба. Она стояла спиной к нему, загораживая глаза далеко отставленной ладонью. И это движение, и каждая линия ее тела были до боли знакомы Тимуру. Дийка?
Он верил и не верил себе. Все это было похоже на сказку, на подарок доброй и лукавой феи. Тимур хотел окликнуть девушку, но в этот момент она обернулась и крикнула ему, подняв руку над головой:
— Доброе утро!
Это были слова Дийки. И ее голос! Тимур узнал ее, хотя разум его и протестовал против этого! Не отвечая, без дороги, Тимур напрямую принялся карабкаться на скалу.
— Осторожно! — совсем близко услышал он увещевающий знакомый голос.
Тимур подтянулся на руках, забросил ногу и, тяжело дыша, выпрямился во весь рост на вершине скалы. Девушка, улыбаясь, смотрела на него. Это была не Дийка.
У Дийки были синие прозрачные глаза, а у этой девушки — карие и теплые.
— Вы любите купаться по утрам? — спросила девушка, прерывая неловкое молчание.
Он молча кивнул, не спуская с нее глаз.
— Значит, будем купаться вместе, — весело заключила она и протянула руку. — Меня зовут Юна.
Тимур пожал ее небольшую сильную ладонь и назвал свое имя.
Он все смотрел на нее, на Дийку и не Дийку, и по рассеянности держал ее руку в своей до тех пор, пока она не отняла ее и не спросила с улыбкой:
— Я вам напоминаю кого-то?
Карие теплые глаза Юны смотрели на Тимура со спокойной доброжелательностью. Как-то вдруг он понял, что она вовсе не юная девушка, как ему показалось сначала. Это была уверенная в себе молодая женщина. От сознания этого Тимуру стало почему-то легче, и он признался:
— Да, напоминаете. — И, спохватившись, добавил: — Но не только вы все!
— Все? — недоуменно переспросила она, отбрасывая со лба прядь волос.
— Все, — настойчиво и беспомощно повторил Тимур.
Как он мог объяснить ей? У него язык не поворачивался рассказать про утреннюю росу, про небо, про тропинку, про Дийку и про свои странные грезы наяву.
— Все, — еще раз сказал он и опустил голову.
— Что с вами? — услышал он ее беспокойный голос.
— Ничего, — сейчас же ответил Тимур.
Но ему трудно было говорить. И видел он плохо, как будто к озеру опустился легкий прозрачный туман. Подняв голову, он попытался улыбнуться.
— Это все от старости. Знаете, сколько мне лет? Сто, сто тридцать один год!
Лицо Юны дрогнуло.
— Я из третьей звездной, — устало пояснил Тимур, — сто шесть лет я не был на Земле. Целый век! А раньше, еще тогда, я бывал здесь. И мне все-все знакомо!
Лицо Юны затуманилось, а глаза стали большими и добрыми.
— Милый вы мой, — сказала она и положила руку на плечо Тимуру, — это пройдет. Это очень скоро пройдет. Я знаю. Я ведь из шестой звездной и всего живу полгода на Земле. Мне тоже больше ста лет по земному счету.
Тимур смотрел на ее стройную фигуру, словно парящую в голубом просторе, до тех пор, пока прозрачный туман совсем не скрыл ее. Тогда он уткнулся лбом в ее теплую ласковую руку и закрыл глаза.
И увидел тропинку, спокойно бегущую вдаль по росистой траве.
НА ВОСХОДЕ СОЛНЦА
Глава 1
Тинка приехала в лагерь с опозданием на целую неделю. Она провожала отца, который в составе большой комплексной экспедиции улетал на Плутон. Приехала Тинка на рассвете и пошла в лагерь пешком, по самому берегу моря. Идти было недалеко, лагерь начинался сразу же за скалистым мысом, что горбился в полутора километрах от причала.
Тинка сняла туфли и шла босиком. Песок шуршал, щекотал ступни ее ног и очень неохотно выпускал их на свободу. С моря дул прохладный ветер, напоенный влагой и запахом водорослей. Маленькие волны набегали на берег и с сердитым шипением таяли на светлеющем песке.
На небе не было ни облачка. Пухлое оранжевое солнце, только что всплывшее из моря, сонно глядело на землю. Над самой головой носились чайки. Они кричали нестройно и тоскливо, точно вели между собой какой-то давний спор, хотя было совсем непонятно, о чем можно спорить в такое чудесное утро.
Повернув за мыс, Тинка увидела мальчишку лет тринадцати-четырнадцати, своего ровесника, сидевшего на большом камне возле самой воды. Тинка было приостановилась, а потом бесшумно, осторожно ступая, подошла ближе. Мальчишка смотрел на солнце, которое неторопливо поднималось все выше, сбрасывая туманные покровы и обретая привычную яркость и блеск. Тинка недоуменно выпятила губу — откуда взялся этот чудак в такой ранний час, когда все ребята еще спят!
И громко сказала:
— Здравствуй!
Мальчишка не вздрогнул, не испугался, как она ожидала, а просто обернулся, без улыбки взглянул на нее, поднялся на ноги и очень вежливо ответил:
— Здравствуйте.
Тинка засмеялась и подошла ближе. Ей понравилось, что мальчишка ответил ей как взрослой. Он был высок, на полголовы выше ее, лицо покрывал темный загар, а глаза были светлыми, как ледышки.
— Ты откуда взялся? — непринужденно спросила Тинка.
Что-то похожее на тревогу мелькнуло в глазах мальчишки, мелькнуло и пропало.
— Я живу здесь, — спокойно ответил он и пояснил после небольшой паузы: — В лагере.
Что-то необычное чудилось Тинке в глубине его светлых внимательных глаз. Будь Тинка постарше, она сразу бы догадалась, в чем тут дело, — у мальчишки был твердый, совсем неребячий взгляд. А так она ничего не поняла, рассердилась на себя и спросила, хмуря брови:
— Ты из какого отряда?
— Из старшего.
— И я из старшего. — Тинка невольно улыбнулась. — Ты что, удрал?
Мальчишка смотрел на нее, словно не понимая вопроса.
— Ну, ушел без разрешения? — пояснила Тинка.
— Да, — он чуть улыбнулся и, поколебавшись, добавил: — Я хотел посмотреть, как восходит солнце.
Тинка обернулась и посмотрела на солнце. Оно уже искрилось, гладило кожу и кололо глаза. Тинка засмеялась, протянула к солнцу руку, точно хотела погладить его, сощурила глаза и отвернулась. Мальчишка серьезно и внимательно смотрел на нее. Тинка фыркнула и тряхнула волосами.
— Ты почему на меня так смотришь?
— Как?
— Да вот так, смотришь и смотришь. Мальчишка чуть смутился.
— А это нельзя?
Тинка звонко рассмеялась и сообщила:
— Ты очень смешной. Пойдем, а то тебе попадет.
Он послушно пошел рядом с ней по тропинке, которая, набирая крутизну, тянулась вверх к лагерю. Тинке понравилось, что он сразу ее послушался. Она спросила:
— Как тебя зовут?
© Ю.Г.Тупицын, 1982
Он помолчал, прежде чем ответить. Тинка уже заметила, что у него такая манера — помолчать, подумать, а потом уже отвечать.
— Александр.
Тинка покосилась на него, фыркнула и убежденно сказала:
— Этого не может быть. Потому что язык сломаешь, пока выговоришь. Вот у меня полное имя Тинатин. Но все зовут Тинкой, понимаешь? Тинка, и все! А тебя как?
Он пожал плечами:
— Кто как — Сашей, Саней, даже Аликом.
Тинка звонко рассмеялась:
— Ну, на Алика ты совсем не похож!
Он посмотрел на нее так, словно хотел спросить — почему, но вслух так ничего и не сказал. Тинка, шедшая немного впереди, не заметила этого взгляда.
Они добрались до площадки, откуда к лагерю вела широкая удобная лестница, и остановились, переводя дух, — подъем был довольно крут. Встретившись взглядами, они невольно улыбнулись друг другу, и мальчишка сказал:
— А еще меня звали Алешей.
Он вдруг погрустнел и отвернулся от Тинки, глядя на разгорающееся солнце и туманную морскую даль. И Тинка тоже посмотрела в эту даль, но ничего не увидела, кроме неясных контуров далеких облаков, не то рождавшихся, не то таявших у самого горизонта. И осторожно спросила:
— А кто тебя так звал?
Он удивленно поднял голову, тень отчуждения легла на его лицо. Хотел что-то сказать, но вдруг круто повернулся и, перепрыгивая сразу через две ступеньки, побежал вверх по лестнице, к лагерю. Тинка недоуменно смотрела ему вслед.
Глава 2
Как это и водится, с утра до обеда день у Тинки прошел колесом. После обеда они уединились в беседке с давней подружкой Таней, и та принялась рассказывать лагерные новости. Их оказалось ужасно много, но о самой главной Таня вспомнила в последнюю очередь.
— Ой! — прервала она себя на полуслове. — Самое главное забыла!
И, придвинувшись к Тинке поближе, шепнула:
— У нас в лагере — робот!
— Ну и что?
— Да не обыкновенный робот, замаскированный!
— Как это — замаскированный? — не поняла Тинка.
— А вот так! Ты лучше не перебивай, а слушай. Этот робот совсем как настоящий мальчишка. Ну совсем-совсем! Ты вот будешь с ним целый день и ни за что не догадаешься, что это робот.
— А как же ты догадалась? — Тинка смотрела на подружку недоверчиво.
— И я не догадалась! Никто не догадался. Это все Володя.
Тинка тряхнула головой и презрительно фыркнула:
— Воображала твой Володя, вот что!
Все это случилось на логико-математической викторине. Володя, один из лучших математиков в лагере, случайно оказался рядом с этим мальчишкой. Ребятам было задано три логико-математические задачи. Володя корпел над ними не меньше часа, исписал выкладками три листа бумаги, а когда поставил точку и поднял голову — понял, что он первый. Никто еще не сдал работы, повсюду виднелись склоненные головы и сосредоточенные лица. Только сосед его, какой-то незнакомый мальчишка, смотрел в окно, но лист бумаги, лежавший перед ним, был совсем чистым, а лицо — печальным. Володя от души пожалел его, а мальчишка, словно почувствовав его взгляд, обернулся.
— Неужели ни одной задачи не сделал? — сочувственно спросил Володя.
Мальчишка некоторое время смотрел на него, будто не понимал, а потом чуть улыбнулся:
— Я сделал все.
И перевернул лежавший перед ним лист бумаги. На нем были аккуратно выписаны ответы на эти три задачи. Володя некоторое время недоуменно посматривал то на бумагу, то на своего соседа, а потом спросил:
— А где же расчеты?
— Я сделал их в уме, — спокойно ответил мальчик.
— В уме? — ошарашенно переспросил Володя и, забыв о викторине, азартно предложил: — А ну, сверимся!
К изумлению Володи, ответы у них оказались абсолютно одинаковыми. В тот самый момент, когда он собрался как следует допросить мальчишку о том, как тот сделал задачи, их обоих за разговоры сняли с соревнований. Володя так переживал свой позор, что поначалу совсем забыл об удивительном соседе. Но потом, конечно, вспомнил обо всем и сообразил, что этот мальчишка — робот. Только роботы могут решать в уме задачи такой сложности!
Тинке все это было ужасно интересно, но она и виду не подала, а, наоборот, скептически пожала плечами:
— А может быть, у него способности? Ты знаешь, какие бывают математики? Почище вычислительных машин!
— Знаю, — с вызовом ответила Таня, — да разве только в математике дело? На викторине Володя только заподозрил, что мальчишка этот робот. Стад за ним наблюдать и насобирал целую кучу фактов. И эти факты неумолимо свидетельствуют в пользу его предположения.
Тинка фыркнула, потому что подружка говорила явно с чужих слов, Володькиным языком, но Таня уже увлеклась и не обратила внимания на обидную реакцию подруги.
— Этот мальчишка, — торопясь и проглатывая окончания слов, сообщила она, — никогда не смеется. Только улыбается, и то редко. Ни в какие игры играть не умеет, даже в волейбол. Старается, а толку никакого — то в аут, то в сетку, то вообще не пойми куда. Плавать не умеет — представляешь! Бегает как бегемот, девчонки его обгоняют, а сильный — ужас! Всех мальчишек переборол. И ты знаешь что? В темноте видит. Майка стандартный приемничек потеряла, ну, который в перстень вделан. А темнота, только звезды светят, и фонарика ни у кого нет. Володя решил сделать последнюю проверку. Сбегал за этим мальчишкой и говорит — помоги приемник найти. А тот — пожалуйста. Вообще ужасно вежливый, как взрослый, просто жалко, что он робот. Ну вот, пришел он, поискал какую-то минутку — и пожалуйста, нашел! Тут уж абсолютно ясно стало — робот!
Таня вдруг нахмурила брови и сделала строгое лицо:
— Ты учти, об этом никто-никто не знает. Только я, Володька да Мишель. И ты теперь знаешь. Смотри, — она погрозила Тинке пальцем, — ни-ко-му! Володька говорит, что он и сам не знает, что он робот, а то бы ни за что не делал таких промахов. Понимаешь, ученые делают на нем эксперимент, а он думает, что он такой же мальчишка, как и все. Его надо оберегать, психически не травмировать.
Таня вдруг ахнула тихонько, схватила Тинку за руку и зашептала:
— Смотри-смотри, вот он идет! Только вида не подавай!
Тинка обернулась и не поверила глазам — она увидела того самого мальчишку, которого встретила на восходе солнца на берегу моря. В ее памяти всплыли и зацепились друг за друга все странности его поведения. Неужели и правда это робот?
Она выглянула из беседки и приветливо окликнула:
— Алеша!
Мальчишка вздрогнул и обернулся так резко, что Тинка испугалась. Он смотрел на нее не то удивленно, не то разочарованно, а потом будто через силу улыбнулся:
— Я не узнал тебя, Тинка, извини.
— Это ничего, — растерянно успокоила его Тинка. Алеша кивнул ей головой и медленно пошел дальше.
А к Тинке с горящими глазами подскочила Таня:
— Ой, ты знаешь его, да? Он не робот, да? А кто он? Тинка, кто он?
Тинка покачала головой, поглядела Алеше вслед:
— Не знаю. Правда, не знаю, Таня.
Глава 3
Коридор имел овальное сечение и изгибался заметной дугой так, что через десятка два метров зеленый пол подтекал под светящийся всей своей поверхностью оранжевый потолок. Матовые голубые стены не имели никаких украшений, углов и выступов, все так зализано и заглажено, что не ухватишься рукой, только кое-где виднелись двери, врезанные в неглубокие ниши. По всей ширине пола тянулся зеленый ворсистый ковер, заметно пружинивший под ногами и полностью гасивший звуки шагов, поэтому Алеша шагал легко и бесшумно, как тень. Но в коридоре вовсе не царила мертвая тишина: крохотные, почти невидимые глазом динамики, впаянные в стены, наполняли воздух любимым звуковым фоном Алеши — шорохом дождя и шумом прибоя.
В святая святых корабля — ходовой рубке — перед обзорным экраном стояло капитанское кресло. Алеша подошел к нему, погладил отполированные подлокотники и лишь потом сел за пульт управления. Лицо его приобрело спокойное сосредоточенное выражение. Пробежав взглядом по многочисленным приборам, кнопкам и рычагам управления, Алеша устроился поудобнее, ведь кресло ему великовато, и принялся за работу.
Это был стандартный контрольный комплекс: проверка корабельных систем и двигателя, выборочный детальный контроль отдельных агрегатов, обсервация с определением координат корабля и коррекция траектории. С коррекцией была куча хлопот. Еще при отце отказал блок автокоррекции. Они бились над его ремонтом несколько месяцев, но безуспешно. Поэтому после обсервации Алеше приходилось подолгу сидеть за компьютером, производя пространственно-временные вычисления высшей степени сложности. Работа была для него привычной — пальцы так и летали по клавишам компьютера, — но однообразной и утомительной. Через сорок минут, дважды пройдя программу вычислений и получив совпадающие ответы, Алеша ввел данные в ходовой блок и нажал исполнительную кнопку. Корабль качнулся, словно его кто-то потянул в сторону могучей и властной рукой — это сработал ходовой двигатель, компенсируя накопившиеся ошибки и направляя вектор скорости корабля на самую яркую звезду черного небосвода — на Солнце.
В корабельном ангаре царили тишина и идеальный порядок. Золотистая сигара двухместного старбота стояла, чуть приподняв нос, точно ей не терпелось сорваться с места и помчаться по направляющим рельсам вперед. Алеша натянул легкий скафандр, подошел к старботу и с улыбкой похлопал его по упругому борту — предстояла прогулка в космос, самое интересное из всего, что есть на свете. Откинув фонарь, такой прозрачный, что контуры его угадывались не без труда, Алеша занял водительское место, загерметизировался, проверил работу всех систем и нажал стартовую кнопку. Старбот послушно тронулся с места, легкая перегрузка прижала Алешу к спинке кресла. Мелькали близкие стены: свет, темнота, свет, темнота, негромкий щелчок — и старбот нырнул острым носом в звездный океан.
Звезды, только звезды вокруг. Звезды да серебристый дым Млечного Пути, который сплошным кольцом опоясывал этот мир, сотканный из мрака и света. Только сзади, за кормой старбота, парило огромное двухсотметровое тело корабля, тускло поблескивая бронированным корпусом. Алеша выжал ходовую педаль и на несколько секунд придержал ее, чувствуя, как под шмелиное пение двигателя старбот набирает скорость. Он именно чувствовал это, а не видел, потому что в окружающем его мире никаких изменений не произошло: точки, искры и пылинки звезд по-прежнему были недвижны и равнодушны, лишь, оглядываясь назад, можно было заметить, как худеет громада корабля, точно она резиновая и из нее выпускают воздух. Скоро корабль стал совсем игрушечным, превратился в тусклый штрих, а потом и вовсе растаял, затерявшись среди огненной пыли звезд.
Алеша тронул штурвал, и небо послушно — наискосок, через плечо и спину — стало опрокидываться, открывая глазам светописные картины одну чудеснее другой. Развернувшись по локатору на невидимый корабль, Алеша импульсом тяги погасил набранную скорость, заставив старбот зависнуть неподвижно, откинул фонарь и, чуть-чуть оттолкнувшись руками от бортов, всплыл из кабины к звездам. Свободно раскинувшись в невесомой пустоте, Алеша глубоко, полной грудью вздохнул и тихонько засмеялся. Это был его мир! Мир, в котором он с самого раннего детства чувствовал себя вольным и счастливым.
Как и всегда, оставшись наедине с этим миром вечной ночи, Алеша испытал удивительное чувство. Он зримо ощутил, как его взгляд, цепляясь за яркие звезды, летит в этот сияющий мир без конца и края, летит и безвозвратно тонет в нем. Каждая крохотная искорка света, которой он касается, — это гигантский кусок материи, сжигающий себя в пламени ядерных реакций.
Сердце билось у Алеши от сознания безмерной шири и необъятности Вселенной! Он немного повернул голову, и ослепительная желтая искра ужалила его в глаза, заставила зажмуриться. Солнце! Теплый желтый свет, льющийся из холодной серебряной бездны. Это было и радостно и тревожно, как сны, в которых Алеша видел чудовищные громады камня, голубые просторы и потоки воды, щедро льющейся с неба. Он вздохнул, отрешаясь от своих странных, недетских грез, и совсем тихо поплыл в серебристой пустоте к старботу, который, повинуясь его запросу, послушно замигал бортовыми огнями.
В оранжерее было тепло, влажно и солнечно. Пахло зеленью и тленом. Шипели и звенели струйки фонтанчиков, рассыпающиеся на радужные брызги и водяную пыль. Клубилась, струилась зеленая листва, украшенная разноцветными пятнами плодов. Алеша собирал их, подрезая попутно лишние побеги, и сортировал: самую меньшую часть оставил себе в свежем виде на обед и ужин, побольше положил в консерватор, а самую большую загрузил в трансформатор, который по кодовому заказу мог приготовить из них кучу разных блюд. Его неторопливую работу прервал низкий, густой, привычный и всегда тем не менее пугающий сигнал тревоги. Алеша пулей выскочил из оранжереи в коридор.
Корабль мотнуло так, что Алеша не удержался на ногах и упал на колени. В маневре корабля не было ничего опасного: просто сработал ходовой двигатель, уводя его от столкновения с каким-то небесным телом, против которого оказались бессильными пушки метеорной защиты. Алеша хорошо знал это. Но откуда-то напал и навалился на него нежданный, необъяснимый страх.
— Папка! — закричал Алеша.
Он знал, что ему никто не ответит, и все-таки закричал. Не мог он не закричать, не дать выхода тому, что заполнило его существо и мешало дышать. Корабль мотнуло еще сильнее, Алешу бросило на стену, а потом на пол. Он вскочил и побежал по коридору.
— Папка! — И, не умея сдержать себя, изо всей силы забарабанил кулаками в дверь каюты отца. — Папка, открой! Открой, я же прошу тебя!
Снова корабль шарахнулся в сторону, и Алешу швырнуло на мягкую губчатую стену с такой силой, что помутилось в голове.
Он судорожно вздохнул, просыпаясь, и открыл глаза. Тишина и мрак, сонное дыхание ребят — соседей по комнате, сложная мешанина запахов и постепенно тающий страх.
— Папка! — машинально позвал Алеша шепотом.
Ему никто не ответил. Алеша запрокинул голову назад и через открытое окно увидел кусочек звездного неба. Звезды здесь были не такими чистыми и безмятежными, как в космосе, они мерцали, меняя свой цвет и выбрасывая во все стороны колючие, похожие на щупальца лучики, но все-таки это были звезды. Алеша поправил подушку так, чтобы видеть этот родной свободный мир, полежал, стараясь вспомнить, что ему такое снилось, а потом заснул.
Глава 4
Неслышно ступая, Тинка подобралась к окну и осторожно заглянула. Начальник лагеря Виктор Михайлович с сосредоточенным лицом что-то печатал на машинке одной рукой, а другой перелистывал лежащий перед ним журнал.
— Здравствуйте, — тихонько сказала Тинка, уловив паузу в его работе.
— Здравствуй, здравствуй, — рассеянно ответил Виктор Михайлович, не поворачивая головы. — Приехала?
— Приехала, — согласилась Тинка.
Виктор Михайлович вынул из машинки лист, аккуратно уложил его на стопку других, уже напечатанных, и поднял на Тинку глаза:
— Приехала, и теперь покоя от тебя не будет. — Он засмеялся и уже серьезно сказал: — Ты приходи завтра, Тинка. Сегодня я занят.
— Ладно, — великодушно сказала Тинка, — я приду завтра. Вы только скажите — Алеша робот или нет?
Виктор Михайлович нахмурился:
— Какой Алеша?
— Высокий, вежливый, загорелый, а глаза — как ледышки! — отчеканила Тинка.
Виктор Михайлович нахмурился еще больше.
— А ну, — строго сказал Виктор Михайлович, — лезь сюда и рассказывай. Все рассказывай!
Тинка влезла, ей было не впервой, села на стул рядом с Виктором Михайловичем и рассказала ему все, что знала, от начала до конца.
Виктор Михайлович хмыкнул, усмехнулся:
— Робот, надо же придумать! Выпороть бы этого Володьку по стародавнему обычаю.
— Воображала, — охотно согласилась Тинка и осторожно спросила: — Так Алеша не робот? Он болен, да?
Виктор Михайлович покосился на Тинку.
— Нет, не болен, — он неопределенно пожал плечами. — Просто ему трудно, непривычно. Помочь ему нужно, Тинка.
— Я помогу, — уверенно сказала девочка. — А как?
Виктор Михайлович засмеялся, глядя в эти хорошо знакомые, совсем мамины глаза Тинки, в глубине которых даже сейчас теплился лукавый огонек. И вздохнул.
— Если бы я знал как, — грустно сказал он. — Это ты уж сама придумывай — как.
— Я придумаю, — убежденно сказала Тинка, — вы только расскажите.
— Что тебе рассказать?
— Про Алешу.
Разглядывая девочку, Виктор Михайлович задумчиво спросил:
— В кого ты такая уродилась?
— В маму, — сейчас же ответила Тинка, — будто не знаете!
Виктор Михайлович засмеялся и потрепал ее по волосам. Тинка недовольно дернула головой — она не любила нежностей.
— Ладно, — решил Виктор Михайлович, — я расскажу тебе про Алешу. Только учти, это большая и серьезная тайна. Не проболтаешься?
Тинка презрительно фыркнула, но Виктор Михайлович не удовлетворился этой демонстрацией и серьезно спросил:
— Слово?
— Слово!
— Понимаешь, Тинка. — Виктор Михайлович поискал нужные слова, не нашел их, отвел взгляд от требовательных глаз девочки и только спросил хмуро: — Ты Нину, ну, свою маму, ждала?
Тинка молчала, глядя на него своими большущими, широко открытыми глазами.
— Вот и он ждет, Тинка, — тихо сказал Виктор Михайлович, глядя в темное окно, — только не маму, а отца.
Глава 5
Мир был невелик — звезды, корабль, отец и он сам, Алеша. Еще Алеша помнил мать, но больше по рассказам отца, чем по собственным впечатлениям. И если говорить честно, то большая стереофотография, висевшая в каюте, мало что говорила ему. Лишь иногда, заглядывая в глубину смеющихся глаз этой женщины, он испытывал щемящее чувство беспокойства. Откуда-то из глубины памяти всплывали, клубились и таяли забытые ощущения: запах ее волос, ловкие руки, мягкие губы и эти вот самые смеющиеся глаза. Долго раздумывать об этом было и некогда и страшно.
У Алеши была интересная, но очень тяжелая жизнь. Он все время учился, сколько помнил себя. Учился каждый день, по многу часов, учился всему, что знал и умел отец: готовить пищу, ремонтировать вышедшие из строя механизмы, убирать помещения, водить старбот и пользоваться скафандром, ухаживать за оранжереей, выполнять космонавигационные наблюдения, управлять ходом огромного звездного корабля. Добрая половина этих работ насквозь пронизана математикой. Отец вводил его в царство этой науки постепенно, осторожно примеряясь к его детскому незрелому уму, но настойчиво, упрямо и даже фанатично. Добрый отец становился жестоким тираном, когда дело шло о решении основных задач космонавигации. И сколько слез было пролито Алешей тайком!
Отец старался как только мог скрасить трудную, недетскую Алешкину жизнь. Они вместе читали книги, смотрели фильмы, слушали музыку, в перерывах между занятиями занимались акробатикой и борьбой. Каждый день по меньшей мере час проводили в космосе, то совершая дальние прогулки на старботе, то затевая игры возле самого корабля, то просто отдыхая в безмолвии звездного океана. Это были лучшие часы в жизни Алеши!
Отец часто рассказывал ему удивительные вещи. Правда, о них можно было прочитать и в книгах, но одно дело книги, ведь бывают и книги-сказки, а другое дело отец. Всегда можно было разобраться, говорит он правду или шутит. Показывая Алеше на самую яркую звезду небосвода, отец говорил:
— Запоминай, Алеша. Через полтора года, когда тебе исполнится тринадцать лет, эта звезда превратится в самое настоящее солнце. А солнце — это чудо, Алеша! Это тепло, это жизнь. Это такой радостный свет, что глазам больно, а душе сладко. Глянешь — и отвернешься сразу.
— Как при термоядерной реакции? — уточнял Алеша. Отец смеялся и кружил его вокруг себя.
— Малыш! Солнце и есть термоядерная реакция в космическом масштабе.
— Что же тут хорошего, — недоумевал Алеша, — глазам больно! И ходить при этом солнце, наверное, надо в скафандре, чтобы не заболеть лучевой болезнью.
Отец как-то непонятно смотрел на него и вздыхал:
— Нет, Алеша. Скафандр тебе не понадобится. Солнце ласковое, нежное, как струи теплого душа.
Алеша хмурил брови, стараясь представить себе ласковый и нежный огненный шар с температурой во многие миллионы градусов, но у него ничего не получалось.
— Лучше всего на свете, — рассказывал отец, — это сидеть утром на берегу и смотреть, как солнце медленно всплывает из моря. Смотреть, слушать шорох волн и крики птиц.
— Это как в кинофильмах? — жадно спрашивал Алеша.
— Да, сынок.
— А это правда? Это не сказка? Разве бывает так много воздуха и воды сразу?
— Правда.
— И что небо голубое — правда? И на нем ни одной, ни единой звездочки?
— Все правда, Алеша.
— Небо и без звезд, — недоумевал мальчик, — разве это красиво?
Отец вздыхал и грустно улыбался, а почему грустно, Алеша никак не мог понять. Ведь это был такой интересный разговор!
Привычная, интересная и трудная жизнь сломалась незадолго до конца долгого пути среди звезд, вечером, когда они играли в шахматы. Раздался низкий густой сигнал тревоги, а вслед за тем безликий голос недремлющего компьютера сказал:
— Авария в отсеке ходового двигателя. Необходимы срочные меры экипажа. Повторяю, авария в отсеке ходового двигателя…
Отец вскочил, опрокинул шахматную доску, коротко бросил:
— Сиди! И ни шагу отсюда!
И выскочил из каюты.
Алеша остался с рассыпавшимися фигурами и безликим равнодушным голосом, твердившим одно и то же. А потом этот голос умолк, наступила привычная тишина, и, честное слово, будь отец рядом, Алеша решил бы, что все происшедшее ему приснилось. Но отца не было. Сжавшись в комочек в самом углу дивана, Алеша с удивлением и испугом прислушивался к громкому стуку своего сердца. До этого он никогда не слышал его, разве что в те тихие минуты, когда, уже засыпая, крепко-крепко прижимался ухом к подушке.
Отец вернулся спокойным, но каким-то рассеянным, углубленным в самого себя.
На немой вопрос Алеши он успокоительно ответил:
— Все в порядке. Но опоздай я минут на пять, мы бы остались без топлива.
Но понемногу Алеша понял, что на корабле далеко не все в порядке. И самое главное — отец стал каким-то другим. Он еще больше увеличил нагрузку занятий, а потом, вовсе устранившись от управления кораблем, заставил Алешу целую неделю вести его самостоятельно. Зато в короткие часы отдыха был необыкновенно ласков. Разглядывая как-то измученное, осунувшееся лицо сына, он тихо, словно извиняясь, сказал:
— Что поделаешь, Алеша. У нас нет с тобой другого выхода.
У него был при этом такой убитый, даже жалкий вид, что Алеша по какому-то наитию с недетскою проницательностью понял, что кроется за этими словами отца.
— Папка, — спросил он серьезно, — ты собираешься заснуть? А я останусь один?
Отец взглянул на него, отвел глаза, но ничего не ответил.
— Ты скажи мне, папка, — попросил Алеша, — я ведь уже большой. Мне двенадцать лет.
— Двенадцать лет, — повторил отец и положил руку на плечо Алеши. — Пойдем, сынок.
Центральным коридором они прошли в кормовой отсек, где Алеша никогда еще не бывал. Туда вела бронированная дверь, запертая на шифрозамок, а ключ к этому замку знал только отец. Шагнув за порог этой двери, Алеша почувствовал знакомое бодрящее состояние невесомости. Алеша оказался в коридоре, только этот коридор был заметно уже центрального и освещен не привычным рассеянным светом, а отдельными плафонами. Коридор был круглого сечения, и по всей его поверхности в шахматном порядке были расположены небольшие двери, больше похожие на люки. Их было около десятка.
— Это корабельные трюмы, Алеша, — пояснил отец.
Он обнял его за плечи и, легонько оттолкнувшись, поплыл по самой середине коридора.
— Здесь хранится все важное и интересное, собранное нами на других планетах, — негромко рассказывал он, — семена удивительных, незаменимых для человека растений, зародыши животных, необычайные минералы, сверхстойкие металлы и не прочитанные пока еще книги погибшей цивилизации, — кто знает, какие они тайны хранят в себе! Все то, Алеша, ради чего с Земли и был отправлен этот корабль.
Один из люков был поменьше других, и над ним ярко горел веселый зеленый огонек. Отец ухватился за поручень, и они зависли прямо против этого люка.
— А здесь, сынок, — тихо проговорил отец, — спит экипаж нашего корабля.
— И мама здесь? — с внезапным интересом спросил Алеша.
— И мама. А зеленый огонек сигнализирует, что в этой камере все в порядке. Я ведь рассказывал тебе, Алеша, как крепко засыпают люди в космосе, только на Земле можно их разбудить. — Он помолчал и еще тише сказал: — А теперь пришло и мое время, скоро засну и я. И тогда ты в космосе останешься один. Совсем один. Корабль и ты — больше никого. Ты не боишься?
Алеша улыбнулся:
— Нет, чего же бояться в космосе? Это ведь не планета, где полным-полно всяких страшных зверей. Но мне будет скучно, папка. Может быть, ты подождешь?
— Нельзя мне ждать, Алеша. Когда приходит час, люди засыпают, и с этим ничего не поделаешь. Ты уж потерпи, поскучай, до Земли осталось меньше года. Потерпи и, чтобы ни случилось, веди на Землю корабль. Ты теперь умеешь это делать, я знаю. Веди! Иначе все наши жертвы теряют смысл и цену! Ведь когда-нибудь придет и твой час, и ты заснешь, и все мы будем спать, спать и никогда не проснемся. Только на Земле, где голубое небо, где много-много воды и воздуха, можно разбудить нас.
Алеша перевел взгляд с лица отца на зеленый веселый огонек.
— Я доведу корабль, — негромко сказал он, хмуря брови, — я доведу его, что бы ни случилось! Ведь я очень хочу, чтобы все проснулись, особенно ты, папка.
Тяжелая отцовская рука взлохматила ему волосы.
— Дай Бог, Алешка, — чудно и непонятно сказал он, глядя куда-то вдаль, поверх головы сына, — дай Бог.
Глава 6
Тинка со страхом и восторгом смотрела на Виктора Михайловича.
— И он довел корабль?
— Довел, Тинка.
— Один?
— Один. Кто же мог ему помочь?
Тинка порывисто вздохнула и прижала ладони к раскаленным щекам.
— А когда их разбудят? Скоро он увидит отца?
В глазах Виктора Михайловича мелькнуло изумление.
— Тинка, — он даже запнулся на первом слоге, — ты разве не поняла?
Румянец медленно сбежал с лица девочки.
— Тинка, — тихо проговорил Виктор Михайлович, — ну, Тинка, ты ведь уже большая! Они не засыпали, Тинка, они умирали. Кто от болезней, кто от ран, а кто и просто неизвестно почему. Их хоронили в той камере с зеленым огоньком. Алеша ведь никогда не видел смерти, вот отец и придумал все это. Чтобы ему было легче, чтобы он не чувствовал себя таким одиноким.
Тинка затрясла головой:
— Это неправда!
Виктор Михайлович вздохнул и отвернулся к окну.
— Это неправда! — закричала Тинка ему в затылок, но она уже знала, что это правда.
— Ликвидируя аварию, отец Алеши получил смертельное лучевое поражение, — не оборачиваясь, сказал Виктор Михайлович. — Он мог бы прожить месяца два. Но как бы воспринял его мучительную смерть Алеша? И через три недели, закончив все свои дела, он сам закрыл за собой дверь с зеленым огоньком.
Он помолчал и пожал плечами:
— Кто знает? Тела погибших все время хранились и хранятся в гелиевых камерах. Может быть, когда-нибудь ученые и сумеют вернуть им жизнь. Но когда? Кто знает об этом?
Виктор Михайлович помолчал и потер ладонью лоб.
— Что ты молчишь, Тинка?
Он обернулся, Тинки в комнате уже не было.
Глава 7
Едва забрезжил рассвет, Тинка уже сбегала по лестнице к морю. Стволы деревьев, листва, цветы и песок — все казалось одинаково серым и тусклым в блеклом свете. Только над самой гладью воды наливалась ясными алыми красками заря. Тинка не ошиблась: Алеша сидел на том же самом камне, что и вчера. Он еще издали заметил девочку, но промолчал и не повернул головы.
— Я тебе не помешаю? — спросила Тинка, останавливаясь в нескольких шагах.
— Нет, — ответил Алеша.
Тинка подошла ближе и села прямо на сыпучий прохладный песок. Помолчала и спросила негромко:
— Ты ждешь отца?
Алеша обернулся:
— Откуда ты знаешь?
Тинка вздохнула:
— Знаю. — Обхватила руками коленки и добавила: — Я ведь тоже ждала маму. Она была на Юпитере. Была, была — и вдруг пропала связь.
Она покосилась на Алешу. Мальчик смотрел на нее, затаив дыхание.
— Я ее долго ждала, — вздохнула Тинка, — знаешь сколько? Целых два года. А потом пришли и сказали, чтобы я не ждала. Мама не вернется, никогда! — Она передохнула. — А иногда думаю, что это неправда. Неправда, вот и все! Кому нужна такая несправедливость? Зачем? И вот я думаю — возьмет мама и вернется. Понимаешь? Возьмет и всем им назло вернется!
Тинка замолчала, закусив губу.
Алеша сидел молча, лицо его было спокойно и сосредоточенно. Покосившись на девочку, он осторожно коснулся ее руки.
— Смотри, сейчас взойдет солнце. А мой папка… — У него сорвался голос, но он набычился и упрямо повторил: — А мой папка говорил, что нет ничего красивее того, как над морем восходит солнце.
ЛЮДИ НЕ БОГИ
Лунца разбудило гудение зуммера. Открыв глаза, он покосился на экран видеофона и нахмурился. Его вызывала ходовая рубка. Опять, наверное, какой-нибудь пустяк. Надо будет собрать начальников вахт и серьезно поговорить. Пора им учиться самостоятельности. Не вечно же они будут иметь за спиной командира! А Дмитрий Сергеевич Лунц был именно командиром пассажирского лайнера, совершающего регулярные рейсы по маршруту Земля Марс — Титан и обратно.
— Слушаю, — коротко бросил Лунц.
Экран вызова осветился, и на нем появилось обеспокоенное лицо вахтенного начальника.
— Неполадки в аккумуляторной, — негромко доложил тот, — по-моему, дело серьезное.
— Сейчас буду.
Экран вызова погас, а Лунц поднялся с дивана и принялся размеренно, на первый взгляд неторопливо приводить себя в порядок. Застегивая «молнию» легкого костюма-скафандра, он на секунду задержал взгляд на своей встревоженной физиономии, отражавшейся в зеркале, усмехнулся и тут же вздохнул. Не до смеха! Аккумуляторная — самый каверзный отсек лайнера. Там хранятся запасы гипервещества, служащего топливом для ходового двигателя. Запасы энергии в гипервеществе колоссальны, именно это обстоятельство позволяет лайнеру, презрев поля тяготения, почти напрямую пересекать пространство. Однако, если гипервещество вдруг начнет распадаться, превращаясь в обычные частицы, главным образом в нуклоны, то выделится энергия, достаточная, чтобы вскипятить Аральское море. Это будет не только катастрофа, а космическое бедствие. Хуже всего, что прецеденты такого рода уже случались, стоит вспомнить судьбу танкера «Сибирь». Конечно, гипервещество изучено вдоль и поперек и взято под контроль, надежность которого не вызывает сомнения, однако же недаром его запрещают хранить на Земле. Все вещества, заряженные энергией, капризны. Даже обыкновеннейший невинный тротил иногда взрывается без видимых причин, превращая в руины гигантские химические заводы, а по сравнению с этой овечкой гипервещество — лютый тигр.
В ходовой рубке Лунца встретил вахтенный начальник.
— Я вызвал и главного инженера, — словно извиняясь, доложил он.
Лунц одобрительно кивнул и прошел к головному щиту аккумуляторной, за которым колдовал оператор. Он не сразу понял тревогу вахтенного и даже мысленно выругал его за ненужную панику — уровень радиации в аккумуляторной несколько превышал норму, но до опасного предела было еще далеко. И вдруг слегка змеившаяся линия развертки, отмечавшая уровень радиации, вздыбилась крутым горбом и полезла вверх. Замигали сигнальные лампы, забегали стрелки приборов — это сработала автоматика, приводя в действие систему гашения радиации.
— Я подключил на гашение все резервы, — сказал за спиной Лунца вахтенный начальник. — Все, какие только возможно.
Командир рассеянно кивнул — это разумелось само собой.
— Объявите тревогу, — не оборачиваясь, сказал он. — Экипажу и пассажирам занять стартовые места.
— Выполняю.
Главный инженер вошел в ходовую рубку вместе с гудками сирен.
— Что случилось? — удивленно спросил он, тараща свои маленькие заспанные глазки.
— Займись аккумуляторной, — бросил ему через плечо Лунц, зная, что старый Вилли поймет его с полуслова.
— Ясно.
Прошло несколько томительных секунд, кривая развертки нехотя опала и, извиваясь, точно раненая змея, с трудом успокоилась. Оператор вздохнул и покосился на командира.
— Флюктуации, — устало пояснил он. — Это уже третий пик.
Лунц хорошо понимал его состояние — ведь на «Сибири» все началось именно с флюктуации. Стоило сейчас не справиться системе гашения, как… Впрочем, никто не знает, что произошло бы. Может быть, все ограничилось бы радиационной тревогой, включением резервных систем гашения, а может быть, паразитная реакция стала бы развиваться дальше. Думать об этом не хотелось, а самое главное — это было совершенно бесполезно.
— Тревога объявлена, экипаж и пассажиры на местах, — доложил вахтенный.
— Приготовьте пассажирский отсек к катапультированию, — проговорил Лунц, по-прежнему не отрывая глаз от осциллографа. Он скорее почувствовал, чем увидел, что вахтенный начальник замялся и повернул голову. «Может быть, не торопиться? Может быть, подождать?» — говорил просительный взгляд молодого человека. Отвернувшись к приборам, Лунц спросил суховато и негромко:
— Вы меня поняли?
— Понял, выполняю, — после небольшой паузы ответил вахтенный.
Командир постоял еще немного у щита, шевеля пальцами рук, сцепленных за спиной, потом сказал:
— Информацию аккумуляторной — мне на пульт.
Он неторопливо прошел по рубке, занял командирское место, надел рабочий шлем.
— Вахту принимаю.
— Вахту сдаю, — ответил вахтенный начальник. — Пассажирский отсек к катапультированию готов.
Лунц пробежал глазами по приборам и вызвал главного инженера.
— Вилли, а как индекс безопасности?
— Неопределенный. Флюктуации хаотичны, закономерности почти не прослеживаются. И… — главный на секунду замялся, — и к тому же полная аналогия с процессами на «Сибири», до деталей.
Лунц ясно понял, что дальше тянуть неразумно, но ждал, зная изворотливый характер своего главного: может, он отыщет какую-нибудь зацепку и предложит все-таки выход? Но старый Вилли молчал.
— Информацию об аккумуляторной — в термоконтейнере за борт! — хмуро приказал Лунц.
— Я уже отправил, — вздохнул главный инженер.
Может быть, этот контейнер поможет ученым в конце концов разобраться в фокусах гипервещества. Лунц секунду помолчал и особенно четко проговорил:
— Экипажу перейти в пассажирский отсек. Исполнение немедленно!
На контрольном пульте командира по одной и целыми сериями начали гаснуть лампы, сигнализируя о том, что члены экипажа оставляют свои рабочие места. Вот погасла лампа главного инженера, и Лунц чуть обернулся, зная, что сейчас услышит его голос.
— Дмитрий Сергеевич, — как по заказу послышался за спиной просительный басок, — может, оставишь меня? Веселее будет.
Лунц скосил глаза и увидел толстые щеки, вспотевший лоб и виноватые глаза своего старого товарища.
— Не задерживай, Вилли, — невыразительно сказал Лунц, — время дорого. До встречи.
— До встречи, — сердито проворчал главный инженер.
«Обиделся», — мимоходом подумал Лунц, отворачиваясь к приборам.
— Экипаж в пассажирском отсеке, — через десяток секунд доложил вахтенный начальник.
— Следуйте в отсек и вы. Благодарю за службу, — коротко ответил Лунц.
Лампочка вахтенного продолжала гореть.
— Разрешите остаться с вами, — прозвучал голос.
— Не разрешаю, — отрезал Лунц.
Последняя контрольная лампа наконец погасла. Лунц передохнул и запросил:
— Пассажирский отсек, доложите о готовности!
— Пассажиры и экипаж на местах. Отсутствует командир. Отсек загерметизирован, жизненные запасы в полном комплекте, маяки включены, к катапультированию готовы, — на одном дыхании проговорил уставную формулировку дежурный по отсеку.
— Катапультируйтесь, — разрешил Лунц.
— Есть катапультироваться!
В ту же секунду Лунц скорее почувствовал, чем услышал, легкий треск это были отстрелены узлы крепления пассажирского отсека к ходовой части корабля. Теперь отсек свободно лежал на направляющих, как на салазках, Послышалось мягкое нарастающее гудение, и легкая перегрузка придавила Лунца к спинке сиденья: под действием вихревого поля отсек скользнул по направляющим и уплыл в просторы космоса. Лунц развернул корму лайнера. Зазвенел двигатель, и ходовая часть с командиром на борту понеслась прочь от пассажирского отсека.
— Катапультирование прошло нормально, — доложил дежурный по отсеку. Связь с базой установлена, координаты сообщены.
Конец фразы потонул в тресках помех — ионное облако, вырвавшееся из двигателя, заэкранировало лайнер. Но связь была уже не нужна. Лунц вялым движением вытер платком лицо и сказал вслух, будто удивляясь:
— Дело сделано, можно начинать бояться.
И в этот момент началась очередная, четвертая флюктуация. Зеленая змея развертки сначала вспухла по всей ширине экрана, а потом вздыбилась передним фронтом, выбросив вперед острый пик, который уперся в край экрана, на стенах рубки вспыхнули пронзительно красные надписи «Радиационная тревога!». У Лунца кольнуло сердце, а развертка не опадала, она все пучилась и пучилась вверх, и все большая ее часть выходила за обрез экрана. «А отсек я все-таки успел катапультировать!» — с неожиданным приливом гордости подумал Лунц, между тем как каждая мышца, каждая клеточка его тела напряглась до боли в ожидании ослепительной вспышки небытия.
— Не хотел бы я быть на вашем месте, — сочувственно произнес за его спиной негромкий голос.
«Да, я не пожелал бы такого даже злейшему врагу», — мысленно согласился Лунц. И вдруг осознал, что отвечает не внутреннему голосу, не своему собственному «я», а кому-то другому! Изумленный Лунц рывком обернулся и увидел незнакомого человека. Незнакомец в свободной позе сидел на подлокотнике соседнего кресла, легкомысленно качал ногой и улыбался, глядя на Лунца умными и веселыми глазами.
— Как вы сюда попали? — с трудом проговорил Лунц.
Улыбка незнакомца приобрела оттенок шутливой таинственности.
— Разве это существенно, Дмитрий Сергеевич?
— От нас сейчас останется одна пыль, — негромко сказал Лунц, с сожалением глядя на незнакомца.
— Ну, — легкомысленно ответил тот, — если взорвется аккумуляторная, то от нас и пыли не останется. — Он помолчал и успокоительно добавил: — Но она не взорвется.
Лунц нахмурился, вникая в смысл услышанного, а потом всем телом повернулся к приборам. Никакого пика радиоактивности не было! В противовес естественному ходу вещей флюктуация гипервещества закончилась вполне благополучно. Более того, уровень радиоактивности упал до такой величины, что угроза взрыва вообще миновала. Это было похоже на чудо, но Лунцу сейчас было не до изумления и не до восторгов перед необъяснимым, почти чудесным спасением. Все случившееся как бы дало обратный ход, и вот только теперь, заново восприняв происшедшее, Лунц по-настоящему пережил нервное потрясение. В его психике сработало какое-то аварийное реле, мощный поток энергии, поддерживавший его, прекратился, все мышцы тела ослабели, превратившись в жалкие тряпки, пропали куда-то все чувства и мысли. Лунц уронил голову на руки и на несколько мгновений окунулся в темноту. Потом с некоторым удивлением ощутил себя вполне живым, достал из кармана платок и, вытирая мокрое лицо, перехватил сочувственный взгляд незнакомца. Некоторое время Лунц молча смотрел на него, стараясь осмыслить самый факт его пребывания на борту аварийного корабля. Покосившись на приборы, а там все было более чем в порядке, Лунц наконец решил: «Пассажир, один из тех невыносимо любопытных людей, которые, ни на йоту не отдавая себе отчета в опасности, повсюду суют свой нос».
— Кто вы такой? — с ноткой строгости в голосе вслух спросил он.
Незнакомец привстал с подлокотника, склонил в легком поклоне голову и непринужденно представился:
— Меня зовут Север, — он снова слегка поклонился. — Даль Север к вашим услугам.
— Как вы оказались в ходовой рубке? — Лунц с любопытством присматривался к своему собеседнику. — Во всяком случае, родились вы под счастливой звездой.
Даль мягко улыбнулся и снова уселся на подлокотник кресла, закинув ногу на ногу. Движения его были легки и свободны, от них веяло полным спокойствием и уверенностью в себе. Все это никак не вязалось с только что пережитой прелюдией катастрофы и смущало Лунца. Неожиданная догадка вдруг мелькнула в его голове:
— Очевидно, вы из службы контроля? А история с аккумуляторной всего лишь проверка?
Даль заботливо стряхнул с колена приставшую к нему пылинку и улыбнулся:
— Разве я похож на инспектора?
Лунц хотел спросить: «А разве инспектора имеют особые приметы?» — но осекся. Даль совсем не походил на инспектора, не походил он и на пассажира. Он вообще ни на кого не походил! Лунц не заметил этого сразу только потому, что его мысли и чувства были слишком далеки от таких пустяков, как внешность случайного посетителя ходовой рубки.
В самом деле, любой человек, находящийся в космосе, будь то пассажир, инспектор или сам командир корабля, в обязательном порядке надевал легкий скафандр, напоминавший обычный комбинезон. Несмотря на кажущуюся эфемерность, этот скафандр обеспечивал получасовое пребывание в открытом космосе и надежно гарантировал от всяких случайностей. На Дале же и в помине не было никакого скафандра! Он был одет как для непродолжительной летней прогулки. С его широких плеч свободными складками спадала мягкая белая рубашка, открывая крепкую шею, темно-серые брюки были окантованы незатейливым, но ярким орнаментом, на ногах были легкие туфли с небольшим каблуком. Непостижимо, как Лунц не заметил всего этого: без обязательного скафандра Даль выглядел каким-то голым и неприличным с космической точки зрения!
Разглядывая этого странного человека, Лунц ломал себе голову, стараясь догадаться, как он ухитрился проникнуть на лайнер и куда смотрели контролеры космопорта, инспекция, дежурный по пассажирскому отсеку, да и он сам, командир корабля. Лунц почти не сомневался, что перед ним новоявленный космический заяц — искатель приключений; ему иногда приходилось встречаться с этим забавным, пронырливым, но не лишенным своеобразного обаяния типом людей. По логике вещей следовало бы рассердиться и как следует отчитать этого Даля, но ругаться совсем не хотелось, может быть, потому, что уж очень добрую весть принес этот человек, а может быть, и потому, что во всем его облике, несмотря на очевидное легкомыслие, было что-то симпатичное и привлекательное. Оборвав свои размышления, Лунц спросил:
— Как вы попали на корабль?
Даль с легкой улыбкой осуждающе покачал головой:
— Такова человеческая благодарность! Рискуя своей карьерой, я прихожу к вам в трудную минуту на помощь, а вы начинаете допрашивать меня как преступника.
— На помощь? — улыбнулся Лунц. — Что вы имеете в виду?
— А вы полагаете, что гипервещество само по себе из гуманных соображений отказалось от взрыва? — невинно спросил Даль.
Невольно насторожившись, Лунц обернулся к приборам. Уровень радиации окончательно пришел в норму, опасность пока миновала. Он протянул руку к пульту управления, чтобы получить дополнительную информацию об аккумуляторной, но Даль остановил его неожиданно повелительным тоном:
— Ничего не трогайте!
Лунц скорее недоуменно, чем удивленно, покосился на него.
Лицо Даля было строго, на нем сейчас не было никаких следов веселого легкомыслия.
— В системе автоматики гашения радиации у вас образовались ложные обратные связи, — пояснил Даль. — Начнете с ней работать, и весь этот кавардак с флюктуацией может повториться.
— Вы-то откуда знаете, что там образовалось и что не образовалось? сердито спросил Лунц.
На строгом лице Даля появилась обычная, несколько легкомысленная улыбка.
— Мне пришлось побывать там, — пояснил он, словно извиняясь.
— Там? В горячей зоне?
— Что поделаешь? У меня не было другого выхода.
— И вы думаете, что я поверю этой чепухе? — рассердился Лунц. — Там десятки тысяч рентген, немедленная смерть всему живому. И никакой скафандр тут не поможет! Вот что такое горячая зона.
— Пустяки, — ответил Даль. — Я побывал там и, как видите, жив и невредим. — Он закинул ногу на ногу и задумчиво добавил: — Я полагаю, что лет через тридцать-сорок, когда на Земле будет налажено производство нейтридов, и вы сможете входить в горячую зону так же просто, как в кают-компанию.
Лунц внимательно разглядывал Даля.
— Кто вы такой? — после паузы негромко спросил он. — Я командир корабля и задаю этот вопрос не из пустого любопытства.
— Допрос продолжается, — засмеялся Даль, покачивая ногой, и добродушно добавил: — Не надо сердиться, Дмитрий Сергеевич. Если уж вы так настаиваете, я буду предельно откровенен. Трансгалактический патруль к вашим услугам.
— Что-то я не слышал о такой службе, — без улыбки сказал Лунц, продолжая разглядывать твоего странного собеседника.
— Не слышали, так и не беда. Будничная и совсем не романтичная работа. — Даль пожал плечами. — К вам же я попал чисто случайно. Какой-нибудь десяток минут тому назад я пролетал в полутора световых годах от солнечной системы. Волею судьбы в поле зрения моего информатора попал ваш лайнер. Любопытства ради я включил ситуационный дешифровщик и понял, что корабль находится на грани катастрофы. Некоторое время я наблюдал за вашими действиями и никак не мог решить, продолжать ли мне патрульный полет, предоставив все естественному ходу вещей, или все-таки прийти вам на помощь. Мне совестно было бросать вас на произвол судьбы.
Лунц не столько вдумывался в слова Даля, сколько присматривался к нему, стараясь определить, что он собою представляет. Проще всего, конечно, было наклеить на него ярлык безумца. Не выдержал человек нервного потрясения и сошел с ума. Но уж очень непохож этот Север Даль на сумасшедшего. Вел он себя очень просто и естественно и в ходовой рубке чувствовал себя как дома, чего нельзя было сказать о многих заведомо нормальных людях, которые впервые сюда попадали. И может быть, самое главное, что не вязалось с гипотезой сумасшествия, — легкий, но заметный оттенок юмора, с которым Даль относился к происходящему. Но как примирить со всем этим грубейшие логические неувязки в суждениях?
— Прошу прощения, — вслух сказал Лунц, дойдя до этого пункта своих размышлений, — вы сказали, что десять минут тому назад были в полутора световых годах отсюда.
Даль прервал свой рассказ и в знак согласия склонил голову.
— Но это невозможно! — убеждающе сказал Лунц. — Преодолеть за десять минут полтора световых года? Чудес на свете не бывает!
— Я вас понимаю, — спокойно согласился Даль, рассеянно вглядываясь в наручный прибор, похожий на часы, — вам это и должно казаться невозможным, потому что человеческая культура не подошла даже к преддверию нуль-телепортировки. Сущность ее вам так же непонятна, как, скажем, античному греку, человеку в своем роде очень культурному и образованному, была бы непонятна сущность работы термоядерного реактора или логической машины.
Не замечая или не желая замечать удивление Лунца, Даль в том же спокойном, несколько рассеянном тоне продолжал:
— В принципе идея телепортировки удивительно проста. Основная трудность состоит в том, что приходится транспортировать не точку, а протяженное тело. Каждому атому этого тела надо дать строго рассчитанные синхронные приращения координат. При малейшей ошибке появляются структурные нарушения: либо разрывы тканей, либо взаимные наложения. Это, конечно же, недопустимо, особенно когда транспортируются живые объекты. Положим, туловище человека материализуется здесь, а голова — в противоположном углу рубки. Как вам это нравится?
Лунц невольно улыбнулся. Чем дольше он слушал своего веселого собеседника, тем все более реальной представлялась ему транспортировка. Это был какой-то гипноз, в значительной мере обусловленный обстоятельностью рассказа Даля и его непробиваемой уверенностью в себе, и Лунцу приходилось делать известное усилие над собой, чтобы вырваться из оков этого гипноза. Видимо, дело было в том, что о самых невероятных вещах Даль говорил шутливо, как бы мимоходом, и обыденность его поведения завораживала. Если бы Даль попробовал разъяснить свои высказывания, Лунц, не колеблясь, принял бы его за сумасшедшего, а так Даль представлялся ему чудаком, оригиналом, который решил развлечь его, помочь ему незаметно скоротать время, которое на аварийных кораблях тянется особенно медленно. Это походило на увлекательную шутливую игру, и Лунц охотно в нее включился.
— Все это, — продолжал между тем Даль, — существенно ограничивает возможности телепортировки. Мешают помехи, вносящие искажения в транспортируемые тела. Для человека, например, максимальная дальность телепортировки в зависимости от гравитационной обстановки колеблется в пределах от двух до трех световых лет. Так что, уважаемый Дмитрий Сергеевич, я обнаружил вас на расстоянии достаточно близком к критическому. И поскольку мне совестно было бросать вас на произвол судьбы, я связался с центральным постом управления, изложив ему простую и оригинальную идею, касающуюся вашей будущности. И вместе с нагоняем за неуместную гуманность получил разрешение на встречу с вами.
— Неуместная гуманность? — засмеялся Лунц. — Это нечто новое!
— Дмитрий Сергеевич, — вздохнул Даль, — не забывайте, во вселенной бесчисленное множество разумных сообществ.
— Не понимаю этого сопоставления.
— В такой ситуации вселенская ценность отдельной личности стремится к нулю, — невозмутимо пояснил Даль.
— Вот как! — насторожился Лунц.
— К сожалению. Окружающий нас мир довольно жесток и не всегда укладывается в ложе гуманности, которое человечество сколотило на свой лад и вкус, — он тихонько рассмеялся, разглядывая настороженное лицо Лунца. Представьте себе, что где-то там, за десятки световых лет отсюда, между некими существами, почитающими себя разумными, идет жестокая война. Представьте себе далее, что ваш покорный слуга Север Даль, — собеседник Лунца в легком поклоне склонил голову, — в силах прекратить эту отвратительную бойню, каждая секунда которой уносит сотни жизней. И вот вместо того, чтобы поторопиться, он задерживается. Задерживается из-за одной-единственной, хотя и весьма самобытной личности. Разве нельзя назвать такой поступок неуместной гуманностью?
Лунц озадаченно смотрел на своего гостя.
— Вы так серьезно говорите обо всем этом, — в раздумье сказал он.
Их глаза на мгновение встретились, и Лунц почувствовал, как холодок пробежал у него по спине: так глубок был взгляд внимательных, понимающих и чуточку печальных глаз его собеседника. Но уже через мгновение эти глаза прищурились в улыбке.
— Я шучу, Дмитрий Сергеевич, шучу, — в легком тоне проговорил Даль, — и вообще, самое лучшее, если вы не будете относиться серьезно ни к моему появлению, ни к моим словам.
Лунц засмеялся и покачал головой:
— И все-таки вы говорите такие вещи, что я иной раз сомневаюсь человек вы или нечто другое?
Засмеялся и Даль:
— Все зависит от точки зрения.
— То есть?
— С точки зрения анатомии и физиологии я самый настоящий человек. Надеюсь, это не вызывает у вас сомнений. А вот в эволюционном аспекте между нами нет ничего общего. Я родился примерно в одиннадцати миллионах световых лет отсюда.
— В другой галактике?
— Совершенно верно.
— А наше сходство?
— Лучше сказать — идентичность. Чисто случайное явление на фоне общих закономерностей. Собственно, это обстоятельство и учел центр, когда разрешил мне часовую отсрочку. Антропоиды в нашей метагалактике так редки! Наша встреча, да еще в такой ситуации показалась центру чудом. Дежурный совет растаял от умиления и на целый час предоставил мне полную свободу действий.
— Что еще за центр? — полюбопытствовал Лунц.
— А разве я не говорил вам об этом? Межгалактический центр вечного разума.
— Вот даже как, вечного!
— А вы полагали, — в голосе Даля послышались иронические нотки, — что разум создан персонально для человеческого общества?
Лунц пожал плечами:
— Я не страдаю антропоцентризмом. Однако убежден, что разум как особое свойство материи является порождением именно нашей, звездно-галактической эпохи.
Даль осуждающе покачал головой:
— И вы утверждаете, что не страдаете антропоцентризмом? — Он лукаво прищурился. — Кстати, Дмитрий Сергеевич, вы не пытались зримо, осязаемо представить себе, что такое вечность? Вслушаться в ее движение, почувствовать ее полет, ощутить ее острый дразнящий аромат? — Глядя на недоуменное лицо Лунца, он усмехнулся и с оттенком мечтательности продолжил: — Вечность. Что такое ваша звездно-галактическая эпоха, эти жалкие десятки миллиардов лет по сравнению с вечностью? Ничтожная микросекунда в бесконечном вихре времени. Чем это качание мирового маятника лучше остальных, ему предшествовавших? Тех бесчисленных качаний, которые вы так бесцеремонно лишаете права на разум?
Нахмурив брови, Лунц вдумывался в его слова.
— Так вы полагаете, — недоверчиво начал он, — что разум возникал многократно? В разные эпохи, на разных качаниях мирового маятника, как вы выражаетесь?
— Конечно, — убежденно сказал Даль, — разум — одно из неотъемлемых свойств развивающейся материи. И, как сама материя, как само движение, он существует вечно, только в разных формах и на разных уровнях.
— Допустим, — Лунц все еще размышлял, — допустим, что разум существует вечно, и порассуждаем.
Он крепко потер лоб ладонью.
— Смотрите, что получается. За несколько сот лет, сделав колоссальный скачок в развитии, люди приобрели и огромную власть над природой. Мы полностью овладели Землей, осваиваем солнечную систему, готовимся к звездным полетам. Подумайте теперь, какого могущества достигнет человечество через миллион или, скажем, через десять миллионов лет.
— А через десять миллиардов? — тихонько подсказал Даль.
— Да, а через десять миллиардов? — Лунц даже головой встряхнул. Трудно, чудовищно трудно представить себе это! Ясно одно: все силы природы будут поставлены на благо и пользу человеку. Наверное, само понятие стихии потеряет свой изначальный смысл, потому что все стихийные силы попадут под внимательный и жесткий контроль. Наверное, человек заселит всю обозримую вселенную до самых границ метагалактики и преобразует ее по своему образу и подобию сверху донизу!
Он пожал плечами и поднял глаза на Даля.
— А теперь вернемся к допущению, что разум вечен, как и сама вселенная. Какого могущества он должен достичь в ходе своего нескончаемого развития? И во что он превратит вселенную? Неведомые разумные должны буквально кишеть вокруг нас, пронизывая своей деятельностью все сущее!
— Конечно, — согласился Даль, — эти разумные должны подталкивать нас под руку, когда мы несем ложку с супом ко рту, заглядывать в лицо и хихикать, когда мы объясняемся в любви, вступать с нами в длинные задушевные беседы, когда мы одиноки и нам не спится. И вообще они должны быть надоедливы и невыносимы. Шутка ли, существовать вечно!
— А если без шуток, — без улыбки спросил Лунц, — если разум вечен, то почему мы так одиноки? Почему никто не отвечает на наши призывы? Почему мир так пуст и холоден?
— Видят лишь познанное, — негромко и серьезно ответил Даль, — то, что уже открыто внутреннему взору разума. А вы, люди, еще не поднялись до осознания вечных категорий, вы еще смотрите на мир со своей, сугубо человеческой точки зрения.
— Не слишком ли все это туманно?
— Можно и проще: вы все сравниваете с собой. Много и мало, быстро и медленно, долго и коротко — все это измерено в сугубо человеческих мерках. Вы все, грубо говоря, мерите на свой аршин.
— А разве это не естественно?
— Естественно, но нельзя забывать об условности такой естественной мерки. Особенно когда речь идет о такой всеобъемлющей категории, как бесконечная вселенная. Колоссальная громада солнца — пылинка в метагалактике, а пылинка, танцующая в солнечном луче, — целая вселенная, по ядерным масштабам. О любом объекте, будь то звезда, электрон, человек или вирус, нельзя сказать, велик он или мал. Он и то и другое и в то же время ни то ни другое. Все зависит от того, каким масштабом его измеряют и с чем сравнивают. Вы искали следы разумных, но каких? Примерно таких же, как и вы сами, люди.
— Ну, — решительно возразил Лунц, — тут вы преувеличиваете!
Даль улыбнулся.
— Я говорю не о вашем облике, не о том, на кого похожи разумные — на людей, муравьев, спрутов или раскидистое дерево. Я говорю об их пространственно-временной сущности, о масштабах их деятельности. Вы будете порядком удивлены, если повстречаете разумных ростом с десятиэтажный дом.
— Пожалуй, — согласился Лунц.
— А если кроха атом для разумных целая галактика, — в том же легком, полушутливом тоне продолжал Даль, — если наша секунда заключает в себе тысячелетия их истории, то сумеете ли вы обнаружить следы их деятельности? — Лунц молчал, и Даль продолжал задумчиво и печально: — Может быть, подрывая атомные заряды, вы устраиваете для этих разумных мини-миров жесточайшее космическое бедствие и они уже давно и тщетно взывают к вашему благоразумию и осторожности? И разве есть гарантия, что колоссальная трудность термоядерной реакции в том, что вы сталкиваетесь с их тайным, но упорным противодействием? Вы уверены, наконец, что некоторые неведомые мегаразумные никак не приложили руки к формированию любезных вашему сердцу звезд и галактик, может быть, бездумно разжигая свой рыбачий мегакостер на берегу неведомой огненной реки?
— Это похоже на сказку, — без улыбки сказал Лунц.
— А разве есть что-нибудь сказочнее и неисчерпаемее вселенной?
Лунц усмехнулся заинтересованно и недоверчиво:
— И этот самый центр, представителем которого вы являетесь, поддерживает контакты со столь разномасштабными цивилизациями?
— В этом-то вся сложность и прелесть его деятельности!
— Непонятно! Почему же вы тогда игнорируете человечество?
— Почему же игнорируем? — ответил Даль. — Центр наблюдает за человечеством, так сказать, со дня его рождения. Но, к сожалению, этот контакт носит односторонний характер. Человечество пока не доросло до общения с центром.
— Ого!
— Что поделаешь, — посочувствовал Даль, — человеческое общество еще страшно далеко от совершенства. Люди до сих пор не могут справиться сами с собой, они угнетают и убивают друг друга, а ваша цивилизация в целом все время балансирует на грани ядерной катастрофы.
— Но у нас есть и социально справедливые, коммунистические страны! Я представитель одной из них.
— Есть, — согласился Даль, — но где гарантии, что научная или техническая информация, переданная центром этим странам, не попадет в другие руки? Нет, центр не может рисковать.
— Рисковать? Чем? — полюбопытствовал Лунц.
Даль улыбнулся:
— Вы доверите своему малолетнему сыну заряженное ружье?
— Только этого и не хватало!
— Вот видите. А с точки зрения центра человечество тоже ребенок. Ребенок способный, но избалованный и не чуждый дурных наклонностей. Еще неизвестно, что получится из него, когда он вырастет.
Даль засмеялся, весело поглядывая на озадаченного Лунца, и шутливо закончил:
— Вот когда вы наведете порядок на всей планете и покажете себя по-настоящему мудрыми ребятами, центр, может быть, и пойдет на контакты с вами.
Лунц хмыкнул недовольно:
— Не слишком ли спесив этот ваш центр?
— А вы как думали? Представители центра явятся пред ваши светлые очи и доложат, что так, мол, и так, прибыли для устройства счастья рода человеческого? У нас хватает и других забот. Максимум, на что вы можете пока рассчитывать, — это хороший подзатыльник, если зайдете слишком далеко в своем озорстве.
— Что это еще за подзатыльник?
— Не посягайте на профессиональные тайны!
— Но все-таки, — не унимался Лунц, — центр только и занимается раздачей подзатыльников, или у него есть и более серьезные задачи?
— Беда с этими командирами кораблей, — сокрушенно вздохнул Даль. Свобода действий развивает у них излишнее любопытство. Ладно, так уж и быть, чтобы скоротать время, поделюсь с вами некоторыми тайнами. Центр решает две основные задачи. Первая — сохранение разума. Ведь разум — это нежнейший и тончайший цветок из всех когда-либо выраставших из материального лона. Нет ничего проще, чем погубить его, когда он только-только распускает свои лепестки. И сколько таких лепестков гибнет во вселенной, несмотря на все наши усилия!
Даль задумался, опершись подбородком на согнутую руку.
— А вторая задача? — подтолкнул его Лунц.
— Она прямо противоположна первой, — поднял голову Даль, — ограничение разума. Когда хрупкий цветок дает особенно удачные плоды, а плоды попадают на благоприятную почву, они дают потомство, способное противостоять любым невзгодам. И нередко случается, что в таких условиях разумные начинают катастрофически множиться и расселяться, порабощая вселенную. Иногда этот стихийный процесс, пройдя стадию самосознания, входит в берега уготованной ему природной реки. А иногда превращается в мутную лавину, бездумно сметающую все и вся на своем пути. Прогресс, идущий ради самого прогресса, прогресс, замыкающийся на самом себе, рано или поздно вырождается в жестокую экспансию, полную самолюбования и презрения ко всему, что лежит за его пределами. Страшные плоды иногда дает цветок разума.
— И что тогда? — тихонько спросил Лунц.
— Тогда мы и даем забывшейся цивилизации крепкий подзатыльник! — усмехнулся Даль.
— А если это не помогает? — гнул свою линию Лунц.
Взгляд Даля приобрел пугающую глубину.
— Тогда мы принимаем более радикальные меры.
— А все-таки?
— Случается и так, что спокойные звезды вроде вашего солнца, которым будто бы назначены миллиарды лет безмятежного существования, вдруг вскипают и сбрасывают свои покровы. И тогда жгучий плазменный смерч новоподобной вспышки выжигает окружающие планеты. Гибнут псевдоразумные сообщества и их творения. И все начинается сначала. — Даль грустно улыбнулся. — Тем и хорош наш мир, Дмитрий Сергеевич, что в нем все рано или поздно начинается сначала.
— Если вы существуете, то вы порядком жестоки, — хмуро и медленно проговорил Лунц.
— Мы не пацифисты, — с неожиданной резкостью, без обычной шутливости ответил Даль. — Пацифизм сродни глупости, а подлинная разумность далека от бездумного милосердия либерализма. Неуместный гуманизм так же вреден, как и неуместная жестокость.
Даль выдержал паузу, соскочил с подлокотника кресла на пол и засмеялся.
— Надеюсь, вам не наскучили мои шутки?
— А вам не попадет за то, что вы выбалтываете мне свои профессиональные тайны? — вопросом на вопрос ответил Лунц.
— Нимало, — в своем обычном легкомысленном тоне ответил Даль, — я ведь вступил в контакт не с человечеством, а с отдельным человеком. Кто вам поверит, если вы расскажете о происшедшем? В лучшем случае заработаете себе славу галлюцинирующего космонавта и распрощаетесь со своей работой. А потом, есть особое обстоятельство, которое дает мне право на откровенность.
В тоне, которым Даль произнес последнюю фразу, было нечто сразу заставившее насторожиться Лунца. Он поднял глаза и встретил глубокий неулыбчивый взгляд.
— Настало время откровенности, Дмитрий Сергеевич, — негромко, с необычной мягкостью продолжал Даль. — Я уже рассказывал вам, что, обнаружив гибнущий корабль, не знал, на что решиться: прийти к вам на помощь или предоставить все естественному ходу вещей. Говорил я и о том, что меня осенила оригинальная идея, касающаяся вашей будущности. Я не сказал только, какая это мысль.
— Какая же? — настороженно спросил Лунц.
Он уже не мог шутливо относиться к этому странному разговору и теперь весь подобрался, интуитивно предчувствуя опасность. Развязка, однако, оказалась совершенно неожиданной.
— Я предложил центру вашу кандидатуру в качестве патруля, — раздельно проговорил Даль.
Некоторое время Лунц с недоумением смотрел на него, потом с облегчением рассмеялся:
— Вот уж не ожидал такой чести!
Но Даль не принял шутки и серьезно ответил:
— Вы заслужили ее своим поведением в ходе аварии на этом корабле.
— Забавно, — Лунц упрямо придерживался легкого тона. — Кто бы мог ожидать такого поворота судьбы? Патруль вечного разума! Что же делает такой патруль?
— Рядовой патруль — пассивный наблюдатель.
— А вы рядовой? — не отставал Лунц.
Даль усмехнулся.
— Нет, я уже не рядовой. Я патруль специальный, трансгалактический.
— И что это значит?
— До чего же вы любопытный человек, Дмитрий Сергеевич! Я могу принимать самостоятельные решения.
— Например?
— Как видите, я могу вербовать патрулей.
— Только-то? — хитровато щурясь, протянул Лунц.
Даль, посмеиваясь, покачал головой:
— Я могу наделать таких дел, что и сам потом испугаюсь.
— А может быть, вы просто пугливы?
— Судите сами: я в силах прекратить глобальную или даже межпланетную войну, создавать целые континенты или разрушать планеты, гасить и зажигать звезды.
— В общем, вы бог, — без улыбки подытожил Лунц.
Даль покачал головой:
— Нет. В мире бездна недоступного не только для меня, но и для всего сообщества разумных. Выдуманные боги всемогущи, а мы ходим дорогами, которые проложены законами природы. Мы люди, только люди, Дмитрий Сергеевич.
— Люди, — проговорил Лунц и в глубоком раздумье опустил голову.
— А ведь я жду ответа на свое предложение, — мягко напомнил Даль.
Лунц вскинул на него глаза, усмехнулся:
— А нельзя ли мне стать халифом багдадским или римским императором?
— Нет. Но патрулем стать вы можете. Если захотите.
— А если не захочу?
Глаза Даля стали печальными.
— У вас нет другого выхода, Дмитрий Сергеевич, — тихо сказал он.
Смутная, пугающая догадка мелькнула в сознании Лунца, он постарался не обращать на нее внимания, но тем не менее настороженно спросил:
— Нет другого выхода?
— Стоит мне покинуть борт лайнера, — проговорил Даль, — как флюктуации радиоактивности возобновятся. И скорее всего в течение ближайших секунд последует взрыв.
Лунц ни на секунду не усомнился в правдивости этих слов. Он поверил в трагичность ситуации так же естественно и просто, как раньше согласился поиграть со своим странным гостем в веселую и многозначительную словесную игру.
— Так, — пробормотал он, провел ладонью по лицу и попытался пошутить, отпуск-то у меня, по крайней мере, будет достаточный?
— Отпусков не будет.
Даль подошел ближе и положил руку на спинку командирского кресла. Лунц избегал смотреть ему в глаза.
— Больше того, — голос Даля звучал негромко, но сердце Лунца сжималось и ныло все сильнее, — вы никогда, никогда не вернетесь на Землю. Вы не будете даже знать, где она находится. Полное забвение прежней родины непременное условие патрульной жизни. Но у вас будет другая — прекрасная и гармоничная отчизна. У вас будет все другое — знания, возможности, интересы, любовь и семья. А Земля навсегда затеряется в просторах космоса. Вместе с вашим прошлым.
Лунц прямо взглянул в глаза Далю.
— Это все равно что умереть и родиться заново.
— Разве это плохо?
— Плохо, — твердо ответил Лунц.
Глубокие понимающие глаза Даля стали печальными.
— Но ведь нет другого выхода, — словно про себя сказал он.
— Как же нет другого выхода? — гневно спросил Лунц. — Вы же почти боги!
— Мы не боги, — виновато ответил Даль, — мы люди, только люди!
Он все уже понял раньше, чем сам командир лайнера, и теперь ждал неизбежной развязки.
— Люди не боги, — как-то безнадежно сказал Лунц, почти машинально нащупал нужную кнопку и нажал ее.
Защитный экран большого иллюминатора отъехал в сторону, открывая черное мрачное небо, полное звездного огня. Глаза Лунца обежали знакомый рисунок созвездий, легко нашли голубую красавицу звезду и потеплели. Слабая улыбка выступила на губах.
— Люди! — повторил он тихо.
Прикрыв глаза, он с пугающей ясностью припомнил шепот разнотравья под свежим ветром, медовый запах цветов, ленивый полет облаков в бездонной синеве неба, смеющееся лицо жены, поправляющей волосы, и озабоченную мордашку сына, крадущегося с сачком в руке к равнодушной бабочке-красавице. И сурово сказал:
— Пусть все идет своим чередом. Прощайте, Север Даль.
— Прощайте, командир.
В этом ответе прозвучало многое — понимание, ясная грусть, легкий упрек и едва уловимая ирония. Этот ответ повис в воздухе, ожидая продолжения. Но Лунц не сказал ничего и даже не обернулся. Он неотрывно смотрел на ослепительную голубую звезду, которая призывно смотрела ему прямо в глаза из мрака вечной ночи.