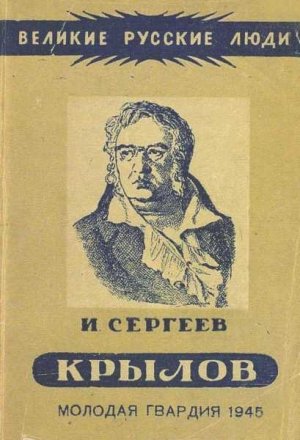
Честь, слава и гордость вашей литературы, он имеет право сказать:
«Я знаю Русь, и Русь меня знает», хотя никогда не говорил и не говорит этого.
В. Белинский
У каждого народа есть славные имена — гордость нации. Это имена патриотов-героев, ученых, мыслителей, писателей, художников, трудами и деяниями своими умноживших славу родного народа. К таким именам принадлежит имя великого баснописца Крылова.
Он умер сто лет назад. Но творения его не стареют, всеуничтожающее время обегает их. Они бессмертны, как бессмертно имя их творца.
Среди русских писателей нет никого, чья жизнь была бы большей загадкой, чем жизнь Крылова.
Он был непонятным человеком для многих современников. Поэт Батюшков восклицал: «Этот человек — загадка, и великая!» Булгарин говорил, что баснописец «умел прикрывать свою душу от неуместного любопытства». Писатель Погодин выражался еще резче: «Крылов... никому не говорит правды». Пушкин писал: «Мы не знаем, что такое Крылов...»
Крылов не любил биографий. За три года до смерти он получил краткую статью о своей жизни. Академик Лобанов просил «прочесть, поправить и вымарать, что заблагорассудится». Крылов ответил запиской, которую приводим полностью:
«Прочел; ни поправлять, ни выправлять ни времени, ни охоты нет».
Известный литератор Плетнев, лично знавший Крылова, писал о Крылове: «Он был русский человек, а русские ничему в себе не удивляются, ничего не признают в собственных делах за чрезвычайное и любопытное...»
Слава о замечательном русском баснописце еще при жизни его перешагнула границы России. О Крылове знала Франция, Англия, Германия, Италия, народы Скандинавского, Балканского и Пиренейского полуостровов. Его басни переводили в Америке, в Африке, в Азии. И за рубежом автор был личностью легендарной.
Когда из Парижа прибыли в Петербург корректурные листы «Биографического словаря достопамятных людей», для того чтобы Крылов внес свои исправления в статью о нем, он даже не поинтересовался узнать, какими небылицами сопроводили его биографию французские издатели. «Пускай пишут обо мне, что хотят», сказал он.
Загадкой оставался Крылов и для последующих поколений. «Письма Крылова могли бы служить драгоценным материалом для биографии и характеристики личности этого загадочного писателя», замечает редактор полного собрания его сочинений Б. Каллаш. Но и писем Крылова сохранилось очень мало. Не потому только, что время уничтожило их, а потому, что он сам крайне ограничивал свою переписку, будто опасаясь сказать лишнее слово. Было и впрямь похоже на то, что он скрывал себя от «неуместного любопытства».
До Великой Октябрьской революции существовало несколько жизнеописаний Крылова. В них изображали его так, будто он родился стариком, будто у него не было ни молодости, ни отрочества. Для детей была штампованная биография «дедушки Крылова» — толстого, старого увальня-лежебоки, добродушного, простосердечного и мудрого. Для взрослых ее несколько переиначивали: Крылов в ней — образец- истинно русского человека, талантливый самородок, широкая натура, верноподданный острослов, любимец царей и народа, философ и мудрец, якобы невероятно ленивый. Биографии обычно снабжались тучей неправдоподобных анекдотов из жизни баснописца.
Жизнеописания эти в малой степени соответствуют истине. Они легендарны. Эти легенды, однако, поддерживало царское правительство. Их не опровергал и сам Крылов — значит, они почему-то были нужны и ему. Так вымысел, сказка стали историей долгой и трудной жизни человека.
Крылов прожил большую, мудрую жизнь.
Он родился в начале пышного царствования Екатерины II. Он жил при Павле I. Он был свидетелем двадцатипятилетнего владычества Александра I. Он встретил свою одинокую старость, когда императором России стал Николай I.
Незадолго до рождения Крылова умер на положении полуопального гениальный сын русского народа Ломоносов. В посмертной записке его прочли горькие слова: «За то терплю,. что стараюсь защищать труд Петра Великого, чтобы выучились россияне, чтобы показать свое достоинство. Я не тужу о смерти: пожил, потерпел, и знаю, что обо мне дети отечества пожалеют»[1].
Когда Крылову исполнилось двадцать три года, умер в опале автор «Недоросля» — Фонвизин[2].
Десять лет спустя, со словами: «Уйду я лучше от вас, звери...», мучительной смертью погиб Радищев — первый гражданин мира, как его назвали потомки[3].
Минуло еще четырнадцать лет — скончался Державин, один из основоположников русской поэзии[4], поэт-сановник, то возвышавшийся, то вновь впадавший в немилость.
Через десять лет после смерти Державина были повешены революционер-поэт Рылеев и четыре его товарища — декабристы Пестель, Бестужев-Рюмин, Каховский и Муравьев-Апостол[5]. За два месяца до их казни скончался первый русский историк — Карамзин.
На глазах Крылова уходили в вечность знаменитые люди России.
Через три года после казни друзей-декабристов опальный Пушкин встретил в горах Кавказа повозку с прахом вольнодумца Грибоедова, автора знаменитой комедии «Горе от ума». Он умер страшной смертью на чужбине, в Персии[6].
Восемь лет спустя на Черной речке, под Петербургом, был убит великий поэт России Пушкин[7]. И вскоре столицу облетели гневные слова безвестного гвардейского офицера, клеймящего убийц:
Четырьмя годами позже наемная пуля сразила автора этих строк, знаменитого русского поэта и гениального прозаика Лермонтова[8]. Он погиб на взлете своей славы.
Крылов пережил многое и многих.
Уже для Пушкина он был историей. Когда поэт обратился к прошлому России, то рядом с именем Пугачева им был упомянут и «четырехлетний ребенок, впоследствии славный Крылов».
При жизни Крылова поднималась и расцвела слава Виссариона Белинского, Николая Гоголя, Александра Герцена. При нем зазвучали чудесные мелодии Глинки, певучие и гневные стихи Шевченко. Его современниками были Некрасов и Чернышевский, Менделеев и Тургенев, Салтыков-Щедрин, Достоевский и Лев Толстой. Менялись поколения, приходили н уходили императоры, вспыхивали и угасали таланты, войны, пожары... Мудрым взором следил за ними Крылов.
Казалось, он еще при жизни обрел вечность. Его имя накрепко связалось с именем бессмертного русского народа. Он сам стал как бы собственным памятником — живым, монументальным, незыблемым, который не могли поколебать никакие бури. И он был одинок, как памятник в центре огромной площади, вокруг которого шумела и клокотала жизнь.
Семьдесят пять лет прожил Крылов. В сущности, это не такая уж редкость. Но для русского передового писателя той эпохи этот срок был легендарным. Так не могло быть! Так не было и с Крыловым. Потому что он прожил не одну, а как бы две жизни. Внешне они резко отличались одна от другой, а внутренне были тесно связаны меж собою, и вторая жизнь являлась прямым продолжением первой.
В этом и заключается тайна писателя, его загадка. Этим и объясняются все легенды и сказки о нем.
Пушкин был очень точен, когда писал Бестужеву из Петербурга: «Мы не знаем, что такое Крылов».
Кто такой Крылов — можно было узнать из его скромного и бедного событиями послужного списка. Но что такое Крылов, что он представлял собою — ответить на этот вопрос не так просто. Его первую жизнь — его бунтующую молодость — постарались забыть. Он сам всячески помогал этому, молчаливо соглашаясь на любые легенды. Легенды для Крылова были удобнее истины. Они защищали его от печальной и страшной судьбы его великих современников.
1
НАЧАЛО ЖИЗНИ
Средь нужды, нищеты и горя.
Как средь бушующего моря
Я вырос от самых юных дней —
И днесь от бедства не избавлен
Как лист иссохшийся оставлен
Среди пылающих огней...
Крылов, «Подражание псалму LХХХVII».
Ветер выл над дикой пустынной землей.
Кружилась поземка. Сухой колючий снег, шурша, катился по твердому насту.
Шла зима 1774 года.
Занесенные снегом, пронизанное стужей и ветром, стояли в степи редкие угрюмые селения.
Эго был край России — дальнее Заволжье, юго-восток страны, плоские отроги Урала, мягкими увалами сползающие к свинцовому Каспийскому морю.
Вдоль степных границ тянулась цепь крепостей — аванпостов: Гурьев, Яицкий и Илецкий городки, Оренбург, Орск... К югу лежали безбрежные степи, населенные киргиз-кайсаками, синее Аральское море, древняя река Сыр-Дарья, пышные сады среднеазиатских ханов и эмиров, легендарные города — Бухара, Самарканд, Мерв, а за ними — сказочная Индия и теплые моря, сверкающие под солнцем.
Россия двигалась на юг, выполняя предначертания Петра I. Жители степей встречали русских солдат с трепетом и надеждой. Отныне степные народы избавлялись от кровавых набегов диких кочевников. С приходом России наступал мир, но цена мира была высокой — вместе с успокоением приходило угнетение: помещики-крепостники, жадные чиновники, колонизаторы, купцы. И новые народы, попавшие под «высокую защиту» русского царя, вступали в борьбу, которую издавна вел русский народ против своих угнетателей.
В начале восьмидесятых годов XVIII века движение России на юг было приостановлено крестьянским восстанием.
Это восстание вспыхнуло на юго-востоке империи, и пламя его охватило огромные пространства. Волнения были всюду: в казачьих селениях, в башкирских деревнях, в бродячих аулах киргиз-кайсаков, в помещичьих домах, на окраинах самих городов и в самих крепостях, — всюду, где сильные угнетали слабого, где торжествовала и буйствовала несправедливость.
Это было время, отмеченное в русской истории именем Пугачева.
Со всех сторон стекались к нему тысячи обездоленных, обиженных, угнетенных. Ненависть к царю, к помещикам, к насильникам, копившаяся десятилетиями, вырвалась наружу, как подземный огонь.
Запылали дворянские поместья. Невидимые руки поджигали амбары с барским добром, дома богачей. Степные ветры раздували багровое пламя. Красный петух гулял по Яицку, Оренбургу, Орску, Вихрь искр кружился вместе со снегом. Щемящий душу набат плыл из городов во тьму и, качаясь, угасал над степными просторами.
В это тревожное время в осажденном Оренбурге жил со своей матерью, Марией Алексеевной, маленький Крылов. Ему только что исполнилось пять лет. Он еще мало видел на своем коротком веку, и самыми яркими его впечатлениями были огонь пожаров и ночной набат.
Отец, Андрей Прохорович Крылов, тревожился о семье, обороняя Яицкий городок. Связи между Оренбургом и Яицком не было. Восставшие перехватили все дороги.
Выдержать зимнюю осаду было не легко. Голодный гарнизон маленькой крепости в Яицком городке изнемогал. Уже было съедено все, что годилось в пищу. Не осталось ни кошек, ни собак, ни крыс, ни убитых и павших лошадей. Люди глодали овчины, кожи, размачивая их в холодной воде, и, чтобы заглушить голод, ели глину. Вспыхнули болезни. А вокруг крепости кипела вольная жизнь. Над лагерем повстанцев с утра до ночи вились дымки, горели костры. Оттуда тянуло сытыми запахами хлеба и мяса. Солдаты колебались. Офицеры опасливо поглядывали друг на друга — кое-кто уже перебежал к Пугачеву. Прошел слух о падении Оренбурга. Гарнизон роптал, возмущаясь упорством коменданта крепости полковника Симонова и его помощника капитана Крылова.
Пушкин в «Истории Пугачева», названной по требованию царя Николая I «Историей пугачевского бунта», писал шестьдесят лет спустя: «Пугачев скрежетал. Он клялся повесить не только Симонова и Крылова, но и все семейство последнего, находившееся в то время в Оренбурге». Но Симонов и Крылов, храня верность присяге, не сдавали Яицка.
Когда восстание было подавлено, капитан Крылов встретился с семьей. Пышная и короткая степная весна сменилась долгим пыльным летом. Андрей Прохорович болел. Яицкая осада не прошла капитану даром. Здоровье его было расшатано. Он мог рассчитывать на заботу, благодарность, награду за верную службу. Но у Крылова не было ни знатной родни, ни связей. Никто не мог за него похлопотать или замолвить при случае нужное словечко. Так было всю жизнь, так было и теперь.
Полоса милостей прошла мимо него. Орденами и наградами осыпали придворных бездельников, бездарных генералов, маменькиных сынков. Их называли «спасителями отечества». Измученного осадой, больного капитана забыли.
Если бы Андрей Прохорович родился дворянином, все шло бы по-иному. В те времена было принято записывать детей на казенную службу со дня рождения, а кто половчей, тот записывал ребят и задолго до появления их на свет. Полугодовалый младенец уже числился мелким чиновником или солдатом. Шли годы, с годами двигалось производство из чина в чин. Чем знатнее и богаче были родители, тем быстрее поднимался младенец по ступенькам служебной лестницы. Бывало, что пятилетний ребенок «дослуживался» до штабс-капитана или повытчика (столоначальника), восьми лет считался полковником, а пятнадцати «выходил» в генералы.
Но Андрей Прохорович был сыном солдата и, начав службу рядовым, провел ее не в колыбели, а в строю. Много времени спустя, уже после рождения сына, в паспорте появилось новое слово «дворянин». Такое «выслуженное» дворянство почиталось не настоящим. С именем «дворянин» обычно связывалось понятие — помещик. Поместий же и крепостных душ у Крылова никогда не было. Он был и остался бедняком.
В молодости Андрей Прохорович пытался «выбиться в люди». Этому могла помочь служба в столице, в карабинерном отряде. Но то ли счастье не подвертывалось под руку, то ли Крылов не обладал достаточной ловкостью — блестящая столичная жизнь проходила стороной. Принимать в ней участие мог только человек со средствами, а не бедный армейский офицер. Крылову едва хватало крохотного жалованья, чтобы сводить концы с концами.
Одна только страсть была у Андрея Прохоровича — книги: они украшали его серенькую однообразную жизнь. Библиотек тогда не существовало. Из нищенского жалованья он откладывал копейку за копейкой на приобретение книг. Стоили они очень дорого. Однополчане удивлялись Крылову. Его страсть к книгам казалась им блажью, ненужной роскошью. Но отказаться от этого увлечения он не мог. Книги, как драгоценность, хранились под замком, в кованом походном сундучке. Начальство неодобрительно косилось на офицера в потрепанном мундире. Однако офицер был усерден, честен, суров, строг, службу нес отлично, не в пример прочим.
Позже пришла любовь. Крылов женился на неграмотной девушке из небогатой мещанской семьи. Семейная жизнь требовала расходов и забот. Правда, Андрей Прохорович стал выглядеть молодцеватей, аккуратней — теперь за ним следила жена. Но столица обязывала к блеску, к парадности. Для этого нужны были большие средства. Поэтому было «велено оного порутчика Крылова, как он по карабинерной службе парадными вещами исправлять себя не в состоянии... отправить в Оренбург»[9]. Там, в пыльных степях, блеск был ни к чему. Его наводили только во время смотров.
Крыловы двинулись на юг. Путь был долог. 2 февраля 1769: года у них родился сын. В честь своего деда по матери Андрей Прохорович назвал мальчика Иваном.
Раннее детство мальчик провел в пыльных и скучных городах юго-востока. Когда Андрея Прохоровича «за слабостью здоровья» отстранили от воинской службы и отпустили «на пропитание» по статским делам, как сказано в указе Московской военной коллегии[10], он решил уехать в свой родной город Тверь. Там еще жила старуха-мать. Вернувшись домой, он стал провинциальным чиновником. Ему дали соответствующий капитанскому чин коллежского асессора и назначили на службу в магистрат Тверского наместничества.
В то время Тверь была самым новым из русских городов. Пожар 1763 года уничтожил ее дотла. Гибель целого губернского города потрясла Россию. Через несколько дней в столице был издан указ о его немедленном восстановлении.
Тверь в конце ХVIII века (рисунок со старинной гравюры).
Лучшие архитекторы и среди них замечательный русский зодчий Матвей Казаков трудились над возрождением древнего города. Он поднимался на глазах, соревнуясь четкостью и красотой своих проспектов и площадей со столицей — Санкт-Петербургом.
После пыльных степных городков блистающая чистотой и свежестью каменная Тверь показалась шестилетнему мальчику сказочно-прекрасной. Уже тогда этот город выгодно отличался от многих городов России. Он стоял на оживленнейшей дороге из Москвы в Петербург, сияя отраженным блеском обеих столиц — старой и новой. Тут были трактиры, содержавшиеся иностранцами, модные лавки, веселые дома, где с утра до поздней ночи гремела музыка и пировали именитые купцы и богатые дворяне. Днем и ночью через Тверь катились кареты, коляски и рыдваны петербургских и московских помещиков, скакали курьеры и фельдъегери, тянулись бесконечные обозы с живностью, товарами, продовольствием.
Бойкий торговый город был приятен для тех, у кого водились деньги. У отца Крылова, Андрея Прохоровича, их не было. Сослуживцы удивлялись: коллежский асессор, второй председатель губернского магистрата жил хуже рядового чиновника. Его считали чудаком. И действительно, среди матерых приказных «крыс» отставной военный, грубоватый и простодушный, казался белой вороной. Брать взяток он не умел, льстить не привык. Начальство не выдвигало его, обходило вниманием. Он старался не унывать, хотя порой нуждался в лишнем рубле. Честная же бедность нигде, никогда и никем не уважалась.
Единственной радостью Андрея Прохоровича были, как и прежде, книги. Он читал их вслух жене и сынишке, которого учил грамоте. Учил он так, что грамота казалась мальчику непроходимыми дебрями. Андрей Прохорович был строг и крут на руку; он требовал от сына исполнительности, как от своих солдат. Ставить мальчика под ружье он не мог. Время от времени прилежание вколачивалось розгой. Мать обливалась слезами, не смея, однако, перечить мужу.
Жалея первенца, Мария Алексеевна решила приохотить его к ученью не наказанием, а поощрением. Она давала ему медную денежку за хорошо приготовленный урок. Вскоре у мальчика накопилось несколько рублей. Чтобы сынишка не дал им дурного направления — не растранжирил бы их попусту или, что еще хуже, не стал бы скаредничать и копить, мать убедила его тратить «свои деньги» на покупку нужных вещей. Мальчик любил красивые вещи и с радостью ходил в торговые ряды, покупал то хорошие перчатки, то картуз с блестящим козырьком, то мягкий нашейный шарфик.
С помощью Марии Алексеевны ученье пошло на лад. Да и сама она неприметно для себя выучилась читать.
Осилив грамоту, мальчик был вознагражден сверх всякого ожидания; награда была в тысячи раз больше маменькиных денежек. Это был новый мир — мир отцовских книг, населенный удивительными героями, полный страстей и приключений.
Сундук-библиотека на время отвлек мальчика от детских игр, заставив мечтать об иной жизни, какую вели герои иностранных романов. Безвестные молодые люди приезжали в свои столицы и добивались блестящих успехов, славы, богатства. Правда, талантливым молодым людям помогали знатные друзья, с которыми героя обычно сводил счастливый случай. Маленькому Крылову трудно было гадать о своем будущем. Он понятия не имел, есть ли у него какие-нибудь таланты, или нет. Но особенно смущало его одно обстоятельство.
Он уже знал, что у него не было обязательного качества, которым обладали все эти книжные герои, — красивой внешности. У них, если верить книгам, были какие-то особенные глаза, изливавшие очарование неизъяснимое, какая-то нежнейшая кожа, какой-то точеный кос, волнистые волосы, обязательно ниспадающие на высокий лоб белее снега, какие-то ало-вишневые губы, формой своей походившие на лук амура, какие-то особенные линии тела, необыкновенные руки и ноги и непременно благородная осанка. В таких героев с первого взгляда влюблялись красавицы, сходили с ума бедные девушки предместий и в мутных водах Сены или Тибра кончали с собою по причине неразделенной любви.
Что такое неразделенная любовь, было для него загадкой.
Широколицый, вихрастый и неуклюжий мальчуган с живыми любопытными глазами мало походил на этих книжных героев. Мария Алексеевна, глядя на первенца, вздыхала, приговаривая, что «не в красоте — счастье», и втайне надеялась, что сынишка со временем выправится, станет пригожим молодцом. Лишь был бы здоров. А здоровьем как раз Ванюшу природа не обидела.
Книги развили в нём интерес к жизни и к людям. Он казался гораздо старше своих лет. В этом не было, впрочем, ничего удивительного: ведь он не знал детства такого, как у большинства дворянских детей того времени — обеспеченного, беззаботного. К нему не ходили учителя, его не воспитывали гувернеры, не учили иностранным языкам, танцам, музыке, рисованию.
Но маленький Крылов уже видел больше, чем какой-нибудь дворянский сынок за всю свою жизнь. Это было, пожалуй, единственной положительной стороной бедности. Его никто и ничто не стесняли. Пользуясь домашней свободой, он с жадным любопытством присматривался к окружающему миру, бродя по площадям и улицам города, любуясь красивыми зданиями, знакомясь с новыми интересными людьми.
Особенно нравились мальчику шумные народные зрелища: качели и балаганы на ярмарках, кулачные бои, яркие базары, крикливые перебранки городских прачек на Тверце и Волге. Здесь он слышал меткие шутки, острые словечки, язвительные анекдоты о градоправителях, нажившихся на пожаре, о чиновниках-взяточниках, о бездельниках-дворянах и хитрых мужиках. В этих сказочных анекдотах всегда выходило так, как хотелось рассказчику: умный крестьянин брал верх над барином, хитрый мужичок обводил вокруг пальца ворюгу-чиновника, взяточники в конце концов разоблачались и несли наказание. Мальчик еще не мог знать, что в жизни таких сказочных концов почти никогда не бывало.
Время от времени он вместе с отцом ходил в семинарию. Это было единственное культурное учреждение города. В большом и светлом зале семинарии происходили диспуты, выступали певцы с пением божественных кантов (песен), местные поэты декламировали свои стихи, лицедеи-семинаристы разыгрывали веселые сценки, высмеивая взяточничество, волокиту, крючкотворство. Тут мальчик впервые познакомился с сатирой. И в ней также зло и порок обязательно наказывались, а добро и правда всегда торжествовали.
Мальчик был впечатлителен, скор и переимчив. Он подражал лицедеям, декламировал стихи, повторяя те же самые жесты, которыми поэты-семинаристы сопровождали чтение своих сочинений. Он пытался рисовать картинки из книжек, и выходило похоже; вторил матери, когда она певала за работой песни, и Мария Алексеевна похваливала его; изображал на голоса базарных торговок, будочников, прачек, купцов и приказных, выводя их в маленьких сценках, разыгрывая анекдоты в лицах. Маленькому актеру приходилось не только изображать сценки, но и присочинять их.
Почти вся куцая библиотечка отца была уже перечитана им. Страницы многих книг словно отпечатались в его молодой памяти: он мог наизусть читать их, не заглядывая в книгу. Он запинался лишь в тех местах, где стояли слова, составленные из нерусских букв.
Впрочем, это также длилось недолго. Тайну иностранной азбуки раскрыл ему какой-то безвестный итальянец. В те годы в Твери, как и во всех крупных городах России, было много иностранцев — французов, немцев, итальянцев. Они приезжали сюда на заработки.
Россия считалась золотым дном, потому что любого иностранного специалиста, мастера, ремесленника тут ценили на вес золота.
У маленького Крылова был истинный талант заводить знакомства. Его тянуло к людям любопытство; каждый новый человек был для него новой книгой. И особенно привлекали его люди, причастные к искусству.
Так мальчик сошелся с каким-то талантливым скрипачом (быть может, это был тот же итальянец) и у него получил первые уроки игры на скрипке. Не мог он оставить без внимания и художников — а их в Твери было тогда особенно много: город продолжал еще строиться и украшаться. И от кого-то из этих художников мальчик узнал о первоначальных законах и секретах живописи.
Способный паренек представлял для взрослых людей большой интерес. И, несомненно, многие рады были уделить талантливому мальчику свое внимание и время.
Однажды Андрей Прохорович был приглашен к знатному тверскому помещику Львову. Вместе с отцом отправился и маленький Крылов.
У Львовых были гости. Возможно, хозяин рассчитывал, что недавний капитан развлечет общество интересным рассказом о Пугачеве, о героической обороне крепости. Ведь он был не только очевидцем, но и участником.
Но расчеты не оправдались. Андрей Прохорович смущался, мямлил, рассказывал скучно, буднично. В глазах общества, собравшегося у Львова, этот болезненный чиновник был типичным неудачником и к тому же совершенно неинтересным.
Сынок совсем не походил На отца. Не по летам начитанный, живой, смышленый, некрасивый мальчик удивил гостей блестящей памятью и чтением итальянских стихов. Дети Львова уже знали о его таланте «разговаривать на голоса» и представлять в лицах смешные историйки. Они упросили показать свое искусство, а когда узнали, что мальчик умеет играть на скрипке, то тут же притащили инструмент и заставили сыграть несколько пьесок.
Взрослые шумно аплодировали маленькому артисту.
Они уже благосклонно поглядывали на отца: нелегко в наше время дать такое воспитание ребенку. И дело, конечно, не в деньгах, а в учителях.
Андрей Прохорович растерянно улыбался, разводил руками. Он сам не ожидал от сына такой прыти. Львов предложил ему, чтобы мальчик занимался вместе с детьми у него в доме. Сановник, кстати, поинтересовался, записан ли мальчик на казенную службу. Ведь времени терять было нечего.
Так началось ученье маленького Крылова.
В доме Львовых он впервые встретился с настоящими учителями. Но они его мало радовали. Он полагал, что ученье будет итти гораздо скорее, а учителя заставляли его топтаться подолгу на одном и том же месте. Не довольствуясь уроками, он с увлечением решал арифметические задачи, сидел над непонятными геометрическими чертежами и алгебраическими формулами, с удивительной ловкостью постигая их сложную простоту.
Только французский язык давался ему с трудом. Он готов был даже отказаться от него, но тут вмешалась Мария Алексеевна. Она помогала сынишке, как могла, внимательно выслушивала его переводы с французского и, руководствуясь только здравым смыслом, нередко останавливала его и говорила:
— Нет, Ваня, это что-то не так. Возьми-ко ты французский словарь да выправься-ко хорошенько.
Он послушно брал словарь и с его помощью доискивался до смысла, который удовлетворял и Марию Алексеевну. И, как всегда, труден оказался только первый этап; дальше дело пошло легче. Мальчик уже мог разобраться в том, что его смущало в отцовских книгах, читал их без запинки, не спотыкаясь на непонятных строчках.
Одной из первых французских книг, попавших в руки мальчика, была тоненькая книжка басен Лафонтена с уморительными картинками. Для упражнения в переводе он попытался изложить стихами басню о дубе и тростинке, но стихи выходили тяжелыми, корявыми.
Он повозился с упрямой басней день-другой и отложил ее в сторону.
Француз-гувернер ставил Жана Крылова в пример своим питомцам. Но не все учителя были такими добрыми и внимательными. Другие смотрели на него небрежно, как на приблудного. Ведь они же не нанимались обучать этого паренька. В диктантах по русскому языку он хромал; его тетрадки подчеркнуто не проверялись. Это была первая детская обида, и мальчик глубоко затаил ее в себе.
А обиды умножались. Прелесть новизны, интерес к маленькому Крылову понемногу угасли. Взрослые давали ему понять, что он не ровня детям хозяина, что он им не товарищ, а существо низшее. Вначале его небрежно просили сделать то, принести это, сбегать за тем-то, потом стали приказывать. Он вынужден был выполнять приказания, которые больно ранили его самолюбие. Богатые и знатные указывали ему настоящее его место.
К этому времени подоспела и бумажка из казенного заведения: Иван Крылов определялся на службу подканцеляристом нижнего земского суда в Калязине, так как в Твери свободных мест не оказалось. Впрочем, это не играло никакой роли: ведь он не обязан был служить, а только числился, будто служит.
Андрей Прохорович с грустью глядел на сына, как будто предчувствуя, что недалек тот день, когда фиктивная его служба станет настоящей. Он чувствовал себя совсем больным, но перемогался, продолжая ходить в должность. Теперь он был нужен семье больше, чем год назад: она увеличилась — родился второй сын, Левушка. Едва Левушка начал ходить, как Андрей Прохорович слег и уже не поднялся. Он болел недолго и умер так же тихо и скромно, как и жил.
Зима 1778 года была тяжелой порой для Крыловых. Покойный не оставил после себя никакого наследства, кроме сундучка с книгами.
После смерти отца калязинского подканцеляриста «перевели» тем же чином в Тверской губернский магистрат. Объяснением перевода служило именно то обстоятельство, что молодой Крылов стал сейчас единственным кормильцем и опорой семьи. Но положение могло измениться лишь в том случае, если бы мальчик действительно стал «ходить в должность». Тогда ему полагалось бы какое-то жалованье, и он мог бы помогать семье. Многие мальчики в его годы уже служили: переписывали и подшивали бумаги, бегали с пакетами по присутственным местам, как тогда назывались государственные учреждения, вытирали пыль, чинили перья.
Мария Алексеевна не хотела думать об этом и считала, что нельзя упускать счастливого случая поучиться у «милостивцев» Львовых. Кроме того, она надеялась на свои руки и на помощь сверху — ей советовали обратиться к императрице с просьбой о пенсии: при жизни Андрея Прохоровича его заслуги были забыты, а после смерти, авось, о них вспомнят.
Это были напрасные надежды. Прошение на имя Екатерины II, полное жалких слов о «крайней бедности», ее «жесточайших следствиях», с униженными просьбами пожаловать «на пропитание наше... что вашему величеству всевышний бог на сердце положит», осталось без ответа.
Никакого ремесла Мария Алексеевна не знала. Священник посоветовал ей читать псалтырь по покойникам — ведь она была умудрена грамоте. И вдова председателя губернского магистрата стала ходить по дворянским и купеческим домам.
Ученье Крылова пошло с перебоями. Мальчику приходилось сидеть дома, нянчить братишку. Бывать у Львовых стало неприятно: там на него косились — ведь его мать, по их мнению, занималась не достойным для нее делом. Как-никак ее муж был офицер, чиновник, дворянин.
В том же году в Твери открылось училище для дворянских детей. Мальчик мог бы продолжать свое ученье. Но для этого нужны были средства. И вместо школы Крылов пошел в магистрат.
Казенная служба открыла маленькому подканцеляристу не знакомую ему сторону жизни: темные нравы екатерининских судов, безнаказанные злоупотребления власть имущих, поголовное взяточничество чиновников. Тут он мог убедиться, что веселые анекдоты и сказки о торжестве правды и добра были лишь утешением в тяжелой жизни тех, кто эти сказки выдумывал. Он видел, что богатый и сильный всегда остается правым, а бедный и слабый несет наказание. В магистрате часто разбирались дела о бесчинствах тверских помещиков, о мошеннических проделках местных купцов, но всесильная взятка превращала виновных в невинных, а ложь в правду.
Крылов был отдан под начало повытчику, злому и грубому человеку. Повытчик нередко ловил своего подчиненного за пустым занятием: подканцелярист портил бумагу, исписывал ее французскими словами, цифрами и какими-то непонятными значками, либо рисовал каких-то человечков и чортиков. Повытчик ругался, укорял в нерадении к казенному добру и, увидев однажды, что мальчик читал на службе книжку, строго-настрого запретил приносить книжки в магистрат. Как ни остерегался Крылов, повытчику все же не раз удавалось поймать его на месте преступления. Тогда книжка превращалась в орудие наказания: подканцеляриста бивали этой книжкой по голове и по плечам. Сироту учили уму-разуму.
Мальчик ненавидел и службу и своего начальника Единственным развлечением служили частые чиновничьи ссоры из-за взяток и приношений просителей. Развлечения эти быстро приедались, уступая место скуке.
Медленно тянулось для него время, пока в холодной зале магистрата не начинали звонить куранты, извещая о конце занятий. После этого бег времени мгновенно менялся: оно летело, как ветер. Крылов научился ценить его. Он заполнял свободные от службы часы самообразованием, игрой на скрипке, чтением французских и итальянских книжек. Особенно пристрастился он к журналам, которые издавал в Москве Новиков, основатель знаменитой «типографической компании». Толстые листы «Трутня» и «Живописца» перечитывались им по многу раз, так же как и «Тверской семинарии школьное упражнение», как назывались тощие книжечки, печатавшиеся в типографии» Московского университета. С некоторыми авторами этих «упражнений» — тверскими семинаристами — познакомился Крылов. Они были много старше его, но любознательный и умный подросток привлекал их острой наблюдательностью, меткостью и живостью своих суждений.
Редкие семинарские лицедейства и диспуты были для него настоящим праздником. Он подробно рассказывал милой маменьке о том, что говорилось, пелось и игралось в зале семинарии, и сам сочинял стишки и писал маленькие, сценки. Ему нравились тверские сочинители, потому что язык их произведений отличался от тяжелого книжного языка: он был похож на обыкновенную разговорную речь, звучавшую на тверских улицах, площадях и базарах. Как и в раннем детстве, он любил оживленные городские места, где шумела толпа и журчал бойкий тверской говорок, запоминал яркие меткие словечки и выражения. Любовь его к острому словцу, к едкой, как перечная пыль, поговорке отражалась в детских его сочинениях: он старался вставить туда меткое словцо или пословицу. Друзья и семинаристы покровительственно похваливали его.
А утро начиналось все тем же ненавистным магистратом, и снова мальчика окружали все те же закапанные чернилами и сургучом столы, пыльные ворохи бумаг, мутные окна, кислый запах казенного заведения и беспросветная каждодневная скука.
Три долгих года длилась унылая жизнь маленького чиновника. Когда Крылову минуло тринадцать лет, он начал всерьез задумываться о своем будущем. Ему не хотелось весь свой век сидеть в магистрате. Он готовился к первому серьезному шагу в своей жизни, даже не шагу, а прыжку — из Твери в Петербург.
ЮНОСТЬ
С желанием на свет мы рождены.
На что же ум и чувства нам даны?
Уметь желать — вот счастья совершенство!
...Препятство злом напрасно мы зовем;
Цена вещей для нас лишь только в нем:
Препятством в нас желанье возрастает;
Препятством вещь сильней для нас блистает.
Нет счастья нам, коль нет к нему помех;
Не будет скук, не будет и утех.
Не тот счастлив, кто счастьем обладает:
Счастлив лишь тот, кто счастья ожидает.
Крылов, «Письмо о пользе желаний».
В тринадцать лет он понимал, что самое опасное для человека — это покорность судьбе. Сколько людей недовольны ею, жалуются на нее и все же быстро смиряются под ее ударами. В этом смирении, в покорности — все зло. Люди любят мечтать, но не умеют желать как следует и потому отступают перед первыми же трудностями.
В раннем детстве мальчик был упрям. В юности упрямство сменилось упорством, настойчивостью. В зрелом возрасте это качество стало одной из основных черт его характера.
Знакомясь с новиковскими журналами, маленький Крылов убеждался, что он и сам мог бы писать в таких журналах стихи, и веселые статейки, и небольшие пьески, вроде тех, что он разыгрывал перед товарищами. В его руки попала однажды новая пьеса — комедия Фонвизина «Бригадир», и он живо представил себе, как говорят, действуют, смеются и плачут выдуманные писателем люди. Что могло быть интереснее сочинения таких вот комедий!
Однако перо плохо слушалось его. Он не владел еще ни мыслью, ни словом. Писал он к тому же безграмотно, с ошибками, а запятых не признавал вовсе.
Но это не могло помешать его намерениям.
Он делился своими мечтами о будущем с матерью. Мария Алексеевна робела. Не слишком ли уж хватил сынок? Уехать в столицу, стать сочинителем... Но он убеждал мать: в конце концов и в Петербурге можно жить так же, как в Твери. Он останется на казенной службе, поступит в какое-нибудь присутственное место; хуже не будет, а лучше может быть. И, покоренная последним доводом, мать согласилась.
Летом 1782 года подканцелярист Крылов получил месячный отпуск для поездки в Петербург по семейным делам. В магистрате знали, что вдова покойного председателя собиралась хлопотать в столице о пенсии.
Выбраться из Твери удалось только зимой. В начале следующего года Крыловы были в Петербурге.
Здесь Мария Алексеевна встретилась с друзьями покойного мужа. Пенсии она не добилась, но добрые друзья помнили Андрея Прохоровича и помогли ей всем, что было в их силах.
Мальчик безустали ходил по столице. Глаза разбегались, новое встречалось на каждом шагу. Театр, куда он попал, очаровал Крылова. Ему казалось, что лучше театра нет ничего в мире. Залитый огнями зал, жадные глаза зрителей, смех, крики одобрения волновали его, а блестящий успех «Недоросля» окончательно утвердил в решении стать драматургом. Он усидчиво работал над первым своим опытом — комедией «Кофейница». Содержание ее было навеяно чтением новиковских журналов и модной комедией Княжнина «Несчастье от кареты». Это должна была быть пьеса в стихах и с музыкой.
Но работу пришлось отложить в сторону. Из Твери пришла в столицу неприятная бумага: магистрат обнаружил наконец отсутствие маленького подканцеляриста. Правда, никому он там не был нужен, самостоятельных дел и бумаг за ним не числилось. Но канцелярская машина действовала, как заведенная, и выпустила в свет длинную бумагу о розыске пропавшего чиновника. Унылым приказным языком излагалось, что Крылов был «отпущен... зданным отнаместническаго правления пашпортом для его нужд в санкт петербург на двадцать на девять дней но стого-времени, не токмо на указаной срок но и поныне чему минуло более года кдолжности не явился того ради... приказали всанктпетербургское губернское правление сообщить и требовать дабы благоволило кому надлежит приказать означеннаго подканцеляриста Крылова яко проживающаго самовольно засроком сыскав прислать за присмотром вздешнее наместническое правление...»[11] Подчеркнутое в бумаге означало, что Крылова надлежит вернуть к месту службы по этапу, как преступника.
Крылов немедля выехал из Петербурга. Восемь дней спустя он уже был у Львовых. Они радушно встретили его. Теперь он держал себя по-иному: голос его окреп, движения были не такими угловатыми. Это был уже не мальчик, а юноша. И юноша, повидимому, подававший надежды. В Твери он не собирался засиживаться; ему нужно было побыстрее закончить дело с магистратом. Львов посоветовал обратиться к губернатору Брюсу — тот мог решить дело без задержек.
Заручившись поддержкой Львова, Крылов добился свидания с тверским губернатором, подал прошение об увольнении и получил не только свободу, но и очередной чин канцеляриста «за безпорочную ево службу», как написано в указе Тверского наместнического правления от 23 августа 1783 года.
Теперь Крылов был волен делать все, что хотел.
Он возвращался домой, в Петербург, в Измайловскую роту, где жила мать с братцем. У Марии Алексеевны был хороший характер. Она уже свыклась с новой жизнью, завела знакомства и к приезду сына приготовила ему место.
Юноша поступил на службу в Петербургскую казенную палату. Уже через два месяца его произвели в следующий чин — провинциального секретаря. Это был подарок любимой маменьке, которую Крылов называл «первой радостью, первым счастьем своей жизни».
В свободное же время он продолжал знакомиться с городом, все больше и больше очаровываясь им. Огромность столицы подавляла его. В одну из своих прогулок он увидел первый петербургский пожар. Горели какие-то склады на взморье. Небо и море пылали, — такого большого огня он еще никогда не видел. Даже пожары были здесь огромных, столичных масштабов.
В те годы Петербург был гигантским магнитом, стягивавшим к себе все лучшее и талантливое, что было в стране: ученые, писатели, промышленники, художники — все стремились сюда, в столицу. Петербург был барометром общественной жизни России. Здесь рождались все новшества, моды, идеи, течения и веяния. Бывало, что старая Москва обгоняла Петербург. Так, она гордилась величайшим по тому времени издательством «типографической компании» Новикова; она старалась удержать у себя талантливых людей, но рано ли, поздно ли верх оставался за новой столицей, Именно здесь, а не в Москве зачинались все великие дела. И особенно много таких дел было в те годы, когда молодой Крылов приехал сюда за славой и счастьем.
В конце XVIII века Россия переживала бурную пору. Начатая Петром I перестройка страны приносила свои плоды. Более близкие связи, установленные с зарубежными странами, вызвали большое оживление в общественной и экономической жизни государства. Организовывались промышленные и торговые предприятия, рос петербургский порт, открывались школы, театры, журналы, типографии, нарождался особый мир — журналистов, актеров, писателей, музыкантов, философов. Им суждено было вскоре играть заметную роль в общественной жизни страны. Этот молодой мир — шумный, веселый и яркий — привлек к себе внимание юноши Крылова.
Зимой 1784 года он предложил театру текст комической оперы в стихах под названием «Кофейница».
Содержание оперы несложно. Крепостные Петр и Анюта любят друг друга. Злой приказчик, управитель помещицы Новомодовой, хочет расстроить их брак, чтобы самому жениться на Анюте. Он крадет у помещицы серебряные ложки и сваливает покражу на Петра. Кофейница — так назывались в XVIII веке гадалки на кофейной гуще, — подкупленная приказчиком (он обещает ей половину украденных ложек), обвиняет в воровстве Петра. Новомодова приказывает отдать его в рекруты. Родители Петра и Анюты распродают все свое имущество и, заняв деньги, уплачивают помещице стоимость пропавших ложек. Новомодова берет деньги, но отказывается отпустить Петра. Она хочет сделать его своим лакеем, чтобы, придравшись к пустячной вине, продать его на сторону, так как ей нужны деньги на модные причуды. Кофейница, оставшись с приказчиком наедине, требует положенной награды. И в то время, как мошенник отсчитывает ей ложки, входят Новомодова, Петр, Анюта и родители. Злодей пойман на месте преступления. Приказчика отдают в рекруты, кофейницу сажают в тюрьму. Петр становится приказчиком. Справедливость торжествует.
Театр, куда пришел Крылов, отказался даже вступать в разговоры с малолетним драматургом. Но один из книгоиздателей, ознакомившись с рукописью, решил приобрести ее, предложив автору 60 рублей ассигнациями. Это была немалая сумма по тому времени. В казенной палате Крылов получал жалованье около 7 рублей в месяц.
Просвещенный издатель, чувствуя, что Крылов не только даровитый, но еще и нуждающийся юноша, был крайне удивлен, когда автор попросил уплатить ему гонорар не деньгами, а книгами. Достойный сын своего родителя-книголюба с гордостью потащил домой тяжелую связку творений великих французских писателей — Мольера, Расина, Буало.
«Кофейница» не увидела света[12], хотя в театре шли тогда пьесы не лучше незрелого крыловского произведения. Литературно-наивное и драматургически-неумелое, оно привлекло внимание культурного издателя знанием жизни, острой наблюдательностью и верностью писательского глаза. По основной своей мысли «Кофейница» была социальной сатирой на самодуров-помещиков и резкими красками рисовала дикий произвол и жестокое обращение с подневольными, лишенными человеческих прав крепостными.
Неудача с «Кофейницей» не смутила юношу. В конце концов не все же удается сразу. Главное было не унывать, а работать, не гасить в себе желаний. Театр стал вторым его домом. Там, в тесном и шумном мирке артистов и литераторов, шестнадцатилетний драматург, — а по виду ему можно было дать все восемнадцать, — держался, как равный с равными. У всех случались неудачи, не у него одного. За пыльными кулисами театра ему дышалось легко, как на петербургском взморье.
Он внимательно смотрел пьесу за пьесой, изучал их и видел, что в пьесах было слишком много лжи: по сцене прохаживались добросердечные помещики, честные чиновники, правдолюбцы-судьи. Таких он не встречал на своем коротком веку и знал, что не встретит. Он понимал, что по неписанным законам искусства комедии, анекдоты и прочие веселые произведения должны были оканчиваться счастливо. Вот и его «Кофейница» заканчивалась торжеством правды и наказанием порока, хотя такой финал в жизни был маловероятен. Как автор, он мог покривить душой только там, где это было необходимо, но он не считал себя способным лгать на протяжении нескольких актов.
Он решил попытать счастья в ином жанре — не в комедии, а в трагедии. В трагедиях печальный конец был не только законен, но обязателен. Крылов к тому же хорошо ознакомился с французскими образцами трагедий и полагал, что сумеет осилить этот высокий жанр.
Трагедии тогда пользовались большим успехом. Их писали знаменитый Сумароков и талантливый Княжнин. Большая часть трагедий представляла собою переделки классических французских произведений. Особенно такими переделками славился Княжнин.
После долгих раздумий Крылов остановился на истории о легендарной царице Клеопатре, прославившейся в древности тем, что она казнила своих мужей после первой проведенной с ними ночи.
Тема была явно непосильной для молодого драматурга, но он с увлечением работал над «Клеопатрой». Название трагедии могло до известной степени служить крамольным намеком. Клеопатрой втихомолку называли Екатерину II. Вся Россия знала о многочисленных ее возлюбленных. Она по-царски одаривала их чинами, поместьями, крепостными.
Фавориты, случайные люди, попавшие в милость императрицы («фавор» и означает в переводе милость, благосклонность), «не знали меры своему корыстолюбию, и самые отдаленные родственники временщика с жадностью пользовались кратким его царствованием», писал об этих временах А. С. Пушкин. Любовные утехи Екатерины стоили народу очень дорого.
Закончив сочинение, юноша решил отнести его на суд Дмитревскому, знаменитому актеру и драматургу.
Иван Афанасьевич Дмитревский был образованнейшим человеком своего времени. Он, как и Крылов, вышел из низов, пробил себе дорогу талантом, настойчивостью. Влюбленный в искусство, он стал продолжателем дела, начатого Волковым. Знаменитый костромич Волков основал русский театр. Дмитревский был блестящим его организатором. Он бывал в Париже, Берлине, Лондоне, дружил с гениальным английским артистом Гарриком. Дмитревского называли первым российским актером, «учителем русского театра». Он любовно пестовал молодые таланты и воспитал плеяду превосходных русских актеров — Плавильщнкова, Семенову, Сандунова, Каратыгину, Яковлева... Писатели прислушивались к советам опытного Дмитревского.
И Сумароков, и Княжнин, и Фонвизин, которому Иван Афанасьевич помогал в работе над «Недорослем», пользовались его указаниями. Он не жалел времени, когда замечал в человеке проблески таланта, и, познакомившись с Крыловым, увидел, что должен ему помочь.
Внимательно просмотрев работу юного автора, Иван Афанасьевич не оставил без внимания ни одного стиха. Он терпеливо указывал юноше на многочисленные его ошибки и промахи, показывал, как можно исправить отдельные строки и фразы, хвалил то, что удалось автору. Но трагедию нельзя было спасти. Осторожный учитель посоветовал своему ученику уничтожить рукопись.
Современник Крылова, Погодин, со слов переводчика «Илиады» Гнедича, писал в своих записках, что «Дмитревский трое суток пересматривал с Крыловым какую-то первую трагедию, и сожгли ее исчерненную».
Дмитревский убеждал юношу не огорчаться неудачей. Прочитав «Кофейницу», он советовал ему подумать о комедийном жанре, в котором Крылов, по его мнению, был сильнее. Очередной неуспех не смутил Крылова. Он не сомневался в том, что добьется своего.
Встречи с Дмитревским и совместная работа над «Клеопатрой» были для него первой драматургической школой. Следуя совету Ивана Афанасьевича, юноша начал работать над веселой оперой «Бешеная семья» и одновременно писал новую трагедию «Филомела».
Теперь у него было больше уверенности в своих силах, стихи выходили более складными и точными.
Он просиживал за столом до рассвета. Мария Алексеевна уговаривала сына беречь здоровье, но, увлеченная его энергией, сама сидела с ним допоздна с каким-нибудь рукоделием.
Спустя несколько месяцев юноша принес Ивану Афанасьевичу новое произведение. Это была «Филомела» — трагедия из древнегреческой жизни.
Но и эту работу постигла участь «Клеопатры». Строгий учитель забраковал трагедию, хотя она была уже неизмеримо выше прежних сочинений Крылова, Талант юноши рос буквально на глазах Дмитревского. Однако рост его, по мнению учителя, был направлен в опасную сторону.
Умудренный жизненным опытом, Дмитревский считал своим долгом уберечь даровитого юношу от неизбежных неприятностей. Не нужно было особенно вглядываться и вчитываться в трагедию, чтобы увидеть подозрительное сходство между царствованием Терея и Екатерины II: сумасбродный царь, готовый ради удовлетворения своих страстей итти на любое преступление, подлые льстецы-царедворцы, угнетающие народ, подданные, утратившие уважение к своему порочному и преступному монарху... У всех еще на памяти была свежа кровавая расправа Екатерины с восставшим народом и его вождем Пугачевым, а Крылов в «Филомеле» говорил с ненавистью о том, что кровавые злодеяния не дают Терею права называться монархом. Автор угрожал ему гневом народа и устами жреца Калханта призывал верных сынов отечества к отмщению.
Трагедия заканчивалась восстанием народа и самоубийством Терея. И естественно, что она также не могла появиться на сцене.
Дмитревский видел незаурядное дарование Крылова и всячески помогал юноше: он поправлял его работы, знакомил с тайнами писательского ремесла и свел молодого драматурга с одним из руководителей театра — директором горной экспедиции вельможей П. Соймоновым. Тот милостиво отнесся к юному автору, поинтересовался, над чем он работает, и приказал выдать ему постоянный билет на право бесплатного посещения театра.
Крылов все же не был уверен в том, что драматургия есть истинное его призвание. Он пробовал себя во всем: писал пьесы, переводил с французского и итальянского, сочинял стихи, статьи, эпиграммы. Первые его эпиграммы, напечатанные в журнале «Лекарство от скуки и забот», были семейным праздником. Мария Алексеевна гордилась своим первенцем. Он и впрямь становился настоящим сочинителем. Маленький Левушка обожал старшего брата. Для Левушки братец был самым умным, самым красивым, самым замечательным человеком на свете. Левушка называл его «тятенькой» и слушался беспрекословно.
Крылов работал в эту пору с такой же жадностью, с какой когда-то учился у Львовых. Он торопился окончить одну вещь, чтобы тут же начать другую. Так, на семнадцатом году Крылов стал профессиональным литератором.
Беседы с Дмитревским, встречи с умными, просвещенными людьми, запросто бывавшими у Ивана Афанасьевича, знакомство с книгами французских просветителей заставляли Крылова глубже задумываться над многими жизненными вопросами и над своей судьбой. Вместе с новыми друзьями он мечтал о счастливом времени, когда исчезнет крепостничество, когда крестьянский мальчик получит свободный доступ к знаниям, когда искусство станет доступным народу. И юноша все больше осознавал важность роли писателя в такой стране, как Россия.
Писатель должен писать правду, бескорыстно служить высоким идеалам свободы и равенства, помнить всегда о своем достоинстве. Он откровенно смеялся над продажными стихоплетами, сочинявшими похвальные стишки знатным людям. К аристократам, сановникам, богатым помещикам, глядевшим на него свысока, он относился с ненавистью. Он помнил свои детские обиды у Львовых, и тут, в столице, ему не раз приходилось замечать пренебрежительное отношение к себе. Теперь он не обращал на это внимания, но иногда новая обида пронзала его сердце.
Он стремился быстрее стать на ноги. В театре его уже знали, как способного молодого писателя. В тот же год, когда Дмитревский забраковал «Филомелу», Крылов написал еще две пьесы — веселую оперу «Бешеная семья» и комедию «Сочинитель в прихожей».
Соймонов приветливо встретил молодого автора. «Бешеная семья» понравилась вельможе. Он приказал положить ее на музыку. О комедии разговора не было. Узнав, что юноша хорошо владеет французским языком, Соймонов заказал ему перевод либретто модной оперы «Инфанта» («L'Infante de Zamora») и предложил перейти на работу к нему, в горную экспедицию, которая ведала горнорудными делами империи.
Новая служба могла дать ему гораздо больше свободного времени. Крылов ушел из казенной палаты и поступил к Соймонову. Обстоятельства как будто складывались благоприятно.
Но благосклонность вельможи длилась недолго. Знаменитый Княжнин, проглядев сочинения Крылова, отозвался о них пренебрежительно. «Бешеную семью» отложили в долгий ящик. «Сочинитель в прихожей» не понравился: в этой комедии осмеивались спесивые дворяне, которых дурачили плутоватые, но умные слуги-крепостные. Автор издевался над лживой и пустой жизнью аристократов, показывал развращенность их нравов и насмехался над поэтами, обивающими пороги знатных меценатов-покровителей.
В ту пору молодой Крылов рассказывал друзьям очень похожий на правду анекдот об одном из таких сочинителей-поэтов. И меценат и его дворня смотрели на поэта с пренебрежением, его не уважали, и когда ему удавалось пристроиться за обедом где-нибудь на конце стола, лакеи обносили поэта блюдами, так что он редко вставал из-за стола сытым. Как-то ему особенно не повезло, и, 'просидев за столом несколько часов, он поднялся более голодным, чем сел за стол. Вельможа, ковыряя в зубах, спросил голодного поэта:
— Ну как? Доволен ли ты?
— Доволен-с, ваше сиятельство, — ответил поэт, сгибаясь в дугу, — все видно было.
Такие поэты, по мнению Крылова, были достойны презрения.
Но и с самим Крыловым многие аристократы не очень церемонились. Для них он был плебеем, нищим. Его самостоятельность, умение постоять за себя, уколоть противника острой насмешкой раздражали спесивых дворян, порождали враждебное чувство к нему. Он был горяч, вспыльчив, скор на язык и не умел смолчать, когда следовало, и пропустить мимо ушей обидное слово.
Ему шел девятнадцатый год. Рослый, худощавый, большеголовый юноша с крупными чертами лица был приметной фигурой среди артистов, литераторов, художников. Вокруг Крылова всегда было весело. Его способность живо откликаться на шутку, редкий талант поддерживать острую, занимательную беседу привлекали к нему многих, кто умел ценить в человеке самостоятельность и оригинальность мысли.
Текли недели и месяцы. Пьесы Крылова лежали без движения. Он напомнил о них Соймонову, когда принес ему перевод «Инфанты». Тот буркнул что-то невразумительное. Стороной Крылов узнал о неодобрительном отзыве Якова Борисовича Княжнина. Мнение прославленного драматурга сыграло решающую роль в судьбе крыловских произведений. А они были ничуть не хуже тех пьес, что изо дня в день шли на театре.
Однажды в гостиной Дмитриевского Крылов столкнулся с женой Княжнина. Пустая светская женщина, болтливая, бестактная и сумасбродная, завела с Крыловым снисходительный разговор. Узнав, что юноша работает для театра, она поинтересовалась, что же юноша получил от Соймонова. Крылов сказал, что пока очень мало — только бесплатный билет в рублевые места, благодаря чему имеет право в любой день посещать спектакли.
— Сколько же раз вы пользовались этим правом?
— Да раз пять, — ответил Крылов.
— Дешево же! — расхохоталась Княжнина. — Нашелся писатель за пять рублей!
Крылов оскорбился. Его назвали пятирублевым писателем. Да разве он писал только ради денег? Но Княжнина, должно быть, не могла понять такого бескорыстия. Ответить взаимным оскорблением он, разумеется, не мог. Это была вторая обида, нанесенная ему семьей Княжниных.
Крылов решил дерзко высмеять драматурга и его супругу и написал комедию «Проказники» — злой памфлет, в котором разоблачались низкие характеры героев, их пустота, мерзость семейной жизни. Княжнин был выведен в образе Рифмокрада, поэта, обкрадывающего западных классиков, жена его — в лице Тараторы, пустой, развращенной барыньки. Дмитревский помог автору сделать комедию посмешней. Крылов тут же отнес «Проказников» в театр. Соймонову комедия понравилась, и он назначил ее к постановке.
Однако Соймонова успели предупредить, что это не безобидная веселая комедия, а ужасный пасквиль на уважаемого Якова Борисовича. Соймонов пришел в бешенство. Княжнин, узнав о комедии, написал Дмитревскому возмущенное письмо, обвиняя Ивана Афанасьевича в том, что он, потворствуя Крылову, не может удержать его от дерзости.
Дмитревский отстранился от этой скандальной истории. Он показал юноше письмо Княжнина, и Крылов решил ответить известному драматургу по-своему. Теперь он понимал уже, что его театральная карьера кончается. В этом убедило его отношение Соймонова к следующей написанной Крыловым опере «Американцы». Театр заказал музыку. Композитор закончил работу над оперой, но Соймонов запретил ее ставить, заявив, что в ней «нет ни содержания, ни связи». Вскоре Соймонов вместе с Храповицким был поставлен во главе всех казенных театров.
Мелочность вельможи дошла до того, что Крылова перестали пускать в рублевые места и чинили препятствия при входе в театр. Крылов убеждал своих друзей, что эта борьба его забавляет, но, несомненно, он глубоко чувствовал незаслуженное .оскорбление, которое нанесли ему и Княжнин и Соймонов.
В последнее время Крылов отводил душу с новыми друзьями, людьми, близкими ему по духу и по независимому образу мыслей.
Одним из них был способный литератор, известный переводчик Вольтера, состоятельный помещик И. Г. Рахманинов, издававший журнал «Утренние часы». В доме Дмитревского юноша подружился с П. А. Плавильщиковым — талантливым актером и писателем, мечтавшим о создании народного русского театра. Беседы в кружке Рахманинова с умными, образованными людьми убедили юношу, что есть поле деятельности куда более обширное, нежели тесная коробка сцены и пыльные кулисы.
И все же Крылов понимал, что в борьбе за право работать в театре он потерпел поражение. Его вытеснили оттуда, и у него ничего не осталось, кроме острого пера. Оно было единственным его оружием против всех врагов. И Крылов решил пустить это оружие в ход.
Он написал два письма — Соймонову и Княжнину, копии писем пустил по-рукам. Содержание писем беспримерно по дерзости и остроумию.
Письмо к вельможе Соймонову, внешне изысканное и даже подобострастное, пестрит такими вежливыми оборотами:
«И последний подлец, каков только может быть, ваше превосходительство, огорчился бы...» и т. д. «Пусть бранится глупый, ваше превосходительство, такая брань, как дым, исчезает...» и т: д.
В своем письме Крылов излагал все свои театральные злоключения, издевался над дурным вкусом Соймонова, поносил бездарные произведения, идущие на театре, и защищал свои сочинения, одобренные в свое время «его превосходительством». Крылов писал о «Бешеной семье», что, может быть, эта пьеса действительно плоха, но он не осмеливается «быть о ней толь дурных мыслей единственно для того, чтоб сим не опорочить выбор, разум и вкус вашего превосходительства и чтобы таким мнением не заставить других думать, что вкусу вашему приятны бывают негодные сочинения...» Ведь именно эту пьесу Соймонов наметил к постановке.
Крылов издевательски замечает «в рассуждении некоторых других пьес», одобренных Соймоновым, что зрители во время их представления «просыпаются только от музыки в антрактах», и, удивляясь распоряжению Соймонова лишить его бесплатного входа в театр, продолжает:
«Я бы мог подумать, если бы я был дерзок, что мое поведение тому причиною... а я веду себя так, что никак не могу быть наказан бесчестным лишением входа в общество... Правда, я нередко смеюсь в трагедиях и зеваю иногда в комедиях; но видя глупое, ваше превосходительство, можно ли не смеяться или не зевнуть? Я же смеюсь и столь тихо, что никакого шуму сим не делаю, да притом и так счастлив, что меня часто публика в том поддерживает, но сего, ваше превосходительство, конечно, не поставите мне в вину, ибо я не нахожу способа, чтоб от того себя предостеречь, — разве одним тем, чтоб садиться к театру задом, но... входя в театр, я всегда ожидаю чего-нибудь хорошего...» и т. п.
В этом мальчишеском письме, где «его превосходительство» спасалось от прямых оскорблений только запятыми, как и в послании к драматургу Княжнину, Крылов не стеснялся применять любые методы борьбы.
Письмо к Княжнину преисполнено внешней наивности и чувства собственного достоинства: «Я удивляюсь, государь мой, что вы, а не другой кто, вооружаетесь на комедию, которую я пишу на пороки, и почитаете критикою своего дома толпу развращенных людей, описываемых мною, и не нахожу сам никакого сходства между ею и вашим семейством», писал Крылов. Но хозяину-де виднее — похоже или непохоже?
Якобы в свое оправдание автор письма коротко излагает характеры действующих лиц: «В муже вывожу я зараженного собою парнасского шалуна, который, выкрадывая лоскутки из французских и из итальянских авторов, выдает за свои сочинения... В жене показываю развращенную кокетку, украшающую голову мужа своего известным вам головным убором, которая, восхищался моральными достоинствами своего супруга, не пренебрегает и физических дарований в прочих мужчинах... Вы видите, есть ли хотя одна черта, схожая с вашим домом... Я надеюсь, что вы, слича сии карактеры... хотя мысленно оправдаете мою комедию и перестанете своими подозрениями обижать человека, который не имеет чести быть вам знакомым. Обижая меня, вы обижаете себя, находя в своем доме подлинники толико гнусных портретов. Я бы во угождение вам уничтожил комедию свою и принялся за другую, но границы, положенные вами писателям, толь тесны, что нельзя бранить ни одного порока, не прогневя вас или вашей супруги...»
И дальше Крылов с нарочитой наивностью предлагает Княжнину, уверяя его в своем христианском чистосердечии, «выписать, из сих карактеров все те гнусные пороки, которые вам или вашей супруге кажутся личностию, и дать знать мне, а я с превеличайшим удовольствием постараюсь их умягчить...»
Порвав с Соймоновым и с театром, Крылов принял деятельное участие в рахманиновском журнале. Он попробовал свои силы в басне и опубликовал несколько басен без указания имени автора. Они ему не удались. Но юноша был настойчив. Он понимал, что в основе любого искусства, мастерства, уменья должен лежать упорный труд. А Крылов труда не боялся: он много писал, переводил с иностранных языков, воспитывал своего Левушку. Братцу пошел уже одиннадцатый год. Он уже прилично знал французский язык, писал довольно грамотно и немного играл на скрипке. Теперь Крылов был единственной опорой семьи. Заботясь о будущем Левушки, он пустил в ход все свои связи, потревожил память отца и не признанные при его жизни военные заслуги для того, чтобы записать братишку в гвардию.
Его беспокоило здоровье матери. Ее угнетал петербургский климат — тяжелые туманы, пронизывающий ветер, вечная сырость, затянутое тучами небо. Она не жаловалась на судьбу, гордилась сыном и вздыхала, что ее Андрей Прохорович не может видеть успехов их первенца. С нежностью глядела она на его заботы о младшем брате.
Ей становилось все хуже и хуже.
Мария Алексеевна умерла в пасмурный петербургский день. Братья похоронили ее и поняли, что остались одни не только во всем огромном городе, но и во всем мире.
Крылов тяжело пережил смерть самого близкого ему и любимого человека. На время он отошел от своих знакомых, нигде не бывал, проводил долгие часы с Левушкой. За несколько дней ему пришлось передумать многое. Юность кончилась.
Работой, упорной до самозабвения, он заглушал тоску по матери. Всю свою любовь к ней он перенес на Левушку, После смерти Марии Алексеевны юноша еще больше сблизился с Рахманиновым. Это была настоящая дружба. Ворчливый умный вольтерьянец, немножко смешной и наивный в своем ожесточении на мир, стал ему отцом, товарищем, братом. Крылов еще больше вошел в издательское дело Рахманинова и фактически стал вторым редактором «Утренних часов». Но в рамках этого журнала ему было тесно, как в платье, из которого вырос, и он строил более обширные и заманчивые планы.
Они были неясны, смутны. И они были далеки от недавних провинциальных мечтаний. Сейчас у него рождались иные мысли. Вокруг него жили и страдали тысячи, миллионы таких же обездоленных, как он, как Левушка. Еще совсем недавно он завидовал знаменитому издателю и редактору Новикову, его славе, почету, богатству. А теперь он уже знал, что Новиков небогат, что все свои средства он вкладывает в дело «типографической компании», которая издает книги для народа. Для Крылова Новиков стал человеком, которому можно и должно было подражать. Ведь самая высокая должность человека — это служить своему народу ради его счастья.
«ПОЧТА ДУХОВ»
...Я не упомянул также о сей грозной туче, на труды Авторские всегда устремляющейся... Я с досадою усматриваю на твоем лице непременное желание быть Автором... с превеликим соболезнованием оставляю тебя на скользкой сей дороге... и требую от тебя, чтобы ты никогда не разлучался с той прекрасной женщиной, с которой иногда тебя видал, ты отгадать можешь, что она называется Осторожностью.
Новиков, «Живописец», 1772 г., лист 2.
В первых числах января 1789 года в петербургской и московской газетах появилось объявление о приеме подписки на ежемесячное издание под заглавием:
«Почта духов, или ученая, нравственная и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами».
Издатель уведомлял, что он служит секретарем у недавно приехавшего арабского волшебника, который намеревается прожить у нас некоторое время. Пользуясь своей должностью секретаря, он обещал опубликовать переписку волшебника с друзьями-духами, которые не любят крючкотворцев, ростовщиков и лицемеров и потому «не могут ужиться в нынешнем просвещенном свете видимыми, а ходят в нем невидимыми, и бывают иногда так дерзки, что посещают... в самые критические часы комнаты щеголих, присутствуют в кабинетах вельмож, снимают очень безбожно маски с лицемеров...» и т. д.
«Почта духов» — не журнал. Это особая форма сатирической литературы, распространенная в те времена. Переписка между друзьями, односторонние письма путешественника, послания с того света и т. п. давали автору возможность касаться любых острых вопросов современной жизни.
Первое письмо «от гнома Зора» рассказывало о последних адских новостях и увлечении французскими модами; второе «от сильфа Дальновида» — об алчности, корыстолюбии, суете сует, счастье, несчастье и цели человеческой жизни; третье «от гнома Буристона» — о правосудии и честных судьях; четвертое — о человеконенавистничестве и т. д.
Письма эти злободневны; современному читателю они говорили, разумеется, много больше, нежели нам. Однако общий характер их и блестящее остроумие автора делают эти письма неувядающими документами эпохи.
В восьмом послании сильф Световид с сокрушением сообщал Маликульмульку, что «поверхность обитаемого... земного шара удручается множеством таких людей, коих бытие как для них самих, так и для общества совершенно бесполезно, и кои не только не вменяют в бесчестие слыть тунеядцами, но по странному некоему предубеждению почитают праздность, презрение наук и невежество наилучшими доказательствами превосходства человеческого».
Острие этого сатирического письма направлено против дворянства, и Крылов не скрывал своих намерений, живописуя, как праздно проводят время дворяне в деревнях и в городах:
«Ученый человек, в глазах их, не что иное, как дурак, поставляющий в том только свое благополучие, чтоб перебирать беспрестанно множество сшитых и склеенных лоскутков бумаги». К бездельникам и тунеядцам автор относил многих вельмож и приводил «точное описание повседневных упражнений роскошного сластолюбца».
Замечательно по откровенности своей одиннадцатое письмо о выборе профессии. О манере письма, об остроумии и легкости языка могут дать понятие советы драгунского капитана Рубакина богатому купцу Плуторезу:
«...Если ты хочешь, чтоб сын твой был полезнее своему отечеству, то я советую тебе записать его в военную службу. Вообрази себе, какое это прекрасное состояние... Военному человеку нет ничего непозволенного: он пьет для того, чтоб быть храбрым; переменяет любовниц, чтобы не быть ничьим пленником; играет для того, чтобы привыкнуть к непостоянству счастия, толь сродному на войне; обманывает, чтобы приучить свой дух к военным хитростям, а притом и участь его ему совершенно известна, ибо состоит только в двух словах: чтоб убивать своего неприятеля или быть самому от оного убиту; где он бьет, то там нет для него ничего священного, потому что он должен заставлять себя бояться; если же его бьют, то ему стоит оборотить спину и иметь хорошую лошадь; словом, военному человеку нужен больше лоб, нежели мозг, а иногда больше нужны ноги, нежели руки...»
В свою очередь, судья Тихокрадов уговаривает Плутореза пустить сына по статской, доказывая, что не только военный человек может иметь такую волю, чтоб без малейшего нарушения права присваивать себе вещи, никогда ему не принадлежавшие, но в большей степени это свойственно статским людям. Тем более, что для этого не придется далеко отлучаться от дому и подвергаться опасностям, каким подвергается воин. Чиновник, по мнению Тихокрадова, «может ежедневно обогащать себя и присваивать вещи с собственного согласия их хозяев, которые за немалое еще удовольствие себе поставляют служить оными... Сверх того, статский человек может производить торг... как и купец, с тою токмо разницею, что один продает свои товары по известным ценам на аршины или на фунты, а другой измеряет продажное правосудие собственным своим размером и продает его, сообразуясь со стечением обстоятельств...»
Правосудию доставалось в «Почте духов» весьма крепко. Крылов писал о том, что хорошо было ему известно из чиновничьей практики; зная истинную цену «неподкупным судьям» и «справедливым» их решениям, он делал резкий вывод: «сколько здесь ни обширны фабрики правосудия, но почти на всех обрабатывается оное довольно дурно» (письмо XII).
Крылов едко писал о распущенности нравов в высшем свете, о лживости, подлости, вероломстве, разврате, неуважении к женщине. Он не обходил вниманием ни одного острого вопроса современности. Со знанием дела он говорил об уродливой экономической политике, об иностранном товарном засилье, о растущей дороговизне, о темноте и просвещении, о французских философах, о театрах и литературе, о назначении и роли писателя в обществе.
Нельзя не поражаться зрелости рассуждений, широкой начитанности, ясности и независимости мысли двадцатилетнего Крылова.
Писал он обо всем этом не с чужих слов. Его талант, остроумие открыли ему доступ во многие дома петербургских аристократов, и Крылов с любопытством изучал нравы их хозяев.
Больше всего его возмущали праздность и роскошь, оплачиваемая подневольным трудом крепостных, корыстолюбие и взяточничество сановников, дворянский произвол и безнаказанность. В одном из писем «Почты духов» (письмо XXXVII) он заявлял:
«Мещанин добродетельный и честный крестьянин... для меня во сто раз драгоценнее дворянина, счисляющего в своем роде до 30 дворянских колен, но не имеющего никаких достоинств, кроме того счастья, что родился от благородных родителей, которые также, может быть, не более его принесли пользы своему отечеству, как только умножали число бесплодных ветвей своего родословного дерева».
Сановники, вельможи, придворные — постоянная мишень, в которую Крылов метал острые стрелы своей сатиры. С яростью обрушивался он на бездельников и праздных, бесполезных людей, утверждая, что «ничего не может быть гнуснее праздности; она часто бывает источником всех пороков и причиною величайших злодеяний» (письмо XXIX).
По настроению, стилю и характеру отдельных выражении некоторые письма «Почты духов» очень похожи на сочинения Радищева. Поэтому исследователи долгое время приписывали ему авторство этих писем. Но никаких доказательств участия Радищева в «Почте духов» нет. Сходство же мыслей вполне естественно: ведь Радищев, Крылов и еще ранее Новиков, выступая со своими произведениями, выражали отнюдь не только свои настроения, а убеждения народа и передовых людей тогдашнего общества.
Год издания «Почты духов» был грозным годом для коронованных властителей Европы. Во Франции бушевала буря революции. Грозные ее раскаты доносились до берегов Невы и Москва-реки. Известия из Парижа приводили Екатерину II в смятение. Тогдашние газеты с большим опозданием скупо и глухо сообщали об «ужасах» в столице Франции.
Екатерине II чудились бунты, восстания, заговоры. Сама она захватила трон путем тайного заговора; пламя, зажженное Пугачевым, еще не погасло на окраинах империи; крепостные снова были готовы поднять восстание. Екатерина боялась зачинщиков, заговорщиков, умников. О Новикове она уже говорила всердцах: «C'est un fanatique»[13]. Бурная деятельность «фанатика» тревожила императрицу. За Новиковым следили во все глаза. Храповицкий, занимавшийся делами культуры, пытался «подловить» Новикова на противозаконных действиях. Екатерина готова была подписать указ об его аресте, но не решалась, боясь возбудить против себя недовольство просвещенного общества. Немногие пользовались таким авторитетом, как всеми уважаемый книгоиздатель-просветитель Новиков.
Крылов вряд ли ее тревожил. «Почта духов» имела малое распространение. И все же издателям дали понять, что духам, гномам и сильфам следует изменить тон своих писаний. Друзья волшебника Маликульмулька стали сдержанней, обратили свое внимание на менее острые явления жизни: на модников и модниц, на иностранных мошенников и неучей. Время от времени духи отвешивали почтительные поклоны Екатерине II, ее мудрости, умению править народами, вести войны. Так, в сатирическом письме (ХLIХ) о театре, о Соймонове и Княжнине гном Зор пишет «об одной державе», в которой
Однако в следующем письме от сильфа Выспрепара автор как бы восстанавливал попранную истину. Выспрепар описывает встречу молодого государя, только что взошедшего на престол, со своими вельможами, собравшимися «для поздравления или, лучше сказать, для гнусного ласкательства». Сильф с возмущением рассказывает о раболепии вельмож, о неискренних стихотворцах, подносивших государю хвалебные оды и сравнивавших его с божеством, о пресмыкательстве придворных и т. д. И в то самое время, «когда вельможи разглагольствовали с государем и когда весь народ питался безумною утехою (ибо им возвещено было о возвращении златого века, которого никогда не бывало)... некто продирался сквозь толпу сего народа...»
Это был опасный, страшный, ужасный человек. Его не пускали к государю; Однако «насилие, делаемое многими против одного человека, произвело некоторый шум», и молодой государь приказал страже пропустить его.
И вот человек — это был бедняк-писатель — стоит перед владыкой и смело говорит ему, что «чрезмерная похвала, а притом и без всяких еще заслуг, повреждает доброту природных склонностей... ибо... те государи, кои наиболее в жизни их превозносимы были похвалами, не были от того лучшими», что молодой монарх не перестал еще быть человеком и что «если государи не любят истины, то и сама истина, с своей стороны, не более к ним благосклонна. Она их не ненавидит, но страшится...»
«Есть, однакож, такие примеры, — продолжал Крылов, ибо это он себя выводил в этом искателе истины, — что она и коронованных глав имела своими любимцами, и буде слава могла бы быть наследственною, то я мог бы назвать тебе некоторых из твоих предков, к которым она оказывала немалое уважение... Но заслуги предков никому -не придают знаменитости...»
Это постоянная и настойчивая мысль Крылова: человек славен не заслугами предков, а собственными трудами и достоинствами. Истина живет не во дворцах царей и вельмож, а в бедных хижинах мудрецов. Крылов понимал, что его писания задевали сильных мира, раздражали их, и это могло кончиться для него очень печально. Еще в XXXIV письме он откровенно признавался: «Государь имеет тысячи способов усмирять неугомонных мудрецов и в случае нужды сбывать их с рук».
За одну эту фразу молодого мудреца могли «сбыть с рук», как сбывали многих. Он знал и помнил совет Новикова не разлучаться с Осторожностью на скользком авторском пути, но не мог выполнить этого совета. Он еще не умел наступать на горло своему возмущению.
Летом 1790 года появилась книга безвестного автора. Называлась она «Путешествие из Петербурга в Москву». Одной из первых ее прочла Екатерина. Она не спала всю ночь. Безвестный автор призывал угнетенных подняться против угнетателей. Карандаш в руках Екатерины то и дело подчеркивал крамольные строчки. Первые тридцать страниц, были измараны пометками, восклицательными знаками, негодующими фразами. Императрице мерещились новые Пугачевы, дворянские заговоры, призраки виселиц, и тонкая серебряная полоска рассвета над взморьем казалась воспаленному воображению царицы острым лезвием только что изобретенной гильотины.
Утром грянула гроза. Несчастный цензор, давший разрешение выпустить книгу, валялся в ногах у царицы, вымаливая прощение за недосмотр. Он подписал разрешение, успокоенный безмятежным названием сочинения. Начался сыск. Книгу изъяли из продажи. Автора нашли. Это был Радищев. Заключенный в Петропавловскую крепость, он ожидал приговора.
Крылов читал «Путешествие». Это была правдивая, резкая и печальная книга о стране бесправия, деспотизма, крепостничества. Правда книги звучала, как призыв к восстанию. Крылов мог удивляться мужеству Радищева, его смелости, но вряд ли одобрял его действия. Чего хотел Радищев? Бунта? Революции? Радищев, должно быть, не знал, что такое восстание. А он, Крылов, помнил Пугачева, пожары, кровь, вопли и стоны. Кто придет к власти? Народ? Нет. Неграмотный, темный, забитый, он будет обманут хитрыми аристократами. Книга Радищева была сожжена. По рукам разошлось не более ста экземпляров книги, да и эти проданные книги спешно изымались; немногие узнали о ней и об ее авторе.
Рахманинов, напуганный историей с Радищевым, решил прекратить издательскую деятельность. У Крылова не было средств продолжать ее. Последнее письмо «Почты духов» — как бы итог раздумий молодого Крылова.
«Вся история дел человеческих, от самого начала света, наполнена злодеяниями, изменами, похищениями, войнами и смертоубийствами», писал Крылов в последнем письме. Большая часть людей, по его мнению, злобна и развращена. Однако род человеческий мыслимо исправить. Людям надо помочь. Не угрозами и карами наказаний, не длинными благочестивыми речами, а внедрением в сознание людей нравоучительных правил.
Уже в первых, незрелых своих произведениях Крылов писал об учительном, воспитательном значении литературы. Эта идея становится теперь его убеждением: писатель — это учитель и воспитатель народа.
И в последнем письме от имени волшебника Маликульмулька Крылов излагает свои затаенные мысли о нравоучительной литературе. «Нравоучительные правила должны состоять не в пышных и высокопарных выражениях, а чтоб в коротких словах изъяснена была самая истина. Люди часто впадают в пороки и заблуждения не от того, чтоб не знали главнейших правил, по которым должны они располагать спои поступки, но от того, что они их позабывают; а для сего-то и надлежало бы поставлять в число благотворителей рода человеческого того, кто главнейшие правила добродетельных поступков предлагает в коротких выражениях, дабы оные глубже впечатлевались в памяти».
Друзья предупредили Крылова, что собираются тучи, и молнии поразят, очевидно, не одного только Радищева. Крылов решил не ссориться с правительством, а сохранить с ним добрые отношения. Он написал, пользуясь удобным случаем, «Оду на заключение мира с Швецией», издал ее на собственные средства и «всеподданнейше», как было напечатано в посвящении этой оды, поднес императрице Екатерине.
Если не знать, кто таков Крылов, не знать той эпохи, то стихи его можно принять за произведение льстивого придворного пиита. Но эта ода особенная. Крылов остается самим собой. Он играет с огнем, повторяя, по существу, то же, что проделал когда-то с открытым письмом Княжнину. Но Крылов уже не мальчик, он действует теперь почти наверняка.
И по характеру своему и по торжественности стиля ода похожа на державинскую «Фелицу». Но времена блеска и пышности екатерининского царствования, когда писалась «Фелица», миновали. Знаменитый «Наказ», которым Екатерина хвасталась перед вольнодумными французскими философами, был спрятан и не выдавался даже для «прочтения»[14]. Фавориты стареющей Клеопатры становились еще более алчными и ненасытными. Голодные крестьяне стонали под крепостным ярмом. Взяточничество пронизывало страну произвола и бесправия. В Академии наук сидели невежды. Писательский зуд императрицы исчез; она занималась теперь не сочинением комедий, а чтением тайных писем— доносов, страшась заговоров и покушений.
А одописец Крылов «прославлял» Екатерину —хранительницу дарованных ею русскому народу свободных законов, славил благоденствующую под державной рукой матушки-царицы счастливую страну.
Это были издевательские стихи. Совсем недавно Крылов в одном из писем «Почты духов» сам давал рецепты изготовления подобных беспроигрышных од, ни к одному слову которых нельзя было бы придраться.
И все же Крылов опасался, что его могут притянуть к ответу. Но он меньше боялся за себя, чем за братца Левушку. Что будет с мальчиком, если с его «тятенькой» стрясется беда? Левушку надобно было оградить от превратной писательской судьбы старшего брата и поскорей пристроить к месту.
В непомерной скромности, застенчивости Левушки он узнавал черты покойного Андрея Прохоровича. Расшевелить Левушку, разжечь в нем честолюбие, желание стать первым среди товарищей, уметь постоять за себя было невозможно.
После смерти матери Крылов проводил с братом долгие часы: занимался с ним французским языком, слушал и направлял его нетвердую игру на скрипке и все больше убеждался, что братец «пороху не выдумает». Андрей Прохорович продолжал свою жизнь в младшем сыне.
Штатская служба была бы гибелью Для Левушки. Он не пошел бы дальше мелкого чиновника. Единственно правильным выходом была гвардия, куда мальчик был записан. Там через несколько лет он должен был стать офицером, — так судьба его устраивалась сама собой. И Левушка ушел в гвардию.
Расставшись с братом, Крылов остался один. Он был умудрен жизненным опытом. Уже можно было подвести кое-какие итоги. Их нельзя было назвать утешительными. Мечты юности понемногу разрушались. Счастья не было. Он жил одиноким и готов был примириться с этим. Его томило и тревожило иное.
Со страхом и тоской следил он за бегущим временем. Быть может, он уже прожил большую половину своей жизни — и он еще ничего не сделал. Неужели и ему суждено прожить так же бесполезно и неприметно, как отцу, как сотням тысяч и миллионам других людей?
В эту пору Крылову шел двадцать второй год.
ВЕСНА
После редкого счастья найти подругу, которая вполне подходила бы к нам, наименее несчастное состояние жизни — это, без сомнения, жизнь в одиночестве. Всякий, кому пришлось много выстрадать от людей, ищет уединения...
Сен Пьер, «Поль и Виргиния».
Его уже называли Иван Андреевич.
Остроумный, жизнерадостный и неистощимый на выдумку, он был желанным гостем во многих петербургский домах. Его любили молодые художники за безуко-ризненный вкус, любовь к изящному, уменье не только покритиковать работу, но и помочь дельным советом. Сам он рисовал порядочно и особенно любил гравюры— тонкие, четкие пейзажи и портреты. У него не было терпенья водиться с резцом, стальной иглой и медными досками, и он рисовал пером. Его работы пером, сделанные под гравюру, вводили художников в заблуждение.
Музыканты изумлялись его мастерской игре на скрипке. Он не любил выступать в одиночку, смущался и краснел. Но он готов был часами играть трио и квартеты в компании лучших столичных виртуозов. И музыку он ценил так же тонко и вдумчиво, как живопись.
У него была тайная страсть, но ею он ни с кем не делился, потому что над ним бы смеялись: он мог часами просиживать над сложными математическими задачами, геометрическими построениями. Математика прельщала Ивана Андреевича своей закономерностью, стройностью и непреложностью выводов. Если бы он весь отдался математике, то и в ней, пожалуй, стал бы не последним. Но отвлеченная наука, далекая от тревог и радостей жизни, не могла полностью поглотить кипучую его энергию. Он обращался к математическим формулам и функциям в дни неудач и неприятностей. Неудачи не покидали его, и потому он знал математику блестяще.
Но ни музыка, ни живопись, ни математика, ни литература, ни театр — ничто не удовлетворяло Крылова. Петербург стал его раздражать, одиночество угнетало. С легкой завистью глядел он на семейных товарищей. Иногда он стремился не туда, где было шумно и весело, а в городскую глушь, на окраины столицы. Он заболевал типичной петербургской болезнью — хандрой. Только пожары выводили его из этого тоскливого состояния. Он не пропускал ни одного крупного пожара и о каждом из них мог рассказывать с мельчайшими подробностями.
Один из светских знакомых предложил ему «проездиться на лоно природы», в Орловскую губернию. Иван Андреевич согласился не раздумывая. Поездка должна была рассеять его хандру.
Через две недели он уже забыл шумный город: вставал с зарей и засиживался допоздна в старинном помещичьем парке, глядя на звезды.
Он отдыхал в тишине Брянских лесов. Город казался ему «мрачным гробом, укрытым седой пылью... где языки одни речисты, где все добро на языке, где дружба — почерк на песке, где клятва — сокол в высоте, где нрав и сердце так же чисты (не в гнев то буди городских), как чист и легок воздух их...» Сейчас он любил деревню и ненавидел город, где
Петербургского гостя — поэта, музыканта, художника — гостеприимно встречали хлебосольные провинциалы. Здесь же он познакомился с молодым писателем-безбожником А. Клушиным. Клушин был родом из Твери; нашлись общие знакомые; оказалось, что они уже встречались прежде, но Крылов был моложе на шесть лет, а в детском возрасте эхо различие огромно. Клушин собирался уезжать в Петербург, мечтал работать в журналах, бороться с косностью, пропагандировать французских просветителей. Так в орловской глуши Иван Андреевич нежданно обрел друга.
Чаще всего ему приходилось бывать в семье Константиновых, дальних родственников Ломоносова. Он сдружился с младшей дочерью Константиновых — Анютой, или Анной Алексеевной, как почтительно называл поэт пятнадцатилетнюю девочку, проводил с нею долгие часы, рассказывал о жемчужных туманах и призрачных белых ночах Петербурга, писал стихи в ее альбом, сочинял веселые сказки, рисовал забавные картинки. Месяца через полтора Иван Андреевич понял, что жить без Анюты не сможет.
Он готов был бросить книги, театр, Петербург. Со всем пылом молодости отдался Крылов первому своему чувству. Девушка с нежностью относилась к большому, нескладному другу.
Через друзей Крылов попытался узнать, как отнеслись бы родители к его сватовству. Он ожидал, что его желания могут отодвинуться на какой-то срок, потому что Анна Алексеевна была еще молода. Он согласился бы ждать год, два, три. Но гостеприимные Константиновы были тщеславны, они гордились родством с Ломоносовым, в их роду были генералы, сановники. Нет, Анюта была не чета сыну какого-то безродного офицера, безвестному поэту и мелкому чиновнику.
Тогда Иван Андреевич решил объясниться с Анютой, хотя знал, что без воли родителей она и шагу не сделает, но ему надо было знать, есть ли у нее в сердце какое-то чувство к нему. Да, она уважала его, он был ей дорог, приятен... но выйти замуж, стать его женой? Ей-богу, об этом она никогда не думала.
Так Крылов узнал наконец то, чего не мог понять в детстве — горечь неразделенной любви.
В печально-веселых стихах «К другу моему» Крылов писал об этих днях его первой и последней любви:
Иван Андреевич сознавал, что если бы он был богат, то ему простили бы все его невольные грехи. Но богатства могло притти, если бы он вел себя по-иному, то есть если бы он забыл о том, что есть на свете честь, долг, дружба, если бы он пошел в услужение к тем, кого ненавидел. И спустя несколько лет он писал в послании к другу своему Клушину:
Он перестал бывать у Константиновых. Тишина Брянских лесов стала ему тягостна. Время от времени он посылал Анюте стихи, наивные, неумелые. Но в этих стихах сквозь неловкие строчки проглядывает настоящее, глубокое чувство. Перед отъездом он написал прощальную песню с печальным рефреном (припевом):
и никогда больше не встречался со своей Анютой.
Он возвращался домой в Петербург со смутным чувством тревоги, не зная, что его ждет и что он там будет делать.
Петербург был все тем же, только разговоры о Французской революции приобрели иной тон и окраску. Дворянство было напугано событиями во Франции.
В Петербург приехали очевидцы парижских «ужасов», и рассказы о том, как чернь вешала на фонарях аристократов, бросали дворян в дрожь. Правда, фонарей в Петербурге было тогда, пожалуй, меньше, чем дворян, но это, принимая во внимание находчивость и сметку русского народа, было слабым утешением.
Екатерина видела, что дворянство теснее сплачивается вокруг нее, однако она не доверяла этому временному успокоению. Императрица, которой нельзя было отказать ни в уме, ни в проницательности, решила изменить тактику защиты трона. Аресты и высылки вызывали, озлобление и слишком уж бурно волновали умы. А ведь во многих случаях можно было обойтись и без таких суровых мер, если во-время принять иные.
И время от времени императрица вызывала к себе «для дружеской беседы» смутьянов и инакомыслящих.
О них аккуратно доносили шпионы. Фальшивая ласка Екатерины многих вводила в заблуждение. Кое-кого из упрямых приходилось попугать, а вслед за тем улестить. Средств для этого было много: орденок, чин, деньги, мелкие поблажки — это льстило людям, меняло их, приводило к смирению. И самое главное — внешне все было тихо, благопристойно, как. в просвещенной стране.
Большой театр в Петербурге (рисунок с гравюры XVIII века).
Журналисты и писатели у императрицы числились на особом счету. За ними был строгий присмотр. Крылов знал об этом. Врагов, обиженных его острым пером, насчитывалось немало. Но ему все-таки не терпелось свести старые счеты с Соймоновым. Он ждал только удобного случая. И этот случай нашел новый друг — Клушин.
Он рассказал Крылову обычную для всех времен театральную историю: знатному барину понравилась хорошенькая артистка, и он добивался ее любви.
Этим знатным барином был всесильный граф Безбородко, артисткой — Лизанька Уранова, невеста молодого актера Сандунова. Уранова настойчиво отвергала лестные предложения графа стать его любовницей. Возмущенные «наглостью» актерки, театральные начальники Соймонов и Храповицкий решили помочь графу, убрав с дороги Сандунова. Они перевели его в труппу Московского театра, а Лизаньку оставили в Петербурге. Жених был в отчаянии.
Крылов вмешался в эту историю. Не прямо и не явно, а как бы со стороны. Теперь он был умнее.
На ближайшем спектакле, который посетила Екатерина, Сандунов, выступавший в последний раз перед отъездом в Москву в пьесе Дмитревского, прочел не известное дотоле стихотворение о бедном актере, у которого развратный вельможа пытается отнять невесту. Но есть на свете императрица и правда, и они не допустят торжества порока.
Стихи написали Клушин и Крылов. Замять скандал было немыслимо. Екатерина вызвала к себе в ложу Лизаньку Уранову. Девушка бросилась в ноги императрице, умоляя о заступничестве. Царица поступила, как добрая фея, — она обожала такие превращения. Все окончилось апофеозом — торжественной свадьбой Сандуновых. Соймонова и Храповицкого пришлось убрать.
Крылов торжествовал. Ему удалось устроить чужое счастье.
ЗРЕЛОСТЬ
...Быть может, что когда-нибудь
Мой дух опять остепенится;
Моя простынет жарка грудь—
И сердце будет тише биться,
И страсти мне дадут покой.
Зло так, как благо,—здесь не вечно:
Я успокоюся, конечно;
Но где?—под гробовой доской!
Крылов, «К другу моему».
Зимой 1791 года в компании с Дмитревским, Клушиным и Плавильщиковым Крылов открыл типографию на паях и при ней книжную лавку. Акт, составленный по сему случаю, носит пышное название «Законы, на которых основано заведение типографии и книжной лавки». Из этих «законов» явствует, что каждый пайщик должен был внести по 1 000 рублей и что каждый член компании — все они были писателями — обязывался свои сочинения «печатать не инде где, как в сей типографии, заплатя ту же самую плату, какая обыкновенно во всех типографиях берется с посторонних».
Сохранилась до наших дней и приходная книга крыловской компании. Из пожелтевших за полтораста лет записей видно, что Дмитревский и Плавильщиков своевременно внесли первый взнос по 250 рублей, Крылов — только 50 рублей, а через две недели поступил взнос от Клушина в размере 25 рублей. Через месяц Крылов внес еще 200 рублей, и значительно позже вложил 40 рублей Клушин. В сравнении с Дмитревским и Плавильщиковым они были бедняками. но типография все же называлась «Крылова с товарищи». По мысли организаторов она должна была продолжать дело Новикова.
С февраля 1792 года товарищи приступили к изданию нового журнала «Зритель». За год до этого начал выходить под редакцией Карамзина «Московский журнал». Москва, гордившаяся Новиковым с его «типографической компанией», и на этот раз перегнала новую столицу. К слову сказать, именно Новиков «открыл» Карамзина и помог ему войти в литературу.
«Зритель» уделял большое внимание театру. Но основная линия журнала была та же, что и «Почты духов». В программном обращении к читателю Крылов писал:
«Право писателя представлять порок во всей его гнусности, дабы всяк получил к нему отвращение, а добродетель во всей ее красоте, дабы пленить ею читателя...»
Памятуя свой опыт с Княжниным и то, что трудно описывать пороки, чтобы не раздались негодующие крики обиженных, издатель предупреждал, что он, «не дерзая нимало касаться личности», будет, как живописец, рисовать человека по всем правилам естества, и обещал «ничьего прямо лица» не изображать.
Первый номер «Зрителя» вышел не в начале года, а в феврале. Причиной этому были материальные и технические затруднения, но Крылов остроумно объяснил это вынужденное обстоятельство: «Ныне высокос, февраль именинник — вот причина, для чего и «Зритель» начинается с февраля!»
Если в «Почте духов» Крылов проявил недюжинным талант сатирика, то на страницах «Зрителя» читатель встретился уже с более зрелым и еще более язвительным и едким писателем.
Умное и острое перо Крылова современники сравнивали с бичом, которым сочинитель «преследовал самые раздражительные сословия». Стихи его были уже гораздо лучше первых стихотворных опытов, но их все же нельзя было поставить рядом с прозой. Совершенно очевидно, что поэзия давалась ему с трудом, хотя, по словам современника, он упорно на нее покушался.
В искрящейся остроумием статье «Мысли философа по моде или способ казаться разумным, не имея ни капли разума», Крылов писал:
«С самого начала, как станешь себя помнить, затверди, что ты благородный человек, что ты дворянин и, следственно, что ты родился только поедать тот хлеб, который посеют твои крестьяны, — словом, вообрази, что ты счастливый трутень, у коево не обгрызают крыльев, и что деды твои только для тово думали, чтобы доставить твоей голове право ничего не думать».
В этом же письме давались дельные советы молодому человеку, вступающему в свет:
«Умен говорить не думая... ты должен остерегаться, чтоб не сказать чево умного... Старайся, чтоб в словах твоих ни связи, ни смысла не было, чтоб разговор твой переменял в минуту по пяти предметов, чтоб брань, похвала, смех, сожаление, простои рассказ, — все бы это, смешанное почти вместе, пролегало мимо ушей, которые тебя слушают, и, наконец, чтоб ты, как барабан, оставлял по себе один приятный шум в ушах, не оставляя никакова смыслу. Молодой человек с такими дарованиями нужен в модном обществе, как литавр в оркестре, который один ничево не значит, но где должно сделать шум, там без нево обойтись неможно».
Особенным успехом пользовалась его «Похвальная речь в память моему дедушке...»
«Сколько ни бредят филозофы, что... все мы дети одного Адама, но благородной человек должен стыдиться такой филозофии, и если уж необходимо надобно, чтоб наши слуги происходили от Адама, го мы лучше согласимся признать нашим праотцем осла, нежели быть равного с ним происхождения», писал Крылов, продолжая развивать мысли Новикова в «Живописце» и «Трутне».
«Пусть кричат ученые, что вельможа и нищий имеют подобное тело, душу, страсти, слабости и добродетели. Если это правда, то это не вина благородных, но вина природы, что она производит их на свет так же, как и подлейших простолюдимов... это знак ее лености и нераченья... Если бы эта природа была существо, то бы ей очень было стыдно, что... не выдумала она ничево, чем бы отличился наш брат от мужика, и не прибавила нам ни одново пальца в знак нашево преимущества перед крестьянином».
Сатирик высмеивал беспутного крепостника-помещика, грабящего народ и проживающего в неделю то, «что две тысячи подвластных ему простолюдимов вырабатывают в год». Эта речь, представлявшая «порок во всей его гнусности», как будто бы не касалась личностей, что и было обещано Крыловым, но тысячи помещиков увидели в мастерском описании бездельника и тунеядца свой собственный портрет.
Крылов писал, что дедушка «имел дарование обедать в своих деревнях пышно и роскошно, когда казалось, что в них наблюдался величайший пост, и таким искусством делал гостям своим приятные нечаянности. Так, государи мои, часто бывало, когда приедем мы к нему в деревню обедать, то, видя всех крестьян его бледных, умирающих с голоду, страшимся сами умереть за ево столом голодной смертью; глядя на всякова из них, заключали мы, что на сто верст вокруг ево деревень нет ни корки хлеба, ни чахотной курицы. Но какое приятное удивление! Садясь за стол, находили мы богатство, которое, казалось, там было неизвестно, и изобилие, которого тени не было в его владениях. Искуснейшие из нас не постигали, что еще он мог содрать с своих крестьян, и мы принуждены были думать, что он из ничего созидал великолепные свои пиры».
Не меньшим остроумием и резкостью отличалась «Речь, говоренная повесою в собрании дураков», в которой Крылов под личиною повесы выступил от имени обиженных сатириком дураков-аристократов, обещая «переломать сильною рукою перья наших неприятелей». Эти слова прозвучали пророчески: над Крыловым нависли тучи. Но за короткое время молодой сатирик успел опубликовать два замечательных произведения: петербургскую сказку «Ночи» и восточную повесть «Каиб» — одно из сильнейших в остроумнейших произведений русской сатирической литературы.
В «Почте духов» Крылов осмеивал придворные нравы и екатерининских временщиков-фаворитов в лице римлянина Фурбиния[16]. В «Каибе» сатира окутана дымкой восточной сказки, пышными цветными одеждами аллегорий, но под визирями и эмирами легко угадывались вельможи и сановники, и ни для кого не могло быть тайной, что под именем Калифата Крылов рисует Россию.
В «Ночах» автор, беседуя с богиней, явившейся к нему в образе древней старушки, выслушивает ее советы писать так, «чтобы всякой улыбался, читая твои описания, иные бы краснели, но чтобы на тебя не сердился никто».
Автор понимал, что это превосходный, но, увы, неисполнимый совет, ибо «сатира есть камень, который невозможно бросить... в многолюдную толпу дураков... чтобы в кого не попасть».
И «Ночи» и «Каиб» были увесистыми камнями, которыми сатирик больно ушиб не только придворных аристократов, крепостников, одописцев, но, и своих литературных врагов. С ними Крылов сводил не личные счеты. Он выступал от имени народа, требуя от писателей правдивости, ясности, простоты, то есть того, что впоследствии получило имя реализма.
Крылов, по существу, был одним из первых, если не первым основоположником реализма в русской литературе, несмотря на то, что он писал аллегорические произведения, то есть выводил своих героев под иными личинами. У него был ясный ум, здравый смысл, свободное мышление, не отягощенное классовыми предрассудками. Он издевался над писателями и философами, проповедывавшими возврат к древней гармонии сословий и утверждавшими, что была некогда райская жизнь и какой-то мифический золотой век. Не раз в своих произведениях он разоблачал эту дикую легенду:
И в письме XXVII от сильфа Выспрепара Крылов писал о золотом веке, который, может быть, и наступил бы в каком-либо государстве, если бы там удалось найти двести честных судей.
Эти сказки о золотом века, о рае в шалаше, идиллические рассказы о счастливой жизни пастухов и пастушек, лживые басни о равенстве царя и подданного пришли на русскую землю с Запада вместе с конфетно-слащавыми картинками, изображавшими жизнь счастливых пейзан (крестьян) под пышными купами лесов и рощ. На определенном этапе русской истории, после упорного и тупого сопротивления бояр новшествам, которые вводил Петр I, началось запойное подражание Западу. Уже Новиков, а позже Фонвизин в своих произведениях нападали на модное французское воспитание, перенесенное на чуждую российскую почву. Многие аристократы считали неприличным одеваться по-русски, говорить по-русски и даже думать по-русски. С раннего возраста их дети попадали в руки иностранных гувернеров, и те прививали им .дурные привычки к роскоши, мотовству, расточительности. Плоды труда многомиллионной массы крепостных оседали в кассах модных лавок, откуда гувернеры и воспитатели, приводившие своих питомцев в магазины, получали проценты. Повальное увлечение иностранщиной, «чужебесие» тревожили даже Екатерину II, иностранку по происхождению. Эту тревогу настойчиво вселял в сознание царицы в то время уважаемый ею Новиков. Он прилагал все усилия, чтобы заставить ее воздействовать на аристократов, ослепленных внешним блеском западной культуры и забывающих чувство национального достоинства. Под мягким, но настойчивым влиянием Новикова Екатерина, мнившая себя писательницей и называвшая себя скромной ученицей французского философа-вольнодумца Вольтера, принялась за сочинение наивных комедий. Написанные скверным русским языком, который вежливо исправлял редактор и издатель Новиков, эти комедии осмеивали увлечение иностранными образцами. Новиков в своих журналах, Фонвизин в комедиях шли будто бы по тропе, проложенной писателем-венценосцем, хотя их мысли о национальном достоинстве и патриотизме были шире и глубже поверхностных идей Екатерины II. Крылов продолжал эту защиту национальных интересов.
Он восставал и против модных лавок, выкачивавших за границу огромные средства, и против иностранного воспитания, калечившего русских детей, и против увлечения писателей западными литературными модами, которые пересаживались на русскую почву так же, как был пересажен талантливым Карамзиным «сентиментализм».
Слезливый, выспренний и далекий от настоящей жизни стиль сентименталистов был органически чужд Крылову. Борьба за стиль, борьба с Карамзиным и его приверженцами, подвизавшимися главным образом в «Московском журнале», началась с первых же номеров «Зрителя».
В те годы Карамзин входил в славу. Только что была напечатана его повесть «Бедная Лиза»; читательницы плакали над ее страницами. Карамзину подражали молодые авторы. Вслед за «Бедной Лизой» появилась «Бедная Маша»[17], «Обольщенная Генриетта»[18], «Несчастная Маргарита»[19], «История бедной Марии»[20] и другие подобные же произведения.
Еще до выхода в свет «Бедной Лизы» Крылов, борясь с Карамзиным и его последователями, выдвинул, как полемическое орудие, сатиру-пародию. Эта пародия нашла себе место в «Каибе» — в описании путешествия калифа по своей стране.
Великий калиф Каиб с раннего детства мечтал поглядеть на жизнь своих подданных. Особенно интересовали его сельские жители. «Давно уже... желал он полюбоваться золотым веком, царствующим в деревнях, давно желал быть свидетелем нежности пастушков и пастушек. Любя своих поселян, всегда с восхищением читал он в идиллиях, какую блаженную ведут они жизнь, и часто говаривал: «Если бы я не был калифом, то хотел бы быть пастушком».
После долгих поисков «счастливого смертного, который наслаждается при своем стаде золотым веком, он увидел рассеянное по полю стадо и стал искать «ручейка, зная, что пастушку так же мил чистый источник, как волоките счастия передние знатных. И действительно, прошед несколько далее, увидел он на берегу речки запачканное творение, загорелое от солнца, заметанное грязью. Калиф было усомнился, человек ли это; но, по босым ногам и по бороде, скоро в том уверился. Вид его был столь же глуп, сколь прибор его беден.
«Скажи, мой друг», спрашивал его калиф: «где здесь счастливый пастух этова стада?»
— Это я, — отвечало творение и в то же время размачивало в ручейке черствую корку хлеба, чтобы легче было ее разжевать.
«Ты пастух!» вскричал с удивлением Каиб: «О, ты должен прекрасно играть на свирели!»
— Может быть, но голодный не охотник я до песен.
«По крайней мере, у тебя есть пастушка: любовь утешает вас в вашем бедном состоянии. Но я дивлюсь, для чего пастушка твоя не с тобою?»
— Она поехала в город с возом дров и с последнею курицей, чтобы, продав их, было чем одеться и не замерзнуть зимою...
«Признаюсь, что я много верил эклогам и идиллиям... — сказал калиф. — Поэты обходятся с людьми, как живописец с холстиною. Но такую гадкую холстину, — продолжал он, смотря на пастуха, — такую негодную холстину разрисовать так пышно!.. Это, право, безбожно. О! теперь-то даю я сам себе слово, что никогда по описанию моих стихотворцев не стану судить о счастье моих любезных музульман». — И калиф пошел далее».
В небольшом этом отрывке, пародирующем слащавые описания сельской жизни карамзинистами, Крылов высмеивал и стиль модной школы и ее нежизненность. Однако издевательский «Каиб» был неприятен не только представителям сентиментализма. В основном восточная повесть Крылова рассказывала о бедственном положении «музульман» (читай, крестьян и иных низших сословий на Руси) под властью эмиров и визирей, действовавших от имени калифа (читай, вельмож и прочих сановников, ставленников Екатерины II).
«Каиб» разоблачал произвол и деспотизм неограниченного монарха.
Этого было достаточно, чтобы за Крыловым установили усиленный надзор. Екатерине донесли, что зловредный автор написал новое произведение «Мои горячки», а друг его Клушки сочинил какую-то поэму «Горлицы», в которой якобы одобрительно отозвался о Французской революции.
Обыск в типографии и книжной лавке «Крылова с товарищи» был учинен «со всею прилежностью», как доносил петербургский губернатор Коновницын графу П. Зубову весной 1792 года, «но вредных сочинений не нашлось». Допросили актеров-компаньонов Дмитревского и Плавильщикова. Те под присягой свидетельствовали, что ничего запретного их типография не печатала. Отставной провинциальный секретарь Крылов объяснял, что «Мои горячки» писаны им года два назад без всякого умысла, по одной склонности к сочинениям, но сочинения этого он еще не кончил, никогда его не печатал и прямого намерения к тому не имел. Частному приставу удалось получить несколько разрозненных глав крамольного сочинения. Поэмы Клушина «Горлицы» не оказалось. Клушин убеждал пристава, что о горлицах он писал также «без всякого намерения, что и Плавильщиков подтвердил при господине обер-полицеймейстере».
Авторы вывертывались, как могли. Но Екатерина, очевидно, не собиралась чинить им больших неприятностей. Полицейский доклад заканчивался знаменательными словами: «Дальнейшее исследование до Высочайшего благоусмотрения остановил, дабы не последовало и малейшей обиды или притеснения, как о том мне предписать изволили».
Екатерина продолжала свою хитрую политику, полагая, что Крылова и Клушина удастся «прибрать к рукам» и обезвредить.
Перепуганные Дмитревский и Плавильщиков отстранились от неспокойного издательского дела. Они не хотели ссориться с правительством. Время было слишком тревожное. Частные типографии закрывались.
В типографию «Крылова с товарищи» время от времени наведывались полицейские чины. Один из них спустя много лет рассказывал журналисту Гречу о том, как он хитро прикрыл свою разведку «желанием узнать, как вообще печатаются книги».
Екатерина выяснила, что Крылов ни с какой организацией не связан, а это было самое главное.
С точки зрения царицы это был мелкий, смутьян, и только. Его можно было приструнить, пригрозить ему, но не применять особых репрессий.
Положение в стране стало серьезный. Это чувствовалось всеми. Реакционное дворянство било тревогу. Отстраненного от издательских дел Новикова — в последние годы он издавал газету «Московские ведомости» — посадили в Шлиссельбургскую крепость. Книги, изданные «типографической компанией», сжигались полицией. И журнал «Зритель» превратился в опасное предприятие, хотя он и не пользовался успехом у публики. Журнал дышал на ладан. Дохода от издания не было. Материальные дела издателей расстроились. Типография почти не приносила прибыли. Книжная лавка также не оправдала надежд.
В конце года у Крылова снова были неприятности с полицией. Карамзин в письме к своему другу баснописцу Дмитриеву спрашивал: «Мне сказывали, что издателей «Зрителя» брали под караул: правда ли это? и за что?»
Сейчас трудно определить, за что, так как рукопись повести Крылова исчезла. Екатерина потребовала немедленно представить ей «Женщину в цепях», как называлось новое произведение Ивана Андреевича. Испачканные наборщиками, в свинцовых пятнах, листы были отправлены во дворец. «Рукопись не воротилась назад, да так и пропала», вспоминал Крылов спустя полвека.
Но никого из издателей не брали под караул. Им разрешили продолжать издательскую деятельность. «Зритель», однако, закрылся. Вместо него начал выходить «Санкт-Петербургский Меркурий».
Это был уже благонамеренный и благовоспитанный журнал. Сатира исчезла. В списке сотрудников появились фамилии дворянских писателей-аристократов — Горчакова, Карабанова, Мартынова, В. Пушкина[21]. Яркие, острые вещи не печатались.
Для Крылова такая бездейственная жизнь — напрасная трата времени. И он пишет «Похвальную речь науке убивать время» — произведение, по внешнему виду совершенно невинное:
«...Какой великий предмет для благородного человека! Убивать то, что всё убивает! Преодолевать то, чему ничто противустоять не может!»
«...Первой способ убивать время есть тот, чтобы ничего не делать или спать, но, к несчастию, человек не может быть столь совершен, чтобы проспать шестьдесят лет, не растворяя глаз и не сходя с постели». И далее он, как заправский оратор, перечисляет аристократические способы убийства времени, призывая к тому, чтобы люди ничего не читали, ни о чем не думали, ничем не тревожились.
Блестящая концовка речи стоит того, чтобы ее привести целиком:
«Соединим же нашу ревность, милостивые государи! Год уже наступил... время наваливается на наши руки — но ободритесь, — остерегайтесь мыслить, остерегайтесь делать, и год сей будет служить нам оселком, над которым наука убивать время покажет новые опыты, достойные нашего просвещения».
Со времени издания «Санкт-Петербургского Меркурия» Крылов ведет тонкую игру — пишет как бы всерьез вещи, над которыми вчера еще издевался бы. Недавно в «Каибе» он поносил выспренний стиль карамзинистов, а сейчас публикует (правда, не свои, а «переводные с италианского») такие произведения, будто он задался целью подражать Карамзину: «...Приходит служительница в разодранном рубище, лицо ее покрыто смертной бледностию, русые власы, растрепавшись, лежали в беспорядке на раменах ее... Сия вернейшая раба упадает подле юноши... юноши невинного и, добродетельного» и т. д.
Что это? Крылов? Перевод с итальянского? Крылов идет на поклон к сентименталистам, выворачивается, изменяет своим идеалам? Нет, это издевка, пародия.
Да и существовал ли когда-нибудь оригинал этого перевода? Но обратите внимание, как подписан этот «перевод». «Нави Волырк». Выверните странную фамилию наизнанку, прочтите ее наоборот, и вам станет понятна затаенная мысль писателя.
И все же Крылов тревожит правительство. Хотя за издателями и следят, но лучше, если печатать журнальные листы будут не на отлете, а под недреманным оком. Издание переносится в недра Академии наук, и «в помощь» редакторам прикрепляют И. И. Мартынова, будущего директора департамента народного просвещения.
Крылов отстранился от журналистики. Последнее произведение его коротенькая ода «На случай фейерверка» — написано им по поводу салюта, данного в Петербурге 15 сентября 1792 года в честь окончания войны с Турцией.
По форме ода слаба — этот жанр был вообще чужд Крылову. В оде он восхвалял Россию, русский народ — великих и бесстрашных россов. Имя Екатерины было пристегнуто кое-как, — без него ведь нельзя было обойтись,
Крылову трудно было уложить свои мысли и страсти, свою злость и негодование в рифмованные строчки. В прозе же он уже чувствовал себя не подмастерьем, а подлинным мастером, хозяином, у которого слово стояло весомо, точно и направленно.
Но именно проза могла погубить Крылова. Для него было ясно: Крылова-прозаика уберут с дороги, Крылова-поэта будут терпеть, ибо он пока никаких опасностей как поэт не представляет. И он сам решил отложить в сторону свое разящее оружие — сатирическую прозу.
Накануне этого решения он был вызван во дворец: Екатерина II возымела желание побеседовать с литератором. Позже вызвали Клушина. Екатерина разговаривала с ним, как и с Крыловым, наедине.
О чем был разговор — история не сохранила документов. Можно судить о нем только по его следствиям.
Много лет спустя реакционный журналист Булгарин, сюсюкая, вспоминал: «Великая приняла ласково молодого писателя, поощрила к дальнейшим занятиям литературой»[22].
В результате «поощрения» Крылов понял, что принятое им решение правильно.
Клушин сдался. Императрица посоветовала ему продолжать образование, предложила послать его за границу в Геттингенский университет, приказала выдать способному молодому человеку 1 500 рублей. В последнюю книжку «Меркурия» он передал Мартынову льстивую, пресмыкательскую оду Екатерине.
Крылов не продавался. И, повидимому, опасаясь, как бы его не упрятали под замок, решил сам отправиться в добровольную ссылку.
Это решение было принято им с горечью. Он оглядел прожитую жизнь, полную унижении, обид и горя. Одно поражение следовало за другим. Он крепился, не падал духом. Но обстоятельства были сильнее его. Когда-то ему казалось, что желанием можно достигнуть всего. И вот теперь он подводил короткий итог — полное крушение всех надежд.
Он никогда не поддавался слабости. Слезами горю не поможешь. В последний раз они катились по его щекам в день смерти любимой маменьки. Но сейчас он не мог удержаться и плакал, как ребенок. Он оплакивал себя, рухнувшие свои надежды и свои мечты, которые остались только мечтами.
Так, на двадцать шестом году жизни—довольно обычный срок для передового русского писателя тех времен — умолк голос молодого сатирика, и с литературной арены сошел посредственный поэт и замечательный прозаик, зачинатель реализма, Крылов Иван Андреевич.
2
ГОДЫ СКИТАНИЙ
О, странное судеб веленье,
Чудесный счастья оборот.
Невинный страждет в утесненьи,
Злодей безбедственно живет.
В. Попугаев, «Судьба», 1801 год.
Крылов исчез.
Быть может, он продолжал существовать даже в самом Петербурге. Но это был уже не блестящий писатель, журналист, участник литературных салонов, друг художников и музыкантов. Это был добровольный изгнанник, расставшийся с мечтами молодости.
И с этой полосой его жизни перекликаются скорбные строки восемьдесят седьмого псалма, переложенного Крыловым в стихи:
Он не представлял себе, сколько лет продлится добровольная его ссылка, не знал, где ее проведет. Кто-то из его друзей предложил ему пойти в армию. Он согласился. Его записали подпоручиком. Старые мечты о славе пришли к нему снова: «Кричу нередко сгоряча, и шлем и латы надеваю, в сраженьях мыслию летаю... и армии рублю сплеча...» Но это было не всерьез. Ведь в армии человек всегда на виду, а ему нужно было уйти с глаз, скрыться, создать какую-то иную жизнь. Мир широк, и в нем ему найдется место. Он переждет ненастье. Ведь не может же оно длиться вечно! После долгой ночи приходит солнце, и после суровой зимы всегда наступает весна.
Крылов был оптимистом. Он с улыбкой вспомнил недавний свой совет читателям «Почты духов»:
«Дабы получить успех в изучении мудрости, надлежит лучше быть зрителем, а не действующим лицом в тех комедиях, которые играются на земле...»
В конце концов, почему ему самому не воспользоваться этим советом?
В нем заговорил драматург. Предположим, что именно так он и поступит. Он будет жить, смотреть на мир, учиться. Нужно выучиться жить. Ведь это самая сложная в мире наука. И опыт показал, что в ней он совсем не силен.
Крылов не учел только одного: драматург — всегда актер, иначе нельзя быть хорошим драматургом. И неприметно для себя он стал играть роль «зрителя».
Это была школа жизни. Тысячи чужих судеб проходили перед его глазами. Он переезжал с места на место: Москва, Ярославль, Нижний-Новгород, Петербург, Москва, Тула, Тамбов, Саратов, Киев, Москва. Он ездил со случайными попутчиками, друзьями, товарищами, которые рады были залучить к себе в гости интересного собеседника. Он старался выдержать характер и не прикасался к перу, хотя оно тянуло его к себе, как магнит.
Время летело. Иван Андреевич старался не замечать этого, чтобы не огорчаться. Года через полтора после начала добровольной своей ссылки он попал в Москву. Древний русский город был дорог и близок Крылову. Здесь он чувствовал себя в стане русских. Правда, и в Москве «чужебесие» давало себя знать, но рядом с московской стариной, щами, пирогами, кулебяками и расстегаями, рядом с малиновым звоном «сорока сороков», тройками и родным московским говором оно казалось смешным и непрочным, как пудра на париках.
Он сдружился с семьей помещиков Бенкендорфов.
В их доме собирались художники. Иван Андреевич вспомнил недавнюю старину — ведь и он когда-то рисовал. Е. И. Бенкендорф попросила его сделать ей рисунок на память. Он долго отнекивался. Потом выбрал сюжет — Екатерину. Тонким пером рисовал он портрет, пожалуй, самого ненавистного ему человека. Портрету не везло: то его заливали чернила, случайно опрокинутые Крыловым, то по небрежности засовывали куда-то в старый бумажный хлам. Наконец рисунок был готов и отправлен вместе со стихами, в которых светские комплименты оригиналу портрета заканчивались невинными строчками:
Роль копеечной свечки в данном случае играл портрет царицы.
Перо уже было в руке Крылова. Он по инерции продолжал писать. Как раз в это время Карамзин и Дмитриев решили открыть «сцену для русских стихотворцев, где бы они могли без стыда показываться публике». Этой сценой должен был явиться новый альманах «Аониды»[23]. Карамзин хотел собрать в своем альманахе все талантливое, чем была богата Россия, и литературных друзей и врагов. Крылов, конечно, не мог остаться в стороне.
Памятуя свой зарок, Иван Андреевич передал в альманах безобидные стихи: вольное переложение одного из псалмов — «Оду к богу» и «Вечер» — последнюю дань любви к Анюте.
Оба стихотворения были подписаны не полным именем автора, а тремя буквами — «И. К—в». Изменятся обстоятельства, тогда снова появится и «Крылов».
И обстоятельства внезапно изменились: умерла Екатерина II, и на престол русских царей взошел Павел I.
Ненавидевший до бешенства свою мать, искалеченный воспитанием, подозрительный, злобный и временами сумасшедший, способный на дикие выходки, Павел I в первые месяцы своего царствования упоенно уничтожал все, что было дорого Екатерине. Со злорадством он расправлялся с многочисленным сонмом ее фаворитов и утеснял их всячески. Он вернул свободу Радищеву и Новикову, отменил екатерининские порядки при дворце. Многие воспрянули духом. Казалось, пришла наконец пора перемены.
Это, однако, была ложная надежда.
Ею, впрочем, обольстился и Крылов. Он вернулся в Петербург, где продолжала еще работать типография под старой маркой «Крылов с товарищи» Товарищей, правда, уже не было. Иван Андреевич, умудренный опытом, решил не ввязываться в каверзное издательское дело. Он прожил в Петербурге недолго, почти ежедневно встречаясь с братом. Левушку от- у числили из гвардии. Он пришелся не ко двору. Товарищи потешались над ним, называли его «сивым старцем». Отчислили его так же, как когда-то Андрея Прохоровича, — за бедность, за неспособность содержать себя, как подобает гвардейскому офицеру. Но Левушка был рад, что уходит из гвардии, от каждодневной опасности встретиться с царем и навлечь на себя беспричинный гнев. Он уже мечтал о том счастливом времени, когда приедет в Орловский мушкетерский полк, куда Левушка получил назначение.
Иван Андреевич с жалостью глядел на братца. Нет, это было удивительно! До чего же он походил на отца.
Быть может, Левушка был прав. Подальше от столицы, подальше от греха. О самодурстве императора уже начинали ходить легенды. Крылов никогда не видел Павла I и однажды вечером столкнулся с ним на Дворцовой площади. Разговор был дик и короток; очевидно, Павел принял Ивана Андреевича за кого-то другого и справился о его здоровье. Крылов поблагодарил. Павел просил заходить к нему не стесняясь. Позже он узнал, что Крылова обижала Екатерина. Значит, он ей был враг, а ему, следовательно, друг. Крылов решил воспользоваться приглашением. Он пришел во дворец. Его приняла императрица Мария Федоровна. Павел уже вряд ли о нем помнил. Он был забывчив, и его одолевали заботы: преклонявшийся перед прусскими порядками, он торопился их насаждать в армии, во дворце, в учреждениях. Недавнее французское засилье сменялось немецким.
Боясь восстаний, Павел запретил читать крамольные книги и говорить о революции во Франции. Частные типографии закрывались, ввоз иностранных книг прекратился. Спустя несколько месяцев дышать в России стало труднее, чем при Екатерине.
Крылов исчез снова. Он побывал в Саратовской губернии у князя Голицына, гостил в Киевской губернии у князя Лопухина, появлялся не надолго в Москве в домах местной знати — богача поэта Карина, графа Татищева, Яковлева (отца Герцена).
В те времена провинциальные помещики изнывали от скуки в своих поместьях и всегда были рады нежданным гостям. Из одной губернии в другую ездили помещики гостить к родственникам, приятелям, друзьям. Крылов продолжал кочевую, бездомную жизнь. Он старался нигде не засиживаться долго, чтобы не попасть в разряд приживальщиков, — это был особый тип людей того времени, несчастных, неудачливых, прогоревших Дворян; они подолгу жили у своих милостивцев-благодетелей и приживались к их семьям, как приживаются кошки или собаки.
Крылов гостил у своих петербургских и московских знакомых месяц, два, три и уезжал дальше, провожаемый возгласами огорченных хозяев, терявших обаятельного собеседника, выдумщика, остроумца, и искренними слезами помещичьей дворни, с которой Иван Андреевич находил близкий, родной язык, как равный с равными.
Для всех этих помещиков и вельмож Крылов был писателем, человеком разнообразных талантов. И время от времени он публиковал небольшие невинные статейки или переводы с иностранных языков. К французскому и итальянскому теперь прибавился немецкий; Иван Андреевич учил его походя.
Пожалуй, самой большой работой в эти годы скитаний был перевод либретто итальянской оперы «Сонный порошок, или похищенная крестьянка».
Он подписывался сейчас либо одной, либо двумя буквами, или же, когда ему надо было подчеркнуть особый смысл, он выворачивал сбою фамилию наизнанку. Только под невинным «Сонным порошком» стоит подпись: «Подпоручик И. Крылов».
Как некогда, в юности, он испытывал себя в различных литературных жанрах, так теперь Иван Андреевич хотел испытать различные жизни: он уже был чиновником, драматургом, писателем, художником, издателем, математиком, мудрым созерцателем жизни.
Из бесконечной вереницы людей Иван Андреевич пытался выбрать себе друга и товарища. Но найти друга нелегко было в такое смутное время, как царствование Павла. Крылов сблизился только с князем Голицыным. Это была не дружба, а только взаимная приязнь умных людей. Голицын тогда считался опальным. Но судьба сановника переменчива: она зависит от настроения царя. Внезапно опала была снята, и Голицын получил приказ немедля выехать к армии в Литву. Павел I вручал ему командование войсками. Крылов, не задумываясь, принял предложение князя отправиться вместе с ним на запад, з незнакомые края. Он уехал в роли личного секретаря командующего русскими войсками. Это было естественно: ведь Крылов числился подпоручиком.
Служба его длилась недолго. Очередная немилость Павла вынудила князя Голицына удалиться в Киевскую губернию, в его поместье Казацкое. Вместе с опальным вельможей отправился в изгнание и Крылов.
Он понимал, что ему придется пробыть здесь довольно долго. Связь с опальным аристократом поставила Крылова под надзор полиции. Разъезды надо было прекратить — они могли вызвать ненужные подозрения. Опасаясь измены, возмущения, бунтов, Павел I наводнил своими шпионами не только столицы, но и провинцию.
Особенно ненавистны Павлу стали литераторы. Литература, театры, газеты замерли. Крылов обязан был вести себя тише воды, ниже травы. Возвращались знакомые ему дни ненастья.
КАНУН НОВОЙ ЖИЗНИ
В ненастное время пернатые певцы скрываются в густоте леса.
Ф. Вигель, «Записки», т. I.
Этот эпиграф из записок Вигеля имеет прямое продолжение:
«Деревню и дом князя Голицына избрал тогда убежищем один весьма мохнатый певец, известный чудесными дарованиями. Я назвал его певцом мохнатым, потому что в поступи его и манерах, в росте и дородстве, равно как и в слоге, есть нечто медвежье: та же сила, та же спокойная угрюмость, при неуклюжестве, та же смышленость, затейливость и ловкость... Многие догадаются, что я хочу говорить о Крылове.
Он находился у нас в качестве приятного собеседника и весьма умного человека, а о сочинениях его никто, даже он сам, никогда не говорил. Мне это доселе непонятно... я не подозревал, что каждый день вижу человека, коего творения... читаются всеми просвещенными людьми в России.
...В этом необыкновенном человеке были положены зародыши всех талантов, всех искусств. Природа сказала ему: выбирай любое, и он начал пользоваться ее богатыми дарами, сделался поэт, хороший музыкант, математик... Человек этот никогда не знал ни дружбы, ни любви, никого не удостоил своего гнева, никого не ненавидел, ни о ком не жалел...»
Вигель, генеральский сын, воспитывавшийся в доме Голицыных, желчный, завистливый и двуличный, оставивший после себя знаменитые записки, так нарисовал образ Крылова. С этой характеристикой согласились многие биографы великого баснописца, но она далеко не точна.
Свои записки он писал сорок лет спустя. Лишь отдельные черточки портрета Ивана Андреевича, написанного Вигелем, имеют сходство с оригиналом. Как и подавляющее большинство современников, он не понял Крылова и при всем остром и язвительном уме своем повторил басню о баснописце.
Вынужденный застрять в Казацком, Иван Андреевич, не желая чувствовать себя тунеядцем, предложил Голицыну заниматься с его детьми русским языком. Так Иван Андреевич узнал еще одну жизнь — жизнь домашнего учителя.
Педагогом Иван Андреевич оказался редкостным. «И в этом деле показал он себя мастером, — пишет Вигель. — ...Он не довольствовался одним русским языком, а к наставлениям своим примешивал много нравственных поучений и объяснений разных предметов из других наук... и я должен признаться, что если имею сколько-нибудь ума, то много в то время около него набрался».
Занимаясь с детьми, Крылов вспоминал свое детство. Он стремился быть тем идеальным учителем, о котором так мечтал в доме Львовых, — богатым знаниями и щедрым на них. Он вел уроки шутя, вызывая оживленные споры. Учитель пробуждал любознательность, любил, когда ему задавали дельные вопросы, и ясно, толково, сжато отвечал на них. Казалось, педагогика была истинным его призванием.
Здесь же в Казацком открылся в нем новый талант, проблески которого намечались еще в Твери, когда сынок магистратского председателя бегал с уличными мальчишками. Может быть, толчком к открытию этого таланта послужило известие из Петербурга о том, что на театре была наконец дана опера «Американцы», написанная Крыловым двенадцать лет назад. Забытую оперу продвинул на сцену Клушин. Он был сейчас цензором российской труппы. Иван Андреевич вспомнил о театре и о своей неудачной карьере драматурга и написал для любительского театра Голицыных шутотрагедию — «Трумф, или Подщипа». Комическая пьеса была злой и остроумной пародией на «классические» трагедии. В «трагедии» Крылова действуют глупый царь Вакула, гоняющий кубарь в царском совете; трус и дурак князь Слюняй, жених царевны Подщипы, проводящий все дни на голубятне; выжившие из ума, глухие, немые и слепые вельможи и наглый болван-солдафон немецкий принц Трумф, захвативший царство царя Вакулы.
Современники вкладывали в эту веселую, искрящуюся остроумием шутотрагедию иной смысл: они видели злую сатиру на онемечившийся двор Павла I, на немецкие порядки, заведенные в армии, против которых •боролся Суворов, на засилье немцев-временщиков — их ненавидела вся Россия. Кстати, и последняя опала князя Голицына была вызвана его столкновениями с немецкими ставленниками Павла I.
В лице Трумфа Крылов дал характерный образ немца, наглого и самоуверенного, когда он чувствует свою безнаказанность, и трусливого, когда ему «сшибают прыть».
Замечателен в пьесе красочный язык действующих лиц: Подщипы с ее ложным пафосом классических трагедий высокого стиля и рядом с ним неожиданно комическая шепелявая речь льстивого Слюняя, простецкая, мужиковатая — царя Вакулы, искалеченный немецким произношением русский язык самого Трумфа.
Прямой сатиры на царствование Павла I в «Подщипе», разумеется, не было. К шутотрагедии невозможно было придраться, да и Крылов вряд ли стал бы из-за пустяков рисковать свободой, если не жизнью: шпионы Павла I, несомненно, жили и в Казацком.
Тем не менее многие десятилетия пьеса находилась под негласным запретом. Ее переписывали, играли на любительских сценах, часто цитировали. О ней помянул Пушкин в юношеской своей поэме «Городок». Учащихся исключали за чтение «Трумфа» из школы. Впервые пьесу издали за границей через шестьдесят лет после того, как она была написана. А в России она была напечатана только в восьмидесятых годах прошлого столетия.
На первом представлении шутотрагедии в Казацком Иван Андреевич исполнял роль Трумфа. Актерский талант его поразил и покорил зрителей. Это был превосходный, первоклассный артист. Ему бешено аплодировали не только как автору, но и как исполнителю.
Но у него, помимо актерского, оказался и блестящий режиссерский талант; его уменье вести репетиции и создавать сценическую обстановку современники называли «искусством неподражаемым».
Работа над «Трумфом» встряхнула Ивана Андреевича. Он начал писать маленькую комедию «Пирог» и часто уходил в глушь сада с карандашом в руках и тетрадкой. Время от времени приходили письма от «сивого старца» — Левушки; он благодарил за очередную присылку денег и подробно рапортовал «любезному тятеньке» о своей немудреной жизни. Это были почтительные письма послушного сына к отцу.
Жизнь у Голицына закончилась внезапно. Императора Павла задушили подушкой: его все ненавидели — и народ и вельможи. Гвардия присягнула «нежному» его сыну Александру I, принимавшему участие в заговоре против отца. Дрожавшая от ужаса перед диким деспотизмом сумасшедшего самодержца, Россия встрепенулась. Снова повеяло весной. Опальные сановники и вельможи потянулись в Петербург, ко двору. Срочно укатил туда и князь Голицын. О нем, обиженном Павлом человеке, вспомнили немедленно.
Иван Андреевич не торопился в столицу. Но ему уже опротивело мыкаться по чужим углам. Голицын искренне его любил, привязался к нему. Назначенный на высокий пост военного губернатора Лифляндии, Эстляндии и Курляндии, он пригласил Крылова на работу в Ригу. Иван Андреевич считал, что для него почетнее служить в Риге не по протекции Голицына, а по назначению из Петербурга, — ведь у него как-никак был чин провинциального секретаря.
Он приехал в Петербург и не узнал столицы. Она оживала будто после тяжкой болезни. Всюду говорили о реформах, о разительных переменах, об ангельской доброте молодого императора, поговаривали даже о конституции, которую якобы царь вот-вот собирался даровать народу. Уже было известно, что Радищев работает в комиссии по составлению законов, что по приказу Александра спешно изучались «все конституции», дабы выработать наконец, как говорил сам царь, «определение столь знаменитых прав человека».
Иван Андреевич с интересом следил за волнением общества, не изменяя своего решения быть только зрителем. Его время — он это чувствовал — еще не пришло. Продавать себя, как Клушин, он не собирался. Клушин был легким человеком. Получив от Екатерины полторы тысячи, он поехал за границу, но в Ревеле застрял, женился на баронессе с немецкой фамилией, — при Павле это было модно. Заручившись свидетельствами, он доказал, что Екатерина его обижала и утесняла, и в награду за перенесенные несчастья был назначен цензором на театре, — это событие он тут же отметил подхалимской одой Павлу. Связи помогли Клушину удержаться и при Александре. По старой дружбе он мог теперь оказать Ивану Андреевичу содействие. Но Крылов вежливо отклонил предложение, удивляюсь услужливости и покладистости Клушина. Тот прочел последнее свое произведение — оду на пожалование Андреевской ленты графу Кутайсову,
Крылов посоветовал автору из уважения к самому себе не печатать эту оду и высказал несколько резких истин насчет цели, с какою эта ода была сочинена. Клушин обиделся. Они расстались навсегда.
Петербург с его болтовней о конституции, с одами графу Кутайсову стал противен Ивану Андреевичу. Он напомнил о себе вдовствующей императрице Марии Федоровне, высказал скромное желание служить под начальством князя Голицына, и скрипучая канцелярская машина завертелась с удивительной быстротой: провинциальный секретарь Иван Крылов по указу правительствующего сената был немедля определен секретарем эстляндского, лифляндского и курляндского губернатора. В начале зимы 1801 года он выехал в Ригу.
ГЛАВА БЕЗ ЗАГЛАВИЯ
Нет мира для меня, хотя и брани нет.
Крылов, «Сонет к Нине». (Из Петрарки.)
Служба у Голицына не обременяла Ивана Андреевича. Губернатор, зная его нелюбовь к канцелярским делам, многое спускал своему секретарю. Времени у Крылова было предостаточно, и он не тратил его зря. Он никому не писал, даже брату, хотя тот тревожился и в слезных письмах к «любезному тятеньке» умолял его об ответе и благодарил за очередные пятьдесят, сто или полтораста рублей.
Иван Андреевич живо интересовался новой страной, людьми, литературой. В Риге была масса немецких книг, журналов, альманахов. Пришлось всерьез заняться немецким. Через несколько месяцев Крылов превосходно знал новый язык.
Он недолюбливал немецких авторов за многословие, тяжесть мысли, тупое, неуклюжее остроумие. Он ненавидел высокомерие немецких баронов, чванство родовой аристократии, угнетавшей прибалтийских крестьян. Ему противна была подчеркнутая, будто нарочитая аккуратность, скопидомная жадность, беспросветное мещанство немецкого буржуа и раболепное пресмыкательство перед силой, титулом, богатством, властью, какая бы она ни была.
Много передумал Иван Андреевич здесь, вдали от родины, хотя от нее было, как говорится, рукой подать. Но возвращаться в Петербург было незачем и не с чем. Он не верил Александру I, так же как и отцу его Павлу I и бабушке Екатерине II. Он считал, что хороших царей не бывает, как не может быть добрых щук, которые питались бы травкой. Крылов был убежден, что ему не придется долго ждать, чтобы убедиться в своей правоте.
Ему уже многое стало ясным. За плечами у него был огромный жизненный опыт. Сейчас Крылов мог понимать, в чем он ошибался, в чем были его заблуждения, и уже по-иному оценивал свои настойчивые поиски правды.
Он понял, почему его перестала сейчас восхищать игра знаменитого Дмитревского — это был ложный пафос, поддельная страсть, фальшивые слезы. Такое искусство, казалось ему, не нужно народу.
Он осознал, почему его раздражал Карамзин с его идиллиями и эклогами, слезливым сочувствием ближнему. Все это была не жизнь, не зеркало ее, а сентиментальная ложь. Разве народу нужна такая литература?
Теперь ему стало ясно, почему его игра на скрипке уже с детских лет так трогала слушателей и оставляла их холодными на концертах заезжих знаменитостей: там был блеск, виртуозность и не было главного — не было души, теплого биения сердца, дыхания жизни и правды. Вот почему простая народная мелодия даже в устах неискусного певца так близка и понятна всем без различия. Он все яснее представлял себе, что именно нужно народу.
Он мог бы служить ему, продолжая работу на театре. Кстати, из Петербурга пришло приятное известие: «Пирог» —- пьеса-безделушка, написанная еще в Казацком и кое-как подправленная в Риге, с успехом прошла в столице.
Вторым радостным известием было предложение петербургских книготорговцев переиздать «Почту духов». Тоненькие тетрадки «Почты» в 1802 году были уже библиографической редкостью[24]. Иван Андреевич удивился этому предложению — оно нарушало его представление об Александре.
Честолюбивые замыслы молодости вновь охватили Крылова. Ему захотелось вернуться в театр, писать нравоучительные комедии. Но он понимал, что это только мечты. Он исписывал груды бумаги и уничтожал написанное: ничто его не удовлетворяло, все грозило опасностями. Его перо было слишком злым.
И он наотрез отказался от прозы и от еще более опасной журналистики.
Следовательно, оставалась только поэзия. Но она, как ему думалось, не была его призванием. Значит, должно было осилить это искусство и стать мастером поэзии: владеть стихом так же свободно, как владел он прозой.
Как прилежный ученик, трудился он над стихами, учась точности и меткости языка у народа, создавшего чудесные мудрые пословицы, очаровательные сказки, величавые былины и задушевные песни.
Осенью 1802 года прибывший из Петербурга фельдъегерь вскользь сообщил о самоубийстве Радищева. Пылкий мечтатель, деятельно работая в комиссии по составлению законов, составил «Проект гражданского уложения». Он предлагал отменить неравенство людей перед законом, телесные наказания и пытки, продажу крестьян в рекруты, ввести суд присяжных, дать народу свободу совести, свободу книгопечатания... Он, должно быть, всерьез поверил Александру. На Радищева посмотрели, как на сумасшедшего, удивились, «как это ему не надоест пустословить попрежнему», и сослуживец его, старый граф Завадовский, вежливо спросил его: неужто ему мало было Сибири?
Так смертью Радищева обернулись «свободы» Александра I. Выходило, что Иван Андреевич оказывался прав. Он чувствовал, как старый сумрак деспотизма спускается на Россию.
Крылов затосковал. Ему опостылели и служба, и чистенькая, будто приглаженная Рига, и незнакомые вежливые люди. Он попрежнему жил одиноко, у него не было никого из близких. Только брат, вернувшийся из заграничного похода, умолял свидеться, приехать погостить. Почти каждое письмо он заканчивал воплем: «Ах! как мне скучно, что тебя так долго не вижу, ты у меня всегда в мыслях».
Зимою 1802 года Крылов был произведен из провинциальных секретарей в губернские. Это его мало трогало. Он пытался разогнать тоску по родине сменой новых впечатлений. Весну и лето Иван Андреевич провел в разъездах: побывал в Ревеле, на островах Балтики, в Валге и в других городах. Осенью его наконец отпустили «для определения к другим делам». Это была обычная формула казенного документа, ибо никаких других дел у Крылова не было, кроме личных. Он говорил, что едет домой. Но и своего дома у него не было. Его домом была Россия.
Поздней осенью 1803 года щегольски одетый человек, средних лет, склонный к полноте, в блестящем шелковом цилиндре и модном плаще, появился в грязном городишке Серпухове. Здесь был расквартирован Орловский мушкетерский полк, в котором служил Лев Андреевич Крылов.
Незадолго перед этим полк совершил знаменитый Итальянский поход в составе суворовской армии. Наградами и повышениями в чине были осыпаны многие участники похода. Льву Андреевичу не повезло; о подпоручике Крылове забыли — судьба отца повторялась в точности.
Иван Андреевич разыскал брата и поселился у него. Для Левушки настала пора счастья. Он окружил возлюбленного «тятеньку» тучей трогательных, мелких забот, ухаживал за ним, стараясь предупредить малейшее его желание.
В подарок брату Иван Андреевич привез ворох книг и дорогие золотые часы с эмалью, которым двадцатишестилетний Левушка радовался, как ребенок. Здесь, в холостяцком доме брата — Лев Андреевич оставался холостяком до конца жизни, — Крылов-старший наслаждался покоем. Он отдыхал, работал над переводами басен, часами мучился над каким-нибудь стихом, изменяя его, переставляя слова, и убеждался, что работа над языком походит на искусство скульптора: чем дольше и энергичнее скульптор мнет глину для лепки, тем мягче и покорнее она становится. Точно таким же покорным и пластичным становилось слово под упорным и настойчивым пером Крылова.
Несколько раз он выезжал в Москву навестить старых друзей. Особенно приятно ему было встретить давнего знакомого по Петербургу — актера Сандунова, служившего сейчас в московском театре вместе со своей Лизанькой. Отмечая приезд гостя, Сандунов поставил в свой бенефис комедию Ивана Андреевича «Пирог».
Живя у братца, Крылов сделал наброски комедии «Модная лавка» и «Урок дочкам»; они ему удались. В этих комедиях Иван Андреевич продолжал свою линию — защиту русского языка, русского быта, русских нравов от иностранного влияния. Он начал писать стихотворную комедию «Лентяй». Стихи в этой пьесе были уже очень хороши. Замысел пьесы отличался оригинальностью: зритель не видел героя; герой действовал, вернее бездействовал и ленился за сценой, а на сцене незримо присутствовала его лень, выраставшая до гомерических размеров. Вокруг этой лени завязывалось и развертывалось комедийное действие. Но «Лентяй» не был закончен. Крылов торопился к иным делам. У него уже было, с чем вернуться «на свободу».
Последние годы добровольного изгнания были для него Школой поэзии. Он владел сейчас стихом почти с такой же уверенностью, как прозой. Живя в отдалении от родной языковой стихии, он с большей остротой чувствовал яркость, свежесть и точность народной речи. Это особенно ощущалось в поговорках, пословицах и прибаутках русского народа. Они служили как бы началом народной поэзии, исходным ее пунктом, отвечая первейшему поэтическому требованию— «чтобы словам было тесно, мыслям просторно». И Крылов добивался такой же краткости и емкости своей поэтической строки, внешне сжатой, как пружина, а внутренне просторной и широкой, как дыхание.
Это перекликалось с его старыми мыслями молодости писать так, «чтоб в коротких словах изъяснена была самая истина... дабы оные глубже запечатлевались в памяти».
Умудренный опытом, он понимал сейчас, что жить и думать так, как хочется, ему не дадут. Это запрещалось всем и каждому. Жить нужно было по-особому, умеючи, с хитрецой, думать... думать никому не запрещалось, но высказывать свои думы надо было также по-особому. Внешне они должны были быть смирны, как намеченная им будущая его жизнь, а внутренне так бунтарски пламенны, как недавняя его молодость, отошедшая в прошлое.
Летом следующего года Крылов приехал в Москву. Он возвращался в мир уже не тайно, как в последние годы — поглядеть и снова скрыться, а явно, открыто. Он избрал себе путь. Это был путь литератора. Он избрал себе роль — роль ленивого мудреца, которого как бы уже не волновали житейские страсти. Добровольной ссылке пришел конец. Начиналась вторая жизнь[25].
3
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
Les vents me sont moins qu’ à vous
redoutables;
Je plie, et ne romps pas.
La Fontaine, «Le Chêne et le Roseau».
...Не за себя я вихрей опасаюсь,
Хоть я и гнусь, но не ломаюсь.
Крылов, «Дуб и Трость».
Жизнь начиналась сызнова.
Крылов вернулся в Москву. Его приняли радушно. Он добивался свидания с Дмитриевым, встретился с ним, подружился.
Иван Иванович Дмитриев, замечательный поэт, превосходный переводчик басен Лафонтена, автор чувствительных романсов и песен[26], друг и ближайший соратник Карамзина, почитал поэзию делом второстепенным. Сын родовитого симбирского помещика, располагавший широкими связями, Дмитриев готовился к более высокому, по его мнению, поприщу. Уживчивый характер
и отсутствие твердых самостоятельных мнений позволяли ему «ладить» со всеми. Личное благополучие было для него дороже всего. С равным успехом он служил при Екатерине, Павле и Александре, получал чины, ордена и кончил карьеру министром юстиции. В год встречи с Крыловым Дмитриев прощался с литературой, собираясь к переезду в Петербург. Знаменитый поэт-баснописец — его называли русским Лафонтеном — ласково отнесся к своему младшему тезке (он был старше его лет на десять) и удивился: так не похож был скромный почтительный Иван Андреевич на занозистого редактора «Зрителя» и ядовитого автора «Почты духов»!
Беседуя с Дмитриевым, Крылов обмолвился, что, восхищенный переводами уважаемого Ивана Ивановича, он также пытался осилить Лафонтена и между делом, в свободное время, перевел две или три басенки. Дмитриев заинтересовался, особенно потому, что Крылов назвал басни, превосходно переведенные самим Дмитриевым. Такое соревнование с «русским Лафонтеном» походило на дерзость. Однако, ознакомившись с переводами Крылова, Дмитриев пришел в искренний восторг: басни, по его мнению, были хороши. «Вы нашли себя, — убеждал он Ивана Андреевича. — Это истинный ваш род. Продолжайте. Остановитесь на этом литературном жанре».
Дмитриев тут же отправил переводы в журнал «Московский зритель», и басни были напечатаны в начале 1806 года. Редакция журнала просила Крылова дать еще хотя бы одно стихотворение для следующего номера, а он уверял, что эта работа не доставляет ему удовольствия. Биографы Крылова настойчиво подчеркивают, что Дмитриев заставил его преодолеть отвращение к этому роду поэзии, Крылов дал еще одну басню. Кстати, и она также была уже переведена Дмитриевым.
Тремя этими баснями[27] открыл новую страницу второй своей жизни Иван Андреевич Крылов.
Над первой басней он работал не один год. Это была все та же басня, которую он пытался перевести еще в детстве, — умная басня о могучем дубе и тонкой тростиночке. Дуб предлагал тростинке свое покровительство. Но налетела буря, вырвала могучее дерево с корнем, а тростиночка, припав к земле, уцелела. Быть может, кому-нибудь могло притти в голову, что Крылов публикует эту басню неспроста, что он теперь готов был вести себя, как тростинка в басне, покорно сгибаясь под бушующим ветром судьбы.
Но Иван Андреевич мало походил на покорную, гибкую тростиночку. К тому же басня была не оригинальной, а переводной и выражала как будто бы не свою, а чужую мысль. Однако басня была подчеркнуто подписана не псевдонимом «Нави Волырк», а полным именем автора.
Иван Иванович Дмитриев.
С портрета художника Тропинина.
Всякий мог думать о нем и о басне все, что угодно, и Крылов действительно не собирался как будто публиковать обличительные речи и злые сатиры. К чему? Можно обойтись и без обличительных речей. Да они ему и не к лицу. Ведь он только переводчик басен. Кто мог придраться к честному переводчику?
Но переводы отодвинулись в сторону, как только Крылов вернулся в столицу. Его увлекла старая страсть — театр. Утоляя ее, он отдал театру одну за другой комедии: «Модная лавка» и «Урок дочкам». Над ними он работал давно. Но окончательно отделал и отшлифовал их только теперь, после встречи со старым приятелем Дмитревским и с завзятым театралом князем Шаховским. Комедии имели успех. Директор театра Нарышкин обратился к Ивану Андреевичу с просьбой немедленно создать героическую оперу из русской жизни, и он вскоре закончил либретто волшебной оперы «Илья Богатырь». Музыку к ней написал известный композитор Кавос[28], будущий автор «Ивана Сусанина».
Плодовитость Крылова была поразительна. Он словно наверстывал потерянные годы.
За время его добровольной ссылки Петербург сильно изменился, многих старых друзей и знакомых не было: умер Клушин, умер Рахманинов; появились новые имена, новые люди. Но Иван Андреевич на этот раз избрал для себя иной путь. Он входил в литературу не так, как двадцать лет назад, — проталкиваясь сквозь шумную толпу непризнанных гениев и талантов, а шел напролом к цели. Он встречался с людьми, чьи имена знали все. Это был старый поэт Державин, драматург, академик и актер Дмитревский, писатель князь Шаховской, граф Уваров, адмирал Шишков, вельможа Оленин, начальник Монетного двора, художник-дилетант, археолог и знаток литературы, в гостеприимном доме которого собирались писатели, музыканты, люди искусства.
Крылов держал себя с ними свободно и как будто откровенно. Поведение его не вызывало сомнений. И все же многие помнили прежнего Крылова. Им казалось, что он кривит душой, притворяется. Но эти подозрения рассеялись, когда комедии Крылова получили восторженную оценку самых высоких кругов общества. Это были настоящие патриотические пьесы, проникнутые любовью к отечеству и отнюдь не призывавшие к сокрушению государственных устоев.
И Крылов действительно не притворялся, — он писал о том, что тревожило его и волновало современное ему русское общество. В те годы на Западе начинались наполеоновские войны. Крылов искренне ненавидел Наполеона, мечтавшего о том, что русские, как и все народы континентальной Европы, покорятся ему без сопротивления. Крылов мог не скрывать своей неприязни к офранцузившимся аристократам, проклинавшим неприятеля на чистейшем французском языке, которым они владели лучше, чем русским. И в «Модной лавке» и в «Уроке дочкам» он выступал на защиту русской культуры. Писатель защищал Россию не только от французов, но и от иностранщины и иностранцев, считавших нашу страну диким, варварским краем, пригодным для колонизации.
Опера «Илья Богатырь» была призывом к единству всей страны во имя защиты национальных интересов. Автор вывел на сцену древнюю Русь, Илью Муромца, Соловья-разбойника, князей, бояр, шутов. Это было красочное и пышное народное зрелище. «Публика, — как вспоминают современники, — подхватывала со сцены патриотические намеки и с бешеным восторгом встречала тирады о борьбе, победе и превосходстве русских, о славянских доблестях».
Билеты в театр на «Илью Богатыря» брались с бою. Всюду распевали куплеты из крыловской оперы. Автор стал знаменит. На него благосклонно посматривали даже реакционеры, бюрократы, сановники. Старик Дмитревский открыто гордился тем, что он первый открыл в Крылове истинное дарование драматурга и по старой памяти отечески наставлял его, чтобы тот не сорвался, не впал в ересь, не вздумал лезть на рожон.
Иван Андреевич и без мудрых советов Дмитревского был очень осторожен. Ему нельзя было теперь ошибаться.
Как не похож он теперь на прежнего Крылова! Тот вечно кипел, горячился, доказывал, убеждал. А этот спокоен, редко повысит голос, больше молчит, вернее помалкивает, ни с чем не соглашается, но и ничему не противоречит.
К нему присматривается умный царедворец Оленин. Крылов нравится сановнику. Он приглашает писателя к себе и, познакомившись с ним поближе, заключает, что театр не удовлетворяет драматурга. Он не понимает причины этого. А причина в том, что в пьесах Крылов не может высказать того, что его волнует, и он возвращается к басням. Упорно, как вол, трудится над ними Иван Андреевич. Баснями он отвечает на тревожащие его вопросы. Так рождается басня «Волк и Ягненок» с ее резким выводом: «У сильного всегда бессильный виноват»; басня «Слон на воеводстве» — о добром, но глупом правителе, который разрешил тяжбу меж овцами и волками, дозволив собрать с овец «легонький оброк» — с каждой овцы только по одной шкурке, «а больше их не троньте волоском»; басня «Лев на ловле» — злая сатира на бесправие русского народа; «Слон и Моська» с бессмертным двустишием:
Но время от времени Крылову приходится под дружеским нажимом Оленина делать к басням «положительные» приписки. В известной басне «Лягушка и Вол», где в тринадцати строчках рассказана вечно живая история о завистниках и честолюбцах, пытающихся, подобно лягушке, сравниться в дородстве с волом, Иван Андреевич делает вынужденную приписку[29]. Басня в ней совершенно не нуждается. Мораль басни гораздо шире и глубже этого рассудочного четырехстрочного довеска, но Крылов делает уступку Оленину.
Одна за другой появляются басни в журнале князя Шаховского «Драматический вестник». Крылов все чаще показывается в салонах знатных. Он говорит и действует обдуманно, не бросая слов на ветер. Его ни в чем нельзя обвинить — ведь он переводит Лафонтена, да и притом очень часто те же самые басни, которые и до него, Крылова, не раз переводили. Правда, некоторые из басен, хотя они и переводные, пахнут русским духом и «Почтой духов», но о «Почте духов» никто не вспоминает.
Очевидно, поведение Крылова было так естественно, что его принимали за должное. На деле же он вовсе не отказывался от своих убеждений. С поразительным упорством он продолжал внедрять в сознание читателей старые свои «заблуждения». Только они подавались теперь по-иному — в коротких, запоминавшихся с лету нравоучениях.
Поэт Крылов в точности повторял прозаика Крылова: между старой прозой — письмами к волшебнику Маликульмульку, повестями в «Зрителе» — и баснями лежал прочный мост: басня «Оракул» пришла из письма IX и была еще язвительнее, чем это письмо; басня «Гуси» объединила в себе мысли писем XXVII и ХLV басня «Вороненок» — это письмо XII; басни «Крестьянин и Змея», «Бочка» и «Воспитание Льва» вырастают из письма ХLII; «Вельможа» — из письма XXI; сюжет басни «Мешок» лежит в «Каибе»; басня «Парнас» — в докаибовской «Ночи»; «Слон и Моська» — в «Мыслях философа по моде»... Крылов удивительно стоек в своих «заблуждениях».
Писатель остался все тем же. Но он все более и более входил в роль мудреца, которого, казалось, не могли волновать никакие житейские бури. Эта роль была не так уж загадочна. И сам Крылов словно подсказывал разгадку. Его первой оригинальной, им выдуманной, а не переводной басней был знаменитый «Ларчик».
«ЛАРЧИК»
Взглянув на Ларчик, он сказал:
«Ларец с секретом;
Так; он и без замка...»
Крылов, «Ларчик».
В 1808 году Иван Андреевич напечатал около двадцати басен. Именно напечатал, а не написал, — большинство из них было написано им гораздо раньше. Над каждой басней он работал долго, настойчиво. Кажущаяся простота, естественность и легкость стиха — результат огромного творческого труда.
Чем совершенней творение, тем меньше на нем или в нем следов кисти, резца, усилий... Оно будто создано одним дыханием гения. Но в основе таланта и гениальности всегда лежит упорный труд.
Крылов бесконечно переделывал свои басни. Так, басня «Дуб и Трость», напечатанная в 1806 году, перерабатывалась и изменялась десятки раз, и окончательный текст ее установился только в издании 1830 года. Он работал над словом и фразой до тех пор, пока они, по собственному его выражению, не переставали «приедаться», то есть пока они не звучали так же просто и свободно, как живая, разговорная речь.
И наряду с этим гигантским трудом, возраставшим год от года, все шире распространялась странная легенда о лени Крылова, о его медлительности, неповоротливости, неподвижности.
Люди, жившие рядом с ним, знали, что это сказка. Иван Андреевич нередко работал от зари до зари, прочитывал массу книг, внимательно следил за политикой, за жизнью Европы. Бывало он трудился по 15—16 часов в сутки, но он славился могучим богатырским здоровьем, никогда не болел и ежедневно на заре купался в канале, отделяющем Марсово поле от Летнего сада; даже в ноябре, когда канал покрывался льдом, Крылов с размаху бросался в него и проламывал лед тяжестью тела.
По вечерам он отправлялся в гости или в театр, не пропускал ни одного интересного концерта, часто встречался с музыкантами, чтобы побеседовать с ними о любимом искусстве, бывал на званых обедах и ужинах, изредка навещал старика Дмитревского, а чаще всего проводил вечера в полюбившемся ему доме Олениных. Там он наблюдал ту счастливую семейную жизнь, которую могла бы создать Анюта, но она уже давно была замужем. Ее выдали против воли за немилого, и Крылов остался верен своей любви до конца своих дней.
Он был однолюбом во всем.
Он выбрал для себя дорогу жизни. Он хотел прожить с пользою для своего народа, оставить по себе добрую память и стать хоть немного похожим на того благотворителя рода человеческого, о котором когда-то писал волшебник Маликульмульк в своем последнем послании «Почты духов».
Осенью 1808 года Оленин предложил Крылову службу у себя, на Монетном дворе. Это было необходимо, так как служба не только создавала Ивану Андреевичу твердое общественное положение, но давала ему. возможность продвигаться по служебной лестнице; в те времена человек без чина был нулем.
Через два месяца с небольшим, в канун Нового года, Иван Андреевич по именному высочайшему указу был пожалован в титулярные советники. Царь узнал о Крылове от Оленина.
Литературный кружок, созданный Олениным, объединял «умеренных» писателей: они не «вольнодумничали», не философствовали о политике, не строили злокозненных планов о том, как изменить образ государственного правления. Они интересовались только искусством.
Разумеется, искусство никогда, ни в одну эпоху, не было и не может быть аполитичным. Оно всегда проводит господствующие идеи своего класса, опираясь на его классовое миросозерцание. Самый аполитизм оленинского кружка. был частью политики Александра I, всеми мерами пытавшегося потушить опасные мысли. Современник описывает, что в этом кружке, «не взирая на грозные события, совершавшиеся тогда в Европе, политика не составляла предмета разговоров, она всегда уступала место литературе»[30]. В доме Оленина ежедневно собирались литераторы, ученые, художники. Сюда свозились все литературные новости, здесь говорили о новых театральных постановках, о новых картинах, о новых музыкальных произведениях. Политики как бы не существовало. Большинство участников кружка, среди которых постоянно бывали Батюшков, Озеров, Шаховской, Гнедич, были поклонниками античности, любили русскую старину и мечтали о возрождении и расцвете русского национального искусства.
Вскоре дом Оленина стал еще дороже и ближе Ивану Андреевичу, когда он подружился с женой Оленина — ласковой Елизаветой Марковной. В ней нашел он нежнейшую мать и был предан ей с сыновней горячностью. Но с Олениным у него были иные отношения. Сановник полагал, что он перевоспитывает бунтаря, делая его верным слугою царя и отечества. Крылов не протестовал против этого и поступал по-своему. Он писал басню за басней, прикрывая работу ленивыми разговорами о своем безделье, и делал вид, будто не торопится их публиковать. Оленин настаивал на скорейшем издании. Повторялась такая же история, как с Дмитриевым, который уговаривал мастера басни Крылова попробовать заняться басней.
В 1809 году вышла первая книга басен Крылова. Она разошлась мгновенно и принесла ему невиданную славу. Внезапный успех ошеломил не только современников, но и самого автора. Он был убежден, что читатели тепло встретят его книгу, но не ожидал такого успеха. Ему было невдомек, что первая книга басен станет для него воротами, за которыми открывается теряющаяся в тумане веков дорога в бессмертие.
ВОСХОД
Странное дело, мы слышали басню в первый раз, а почти все знали ее наизусть.
С. Жихарев, «Записки современника», т. II.
Ему было сорок лет. Слава всходила стремительно. И опиралась она не на изысканные круги «избранных» или «немногих» ценителей искусства, а на широчайшие народные массы. Басни Крылова передавались из уст и уста, шли в письмах из края в край страны, и всюду их встречали с радостью. Никто и никогда еще не говорил таким близким, понятным народу языком. Своими баснями Иван Андреевич прекратил споры о том, каким языком следует писать, каким языком надо говорить с русскими людьми.
В те годы русская аристократия искала путей к народу, пытаясь найти с ним какой-то общий язык. Грамота становилась явлением нередким. Всюду открывались школы, усиливались связи с заграницей, росла торговля и промышленность. Россия быстро шла к цивилизации.
При Александре I правительство серьезно было озабочено тягой народа к знанию. Опора трона—дворяне отлынивали от наук. Образованными людьми становились сыновья ничтожных чиновников, дьячков, купцов, ремесленников, крестьян, выкупившихся из крепостной неволи. У них были свои собственные интересы, отличные от интересов правительства, а иногда даже враждебные ему. Желанием крепче связать себя с массами и объяснялся тот повышенный интерес высшего общества к русской национальной культуре, к русскому языку, к русской старине. Но у аристократов, воспитанных зарубежными гувернерами, не было ни настоящей любви к этой старине, которую они считали варварской, ни к языку, называемому ими «подлым».
По свидетельству современника[31], многие из князей Трубецких, Долгоруких, Голицыных, Оболенских, Волконских, Мещерских — представителей знатных русских родов — не могли двух слов написать по-русски. Высшее общество говорило на своеобразном русском языке, из которого изгонялись «грубые» и «некрасивые» слова. Он был гораздо беднее народного языка, и неудивительно, что аристократы жаловались на его скудость.
Тогда же началась борьба за чистоту русского языка. Ревнитель национальной культуры, поклонник русской старины, адмирал Шишков и его последователи предлагали изгнать из родного языка все иностранные слова и выражения. Таким словам, как «эпоха», «энтузиазм», «мораль», «революция», по их мнению, в русском языке не могло быть места. Шишков предлагал обогащать язык, вводя в него не иностранные, а истинно русские слова, созданные на основе церковно-славянского языка, как, например, багрянородный, злокозненный, тлетворный, неискусобрачная и т. п. Он утверждал, что язык должен делиться на простой, разговорный слог, на книжный, средний слог и на высокий, которых нельзя было смешивать друг с другом. Он считал пустой манерностью писать на иностранный образец: «когда путешествие сделалось потребностью души моей», вместо того чтобы сказать просто: «когда я любил путешествовать». Наряду с правильными утверждениями Шишков грубо ошибался, полагая, что язык можно создавать искусственно, да еще основывая эту искусственность на отживших мертвых формах церковно-славянщины.
Противники Шишкова — карамзинисты — создавали свой язык, изящный, благопристойный и благозвучный. Он в еще большей степени был чужд и не понятен народу. Борьба за язык, борьба за стиль длилась десятилетия. Даже четверть века спустя Дмитриев в письме к поэту Жуковскому с возмущением писал, что на публичной лекции в Петербурге «некто Плаксин», а за ним «Межевич в речи на торжественном собрании» обвиняли Карамзина в том, что его стиль «ознаменован совершенным отсутствием народности...» «Что же такое народность? — недоумевал Дмитриев. — Писать так, как говорят наши мужики на Сенной и в харчевнях?»[32]
С точки зрения Дмитриева и Карамзина язык народа был не языком, а грубым жаргоном, и тут вполне уместно вспомнить остроумное замечание французского писателя Бальзака. В одном из своих романов[33] он говорит: «У высшего света тоже есть свой жаргон, только зовется он стилем...»
Крылов проник в самую душу языка, а язык — это душа народа со всеми ее оттенками и богатством, — и заговорил с народом на родном его языке. Он первый в России стал писать не для немногих, а для всего народа.
Басни его были на редкость просты. Никаких внешних красот, обыкновенные прозаические будничные слова, которые шли друг за другом в привычной последовательности. Новая басня звучала так, словно вы ее знали с детства, и в то же время она была так свежа, что человек, в десятый раз читавший ее, находил все новые и новые красоты. Это казалось удивительной тайной, каким-то волшебством. Обычное слово под пером баснописца как бы оживало; иногда оно тяжелело, как грузный камень, иногда превращалось в нечто невесомое, похожее на дыхание легкого ветерка. Слово стало послушным орудием его мысли; он играл им, разил, колол, уничтожал, ласкал, нежил. «Ни один из поэтов не умел сделать свою мысль так ощутительною и выражаться так доступно всем, как Крылов», свидетельствовал Н. Гоголь.
Иван Андреевич добился своего: он овладел языком так, как мечтал в годы своих скитаний. Именно в борьбе за русский язык и проявился с особой яркостью и силой патриотизм Крылова, его любовь к родине.
Еще Ломоносов славил красоту, звучность, точность и блеск русской речи. Но только Крылов открыл нам все богатство родного языка. И народ понял, каким сокровищем он обладает.
Можно наугад взять несколько отрывков из различных басен и убедиться, с какой виртуозностью владел словом Крылов. Вот описание бури в басне «Пушки и Паруса»:
Сочетания звуков, то тяжелых и мрачных, то блистающих, сталкивающихся друг с другом, мгновенно рождают в воображении картины простора и бури; тут взвешено не только каждое слово, каждый звук, но каждая отдельная буква. Только с Крылова, пожалуй, русская азбука заиграла всеми красками радуги.
Или возьмите другой отрывок из басни «Крестьянин и Смерть» — спокойный, эпический рассказ, в словах которого вы ощущаете каждое движение, каждый вздох старого крестьянина:
Пленительная сила басен особенно проявлялась в чтении самого автора. «Он читал столь же превосходно, сколь превосходны его басни; непринужденно, внятно, естественно, но притом музыкально, легко опираясь голосом на ударения смысла и наивно произнося сатирические свои заключения», писал один из близких Ивану Андреевичу людей — М. Лобанов. Даже знатоки декламации, театралы восторгались его мастерским чтением. Племянник Рахманинова С. Жихарев, познакомившийся с Иваном Андреевичем в доме поэта Державина, оставил воспоминание о своей встрече: «А как читает этот Крылов! Внятно, просто, без всяких вычур и, между тем, с необыкновенной выразительностью; всякий стих так и врезывается в память. После него, право, и читать совестно».
Естественность, простота, непринужденность авторского чтения как бы подчеркивали предельную простоту его произведений.
Он отказался от искусственного деления языка на высокий, средний и низкий слоги. В его баснях, как в жизни, слились воедино различные языковые стили. Из бесхитростных строк басни как бы возникают типичные образы трудолюбивого крестьянина, канцеляриста-взяточника, светского фата-прощелыги, разбитного купчишки, помещика, сановника, униженного просителя. Прочтите басню «Крестьянин и Овца» с ее типичным образчиком судебного языка того времени, с характерными канцелярскими оборотами. Вот перед нами «приговор» судьи Лисы:
В его баснях есть строфы, насыщенные выспренними славянизмами, от которых могли притти в восторг шишковские сторонники[34], и строки, исполненные идиллической карамзинско-дмитриевской сентиментальности[35], и простонародные выражения, вроде: «А ты... ахти, какой позор! Теперя все соседи скажут...»[36]; «И полно, куманек, вот невидаль: мышей. Мы лавливали и ершей...»[37]; «Вот-на», — Осел ей отвечает, — «А мне чего робеть»[38]. Все эти простонародные словечки так естественно сливаются с литературным языком, что у Крылова, по определению Гоголя, нельзя поймать его слога: «Предмет, как бы не имея словесной оболочки, выступает сам собой, натурою перед глаза». И это смешение слогов и стилей было не подделкой, не подлаживанием автора под простонародную или живую речь, а подлинной, живой речью поэта, пересыпанной остроумными пословицами, проперченной поговорками и меткими народными выражениями. В басни его органически входят такие пословицы, как «Бедность — не порок», «Что посеял, то и жни», «Из огня, да в полымя», «Видит око, да зуб неймет». И, наоборот, созданные им крылатые выражения: «Услужливый дурак опаснее врага», «Слона-то я и не приметил», «А Васька слушает да ест», «У сильного всегда бессильный виноват», вошли в живой язык, стали пословицами и поговорками. Иногда трудно определить, кому они принадлежат: взял ли их Крылов у народа, или народ у Крылова. И в этом ярче всего проявилась народность его творчества.
«НАВИ ВОЛЫРК»
Перо писателя может быть в руках его оружием более могущественным, более действительным, нежели меч в руках воина.
Н. Гнедич.
Басня разрешала поэту пространно писать между строк невидимыми чернилами, читателю — свободно читать затаенные междустрочные мысли автора, а цензору — спокойно пропускать их в печать, ибо явной крамолы в них не было.
Басню издавна считали низким жанром. В древности басней' назывался маленький нравоучительный рассказик или притча, в которой действовали обычно не люди, а звери, наделенные человеческими характерами. Древнейший свод таких басен — индусский сборник Бидпая «Калила и Димна» — назван именами двух шакалов — главных действующих лиц. Сборник «Калила и Димна» считают на востоке книгой мудрости.
С востока басни Бидпая перекочевали на запад — в Грецию. Ими пользовался знаменитый баснописец Эзоп. Из Греции они попали в Рим к баснописцу Федру, а оттуда разошлись по всей Европе.
Вначале басня была поучением, назиданием. Позже басню превратили в политическое орудие; одним из первых сатириков-баснописцев был римский поэт Гораций. С легкой его руки басня-сатира вошла как младший, низший жанр в литературы всех народов. Особенную славу приобрел французский баснописец Лафонтен. В России басни писали Ломоносов, Хемницер, Сумароков, Дмитриев. Но в их баснях главенствовала не сатира, а нравоучение.
Издавна существовало знаменитое выражение «эзопов язык». Им широко пользовались писатели, ораторы и политические деятели, когда хотели высказать истину, которую нельзя было написать или произнести вслух. Люди понимали ее между строк, между слов. Эзоповым языком Крылов овладел в совершенстве.
Все чаще и чаще появлялись басни, подписанные его именем, которых не было ни у Бидпая, ни у Эзопа, ни у Федра, ни у Лафонтена. Это были оригинальные произведения Ивана Андреевича, но автор скромно помалкивал, когда их принимали за переводы. Так было спокойнее.
Крылов все полней насыщал свои басни подспудными мыслями. Бессмертный язык Эзопа журчал меж строчек, как живительный ручеек.
С оригиналами, то есть с подлинниками, басен Крылов обращался так, как не осмеливался обращаться ни один переводчик. Сохраняя в точности содержание басни, он с удивительным искусством преображал французскую, греческую или латинскую басню в русскую, которая, казалось, и могла быть создана только русским писателем.
«На мысль не придет, — писал Плетнев, — что сочинитель повторяет старинную басню, известную уже всем народам. Рассказанный им случай, повидимому, только и мог произойти у нас. Он проникнут духом нашей жизни и речи»[39]. Можно ли представить себе, что «Демьянова уха» — это перевод с французского? Можно ли поверить, что басня «Крестьянин и Смерть», в которой герой говорит:
переведена на русский язык с иностранного? Или что басня «Муха и дорожные», с картинным описанием поездки типичной дворянской семьи в тяжелом рыдване по русским ухабам, это переложение басни Лафонтена, который, в свою очередь, заимствовал содержание басни у римского баснописца Федра, а тот сам перевел басню на латинский язык с греческого?..
И все же современники поражались той точности, с какой Иван Андреевич переводил чужеземные басни; он бережливо доносил до русского читателя все мысли оригинала, углубляя и оживляя их метким словом, острым намеком, народной пословицей и поговоркой. Чужая басня становилась родной и близкой сердцу русского человека. Уже все признали, что он победил Дмитриева. Уже один за другим раздавались голоса, что «вообще басня сия у Крылова несравненно лучше, нежели у Лафонтена»[40], что «в стихах последнего, кажется, менее живописи, и самый рассказ его не столь забавен»[41]. Странное дело, перевод, подражание оказывались лучше оригинала. Крылов победил не только своего соперника Дмитриева, но и своего учителя — Лафонтена.
Но все дальше и дальше Крылов отходил от переводов. Он писал свои собственные басни, и его, Крылова, уже начинали переводить иностранные переводчики. Он был одним из первых русских писателей, которого узнали за границей.
Благодаря Крылову басня из низкого жанра перешла в самый высокий класс поэзии. Баснописец касался своим пером всех сторон жизни, проникал в самые ее глубины. Каждая его басня была сатирой, и тем сильнейшей, как говорил писатель Бестужев-Марлинский, «что она коротка и рассказана с видом простодушия».
С таким же видом простодушия жил Крылов. Он никого не обижал, со всеми был вежлив, не говорил резких слов, соглашался, не спорил, помалкивал. Его считали покладистым, добрым, ленивым, — пусть. Зачем ему спорить? Но когда его попытались обидеть, он ответил басенкой «Лев и Комар». Он не грозил, не возмущался, не кричал — нет, он мудро напоминал всем:
Это напоминание относилось к врагам и недругам не одного только Крылова.
Иван Андреевич помнил обиды и умел на них ответить. Басней «Осел и Соловей» он ответил одному знатному вельможе, который, благосклонно выслушав артистическое чтение Ивана Андреевича, глубокомысленно заметил: «Это хорошо; но почему вы не переводите так, как Иван Иванович Дмитриев?» Крылов оторопел от неожиданности. Критика этого вельможи походила на глупую критику «низкого врага талантов», журналиста Каченовского, но Иван Андреевич с христианской скромностью ответил: «Не умею, ваше превосходительство», а придя домой, записал в своей тетрадке басенный ответ вельможе так же, как запомнил он нападки Каченовского и ответил на них убийственной басней «Свинья».
Но Иван Андреевич сдерживал себя, исправлял свой характер. Он отвыкал от вспыльчивости, от скорых решений, от способности мгновенно зажечься новой мыслью и, ухватившись за нее, нестись напролом.
Так было и с публикацией новых басен. Успех первой книги вызвал не поток новых произведений, а полное молчание. В течение целого года он не опубликовал ни одной новой басни. Редакции журналов упрашивали Ивана Андреевича порадовать их хотя бы одной басенкой. Он отговаривался недосугом, службой, ленью. И жизнь его на людях была действительно заполнена пустяками.
А дома он попрежнему работал над своими произведениями так, как никто из тогдашних русских писателей. Он не торопился обнародовать свои сочинения, памятуя, что лучше сделать меньше, но хорошо. Работа над баснями вынудила его оставить службу на Монетном дворе. Только в следующем, 1811 году Иван Андреевич решился отдать свои новые произведения на суд читателя.
Вторая книга имела не меньший успех, чем первая. И среди новых басен была басня «Листы и Корни», в которой автор сравнивал народ с корнями могучего дерева. Листья шумели о том, что они «краса долины всей» и что дерево только им обязано своей славой: ведь благодаря им оно было так величаво, так радовало глаз своей пышной красой, давало спасительную тень страннику и приют соловьям. Хвастливую речь листьев перебил глухой голос: «Примолвить можно бы спасибо тут и нам». И когда возмущенные листья спросили: «Кто смеет говорить столь нагло и надменно? Вы кто такие там, что дерзко так считаться с нами стали?»
Можно ли более ярко выразить вечную истину: правители приходят и уходят, а народ остается?
Но баснописец не говорил этого прямо, «затем, что истина сноснее вполоткрыта». Это мудрое изречение приведено в басне «Ворона и Лисица», написанной Иваном Андреевичем в начале второй его жизни. Истиной «вполоткрыта» пронизаны все басни с первой и до последней. Он и жил также «вполоткрыта».
Жестокая реакция, царский гнет и произвол вынудили Крылова вести такую двойную жизнь. Он не мог говорить прямо то, что думал, ему необходимо было скрывать свои мысли под маскою аллегории, и вел себя так, как будто он был не Крылов, а Волырк — «человек наоборот».
Эта жизнь давала ему возможность принимать участие в борьбе и помогать народу. Ведь он не просто осмеивал человеческие пороки. Каждая басня его была рождена современным ему событием — это были басни-сатиры на сановников, запускавших руки в государственный карман («Вороненок»), на установившийся и освещенный веками обычай протаскивать на высокие места «своих человечков» («Совет Мышей»), на государственный совет, о котором Крылов под личиной соловья непочтительно выразился: «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь» («Квартет»), на высокопоставленное аристократическое общество» («Гуси», «Листы и Корни») и даже на самого императора Александра I («Воспитание Льва»). Когда Крылова спрашивали об «умысле», он всячески открещивался от приписываемых ему задних мыслей и. ласково улыбаясь, продолжал упорно и настойчиво гнуть свою линию, не отклоняясь от нее ни на шаг.
С годами он становился умнее и мудрее. Он понял, что плетью обуха не перешибешь. Однако всем известно, что капля за каплей точит камень. Это была трудная, долгая, но зато верная работа Нави Волырк, или, читая, наоборот, Ивана Крылова, которого современники называли соловьем.
«СОЛОВЕЙ»
Когда сидишь в тюрьме, до песен ли уж тут?
Но делать нечего: поют
Кто с горя, кто от скуки.
Крылов, «Соловьи».
Его недаром прозвали соловьем.
Петром Великим русской литературы, первым поэтом Руси, по образному выражению В. Г. Белинского, был Михайло Ломоносов. Он стоял впереди наших поэтов, как вступление впереди книги. «Его поэзия — начинающийся рассвет», так говорил Н. В. Гоголь.
Суровая северная лира зазвучала на заре XVIII века.
И, словно откликаясь на ее призыв, поднялся Гаврила Державин. Это была заря поэзии, яркая, алая, державная заря.
А за нею встал из народных глубин могучий и кряжистый Иван Крылов. Его басня была солнцем поэзии, взошедшим над горизонтом. Потоки живительного света пролились по всей стране — все стало видно ясно.
В годы, когда Крылов стал знаменитым, Александр Пушкин был еще мальчиком. Слава еще ждала его впереди.
Ломоносов родился в начале XVIII века, Пушкин — в канун XIX. За сто лет русская литература вышла из небытия и стала вровень с литературами мира.
Начиная с Крылова, музыка поэзии зазвучала так естественно, что современники не поняли ее, да и не пытались даже объяснить, ибо музыку объяснить нельзя. Ивана Андреевича прозвали соловьем, и это было, пожалуй, точным определением его таланта. Он — истинный соловей русской поэзии.
Его прозвали так за басню, где действует соловей, певец утренней зари Авроры. Многие поэты пытались передать пение соловья. Они хитроумно сочетали слова и звуки, описывая то впечатление, какое создает или оставляет по себе соловьиное пение.
Державин не раз старался решить эту трудную задачу. Он писал:
Ни Державина, ни других поэтов это описание не удовлетворило. Попытки продолжались. М. Попов, известный тогда поэт, так описывал пение соловья:
Видно, что автор старался во-всю. Он лез из кожи, потел, урчал, дробил, скрипел и вилял, как бедное существо в его стихотворении, где нет, увы, ни соловья, ни поэзии.
Крылов не подражал пению соловья, он просто рассказал о нем:
Каждая строчка была взвешена Крыловым, каждое слово испытано, сочетание слов проверено. С каким искусством передает он утреннюю дымку в пятой строке приведенного отрывка музыкальным сочетанием смутных и нежных звуков «омн», «аль», «эль», «ал», меж которыми едва приметно мерцает легкое «р», чтобы тут же размножиться, торжественно взлететь рокочущей стайкой «дро», «дру» «ро», «ра» и угаснуть в короткой строке: «внимало все тогда», полной медлительной задумчивости.
Из многих стихотворных размеров Крылов избрал для себя ямб — вольный, свободно текущий ямб, свойственный нашей речи. Баснописцы и прежде пользовались ямбом, но Крылов внес в этот размер необычную свежесть и яркость. Новизна объяснялась тем подлинно народным языком, которым написаны крыловские басни, языком гибким и точным, способным передать сложнейшие оттенки человеческой мысли.
Только одну басню — «Стрекоза и Муравей» — Иван Андреевич написал иным размером — легким, пляшущим хореем, а ямбом он овладел настолько, что мог выразить стихами все, что хотел когда-то сказать прозой.
Так Иван Андреевич примирил в себе прозаика и поэта.
Русский человек отличается широтой ощущения мира, богатством и разнообразием талантов, необычайной способностью быстро и глубоко осваивать новое и становиться мастером своего дела. Русский человек в характере своем как бы заключает черты своей родины, величественно раскинувшейся на просторах мира и полной самых разнообразных природных богатств. Крылов был настоящим русским человеком; он сочетал в себе лучшие качества своего народа: могучее здоровье, трудолюбие, терпение, находчивость, глубокий разносторонний ум, разнообразные таланты.
И было у него редкое качество — целеустремленность, уменье настойчиво, упорно добиваться цели.
Он мог стать гениальным прозаиком, замечательным художником, превосходным музыкантом, математиком, драматургом, режиссером, артистом, педагогом. Ведь он испытал все эти профессии и во всех показал свое мастерство. Он мог прославиться в любой из них. Но он избрал путь баснописца, отдал басне все свои таланты, и они отразились в ней, как в зеркале.
Некоторые его басни — это подлинные картины, полные ярких красок. Его перо сравнивали с кистью мастера. «Живопись в самих звуках!» восхищался Жуковский. «У него живописно все, начиная от изображения природы, пленительной и грозной и даже грязной, до передачи малейших оттенков разговора...» с восторгом писал Гоголь.
Художникам легко было иллюстрировать басни Крылова.
Многие басни его — это законченные музыкальные произведения, звучные, богато инструментованные, построенные по всем правилам, которыми руководствуется композитор.
Быть может, поэтому композиторы с такой охотой перелагали на музыку басни Крылова.
Большинство басен представляет собою превосходные одноактные пьесы-миниатюры: резкие, яркие характеры действующих лиц, живой остроумный диалог, быстрое развитие действия. Слова от автора напоминают сценические ремарки — пояснения действий. Разве его «Демьянова уха», «Волк и Ягненок», «Лисица и Сурок», «Лжец», «Два Мужика», «Любопытный» — не маленькие пьески?..
И потому-то вот уже в течение почти полутора веков они не сходят со школьных сцен и с подмостков театров.
Талант педагога чувствуется во всех без исключения баснях. Они воспитывают любовь к отечеству, внушают чувство гражданского долга, учат честности, благородству, бескорыстию, уважению к труду, к народу. Это — уроки жизни, практическая передача опыта и мудрости поколений.
И потому басни его служили, служат и будут служить вечным воспитательным целям, они «учительны», как и вся истинная русская литература.
Так Крылов соединил на узкой площадке басенного жанра, казалось бы, несоединимое и сделал это с блеском, достойным гениального человека, отдавшего басне большую часть своей жизни.
Жизнь его теперь текла более размеренно. По настоянию Оленина Иван Андреевич вновь начал служить — в Публичной императорской библиотеке. Директором ее был Оленин. Библиотекарями и помощниками он пригласил известных литераторов. Крылов был определен в отделение русских книг помощником библиотекаря В. Сопикова — первого русского библиографа.
Государственная публичная библиотека в год ее открытия.
С современной гравюры.
Служба отнимала у Ивана Андреевича много времени, но мало энергии, и он мог свободно заниматься чтением и работой над новыми баснями.
Он жил мудро, спокойно, словно не вмешиваясь в мирские страсти и посматривая на все. со стороны.
Только война выбила его из этого равновесия.
Наполеон, давно уже мечтавший поставить Россию на колени, двинул свою армию на восток.
Перед непобедимым Наполеоном трепетала вся Европа. Александр I откровенно, трусил, всячески оттягивал войну, пытался договориться с Наполеоном, хотя для всех было ясно, что войны не избежать.
Патриоты возмущались политикой царя, унижавшей достоинство России. Умные люди понимали, что договариваться с Наполеоном бесцельно. Надо было быстрее готовиться к борьбе с Наполеоном, а не терять времени. Но страх угнетающе действовал на Александра I.
Нерешительность России ободряла Наполеона. Армия его продолжала двигаться вперед. Наполеон наглел. Он не слушал никаких убеждений и увещаний. И в эти грозные дни Крылов написал басню «Кот и Повар».
Автор убеждал правительство «речей не тратить по-пустому», не уговаривать жадного кота Ваську, а употребить силу. В коте Ваське все увидели Наполеона, в поваре — Александра I.
Летом 1812 года Наполеон вторгся в Россию.
Общество возмущалось нерешительными действиями тогдашнего главнокомандующего Барклая де-Толли. Александр вынужден был сместить его, назначив ненавистного ему Кутузова, полководца умного, хитрого и проницательного.
В дни великой опасности Иван Андреевич пренебрег .своим решением ни во что не вмешиваться. Речь шла теперь о жизни страны, все личное отступало в сторону.
Крылов поднял на врага свое острое оружие — басню. Он живо откликался на все важнейшие события Отечественной войны. В басне «Раздел», он разоблачал Растопчина и Аракчеева — руководителей народного ополчения, затеявших распри и передряги из-за своих личных интересов. Басней «Обоз» он целиком оправдывал медлительность Кутузова. Баснописец понимал, что «повара» русской политики упустили немало драгоценного времени и не подготовились к войне, что приход Кутузова не может создать немедленного перелома в ходе военных событий. Широкое общество не понимало, почему полководец медлит. Не понимал этого и Александр I. Царь открыто обвинял главнокомандующего в том, что он уклоняется от встреч с неприятелем, что он отводит войска в глубь страны и не принимает боя.
Нужно было обладать проницательностью и мудростью Крылова, чтобы в горькие дни кажущегося поражения русской армии, в дни, когда Москва была отдана врагу, понять то, что стало понятным всем лишь после позорного бегства французов.
И, как привет гениальному полководцу, Иван Андреевич отправил Кутузову свою замечательную басню «Волк на псарне». Он сравнивал серого волка с Наполеоном в его знаменитом сером мундире, а Кутузова — с мудрым псарем, убеленным сединами, который не собирался заключать с волками мир иначе, «как снявши шкуру с них долой».
Басни Крылова, рожденные Отечественной войной, печатались в журналах и сразу же переходили в лубок — прототип наших плакатов Роста или окон ТАССа. Басенные лубки пользовались невиданным успехом. Иван Андреевич смело говорил о том, что его волновало, хотя мысли баснописца подчас расходились не только с общественным мнением, но и с высказываниями царя.
Крылов мог ожидать кары за смелые свои выступления, однако во имя родины он был готов на все. Правда, к исходу войны, когда победа ясно определилась, басни Крылова уже выражали всеобщее мнение: «Ворона и Курица», «Щука и Кот».
Война закончилась победой, и, забыв о недавних обвинениях, все наперебой восхваляли мудрую стратегию Кутузова. Было как будто забыто и крыловское свободомыслие. Но к баснописцу стали присматриваться внимательнее: это был не только хитрый, каким его считали, но очень умный, а следовательно, и опасный писатель. После победы над французами он не угомонился. Его ядовитая басенка «Добрая Лисица» — одно из замечательных произведений Ивана Андреевича — высмеивала казенное лицемерие по отношению к жертвам Отечественной войны; басня «Орел и Крот» была подозрительно похожа на старую басню о листьях и корнях. В новой басне народ снова противопоставлялся правительству; автор в который уж раз подчеркивал, что народ мудрее и умнее своих правителей.
Лубок времен Отечественной войны с басней Крылова «Волк на псарне».
В 1814 году Иван Андреевич опубликовал более двадцати басен. Такого урожайного года в его практике еще не было. Он гордился своим народом. За каких-нибудь пятьдесят лет Россия показала миру, что значит русский народ. В 1760 году германская столица увидела под своими стенами русскую армию, и немцы, с которых была сбита спесь, пресмыкаясь и унижаясь, вынесли победителям ключи от Берлина. В 1799 году суворовские орлы взлетели на Альпы, и русские знамена зашумели над Европой. А ныне русские солдаты, освободители Европы, шагали по мостовым Парижа. И немецкий фельдмаршал Гнейзенау писал: «Если бы не превосходный дух русской нации, если бы не ее ненависть против чуждого угнетения... то цивилизованный мир погиб бы, подпав под деспотизм неистового тирана».
Крылов знал, что слава России еще впереди. Он видел, что труд его нужен родине и народу. Это примиряло его с одиночеством, с тяжелой ролью мудреца, хотя он уже почти привык к своей новой жизни. По-прежнему он часто бывал у Олениных. Трогательная дружба с Елизаветой Марковной продолжалась Она нежно называла его «Крылышко». Как-то в приливе сыновних чувств Иван Андреевич сказал ей: «Елизавета Марковна, когда наступит мой час, я приду умереть к вам, сюда, к вашим ногам». Она была единственным человеком, с которым Крылов мог иногда по делиться своими радостями и печалями.
Здесь же, у Олениных, он часто встречался с талантливым поэтом Гнедичем, также работавшим в Публичной библиотеке. Оба они были холостяками. Оба прошли трудное начало жизни. И «Дума» Гнедича перекликается по мысли с автобиографическими строками псалма, написанного Крыловым. Гнедич писал:
И сейчас они жили одиноко, скрытно, будто тая про себя что-то, ведомое только им. Но характеры их были совершенно противоположны.
Гнедич был театрален, неестествен, напыщен, любил одеваться изысканно, говорить отточенными фразами, скандируя слова по-актерски. Образ жизни его был размерен по часам. Каждый свой жест он рассчитывал; казалось, он не живет, а играет какую-то странную роль вылощенного и выутюженного аристократа. Но таков он был на самом деле.
А Крылов, с его небрежной манерой одеваться, ходить развалисто, жить беспечно, превращая ночь в день, и днем засыпать на службе сном праведника, с его любовью хорошо покушать, всласть посмеяться, был совсем иным. Казалось, что он — это сама естественность, простота, душа нараспашку.
Свыше двадцати лет Гнедич переводил «Илиаду» Гомера. Это была цель его жизни: дать русскому народу гениальное творение древней Греции. И он с блеском решил эту титаническую задачу.
Крылова и Гнедича сближала общность идей и единое понимание первейшей задачи писателя: «пробудить, вдохнуть, воспламенить страсти благородные, чувства высокие, любовь к вере и отечеству, к истине и добродетели», как говорил Гнедич. Он высказывал открыто мысли, которые Крылов таил в себе.
Летом 1814 года Александр I — «победитель Наполеона»» — возвращался из Франции в Россию. Поэты готовили ему достойную встречу. Старик Державин написал торжественную кантату и хвалебную оду в стиле своих старых од. Пышными стихотворениями отметили возвращение царя Жуковский, Карамзин, Востоков, и даже молодой Пушкин (он тогда учился в лицее) написал оду «На возвращение государя императора из Парижа».
Иван Андреевич знал, что в победе над французами Александр I менее всего был повинен, но понимал, что ему все равно придется как-то откликнуться на «знаменательное» событие. И до того еще, как поэты начали славословить Александра, Крылов написал маленькую басенку «Чиж и Еж».
Этой басенкой он отмежевывался от хора славословцев, пользуясь для этого совершенно новым приемом: из признанного соловья поэзии он превратился в маленького чижа, который не пел, а только чирикал про себя.
Когда лучезарный Феб, бог солнца, вернулся на Землю, то его встретил хор громких соловьев. А чиж умолк; у него не было такого голоса, чтобы достойно величать Феба, а петь слабым голосом он, конечно, не смел. И басня заканчивалась тонкой насмешкой:
Слово «Александр» было набрано крупными буквами. И все же это не было прославлением царя, а, наоборот, отказом от его прославления. И эта басня была написана так тонко, что никто не мог обвинить Ивана Андреевича в чем-либо предосудительном. Он не унижал ни себя, ни своей поэзии.
В том же году «во уважение отличных дарований в российской словесности» помощник библиотекаря, титулярный советник И. А. Крылов был пожалован в коллежские асессоры.
Этот чин был вершиной успеха покойного Андрея Прохоровича на его жизненном пути. Время от времени Иван Андреевич вспоминал об отце, сидя в Публичной библиотеке в окружении десятков тысяч книг. Бедный капитан Крылов, должно быть, и во сне не мечтал увидеть такое богатство. Но чаще Ивану Андреевичу приходилось вспоминать Не отца, а брата.
Братец скромно и неприметно проходил по земле, отдавал родине свои скромные силы. Таких людей, как Левушка, — миллионы. Это — пчелы, вечные труженики, без которых не мог бы существовать мир.
И в утешение им Крылов пишет басню «Орел и Пчела».
И когда орел удивляется, зачем пчела бьется целый век, если ей суждено умереть в безвестности, пчела отвечает ему смиренно:
Слава Крылова росла. В 1815 году вышли «Басни Ивана Крылова в трех частях»; третья часть книги была составлена из новых басен. В следующем году были изданы четвертая и пятая части. Тут уже почти не было переводов; большинство басен было оригинальными. Книги раскупались мгновенно. Честолюбивые мечты молодости, когда Иван Андреевич стремился к славе, исполнились. Он сравнивал славу с тенью: «Он к ней, она вперед; он шагу прибавлять, она туда ж; он, наконец, бежать. Но чем он прытче, тем и тень скорей бежала...» А стоило ему обернуться к славе спиной — и что же? «Тень за ним уж гнаться стала»[43].
Титульный лист третьей книги басен.
Честолюбие, которого он не скрывал, уживалось и нем с величайшей скромностью. Его спросили: чем он объясняет такую огромную популярность своих книг и почему он предпочел басню другим родам поэзии? Крылов шутливо ответил, что он нарочито избрал такой выгодный жанр, как басня. «Этот род понятен каждому; его читают и слуги и дети. — И с лукавой улыбкой добавил: — Ну, и скоро рвут». Вот этим, мол, и объяснялась постоянная потребность в новых книжках.
Он смущался от похвал, краснел и терялся. И только близкие друзья слышали от него, как однажды Иван Андреевич был искренне тронут своей известностью: он шел летом по глухой улице, где дома по-провинциальному были отгорожены от улицы маленькими заборчиками; за ними зеленели чахлые садики.
В одном из таких садиков играли дети под присмотром какой-то женщины, очевидно матери. Пройдя мимо, он случайно оглянулся и увидел, что мать поочередно брала на руки ребят и показывала им его, Крылова.
Откровенничал Иван Андреевич не часто и позволял себе рассказывать о таких случаях только Гнедичу или Елизавете Марковне Олениной.
Крылов был тогда самым популярным человеком в Петербурге. Залучить Ивана Андреевича в гости было большой честью для хозяев, так как он обычно отговаривался недосугом. Его заманивали всячески, соблазняя роскошными кулебяками и молочными поросятами под хреном и в сметане.
Биографы согласно свидетельствуют, что умеренность в пище не относилась к числу его добродетелей. Однажды за обедом во дворце сосед Крылова по столу, поэт Нелединский[44], шепнул Ивану Андреевичу: «Ты ешь за десятерых. Откажись хоть от одного блюда. Разве ты не замечаешь, что государыня поминутно на тебя взглядывает, желая попотчевать?» — «Ну, а вдруг не попотчует», отвечал Крылов серьезно и продолжал щедро себя угощать.
На вечерах и встречах с друзьями Крылова упрашивали прочесть новую басню, зная, что у него всегда есть в запасе «сюрприз». Иван Андреевич редко соглашался, но уж если читал, то это было настоящим литературным событием, и «впечатление, производимое его хорошенькими творениями, было неимоверное; часто не находилось места в зале; гости толпились около поэта, становились на стулья, столы, и окна, чтобы не проронить ни слова»[45].
Особенным успехом пользовались его басни «Осел», «Крестьяне и Река», «Лиса-строитель». В первой басне Иван Андреевич раскрывал загадку — почему глупость Осла вошла в пословицу. В основе загадки лежала очаровательная сказочка о том, как «стал осел скотиной превеликой». А вся басня говорила о глупых сановниках с низкой душой и ослиным нравом.
Басней «Крестьяне и Река» Крылов вскрывал поголовное взяточничество — подлинную язву российской действительности. Мелких взяточников баснописец сравнивал с речками и ручейками, которые своими разливами причиняли крестьянам большие беды. Крестьяне решили просить управы у реки, в которую впадали все эти ручейки и речки, а придя к реке, увидали, «что половину их добра по ней несет». Выходило так, что и жаловаться было некому:
Это была истина уже не «вполоткрыта», а почти нараспашку. И такой же голой правдой выглядела история о том, как лев, строя курятник, чтобы обезопасить себя от воров, поручил постройку великой мастерице лисе. Курятник был построен на диво, а куры все же пропадали, так как хитрая лиса-злодейка
Так Крылов своими баснями помогал народу, открывая ему глаза на социальные язвы и указывая, где именно, в каком закоулке прячется враг.
В 1816 году Иван Андреевич стал библиотекарем, занял место умершего Сопикова и освободившуюся сопиковскую квартиру в доме на Невском проспекте, напротив Гостиного двора. В том же доме, этажом выше, жил Гнедич.
Друзья вместе ходили по утрам в должность, вместе обедали в Английском клубе. Иван Андреевич не любил возиться с хозяйством, дома у него было пусто, одиноко, не прибрано, б трех парадных комнатах холостяцкой квартиры пахло тоской, и когда он в дождливые вечера брал в руки скрипку, в углах пустых комнат глухо, как из бочки, звучало ответное эхо.
У него была дорогая итальянская скрипка, о какой он мог только мечтать тридцать лет назад. Но играл он редко, хотя не раз задумывал всерьез заняться музыкой, покупал ноты, нотную бумагу, сочинял. Музыка была отдыхом. Его игру слушала только ленивая Фенюша, которую он подобрал с маленьким ребенком на петербургской улице. Фенюша никогда не служила в прислугах, старалась пореже бывать в комнатах Ивана Андреевича и приходила туда только топить печи да подать чай или кофе доброму барину. Иван Андреевич давно уже забыл о нужде. Он служил, получал деньги за басни и пенсию в 1 500 рублей ассигнациями в год, которую назначил ему Александр.
Попрежнему он продолжал помогать Левушке, который писал братцу-тятеньке, что присланные им 100, 150, 200 или 300 рублей вызволили его из очередного бедствия. «Один мундир, да и тот с плеч слезает, а рубашки хотя и три, но и те в дырьях», жаловался Левушка и пенял на слабость членов и болезнь глаз — и здоровьем братец пошел в папеньку! Теперь он, кстати, был произведен в капитаны, «успел под туркою быть в пяти сражениях», участвовал в походе в Пруссию, был и в гвардии, и в армии, и в гарнизоне. Скромная пчела делала свое дело.
Иван Андреевич жалел братца. Левушка жил в Виннице, служа в инвалидной команде. Все у него не ладилось — и служба, и здоровье, и хозяйство. Крылов помог осуществить заветную мечту брата — обзавестись собственным хутором. Но год спустя пришло письмо: «Пожалей обо мне: хутор мой сгорел сего генваря 15-го, в 7 часов вечера». Иван Андреевич выручил Левушку. Тот снова отстроился, купил корову, кур, гусей, завел огород. Но птицы дохли, корова пала, огород засох. Даже часы, которые Иван Андреевич привез в подарок из Риги, Левушка не мог сберечь. «Твои золотые часы с эмалию... под городом Пултуском, когда вел пленных французов до г. Минска, один французский поручик украл их у меня», печалился Левушка. Пришлось покупать другие — серебряные.
Это была трогательная братская любовь. Между братьями шла оживленная переписка. Иван Андреевич заботился о Левушке, как о ребенке. Он хотел перевести брата в Петербург, чтобы быть к нему поближе, но тот боялся холода «больше, чем яда». Лев Андреевич удивлялся щедрости своего брата, который никогда и ни в чем ему не отказывал: «Ты подлинно говоришь, как великодушный человек, что нас только двое и после нас наследников не останется, — писал Левушка, — но только не все так думают, а одни высокие благороднейшие души».
Крылов в 1816 году.
С портрета художника Кипренского.
А об Иване Андреевиче не заботился никто, кроме Елизаветы Марковны Олениной. Но се милые заботы были хотя и искренними, но все же чужими. «Крылышко» принужден был сам устраивать свою жизнь, свой быт. Он покупал ненужные громоздкие вещи, дорогие картины в тяжелых золотых рамах, и все же в петербургской его клетке было скучно, просторно и пыльно. Иван Андреевич махнул рукой на домашний уют. Он приходил домой поздно ночью, проводя вечера то в театре, то в концерте, то у друзей. С тех пор, как Жуковский переселился из Москвы в Петербург, в его доме по субботам собирались Вяземский, Оленин, Батюшков, Гнедич, молодой Пушкин. Жуковский входил тогда в славу, но среди всех гостей Иван Андреевич был самым знаменитым. Однако держался он очень скромно, как обыкновенный, ничем не примечательный человек. Как-то раз он начал рыться на письменном столе в кабинете хозяина. Его спросили, что Ивану Андреевичу надобно, что он ищет. «Да дело несложное, — отвечал Иван Андреевич. — Надобно закурить трубку. У себя дома я рву для этого первый попавшийся под руку лист, и вся недолга. А здесь, — подчеркнул он, — здесь нельзя так. Ведь тут за каждый листок исписанной бумаги, если разорвешь его, отвечай перед потомством».
Это не было рисовкой. Свои черновики Крылов уничтожал безжалостно. А по черновикам его, которых сохранилось немного, можно судить о гигантском труде, вложенном в басни великим мастером и художником слова Крыловым.
Немало лишней работы выпадало на его долю и по вине цензуры. Цензоры заставляли переделывать басни так, что их замысел подчас искажался. Ярким примером может служить басня «Рыбья пляска».
Рукопись Крылова. Начало басни «Рыбья пляска» и последние строки, переделанные Крыловым по требованию цензуры.
Староста рыбьего народа, сидя на бережку, жарил на сковородке рыбку. В это время явился грозный царь Лев. Он справился, как живется его народу, и староста сказал, что тут им не житье, а рай, и вот старшины жителей воды пришли приветствовать царя.
Эта сказочка намекала на истинное происшествие с Александром I. Цензура поэтому нажала на баснописца. Ивану Андреевичу «приказано было переделать эдак», вспоминала дочь Оленина, и Крылов, чтобы спасти басню, переделал ее целиком, с начала до конца, а конец выглядел уже «эдак»:
В «эдакой» редакции царь стал милостивым, проницательным, справедливым. Крамольного мужика заменила лиса. И только этот текст, под заголовком «Рыбьи пляски», был разрешен цензурой[46].
Борясь с цензурой и всячески увертываясь от ее опеки, Крылов все же умело свел с нею счеты, опубликовав невинную басенку о кошке и соловье. Цензура спохватилась поздно. Басня уже была напечатана.
В ней Крылов рассказывал о злой кошке, интересовавшейся соловьиным пением. Поймав соловья, она требовала песен, желая убедиться в таланте прославленного певца, но бедняга едва дышал и только попискивал от страха. Кошка разочаровалась в соловье. Он в пении, по ее мнению, был вовсе не искусен:
«ЛЕНИВАЯ МУЗА»
Так дарование без пользы свету вянет,
Слабея всякий день,
Когда им овладеет лень...
Крылов, «Пруд и река».
Басня о кошке и соловье была опубликована вслед за появлением в печати «Рыбьих плясок» в 1824 году, после нескольких лет полного молчания.
В 1819 году Иван Андреевич издал книгу басен в шести частях. В ней был помещен перл басенной поэзии — «Овцы и Собаки»:
Прошел слух, что Крылов больше не будет писать, что он расстался с поэзией. Слухам не верили, Иван Андреевич уклончиво ссылался на государственную службу, на слабую память, на преклонные годы. Но и Крылову тоже не очень верили. Тем более, что выглядел он превосходно, часто бывал у друзей, на званых вечерах, в концертах и в театре, где с успехом шли его опера и комедии. Но иногда Крылов будто проваливался, и даже друг его Гнедич терялся в догадках. Иван Андреевич почти всерьез говорил ему, что на него нашла блажь и что он играет в карты.
Все близкие друзья знали, что Ивана Андреевича всегда можно было найти на пожаре, где бы и когда бы этот пожар ни случился. Старая детская любовь к большому огню переросла со временем в привычку. Для нее не были препятствием ни дождь, ни усталость, ни буря, ни пурга. Увидев сигнальные шары, поднимающиеся на пожарной каланче, услышав набат или громыханье пожарных колесниц, сопровождаемое воплями медной трубы, Крылов бросал все дела и спешил на место происшествия. Он был способен вскочить среди ночи с постели, мгновенно одеться и отправиться на край города. Биографы Крылова утверждают, что он не пропустил ни одного крупного петербургского пожара.
Искать Крылова на пожарах было все же неудобно, а на людях он почти не появлялся, если не считать службы, — ее он посещал аккуратно. Оленины скучали по Иване Андреевиче, приглашали его к себе, однако и к ним он выбирался редко, жалуясь на старческие немощи.
По вечерам и в свободные дни он занимался новым увлечением — просиживал долгие часы над греческим евангелием. Это была единственная у него книга на греческом языке. Примерно с год назад у Олениных зашел разговор о том, что учиться языкам в преклонном возрасте невозможно. Особенно труден, говорил Гнедич, язык греческий. Крылов оспаривал это, утверждая, что всякому языку можно выучиться в любом возрасте. Гнедич, обиженный за греческий — он-то изучал его всю жизнь, — сказал, что доказательство лучше спорных утверждений. «Попробуйте. Докажите».— «Ну и что же, — легкодумно засмеялся Иван Андреевич, — давайте биться об заклад». Побились об заклад и забыли об этом.
Ивану Андреевичу перевалило за пятьдесят, но он решил доказать свою правоту и начал изучать язык без учебников, по двум евангелиям — греческому и русскому.
Спустя два года он уже свободно читал и переводил. Накупив книг греческих классиков, Иван Андреевич сложил их у себя под кроватью и перед сном обязательно прочитывал несколько страниц.
Эзопа он уже читал свободно, а в Геродота влюбился и хотел перевести его книгу. Несколько вечеров подряд Иван Андреевич занимался «Одиссеей». Русского перевода «Одиссеи» еще не было, и он для пробы перевел из нее вступительную песню.
Однажды за обедом у Олениных, где был также Гнедич, Крылов напомнил о старом их споре. Все рассмеялись. О споре давно уж все забыли. Но Иван Андреевич всерьез предложил назначить ему экзамен, чтобы выяснить наконец, прав он или неправ.
Устроили экзамен. Вначале его вели шутя, не желая позорить крыловские седины, потом увлеклись и спрашивали Ивана Андреевича с пристрастием. Успех был полный. Гнедич признал себя побежденным, но говорил всё же, что спор не в счет, так как Крылов существо не обыкновенное, а гениальное.
Журналы и издатели продолжали выпрашивать у Ивана Андреевича новые басни. Увы, он ничем не мог порадовать читателей. Пришлось согласиться, что муза его действительно замолкла. И это походило на правду; автор был уже немолод, за славой ему нечего было гоняться, он был государственным чиновником, его жаловали чинами и орденами, удвоили пенсию. Крылов уже был надворным советником. Писатель мог жить спокойно и пожинать лавры.
Иван Андреевич, однако, вовсе не собирался успокаиваться — ведь он сказал еще далеко не все, что хотел сказать. В тиши своего неуютного холостяцкого дома он готовил новую книгу басен, среди которых была басня «Пестрые Овцы». Ей Крылов придавал особое значение. Взыскательному художнику снова казалось, что талант его слабеет, а полагаться только на дарование и на вдохновение — это пустое дело.
Без упорного труда, настойчивости, терпения ничего доброго не может быть создано. И он по многу раз переделывал свои произведения, рвал лист за листом, и снова перо его летало по бумаге.
Правда, сейчас уже никакие Каченовские не смели критиковать крыловские басни. Но тем строже относился Иван Андреевич к своей работе, памятуя, что он работает не для денег или славы, а для народа.
Крылов любовно следил за подымающейся русской литературой. Стихи молодого Пушкина, с которым он встречался у Жуковского, радовали Ивана Андреевича. Выход «Руслана и Людмилы» был для него праздником. Поэму бранили литераторы старой школы. Критики нападали на нее со всех сторон. Одна статья вывела Крылова из себя. Он вмешался в полемику, уязвив автора статьи острой эпиграммой:
С болью в душе наблюдал он, как на его глазах пропадали талантливые люди: царская Россия давила и угнетала их, они голодали, бедствовали, спивались, исчезали для искусства и для общества. Так пропал без применения гигантский талант знаменитого русского механика Кулибина; на памяти Крылова погиб талантливейший архитектор Баженов, затравленный бездарными и капризными самодурами-сановниками. Иван Андреевич был свидетелем гибели превосходного графика Скородумова, который кончил образование в Англии и, несмотря на лестные и выгоднейшие предложения лондонских издателей, решил вернуться на родину. Родина встретила художника неприветливо. Он не знал, к чему приложить свои руки, затосковал, спился и погиб.
Но еще горше было Ивану Андреевичу видеть, как большие таланты разменивались на мелочи, на поденки, на погоню за дешевой славой. Обычно он никогда не хвалил, не ругал, не замалчивал поэта, музыканта или художника, а давал им дельные и умные советы трудиться не покладая рук, учиться каждый день, совершенствоваться каждый час. «Дарование слабеет, когда вы его не совершенствуете, — говаривал он. — Искусство — это не вдохновение, а упорный труд».
Крылов гуляет по Невскому проспекту.
С современного рисунка
Крылов встретился как-то у князя Шаховского с молодым чиновником Григорьевым. Григорьев декламировал стихи, и гости восторгались его мастерским чтением. Похвалы сыпались на юношу. Один только Иван Андреевич молчал и, когда восторги стихли, спросил:
— А что, умница, ты учишься у кого-нибудь?
— Никак нет-с, — отвечал тот.
—- Ну, так и подлинно бы, князь, — сказал Крылов, обращаясь к Шаховскому, — поскорее бы им заняться, а то, пожалуй, еще и с толку собьют... С этим талантом надобно поступать осторожно... — И тут же Иван Андреевич посоветовал юноше не разбрасывать своего таланта по гостиным, забыть об аплодисментах и, главное, учиться, работать, потому что без труда любой талант рассеется прахом.
А спустя несколько лет Крылов увидел на сцене превосходного артиста и узнал в нем молодого чиновника Григорьева. Это был известный в свое время русский актер, выступавший на сцене под псевдонимом Брянский.
После «греческой истории» Крылов стал чаще появляться на людях. Летом Иван Андреевич обычно выезжал к Олениным на дачу, под Петербургом. Приютино, как называлась оленинская дача, было чудесным уголком, где Иван Андреевич, отдыхая, играл с детьми Елизаветы Марковны, — они любили дедушку без памяти, — писал веселые стишки и пародии на басни, смешные надгробные надписи — эпитафии и шуточные двустишия, вроде: «Ест Федька с водкой редьку, ест водка с редькой Федьку».
Время от времени Крылов бывал у талантливого молодого писателя А. Перовского[47]. Зашла как-то речь о привычке ужинать — полезно это или вредно? Одни уверяли, что они отучились от ужинов и чувствуют себя прекрасно, другие собирались бросить эту привычку. Иван Андреевич, оторвавшись на мгновенье от приятного занятия — он накладывал на тарелку кушанье, — проговорил:
— А я, как мне кажется, ужинать перестану в тот день, с которого не буду обедать.
Он был уже немолод, и у него сложились привычки, от которых ему и не хотелось отказываться: за письменным столом он не мог работать, а полулежал с листком бумаги и карандашом на излюбленном своем диване. Да и письменного стола у него не было. Он привык курить сигары, хотя братец Левушка присылал в подарок пачки душистого турецкого табака. На окружающую обстановку Иван Андреевич не обращал никакого внимания, что вполне устраивало его Фенюшу. Он любил свежий вольный воздух и потому в большой комнате, где стоял широкий диван, всегда была открыта форточка. Какой-то любопытный голубь—их много кружилось над сытным Гостиным двором — залетел однажды в комнату к Ивану Андреевичу, поклевал хлебные крошки, рассыпанные на подоконнике — здесь Крылов обычно пил свой утренний чай, — и привлек новых товарищей. Крылатые гости не обращали на хозяина никакого внимания. Он не проявлял воинственных намерений, а с радостью слушал воркованье и несложные ссоры своих гостей. Потом для их удобства на подоконниках рассыпали корм и поставили блюдца с водой.
Крылов стал привыкать к медлительной жизни. Писать письма он не любил, исключением был только брат. С ним велась аккуратная переписка[48]. Левушка жаловался на ленивую и сонную музу Ивана Андреевича, потому что давно уже не видел новых его басен. Он безмерно гордился знаменитым своим братом.
А слава Ивана Андреевича давно уже перешагнула границы родины. Его переводили во Франции, в Италии, в Германии, в Англии, в скандинавских странах, о нем писали как об истинном представителе России. Левушка с восторгом читал парижскую книгу басен Крылова, присланную ему братом. Перевод его не удовлетворил, но слова французского переводчика о том, что всякая просвещенная страна считала бы для себя честью иметь такого писателя своим соотечественником, наполняли сердце Левушки горделивой радостью. «Этого, я думаю, еще никогда никто в России не слыхал», писал он Ивану Андреевичу.
Мнение Крылова-младшего о баснях своего брата, которое он высказал в одном из своих писем, было, конечно, не только его личным мнением, а выражало взгляд огромного большинства читателей. «Басни г. Измайлова, — писал Левушка, — в сравнении с твоими, как небо от земли; ни той плавности в слоге, ни красоты нет, а особливо простоты, с какою ты имеешь секрет писать, ибо твои басни грамотный мужик и солдат с такою же приятностью может читать... Читал и сочинения г. Жуковского, но он, как мне кажется, пишет только для ученых и более занимается вздором, а потому слава его весьма ограничена. А также г. Гнедич, человек высокоумный, и щеголяет на поприще славы между немногими. Но как ты, любезный тятенька, пишешь—это для всех: для малого и для старого, для ученого и простого, и все тебя прославляют...»[49]
Крыловские басни были известны действительно всем. Их знали и грамотные и неграмотные. Ни Державин, ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Гоголь не пользовались при жизни такой славой, как Крылов. И самому Ивану Андреевичу пришлось случайно убедиться в своей популярности.
Как-то зашел он в магазин полакомиться устрицами, до которых был большой охотник. В магазине он встретился с крупным сановником; расплачиваясь за свою покупку, сановник выяснил, что у него нехватает с собою денег, и, не сомневаясь в том, что хозяин магазина его знает, спросил: может ли тот поверить ему на слово? Купец извинился, что не имеет чести его знать, и, обращаясь к Крылову, сказал: «Вот ежели бы за вас поручился Иван Андреевич, то я с удовольствием...» — «А откуда ты меня знаешь? — удивленно спросил Крылов. — Ведь я у тебя впервые». — «Помилуйте, Иван Андреевич, — улыбнулся купец, — да вас, я думаю, всякий мальчишка на каждой улице знает».
Это очень польстило Крылову. Он был доволен собою, купцом, сановником, миром и растранжирил в магазине все деньги, что с ним были. Возвращаясь домой, он вспомнил, что хотел купить нотной бумаги, и зашел в гостинодворскую лавочку напротив своей квартиры. «А за деньгами пришлите ко мне на дом, — не-брежно сказал он, протягивая руку за свертком, — моя квартира в двух шагах отсюда. Вы ведь знаете меня — я Крылов». — «Помилуйте, сударь, как можно знать всех людей на свете, — проговорил лавочник и убрал с прилавка бумагу. — Много тут живет народу».
Крылов расхохотался. То был достойный урок его гордости. Он с удовольствием рассказывал об этом и Гнедичу, и Плетневу, и своим товарищам в библиотеке. Как истинный мудрец, он во всем мог видеть смешную сторону.
Когда Ивану Андреевичу минуло пятьдесят три года, у него начались приливы крови. Он никогда не болел, не признавал докторов и редкие головные боли лечил своеобразным лекарством — чтением глупых романов. И «средство» обычно помогало. Однажды ночью он проснулся, как от удара. Руки не двигались. Сердце замирало. Это и был первый удар — следствие одинокой, недвижной жизни при богатырском здоровье Ивана Андреевича.
Он перенес болезнь в одиночестве. Второй удар был серьезнее первого. Паралич поразил лицевые мускулы. Тяжелое тело стало чужим. Через силу Крылов поднялся, вышел из дому и, шатаясь, побрел сквозь вьюгу и ветер на Фонтанку, к Олениным. Он добрался туда не скоро — измученный и умирающий от слабости. Елизавета Марковна бросилась к нему: «Что с вами, Крылышко?» И, едва шевеля губами, Иван Андреевич прошептал: «Помните, я сказал вам, что приду умереть у ног ваших».
Его уложили в постель, вызвали докторов, окружили заботливым уходом. Он поправлялся медленно. Могучий организм его боролся со смертью. И она отступила снова.
Часть лета Иван Андреевич провел в Павловске, куда его пригласила вдовствующая царица. «Под моим надзором он скорее поправится», сказала она. Крылов уже чувствовал себя совсем хорошо; несколько вечеров сряду он читал царице и ее фрейлинам басни и отрывки из своих старых комедий. Среди басен было много таких, которых еще никто не знал. В газетах появились сообщения о том, что И. А. Крылов, долго отдыхавший на своих лаврах, намеревается издать седьмую книжку своих басен. Намекая на ленивую и сонную его музу, «Литературные листки» писали: «Радуемся пробуждению таланта первого русского баснописца и нетерпеливо ожидаем исполнения сего намерения». Сообщалось, что новых басен будет двадцать, затем это число повысилось до тридцати, постом была установлена достоверная цифра — двадцать семь.
Одной из первых до появления книги была опубликована басня Крылова «Кошка и Соловей». Она была направлена против цензуры, и это сразу же поняли все.
А цензура в эти годы начинала свирепствовать. Александр I с тревогой выслушивал доклады и читал донесения о смутных настроениях в обществе. Во время заграничных походов, долгого пребывания во Франции русские солдаты и офицеры видели иную жизнь. Вернувшись в Россию, солдаты роптали: «Мы проливали кровь, а нас опять заставляют потеть на барщине. Мы избавили родину от тирана, а нас вновь тиранят господа»[50]. Чтобы не заражать страну вольным духом, принесенным из-за границы, Александр I распорядился поскорее «израсходовать» солдат, бывших в оккупационной армии. Их загнали на Кавказ и в стычках с горцами «израсходовали» довольно быстро.
«Израсходовать» дворян, побывавших за границей, было труднее. Они поговаривали о революции, об ограничении власти царя, о парламенте. Организовались «тайные общества», там обсуждали Проекты будущего государственного устройства. В газетах и журналах появлялись не допустимые с точки зрения царя статьи, рассказы, стихи. Александр I приказал внимательно следить за печатью. Был издан новый закон о цензуре, расширявший ее права. Комедия Грибоедова «Горе от ума» не могла увидеть света. Она ходила в списках. Молодой писатель Катенин хотел издать книжку стихотворений. «Уверен по совести, что в них нет ни одного слова, ни одной мысли непозволительной, — писал он Пушкину осенью 1824 года, — но все боюсь, ибо никак не могу постичь, что нашим цензорам не по вкусу и как писать, чтобы им угодить»[51].
Назревали серьезные события. Крылову захотелось поехать туда, где он бывал в молодости, — на Балтику, в Ригу, в Ревель. Оленин дал ему отпуск. Крылов сел на пароход — это было новинкой — и в течение месяца побывал всюду, куда его тянули воспоминания.
Вернувшись в Петербург, он нашел письмо от Левушки. Старый воин волновался за тятеньку, как бы тот не потонул, и благодарил бога за благополучное возвращение, ведь он сам бывал на море, «испытал сию непостоянную стихию: шесть месяцев не сходил с корабля и видел все ее проказы». Иван Андреевич послал брату бодрое письмо, очередную порцию денег, свой новый портрет, гравированный для новой книги басен, и уселся за работу.
Помощником Ивана Андреевича по библиотеке был лицейский друг Пушкина — поэт Дельвиг. Он взял у Крылова несколько новых басен для своего сборника «Северные цветы» и несколько басен с согласия автора послал Рылееву и Бестужеву, издателям журнала «Полярная звезда». Книга Ивана Андреевича с двадцатью семью баснями уже была в типографии.
Жизнь вошла в свою колею: утром — библиотека, днем — Английский клуб, вечером — семья Олениных. Крылов попрежнему был уравновешен, шутил, и вдруг в один из дней поздней осени стал мрачен, как туча: улыбка сошла с его лица, никто не слыхал от него ни одного живого слова, он сидел, часами не двигаясь. Но попрежнему он вел тот же образ жизни — ходил на службу, в клуб, к Олениным, где он мог не опасаться, что начнут допытываться о причине такого резкого перелома в его настроении. Елизавета Марковна понимала, что случилось какое-то большое несчастье. Но если Иван Андреевич молчал, значит она не вправе была спрашивать. Так прошла неделя, другая, третья, и туча медленно стала рассеиваться. Крылов становился прежним.
Как-то вечером Елизавета Марковна и Крылов остались одни. За окном бушевала январская вьюга, а в полутемной гостиной было тепло и тихо, на мягком ковре дрожали отсветы огня, пылавшего в камине. Елизавета Марковна наклонилась к Ивану Андреевичу и спросила его участливо:
— Скажите, Крылышко, что с вами было? Вы ведь на себя не походили.
— Ах, Елизавета Марковна, — сказал Крылов вздохнув, — у меня было на свете единственное существо, связанное со мною кровными узами. У меня был брат. Недавно он умер. И теперь я остался один.
...Жизнь вытеснила печальные воспоминания. Новая книга басен снова заставила заговорить о Крылове всю Россию. В книге было только двадцать шесть новых басен, а не двадцать семь. Двадцать седьмую цензура вычеркнула целиком.
Это была басня «Пестрые Овцы».
Крылов не смог перехитрить хитрую кошку. И ему надоело хитрить. Он устал и готов был отказаться от своей славы, от золоченой клетки, от ласковых забот хозяина-птицелова. Он ясно сказал об этом своей басней «Соловьи». В ней он говорил о хозяине, который тем плотней держал взаперти бедняжку соловья, чем приятней и нежней тот пел. Он неспроста подарил эту басню «птицелову», и маленькая Варенька, любимица Ивана Андреевича, сделала своей нетвердой рукой невинную, но точную приписку — «для батюшки А. И. Оленина». Ивану Андреевичу не хотелось больше петь. Покойный Левушка, должно быть, правильно назвал его музу ленивой и сонной. Она, наверное, и была такою, только он заставил ее трудиться до седьмого пота, до седьмой книги басен. Но теперь лень могла вступить в свои права. С него было достаточно!
РЕКА ЖИЗНИ
Почти у всех во всем один расчет:
Кого кто лучше проведет,
И кто кого хитрей обманет.
Крылов, «Купец».
Медлительно потекли дни.
Внешний образ жизни Ивана Андреевича не изменился. Все осталось таким же, как и было. Но он настороженно ждал событий. Внутренне он мог быть доволен. что «Пестрые Овцы» не были напечатаны. Цензура, конечно, уразумела тайный смысл басни.
Так утвердительно начиналась эта басня. Очевидно, всякому было ясно, кто такой «лев» и что за звери «пестрые овцы».
Басня продолжалась. Лев призвал на тайный совет лису и медведя, и те решали, как помочь своему властелину:
Но лиса, увидев, что лев хмурится, что он не доволен медвежьим советом, в котором современники сразу же узнали аракчеевские методы борьбы с инакомыслящими, предложила иную тактику. Конечно, передушить— самое бесхлопотное дело. Но надо ведь соблюсти видимость законов. Живем-то мы как-никак в цивилизованном обществе... И лиса заговорила елейным голосом:
И заключалась басня подозрительным стишком:
Нет, Иван Андреевич мог быть доволен, что басня эта не попала в печать!
Уже многие понимали суть его творчества. Правительство, казенные критики-монархисты, официальная пресса на все лады утверждали, что крыловские басни — это моралистические, нравоучительные произведения, хотя любому невооруженному глазу было понятно, что его басни — острейшие сатиры. Своими баснями Крылов не утешал, а тревожил читателей. Он как будто бы не опровергал монархического строя, его установлений, обычаев, нравов, но отрицал все это со всей силой, своего таланта. Внешне его басни были образцом безобидности. Но под этой прозрачной маской жила, ирония, ненависть, гнев. И многим уже было вдомек, что и сам автор похож на свои произведения. Он вовсе не был таким добрым, покладистым, сговорчивым. И все же приходилось сомневаться — так ли это? Неужели он ведет двойную жизнь?
Жизнь Крылова, походила на старую его басню о чудесном ларчике. Над ним возились, мудрили, нажимали кнопки, искали потайных секретов... А ларчик открывался просто.
В то смутное время не один Крылов вел такую странную жизнь. Многим приходилось таить свои мысли, скрывать истинное свое лицо.
Князь Вяземский понимал Крылова. Он тревожился о своем друге Пушкине, который был в Михайловском, в ссылке, в опале, и хотел ему помочь. Но Пушкин не умел сдерживать ни своего языка, ни своего пера.
Осенью 1825 года Вяземский писал ему:
«...Попробуй плыть по воде: ты довольно боролся с течением... Стоит ли барахтаться, лягаться и упрямиться?.. Перед дружбою не стыдно и поподличать... Такие жертвоприношения не унижают души, не оставляют на ней смрадных следов, как жертвоприношения личным выгодам и суетной корысти, а напротив, возвышают ее, окуривают благовонием... В твоем положении пренебрегать ничем не должно, тем более, когда не рискуешь... Не ты один на черной доске у судьбы...»[52]
Вяземский советовал другу воспользоваться опытом мудрых людей. Совет был не по адресу. Для этого надо было иметь богатырский терпеливый характер Ивана Андреевича, а не вспыльчивое, как порох, сердце Пушкина. Он не выдержал бы и сорвался.
А для Крылова будто бы все было трын-трава. Его, казалось, ничто не могло смутить: и внезапная смерть Александра I в далеком Таганроге, и близкие выстрелы на Сенатской площади по восставшим полкам и офицерам, которых впоследствии назвали «декабристами», и вступление на престол Николая I.
Иван Андреевич мог ожидать законных кар за связь с декабристами. Пусть она не была прочной, но его знакомство с Рылеевым и Бестужевым, сотрудничество в «Полярной звезде», вольнодумные басни... Он был готов ко всему.
Все обернулось по-иному.
В последний день декабря, в канун Нового года, Николай «пожаловал» Ивана Андреевича чином коллежского советника. Этого Крылов не ожидал. Но царь проявлял заботу не зря. Он, как и брат его Александр I, знал, что Крылов вовсе не такая мирная овечка, какой прикидывался. Но пусть все видят, что царь оказывает отеческие милости доброму ленивому философу, якобы не интересующемуся ни жизненными треволнениями, ни высокой политикой, а поучающему своими басенками старых и малых. Показной добротой Николай I рассчитывал купить любовь знаменитого баснописца.
Царь попытался перетянуть на свою сторону и Пушкина. За несколько дней до коронации, которая по обычаю должна была происходить в Кремле, Николай вызвал поэта из ссылки в Москву. Он полагал, что ему удастся заставить Пушкина служить самодержавию. Николай не скупился на обещания: все дерзкие стихи поэта царь, забывал; поэт мог жить где угодно; цензура для его стихов отменялась. Пушкин был ошеломлен этими милостями. Он ничего не понимал, не подозревая коварства царя. Поэт был прям, честен, смел. И когда царь среди беседы вдруг спросил его, что он делал бы, если бы 14 декабря ему пришлось быть в Петербурге, Пушкин ответил просто, не задумываясь: «Был бы в рядах мятежников, ваше величество». И этот ответ Николай запомнил навсегда.
Вяземский напрасно давал советы своему другу.
После болезни, смерти брата, восстания и казни декабристов Крылов смолк. В 1826 году ему было пятьдесят семь лет, и можно было допустить, что творческий путь Ивана Андреевича закончился, что он ленился пуще прежнего. Библиотека стала для него местом отдохновения: он приходил на службу, укладывался на диван с книжкой в руках и был недоволен, если его отрывали от чтения. К греческому языку Иван Андреевич охладел. Все книжки на греческом что были в Петербурге, он прочел. Однажды ему пришло в голову просмотреть несколько страниц из Геродота, которого он когда-то мечтал перевести на русский язык. Сунув руку под кровать — греки, по старинке (ведь когда-то они были его тайной), лежали под кроватью, — Иван Андреевич обнаружил, что книги исчезли. Оказалось, Фенюша перевела все книжки на растопку печи в его комнате. Переведен был не только Геродот, но и все прочие древние классики. Иван Андреевич не очень сожалел о греках. Он принялся за английский язык — его занимали сейчас Шекспир и Байрон, которыми увлекалось общество.
Журналы перестали писать о Крылове: о чем же им было писать, если Крылов не «выдавал» в свет новых басен? Николай I был не доволен его молчанием. С того дня, как Николай начал править Россией, Иван Андреевич не напечатал ни одной басни. Ему дали новый орден, приглашали во дворец. Крылов молчал. Оленин уговаривал Ивана Андреевича вернуться к перу. Елизавета Марковна шутя заперла однажды своего Крылышко в комнате и просила не выпускать его до тех пор, пока он не купит себе свободы новой басней.
И. А. Крылов, А. С. Пушкин, В. А. Жуковский и Н. И. Гнедич. С картины художника Чернецова «Парад на Марсовом поле», написанной в 1832 году.
Крылов сидел под арестом несколько часов и отделался шуточкой: он постучал в дверь и сказал, что басня готова. Это было литературным событием. Оно отодвинуло в сторону все другие интересы оленинского дома. Ивана Андреевича торжественно выпустили на волю, привели в гостиную; он взял в руки листок, откашлялся и ...ведь всем же известно, какой у него отвратительный почерк. Даже он сам неспособен был разобрать свои каракули. Он передал листок Оленину. Гости и хозяин видели, что на бумаге как будто написана басня, но прочесть ее было немыслимо.
К нему перестали приставать. Он вздохнул свободнее. Пожалуй, теперь уже поверили тому, что басенная пора его кончилась.
Весна 1827 года была особенно приятной для Крылова: он все время был на людях, до поздней ночи просиживал у Перовского, Жуковского или Пушкина, встречался у них с польским поэтом Мицкевичем. Летом Иван Андреевич отдыхал у Оленина в Приютино, с ленивой улыбкой наблюдая за Пушкиным. Молодой поэт не на шутку увлекался старшей дочкой хозяина, посвящал ей стихи и веселился так, как только он был на это способен. Вспомнив старое свое увлечение живописью, Иван Андреевич свел дружбу с Брюлловым Тропининым, молодыми художниками братьями Агиными. Сменялись времена года. Привольно и полно текла жизнь Крылова. Наконец, после нескольких лет молчания. начали появляться новые басни, и одной из первых была басня «Пушки и Паруса» — о том, что
Вслед за ней Иван Андреевич напечатал басню-поэму «Бедный богач». Казалось, тон басен изменился — они были монументальней, эпичней. Но следом за ними появилась ядовитая басенка «Бритвы» — о тех мудрых сановниках, которые, боясь умных людей, держат при себе дураков. Эта басня приводила в восторг Гоголя.
Басни появлялись очень редко. И в ответ на жалобы, почему он так мало пишет, Крылов говорил: пусть лучше его упрекают в том, что он мало пишет, нежели ругают за то, что он продолжает писать.
В 1830 году наконец вышли новые басни Крылова в восьми книгах. Рядом с добропорядочными, смирными баснями стояли крамольные сатиры. Отдельные строчки и выражения их сразу же превратились в пословицы. Басни «Щука», «Мирон», «Осел», «Булат», «Сокол и Червяк» были намеками на лица и события, известные всем современникам. И цензура снова начала охоту за крамольными строчками, вытравляя намеки и кивки, пытаясь разобраться в сложном эзоповом языке баснописца.
Все чаще и чаще Крылова приглашали во дворец, где он читал свои басни. На маскараде, устроенном великой княжной, девять писателей представляли хор муз. Крылов появился в костюме древнегреческой музы Талии. Глядя на тучного баснописца в древнегреческом хитоне, трудно было удержаться от смеха. Царь с царицею, прибывшие на маскарад, пришли в восторг. Обращаясь к Николаю I и его супруге, Иван Андреевич прочел специально для маскарада написанные им стихи. Громким хохотом встречена была первая строчка:
Крылов выставлял себя любителем «пощипать пороки». На большее он якобы не претендовал. Против разумного желания унимать пороки никто не мог спорить. Это было достойное дело. И Николай I, понимая, что Крылов многого не договаривает, был вполне доволен внешним послушанием баснописца.
Последняя книга басен вскоре была переиздана. Басни выходили в книжках маленького формата и большого, с картинками и гравюрами лучших художников и без картинок. Издатели предлагали Ивану Андреевичу огромные деньги за право издания его произведений. Николай I вдвое увеличил пенсию, которую получал Крылов. Новые награды и ордена осыпали его. Он был произведен в статские советники. Это был генеральский чин. С него писали портреты лучшие художники. Писатели считали за честь поднести ему свои произведения.
Он был славен, знатен, богат. Мечты его юности исполнились с лихвой.
Деньги текли к нему со всех сторон. Он не знал, что с ними делать. Всю жизнь он содержал своего брата и заботился о нем. После смерти Левушки Иван Андреевич взял на себя заботу о семье одного бедного военного. Потом он вспомнил, что когда-то крестил дочь своего давнего знакомого Савельева. Иван Андреевич разыскал крестницу: она жила в нужде, похоронив недавно своего мужа и оставшись с несколькими детьми на руках. Иван Андреевич усыновил всю семью и стал не только крестным, но и приемным отцом.
И все же денег у него было больше, чем требовалось человеку для полного счастья.
Тогда он решил на старости лет поглядеть мир, поехать за границу и пригласил Гнедича составить ему компанию.
Гнедич отказался стихами печальными и нежными:
Богатство беспокоило Ивана Андреевича. Он решил попробовать жить по-барски: заказал лучшим мастерам спешно изготовить богатую стильную мебель, обил ее шелком, накупил серебра, бронзы, хрусталя, фарфора... Загаженная голубями, прокуренная насквозь, с задымленными потолками и стенами в желто-коричневых пятнах, квартира преобразилась. Тонкие английские ковры устлали полы. Картины в золотых рамах и французские гобелены украсили жилище поэта. Буфет наполнился модными сервизами, дорогой посудой. Из оранжерей навезли цветов. Они благоухали в китайских вазах на столах из красного дерева. Он убирал квартиру, как сцену, воскресив свой блестящий талант режиссера-постановщика.
Когда все было устроено, Иван Андреевич пригласил гостей на торжественный обед. Приехали Оленины, Дельвиг, Жуковский, Плетнев, Одоевский. Спустился к соседу Гнедич в черном костюме, чопорный и манерный. Все были в восхищении от чудесной обстановки, от превосходного обеда, от изысканного вкуса и тонкого остроумия хозяина. Это был невиданный никем Крылов — богатый гостеприимный барин, привыкший швырять тысячи на дорогие заморские вина и фрукты, на цветы и угощенье бесчисленных друзей. До поздней ночи пировали и веселились гости.
А поздней ночью, когда два лакея и дворецкий — персонажи без слов, нанятые на день, ушли домой, Иван Андреевич уселся поплотней в кресло и долго сидел так, пока не погасли свечи в бронзовых канделябрах и хрустальных люстрах. Жизнь барина была очень хлопотливой и скучной. Продолжать ее ему не хотелось, и, как свидетельствовал его друг Плетнев, «на всю новую свою роскошь набросил он покрывало доброго старого невнимания... и с тех пор никогда не звал пялить глаза на суету сует».
Опять, как прежде, в гостеприимную форточку влетали голуби, располагались на шкапах, на буфете, на высоких вазах с засохшими цветами, усеивая комнату пухом и перьями. Пыль оседала на всем, покрывала картины, гасила краски и блеск, табачный пепел пятнал английские ковры и шелковую обивку. Пыльный саван укутал полированное красное дерево, бронзу, хрусталь.
Попрежнему хозяин ходил на службу, оттуда — в Английский клуб и вечером — к Олениным. Ему надоели театры, где еще продолжали играть комедии Крылова. Но однажды его убедили посмотреть «Урок дочкам». В комедии участвовали те же артисты, которые четверть века назад играли ее в первый раз. Едва уместившись в креслах партера, тучный Крылов лениво смотрел на сцену. Постаревшие артистки, игравшие вертлявых, живых дочек, грузно передвигались с места на место. «Это не урок дочкам, а урок бочкам», смеясь, сказал Крылов. Он на мгновение окунулся в прошлое, в молодость, в начало своей второй жизни, которая, видать, уже подходила к концу.
Он решил тряхнуть стариной в пригородном имении Оленина. В день именин Елизаветы Марковны Крылышко устроил сюрприз: поставил «Трумфа». Он был режиссером и постановщиком, заботился о костюмах и декорациях, подбирая актеров; роли Подщипы и Цыганки играли дочери Оленина.
В сентябрьский день под непрерывный хохот зрителей шел на импровизированной сцене веселый «Трумф, или Подщипа», шуто-трагедия молодого Крылова.
Осенние облака плыли над желтым садом Олениных. Елизавета Марковна куталась в платок, ей было холодно, а дни стояли на редкость теплые, и тонкая паутина бабьего лета тянулась в воздухе.
Крылову было в это время шестьдесят пять лет. Жизнь уходила, уходили из жизни друзья. Год назад умер Гнедич, старый, больной, одинокий. Но он достиг своей цели: перевел «Илиаду» до последней строчки.
А Крылов попрежнему продолжал писать свои басни-сатиры. Басенный язык его стал еще более точен, ясен, прозрачен. Крылов уже не намекал, а говорил прямо, как, например, в сатирической басенке о бесправии народа и лицемерии правительства, утверждающего, будто законы для всех одинаковы и что они действуют, невзирая на лица.
Так говорил Крылов в баснях «Волки и Овцы». Совет, составленный большей частью из волков, издает справедливый закон, по которому, ежели волк станет обижать овцу.
И вывод из басни ясен:
Или басня «Пастух». Пастух Савва — это царский сановник, губернатор, вельможа. Савве поручено пасти барских овец — читай, верноподданных мужичков.
Савва нещадно дерет овечек и валит вину на волка. За волком охотятся, его ищут, его клянет весь свет, а волка следу нет. И Крылов говорит вразумляюще:
Или басня «Вельможа». Ее долго не разрешала печатать цензура. Крылов менял отдельные слова, строчки, а цензура все была недовольна. Иван Андреевич воспользовался маскарадом в царском дворце, на который его пригласили. Его упрашивали прочесть стихи. Крылов с готовностью прочел «Вельможу». Басня понравилась Николаю I. Он обнял автора и поощрительно сказал: «Пиши, старик, пиши». Крылов не стал жаловаться на утеснения цензуры, а скромно попросил разрешения напечатать эту басню. И, получив согласие, напечатал немедля.
Но Ивану Андреевичу уже не под силу было бороться за каждую строчку, на это уходила уйма времени, да и годы-то были не те. А ему надо было еще просмотреть всю свою басенную работу за долгую жизнь, выправить все, что возможно, отшлифовать каждый стих до блеска. Ведь именно басни — это его наследство народу.
Трагическая смерть Пушкина потрясла Ивана Андреевича. Он любил поэта. Он недаром вступался за него, защищая «Руслана и Людмилу», высоко ценя гениальное дарование юноши, и Пушкин отвечал Крылову глубочайшим уважением. Не раз Пушкин с восторгом говорил и писал о баснях Ивана Андреевича, считая его истинно народным поэтом[53], утверждал, что Крылов выше Лафонтена[54], что все басни Дмитриева не стоят одной хорошей басни Крылова[55], и когда Бестужев спросил у Пушкина: почему у нас нет гениев и мало талантов? — тот ответил ему, что у нас есть Державин и Крылов! Пушкин считал Крылова классиком и, как пример смелого выражения, приводил бессмертную, по его мнению, фразу из басни о храбром Муравье: «Он даже хаживал один на паука!»
После смерти Пушкина Иван Андреевич не написал ни одной басни.
В январе 1838 года правительство решило устроить торжественное празднование пятидесятилетия литературной деятельности Крылова, приурочив юбилей ко дню его рождения. Это было странно. Первое произведение— «Кофейница» — Крылов написал осенью 1783 года, печататься начал в 1786 году; первая его басня «Дуб и Трость» была опубликована в 1806 году, родился он в 1769 году. Для юбилея не было никаких оснований.
Но юбилей должен был быть. Неважно, что он был фальшивым, выдуманным. Не все ли равно, сколько получается — больше или меньше пятидесяти лет? Раз сказано — пятьдесят, значит так тому и быть. Царю было бы еще приятнее, если бы он мог ускорить юбилейное торжество, передвинув его на три-четыре дня. Но, увы, даже царю это было не под силу. День рождения Крылова знали все: он был напечатан в словарях, в справочниках, в календарях, в бесчисленных книжках басен. Пришлось назначить юбилей на 2 февраля 1838 года.
За год и четыре дня до этого был убит Пушкин. Гибель поэта упорно связывали с именем Николая I. Царя называли убийцей. Жандармское управление доносило о возможных демонстрациях в годовщину смерти Пушкина. В донесениях глухо упоминалось, что имя царя употребляется в связи с именем поэта неподобающе. Торжеством Крылова, юбилеем его Николай хотел показать, как отечески пестует он русскую поэзию, как ой любит и уважает литераторов, как заботится о их судьбах. Юбилей был козырной картой в фальшивой игре царя.
Может быть, Иван Андреевич не догадывался ни о чем? Возможно. Он был удивлен и сказал: «Боюсь, чтобы не придумали бы вы чего лишнего: ведь я то же, что иной моряк, с которым оттого только и беды не случалось, что он не хаживал далеко в море».
Это были хитрые слова мудреца. Их объяснили, как должно было — великой скромностью гениального баснописца.
Такого помпезного зрелища, как юбилей Крылова, литературная Россия еще не знала. На банкет, которым открылось торжество, съехались сановники, придворные, министры, аристократы, чиновники, седые генералы, литераторы, художники, артисты.
Торжество началось с объявления царского указа о награждении Крылова орденом со звездою за отличные успехи и долговременные труды на поприще отечественной словесности. Орден вручили Крылову сыновья царя. Министр просвещения говорил речь о «благонамеренном» народном поэте, о чистом, нравственном направлении его творчества. Один оратор сменял другого, пели специально написанные для сего случая стихи, гремела музыка, звенели бокалы. Крылова увенчали лавровым венком. Лавровые венки подносили ему благодарные читатели, братья по перу. Речи говорились самые смиренные и верноподданные. Только Жуковский сказал «не то». Вспомнив о Дмитриеве, он некстати помянул Пушкина. «На празднике нашем, — говорил он, обращаясь к Ивану Андреевичу, — недостает двух, которых присутствие было бы украшением и которых потеря еще так свежа в нашем сердце. Один, знаменитый предшественник ваш на избранной вами дороге, недавно кончил прекрасную свою жизнь, достигнув старости глубокой... Другой, едва расцветший и в немногие годы наживший славу народную, вдруг исчез, похищенный у надежд, возбужденных в отечестве его гением...»
«Бестактность» Жуковского была исправлена министром просвещения Уваровым, получившим от царя цензорские полномочия на время юбилея: ни одна строка о том, что происходило на юбилее, не могла быть опубликована без разрешения министра. Недопустимые слова о «едва расцветшем» и «вдруг исчезнувшем» Пушкине были вычеркнуты из отчетов о юбилее красным карандашом Уварова.
И. А. Крылов в последние годы жизни.
С портрета художника Легашева.
Но в казенное официальное торжество, которое должно было послужить основанием для дальнейшего газетного грома о «просвещенном» царе, «друге литературы», врывались чистые, правдивые, неофициальные голоса. «Мы еще были в колыбели, когда ваши творения уже сделались дорогою собственностью России и предметом удивления для иноземцев, — говорил князь Одоевский. — От ранних лет мы привыкли не отделять вашего имени от имени нашей словесности... Ваши стихи во всех концах нашей величественной родины лепечет младенец, повторяет муж, вспоминает старец; их произносит простолюдин, как уроки положительной мудрости, их изучает литератор, как образцы остроумной поэзии, изящества и истины...»
Крылов в глубокой задумчивости сидел за столом, усыпанным цветами. Вся долгая жизнь — а ему сегодня исполнилось 69 лет — проходила перед его глазами. Начинаясь где-то в давние, екатерининские времена бурным родником, она постепенно превращалась из маленького ручейка в широкую, полноводную реку, с течением замедленным, плавным и могучим... Она расширялась, берега удалялись друг от друга, и вот-вот река должна была стать безбрежной и неприметно слиться с безграничным морем. А слившись с морем, все реки теряют свои имена.
Но не забвение ожидало Крылова. У него было свое русло в океане жизни, в сменяющих друг друга поколениях родного народа. Его имя хранилось для бессмертия.
И, взяв один из лавровых венков, которыми щедро наградили его сегодня, он разобрал его и раздал по листику лавра всем, кто пришел приветствовать его, завидовать, негодовать или восхищаться.
ЗАКАТ
Орехи славные, каких не видел свет;
Все на отбор; орех к ореху — чудо!
Одно лишь только худо:
Давно зубов у белки нет.
Крылов, «Белка».
Юбилеем подводился итог жизни. Торжественные статьи, золотые, серебряные и бронзовые медали с изображением баснописца, речи, похожие на погребальные слова, стипендии его имени, учрежденные почитателями... Все это было утомительно и, пожалуй, не нужно. Рядом с Крыловым на юбилее сидели новые люди — ни одного старого товарища, старого друга. Все они уже ушли, умерли. Это была вечная ошибка, ирония жизни — награждать старую белку возом орехов...
На закате дней восхваляли его талант. А разве тридцать лет назад он был менее талантлив?
Вот у него сейчас слава, богатство, а счастья нет, как не было его и пятьдесят лет назад, а оно могло быть, если бы он тогда владел тем, чем владеет сегодня.
Но Иван Андреевич не умел горевать. Горе — это удел слабых. Жизнь — это труд, вечный труд, только он приносит радость.
Крылов продолжал трудиться — готовил последнее издание. Он приводил в порядок те двести пять басен, что написал за долгую свою жизнь.
Пять месяцев спустя ему в последний раз пришлось вернуться к новым рифмам. С грустью сочинял он эпитафию для надгробия Елизаветы Марковны.
Все вокруг него умирало. Старый мир рушился.
Старость отягощала плечи Крылова. Под тяжестью лет он становился еще грузней, еще медлительней.
С каждым месяцем ему труднее было вставать по утрам, чтобы итти в должность. Ему разрешалось иногда не приходить вовсе, и тогда он лежал на широком диване в гостиной, похожей на пыльную сцену заброшенного театра. Смутные зеркала, тусклые столы красного дерева, угасшие краски английских ковров и выцветших гобеленов — все походило на декорацию и бутафорию. За окном шумел, грохотал, затихал город, шел снег, хлестал дождь, светило солнце, рассветы всех оттенков отражались в перламутровых от старости стеклах окон. А Крылов лежал недвижно, прикрыв ноги клетчатым пледом, и только синий табачный дымок призрачно свидетельствовал о том, что тут еще теплится жизнь.
Время, казалось, остановилось, как большие часы, чьи стрелки бессменно показывали десять минут одиннадцатого. Давным-давно хозяин затерял ключ, и, стоя в своем углу, как надгробный страж времени, они молча караулили покой своего господина. И в шелковом чехле, похожая на длинный серебристый кокон, висела на стене дорогая, работы итальянского мастера скрипка с лопнувшими струнами.
Редко приходили к Ивану Андреевичу гости. Они говорили с ним негромко, как с больным, и это его раздражало. Хозяин не подавал виду, гостеприимно улыбался, шутил, не выпуская изо рта сигары в длинном мундштуке. Она погасала постоянно. Он звонил. И тогда входила с тоненькой восковой свечкой постаревшая Фенюша или девочка, помогавшая ей по хозяйству. Накапав воску прямо на овальный столик красного дерева, придвинутый к дивану, она укрепляла свечку и, осторожно прикрыв за собой дверь, уходила. Все чаще и чаще думал Иван Андреевич о том, что ему идет восьмой десяток.
Он завел себе превосходную английскую коляску. Ему было трудно ходить. Быстро уставали ноги. Даже во дворце, куда его время от времени приглашали, он старался бывать редко. На службе он дремал. Пора было на отдых. Он подал прошение об отставке- Ее приняли. «По уважению долговременной службы и не в пример другим», как сказано в последнем аттестате Ивана Андреевича, ему полностью сохранялось жалованье по библиотеке в сумме 2 486 руб. 79 коп. серебром в год, сверх пенсии в 6 000 рублей ассигнациями.
Весною 1841 года Крылов оставил службу, удалился на покой. Из шумного центра столицы он переехал на Васильевский остров. Здесь была тишина. Свободно росли деревья — никто их не подстригал, не уродовал, не сажал за решетку. На улицах, вдоль тротуаров, зеленела трава. Это была тихая провинция в шумной столице. Поэт доживал свой век, как генерал в отставке.
Он почти перестал бывать в «свете», почти ни с кем не встречался и только изредка выезжал в Английский клуб. Широкая коляска, запряженная парой коней, не спеша катилась по городу, где Иван Андреевич провел почти всю свою жизнь. Все вокруг менялось. Петербург строился, тянулся вверх трубами новых фабрик и заводов, полз в стороны, подминая под себя пустынные болота и чахлые перелески.
Иван Андреевич работал сейчас по мере своих сил. Он обучал детей своей крестницы грамоте, занимался с ними музыкой и радовался успехам маленькой Наденьки, убеждая редких гостей, что у девочки настоящий талант артистки.
Он давно уже не был в театре — старая страсть к нему угасла. Шум толпы, резкий свет, звонки и аплодисменты его утомляли. Лишь музыка тянула к себе с прежней силой. Ранней осенью 1844 года в Петербург приехала знаменитая французская певица Виардо-Гарсиа. Концерты ее были блистательны. Иван Андреевич слушал певицу в университете, где она выступала перед петербургскими студентами. Ее пение привело в восторг Крылова, и после концерта он просидел несколько часов в кабинете своего друга Плетнева, ректора университета, беседуя о музыке, о том, что и в этом искусстве талантливый русский народ не уступит никому в мире.
Он редко оживлялся так, как на этом вечере. Друзья узнавали прежнего Ивана Андреевича — остроумного, живого, тогда как в последнее время он бывал обычно вял, молчалив, неподвижен. Последний литературный портрет его написал И. С. Тургенев. Он встретился с Иваном Андреевичем в доме «одного чиновного, но слабого петербургского литератора». Это была единственная встреча молодого Тургенева с великим баснописцем.
«Он просидел часа три с лишком, неподвижно, между двумя окнами — и хоть бы слово промолвил! — вспоминает Тургенев. — На нем был просторный поношенный фрак, белый шейный платок; сапоги с кисточкой облекали его тучные ноги. Он опирался обеими руками на колени и даже не поворачивал своей колоссальной, тяжелой и величавой головы, только глаза его изредка двигались под нависшими бровями. Нельзя было понять: что он, слушает ли и на ус себе мотает, или просто так сидит и «существует»? Ни сонливости, ни внимания на этом обширном, прямо русском лице, — а только ума палата да заматерелая лень, да по временам что-то лукавое, словно хочет выступить наружу и не может — или не хочет — пробиться сквозь весь этот старческий жир. Хозяин наконец попросил его пожаловать к ужину. «Поросенок под хреном для вас приготовлен, Иван Андреевич», заметил он, как бы исполняя неизбежный долг. Крылов посмотрел на него не то приветливо, не то насмешливо... «Так-таки непременно поросенок?» казалось, внутренне промолвил он...»
Попрежнему Иван Андреевич любил вволю и всласть покушать и угостить гостя. Хороший обед, плотный ужин, стакан вина и добрая сигара — все это было доступно ему, человеку со средствами. Он мог ни в чем не отказывать себе — ни в заморских фруктах, ни в устрицах, ни в дорогих и редкостных яствах. Однако он не изменял своим старым привязанностям и оставался верным доброй русской кухне с ее щами, кулебяками, поросенком в сметане, многообразными пирогами и дикой птицей, которую готовили ему во всех видах.
Он поздно вставал с постели и, накинув просторный халат, подолгу сидел у окна с книгой или пером в руках над корректурными листами последней книги басен в девяти частях. На склоне дней он обрел наконец дом, уют, семью — это была семья его крестницы. За ним ухаживали, как за родным отцом или дедушкой. Его окружала ласка, забота, нежность.
Однажды утром размеренная тишина крыловского дома была нарушена внезапными криками и суматохой. Он услыхал вопли: «Пожар! Пожар!» и в первый раз в жизни не испытал никакого волнения. Домашние, вбежав к нему, торопили его одеваться и поскорее собрать те бумаги, которые ему были дороги. Горел соседний дом, и пламя грозило перекинуться дальше. Иван Андреевич не обращал внимания ни на уговоры, ни на крики, ни на слезы. Приказав приготовить ему стакан крепкого чаю, он начал медленно одеваться, старательно повязывая галстук, не спеша уселся за стол, не торопясь выпил чай и долго курил, слушая причитания в доме и шум за окном. После этого он нехотя вышел на улицу, поглядел на горящее здание опытным глазом и, буркнув: «Не для чего перебираться», вернулся домой, разделся и лег отдыхать.
И только поздней ночью, внезапно проснувшись, он понял, что ничто уже не интересует его, что жизнь кончается и что смерть стоит за его плечами.
5 ноября Иван Андреевич серьезно заболел. Тогдашняя медицина оказалась бессильна помочь больному.
Иван Андреевич стойко переносил мучительные боли. Он ободрял своих домашних, шутил с друзьями.
До предсмертного вздоха он не терял ясного сознания и твердой памяти. Он попрощался с близкими, отдал распоряжения и попросил, чтобы выполнили одно его желание — порадовали его друзей приятным сюрпризом. Он рассказал, как и что надо для этого сделать, и умер на смутном петербургском рассвете в 7 часов 45 минут 9 ноября 1844 года[56].
* * *
Его басни переживут века,
К. Батюшков.
Смерть Крылова поразила многих. Им трудно было себе представить его мертвым, так же как многим казалось, что он жил уже века и века.
Его басни и он сам стали бессмертными при жизни.
И вот бессмертный Крылов был мертв.
Скромная квартира баснописца стала местом паломничества всего Петербурга. Сообщение с Васильевским островом было трудным, погода стояла пасмурная, с утра и до ночи тяжелые облака висели над городом, моросил дождь, но потоки людей беспрерывно текли мимо гроба старейшего русского литератора, последнего писателя екатерининского века.
С ним прощались люди всех классов, всех возрастов, всех состояний: аристократы, крепостные и купцы, приказчики, фабриканты и мастеровые, чиновники и лакеи. Старики шли со своими сыновьями, и те несли на руках своих ребят, — это были бесчисленные поклонники крыловского гения.
Николай I для собственного спокойствия взял на себя заботу о похоронах. Вельможи, сановники, министры, генералы окружили гроб Крылова; митрополит, епископ и духовенство провожали его в последний путь. И тысячные толпы народа шли за гробом великого писателя.
Правительство, аристократия, дворянство хоронили «покорного» поэта, а народ прощался со своим мудрым бунтарем, учителем, другом, который всегда был недругом его врагов.
В канун похорон вспомнили, что у дворянина Крылова не было дворянского герба. А полагалось, чтобы на траурных лентах и покрывалах был изображен герб покойного дворянина. Нужно было срочно придумать герб. Среди книг Крылова лежал лавровый венок, которым увенчали Крылова в день его юбилея. И знаком венка решили заменить дворянский герб. Этим гербом украсили траурные покрывала, и на огромную седую голову мертвого рыцаря поэзии возложили старый венок с неувядающими листьями лавра.
«Санкт-Петербургские ведомости» писали: «Крылова не стало. Поэт истинно самобытный, когда литература наша еще жила подражанием, поэт по преимуществу народный, когда еще самое слово «народность» не употреблялось... Крылов всегда имел успех, каким не пользовался никто из других наших поэтов, потому что Крылов был поэт чисто русский — русский по уму, здравому, светлому и могучему, русский по неизменному добродушию, русский по игривой, безобидной иронии, столь свойственной нашему народу, — иронии, которая всегда сопровождается улыбкою благорасположения. В многочисленных своих произведениях он говорил всем и каждому истины всегда меткие, всегда горькие, никому не обидные, именно потому, что они запечатлены печатью доброжелательства, что в насмешливости его не было ни капли желчи»[57].
То была правда пополам с ложью. Таким правительство хотело видеть Крылова, таким оно пыталось сохранить его в памяти народа, уверить всех, что Иван Андреевич был послушный слуга монархии, добропорядочный верноподданный, смиренный христианин, в большом великодушном сердце которого никогда не просыпались ни злоба, ни ненависть.
Ивана Андреевича похоронили в Александро-Невской лавре, где покоились останки многих великих и замечательных людей России и первого среди них — Михайлы Ломоносова. Новый могильный холмик вырос рядом с могилами Карамзина и Гнедича, старого друга Крылова.
В день похорон многие петербуржцы получили небольшие пакеты в траурной обертке, на которой было напечатано:
Санкт-Петербург, 1844 г., 9 ноября ¼ 8 утром
В пакете лежали басни Крылова в девяти книгах — последнее издание, которое предпринял и окончил сам автор, но не успел выпустить в свет.
Это был нежданный, подарок-сюрприз покойного баснописца. Книга должна была защитить память поэта от обвинений в том, в чем он был не повинен: он не хотел лживых похвал, лживой славы доброго, незлобивого, безобидного мудреца. Смерть обрекла его на вечное молчание, и только басни могли сказать о нем правду.
Таких «приношений» было разослано по воле Ивана Андреевича свыше тысячи. Последней своей книгой Крылов начал свою бессмертную, третью жизнь.
И эта жизнь, пожалуй, была самой опасной для царского правительства. Охранители монархии и крепостничества старались убедить всех, что Крылов — это просто бытописатель-моралист, а не создатель острейших сатирических произведений. Усилия царских чиновников не остались тщетными. Ивана Андреевича запрятали в детские хрестоматии, объявили детским писателем, старались издавать его басни пореже, и полное собрание сочинений Крылова вышло только после первой русской революции.
Один из героев комедии «Горе от ума» — подловатый болтун Загорецкий говорил:
Грибоедов в письме к приятелю[58] писал: «Карикатур ненавижу, в моей картине ни одной не найдешь... Портреты и только портреты...» Оригинал портрета Загорецкого можно было найти без труда. За год до смерти Крылова попечитель Петербургского учебного округа писал министру просвещения о необходимости сократить популярность баснописца, так как «знаменитый» Крылов, изображая пороки людей в своих баснях, метит часто на обстоятельства и события современного общества...» Запуганные чиновники и обыватели испытывали страх перед злыми баснями-сатирами. Князь Одоевский вспоминал: «Еще в недавнее время нашелся господин, который по усердию к пользе отечества ходатайствовал о запрещении большей половины басен Крылова» [59].
Никто и никогда не продвигал Крылова «в массы»: не существовало ни крыловских обществ, ни специальных крыловских организаций, ни крыловских чтении, которые постоянно напоминали бы об этом писателе. Басня Крылова сама пролагала себе путь к сердцу народа. И по пути, проторенному Иваном Андреевичем, шли многие русские писатели.
Сто лет назад друг Пушкина, поэт Вяземский, говорил, что крыловские басни «не могут потерять» цены из-за изменений вкуса, языка и требований. времени. На Крылова никогда не пройдет мода, потому что успех его от нее никогда не зависел».
Сто лет спустя это можно повторить слово в слово.
Памятник И. А. Крылову в Ленинграде, в Летнем саду, открытый в 1855 году.
В наши дни слава Крылова продолжает сиять тем же ясным, не затухающим пламенем. Сто лет назад поэт был так же знаменит, как и сегодня.
В чем же тайна этого беспримерного успеха? Или это еще одна загадка загадочного писателя?
Нет, тайна вечности открывается просто, как знаменитый ларчик.
Она заключена в глубочайшей народности крыловских басен. Рожденные мудростью и духом народа, они вновь вернулись в народ. «В его баснях, как в чистом, полированном зеркале, отражается русский практический ум, с его кажущейся неповоротливостью, но с острыми зубами, которые больно кусаются; с его сметливостью, остротой и добродушно-саркастической насмешливостью; с его природной верностью взгляда на предметы и способностью коротко, ясно и вместе кудряво выражаться. В них вся житейская мудрость, плод практической опытности, и своей собственной и завещанной отцами из рода в род».
Так говорил Белинский о баснях Крылова, которого считал гениальным русским поэтом. Самое понятие «народности» литературы родилось вместе с его баснями.
Необычайная простота и богатство языка, ясность и глубина мысли приближали творчество Крылова к народу. Реалистическое, правдивое изображение действительности роднило его с миллионами людей. А проникновенная мудрость внушала к нему любовь и уважение. Он заставлял думать и размышлять,
Но больше всего в его баснях привлекал сердца бесчисленных читателей душевный оптимизм, бодрость, твердая вера в торжество справедливости, свойственная духу русского народа. Крылов не ноет над судьбой бедняка, не проливает горьких слез, а хитро посмеивается над врагом, издевается над ним и злой насмешкой снижает силу врага и страх перед этой силой.
Вот в этом оптимистическом реализме Ивана Андреевича Крылова и заключается магическая сила поэта и тайна бессмертия его произведений.
Нет ни одного русского, который не знал бы имени великого баснописца и не обогащал бы свою речь его крылатыми образами, меткими пословицами, острыми поговорками. Перечитайте письма замечательных русских людей, воспоминания о них, и всюду вы столкнетесь с именем Крылова или его басен.
Великий Ленин в своих речах, в сочинениях, в письмах и в беседах с друзьями часто пользовался крыловскими образами, сравнениями, насмешкой, когда ему надо было уязвить политического противника, разоблачить и высмеять врага. Крылов был одним из любимых писателей Владимира Ильича.
В ораторском арсенале товарища Сталина хранится и оружие крыловской иронии. Оно не ржавеет, не теряет от времени своей остроты и в умелых руках вождя действует без промаха.
Крыловская насмешка, ирония, лукавый намек помогают нам бороться со всеми пороками и с носителями этих пороков. В годы радости и в часы отчаяния Крылов всегда с нами — он помогает нам жить, смеяться, бороться и побеждать.
Живут и не умирают бессмертные творения великого баснописца. И будут жить они дотоле, пока жив русский народ, пока звучит на земле его язык и пока бьется в мире хотя бы одно русское сердце.
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА
1769. 2 февраля (13-го по новому стилю) у поручика Андрея Прохоровича Крылова и жены его Марии Алексеевны родился сын Иван. Семья уезжает в Оренбург.
1773. Капитан Крылов назначается помощником коменданта крепости в Яицком городке. Мария Алексеевна с сыном остается в Оренбурге; осенью город подвергается осаде восставшими казаками под водительством Пугачева.
1775. После подавления восстания А. П. Крылов уходит в отставку и переезжает в Тверь, где назначается помощником председателя губернского магистрата.
1777. Рождение брата Крылова — Льва Андреевича. Крылова записывают на казенную службу подканцеляристом земского суда в г. Калязине.
1778. Смерть А. П. Крылова. Малолетнего Крылова переводят тем же чином из Калязина в Тверской магистрат.
1779. Начало действительной, а не фиктивной службы в Тверском магистрате.
1782. Подканцелярист Крылов получает месячный отпуск для поправления здоровья и для поездки по семейным делам в Петербург.
1783. Крыловы в Петербурге. Тверской магистрат разыскивает пропавшего подканцеляриста. Крылов едет в Тверь, добивается отставки с переводом в следующий чин — канцеляриста — и возвращается в Петербург. Служба в казенной палате. Первое произведение Крылова — комическая опера «Кофейница»,
1785—1786. Крылов получает очередной чин — провинциального секретаря. Трагедия «Клеопатра» и «Филомела». Знакомство с Дмитревским. Начало работы в журналах Рахманинова и Туманского.
1787. Крылов уходит из казенной палаты и поступает на службу в горную экспедицию к Соймонову. Музыкальная комедия «Бешеная семья», комедия «Сочинитель в прихожей», опера «Американцы».
1788. Разрыв с Соймоновым. Смерть Марии Алексеевны Крыловой. Сближение Крылова с Рахманиновым.
1789. Издание «Почты духов».
1790. После закрытия «Почты духов» Крылов уезжает в Орловскую губернию и, возвратившись в Петербург, основывает типографию и книжную лавку «Крылова с товарищи».
1792. Работа в журнале «Зритель», где опубликовано лучшее прозаическое произведение Крылова — восточная повесть «Каиб».
1793. Издание журнала «Санкт-Петербургский Меркурий».
1794—1799. Крылов уезжает из Петербурга и в течение нескольких лет ведет скитальческий образ жизни. К этому же периоду относится его сближение с князем Голицыным и первая поездка на запад — в Ригу.
1799—1800. Крылов вместе с опальным Голицыным уезжает в его имение Казацкое. Постановка в Петербурге оперы «Американцы» (в переработке Клушина). Крылов пишет шуто-трагедию «Трумф, или Подщипа».
1801. После смерти Павла I Голицын назначается губернатором Эстляндии, Лифляндии и Курляндии. Крылов едет в Петербург, получает назначение в Ригу.
1802. Служба в Риге. Постановка комедии «Пирог» в Петербурге. Второе издание «Почты духов».
1803. Губернский секретарь Крылов уходит в отставку. Отъезд на родину.
1804. Крылов живет у брата в полку, бывает в Москве. Московский театр ставит комедию «Пирог».
1805. Крылов приезжает в Москву. Встреча с Дмитриевым; Крылов передает свои басни для печати.
1806. Переезд в Петербург. Комедия «Модная лавка».
1807. Комедия «Урок дочкам», героическая опера «Илья Богатырь». Крылов занимает видное положение как драматург. Публикация первой оригинальной (не переводной) басни «Ларчик». Сближение с Олениным.
1808. Крылов поступает на службу в Монетный двор к Оленину.
1809. Выход в свет первой книги басен Крылова.
1810. Крылов уходит со службы и работает над баснями.
1811. «Новые басни Крылова». Крылов избирается членом Российской академии.
1812. Начало службы в Публичной библиотеке в должности помощника библиотекаря Сопикова. Басни Крылова, посвященные Отечественной войне.
1814. «В уважение отличных дарований и за заслуги в русской словесности» Крылов получает чин коллежского асессора.
1815. Выход книги «Басни Ивана Крылова в трех частях».
1816. После смерти Сопикова Крылов назначается библиотекарем. Издание четвертой и пятой книг басен.
1819. Издание басен в шести частях.
1823. Болезнь Крылова — первый и второй удары (паралич).
1824. Поездка Крылова в Ревель. Смерть брата — Льва Андреевича Крылова.
1825. «Басни И. А. Крылова в семи книгах».
1830. Крылов получает очередной чин — статского советника. «Басни Ивана Крылова в осьми книгах».
1838. Юбилей И. А. Крылова.
1841. Академия наук избирает Крылова академиком. После тридцатилетней службы в Публичной библиотеке он уходит в отставку.
1844. 9(21) ноября — день смерти Ивана Андреевича Крылова.
1855. Открытие памятника Крылову в Петербурге.
1869. Празднование столетия со дня рождения Крылова. По решению Академии наук выпускается специальный сборник, посвященный Крылову.
1905. Первое издание полного собрания сочинений Крылова в четырех томах.
1918. Переиздание полного собрания сочинений по старым матрицам 1905 года.
1944. Постановление правительства СССР о праздновании столетия со дня смерти великого баснописца и об открытии ему памятника в столице Советских республик — Москве.
СОЧИНЕНИЯ И. А. КРЫЛОВА И ЛИТЕРАТУРА О НЕМ
Полное собрание сочинений И. А. Крылова в 4 томах. Петроград, 1918 г.
И. А. Крылов, Сочинения. Однотомник. ГИХЛ, 1931 г.
И. А. Крылов, Полное собрание стихотворений в двух томах. Большая серия «Библиотека поэта», 1935 г.
И. А. Крылов, Басни. «Библиотека поэта». Малая серия. «Советский писатель», 1935 г.
И. А. Крылов, Басни. ГИХЛ, 1936 г.
И. А. Крылов, Полное собрание сочинений, том I. Гослитиздат, 1944 г.
М. Лобанов, Жизнь и сочинения И. А. Крылова. СПБ., 1847 г.
П. Плетнев, Жизнь и сочинения И. А. Крылова. СПБ., 1859 г. (2-е издание).
Я. Грот, Литературная жизнь Крылова. «Труды Я. К. Грота», т. III, 1901 г.
В. Кеневич, Библиографические и исторические примечания к басням Крылова. 1878 г. (2-е изд.).
Л. Майков, Первые шаги И. А. Крылова на литературном поприще. «Историко-литературные очерки», 1895 г.
A. Кирпичников, Критические и библиографические заметки о Крылове, 1896 г.
B. Белинский, О Крылове. Гослитиздат, 1944 г.