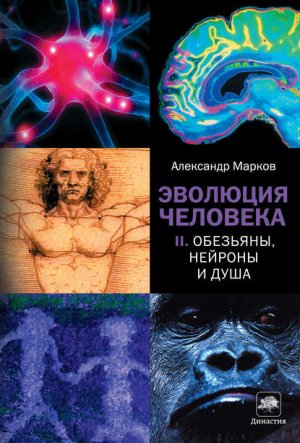
Глава 1
В поисках душевной грани
Скандальная тема
В заключительной главе дарвиновского «Происхождения видов» есть примечательный прогноз: «В будущем, я предвижу, откроется еще новое важное поле исследования. Психология будет прочно основана на необходимости приобретения каждого умственного качества и способности постепенным путем». Здесь Дарвин, по сути дела, предсказал развитие научной дисциплины, которую в наши дни называют эволюционной психологией.
Идеи Дарвина во многом опередили свое время, и развитие эволюционной психологии поначалу шло медленно. Из всех эволюционных идей именно идея об эволюционном происхождении человеческой психики вызывает самое ожесточенное сопротивление и у широкой публики, и даже у некоторых ученых. Но факты – вещь упрямая, и в конце концов эволюционный подход все-таки стал доминирующим в научной психологии и этологии человека. Однако ученые, работающие в этом направлении, до сих пор подвергаются яростным нападкам. Им приходится активно отстаивать свою позицию, и отголоски этой борьбы проникают даже на страницы серьезных научных изданий.
Один из номеров журнала Nature за 2007 год открывается редакционной статьей «Эволюция и мозг». Заявления, сделанные в этой статье, примечательны своей решительностью и кажущейся безапелляционностью. «При всем уважении к чувствам верующих, идею о том, что человек создан по образу Божию, можно уверенно отбросить», – пишет редакция одного из самых солидных и уважаемых научных журналов мира. Поводом для статьи стали, с одной стороны, антиэволюционные высказывания американских политиков, с другой – новейшие достижения психологов и нейробиологов.
Неужели все так серьезно? Неужели наука действительно должна настаивать на отрицании столь важного для многих верующих религиозного догмата? Нельзя ли тут найти какой-то компромисс?
Еще недавно многим казалось, что компромисс вполне достижим, причем сравнительно малой кровью. Перспективный путь для примирения науки с традиционными мифологическими представлениями о природе человека был намечен в xix веке Альфредом Уоллесом (который, как известно, одновременно с Дарвином разработал теорию эволюции на основе отбора). Уоллес полагал, что эволюционная теория объясняет очень многое, но те умственные различия, которые наблюдаются между «человеком и животными», она объяснить не в силах. Можно допустить естественное эволюционное происхождение «животной стороны» человеческого существа, но «высшие» наши качества – умственные, моральные, эстетические – имеют иную природу.
Такая позиция еще до недавнего времени могла кое-как устроить даже закоренелых ученых-материалистов (хотя, конечно, далеко не всех), поскольку о природе человеческого разума, памяти, сознания, эмоций строгими научными методами мало что удавалось выяснить. Но в последние десятилетия ситуация стала радикально меняться.
Конечно, наука и сегодня не может похвастаться полной расшифровкой всех тайн человеческой психики. Нерешенных проблем еще много. Главная из них в том, что нейробиологи не могут пока даже теоретически себе представить, как из нейронов и синапсов[1] может быть сделан воспринимающий субъект – «я». Но тенденция налицо: один за другим важнейшие аспекты человеческой личности, до самого последнего времени считавшиеся недосягаемыми для естественных наук (например, память, эмоции и даже мораль), уверенно переносятся в сферу материального, раскрывают свою физиологическую, клеточную, биохимическую природу и эволюционные корни.
Одним словом, сегодня наука уже вплотную подобралась к «самому святому» в человеке, и некоторые эксперты опасаются, что это может привести к новому обострению конфликта религии и науки. Этим начинают пользоваться в своих интересах политики, особенно в странах, где развитая демократия сочетается с высоким авторитетом религиозных конфессий, отличающихся непримиримостью по отношению к эволюционной биологии.
Вышеупомянутая редакционная статья в Nature была направлена в первую очередь против антиэволюционных демаршей сенатора Сэма Браунбека. Браунбек заявил в прессе, что человек – не эволюционная случайность, что в нем отражается «образ и подобие» наивысшего существа. «Аспекты эволюционной теории, совместимые с этой истиной, являются полезным дополнением к человеческим знаниям. Те же ее аспекты, которые подрывают эту истину, должны быть решительно отвергнуты как атеистическая теология, притворяющаяся наукой».
Редакция Nature приняла вызов. «И тело, и разум человека произошли путем эволюции от более ранних приматов, – утверждается в статье. – Способ человеческого мышления свидетельствует о таком происхождении столь же убедительно, как и строение и работа конечностей, иммунной системы или колбочек глаза». Речь идет не только о механизмах работы нейронов, но и о таких «высших» психических проявлениях, как мораль. В том, как эмоции управляют нашей моралью, редакция Nature видит веское доказательство эволюционного происхождения того и другого. «То, что человеческий разум является продуктом эволюции, – не атеистическая теология. Это неоспоримый факт», – утверждается в статье.
Можно ли сегодня всерьез относиться к идее о том, что человеческий разум есть «отражение» разума божественного? По мнению редакции, крайне маловероятно, что существо, способное создать Вселенную, может обладать разумом, хотя бы отдаленно похожим на наш. Ведь наш-то разум устроен в точности так, как и должен быть устроен разум, развившийся эволюционным путем у «прямоходящей обезьяны, приспособившейся к жизни в маленьких, тесно сплоченных коллективах в условиях африканской саванны» (подробнее о несовершенстве нашего разума мы поговорим в главе «Жертвы эволюции»).
В статье отмечается, что в современной антропологии, эволюционной биологии и нейропсихологии остается много нерешенных проблем, но это вовсе не означает, что данные этих наук могут быть отвергнуты на основании одних лишь религиозных верований. Современное научное видение природы человека может вызывать чувство дискомфорта и неудовлетворенности[2], но это не делает его менее научным и менее достоверным. По мнению редакции Nature, любые серьезные попытки обобщения и систематизации имеющихся данных сегодня могут быть основаны только на идее о происхождении человеческого разума в ходе биологической и культурной эволюции, без ссылок на божественное творение.
На чем основана такая уверенность? Она основана на совокупности данных нейробиологии, генетики поведения, этологии, экспериментальной психологии и смежных дисциплин. Можно выделить четыре основных идеи, или вывода, которые по мере развития всех этих наук становятся все более очевидными и бесспорными.
Во-первых, у животных в той или иной форме обнаружены многие – чуть ли не все – аспекты мышления и поведения, которые традиционно считались «чисто человеческими». Непреодолимой пропасти между человеком и другими животными в сфере психологии нет – точно так же, как нет ее в строении скелета, кишечника и прочих органов. Во многом прав был Дарвин, когда в книге «Происхождение человека и половой отбор» прямо написал о том, что различия между мышлением человека и животных имеют не столько качественный, сколько количественный характер (мысль по тем временам совершенно крамольная!).
Во-вторых, все аспекты нашей психики, включая и самые «высшие», такие как мораль, имеют вполне материальную нейрофизиологическую основу. Подобно тому как мы можем сказать, что глаз – это орган зрения, в нашем мозге есть и специализированные отделы, ответственные за ключевые психические функции[3]. Если мы согласны с тем, что орган зрения, глаз, мог развиться эволюционным путем, то с какой стати отрицать такую возможность для отделов мозга, являющихся по сути «органами речи» или «органами совести»?
В третьих, особенности нашей психики зависят от генов[4]. Свойства души[5] определяются не только воспитанием, но и врожденными свойствами мозга, генетически обусловленными предрасположенностями к тем или иным чувствам, эмоциям, пристрастиям, идеям (мы поговорим об этом подробно в главе «Генетика души»). А поскольку гены действительно влияют на все это, следовательно, эти признаки вполне могли развиваться эволюционным путем, так же как и любые другие признаки, по которым в популяции есть (или была в прошлом) наследственная изменчивость.
В четвертых, эволюционные модели происхождения разных аспектов нашей психики позволяют делать предсказания, то есть выводить проверяемые следствия, которые затем проверяются в ходе специальных экспериментов. Результаты таких проверок, как правило, оказываются положительными. Это, наверное, самый важный источник уверенности ученых в адекватности эволюционного подхода. С каждым подтвердившимся предсказанием вероятность ошибочности исходной теории снижается, и в настоящее время она уже практически неотличима от нуля.
В этой главе мы поговорим о фактах, относящимся к первому пункту списка. Для этого мы предпримем несколько экскурсий в мир «нечеловеческих животных» и познакомимся с фактами, указывающими на наличие у них многих способностей, традиционно считавшихся «чисто человеческими».
По этой теме существует обширнейшая литература, в том числе на русском языке, в том числе популярная. Заинтересованным читателям я бы посоветовал обратить внимание на книги З. А. Зориной и А. А. Смирновой «О чем рассказали „говорящие“ обезьяны: Способны ли высшие животные оперировать символами?» (2006), Ж. И. Резниковой «Интеллект и язык животных и человека. Основы когнитивной этологии» (2005), З. А. Зориной и И. И. Полетаевой «Элементарное мышление животных» (2002). В списке рекомендуемой литературы в конце книги указан еще ряд изданий, в которых данная тема раскрыта гораздо полнее, чем мы можем себе позволить в рамках одной небольшой главы. Мы не будем даже пытаться объять необъятное и ограничимся подборкой интересных примеров из исследований последних лет.
Логика[6]
Изучая ритуалы у животных и птиц, Конрад Лоренц описал формирование ассоциативных связей, на которых потом животное строит свое поведение. Если два события происходят одновременно, то у животного формируется связь между двумя стимулами, даже если они ничем, кроме хронологического совпадения, не связаны. Так может возникнуть внешне бессмысленный ритуал, оправданный, однако, случившимися когда-то яркими совпадениями.
Считается, что, в отличие от других животных, человек способен строить свое мышление на причинных связях, а не ассоциативных, то есть человек из множества совпадений способен выделить истинную причину события. Философы и психологи указывали на это свойство мышления как на главный барьер между человеческим и животным разумом. Однако этологам удалось экспериментально показать, что этот барьер не так уж непроходим. Выяснилось, что не только обезьяны, но и животные, стоящие на более низких ступенях интеллектуального развития, умеют отличать причинно-следственные связи от случайных ассоциаций.
Одно из таких исследований было проведено на крысах (Blaisdell et al., 2006). Сначала крысам включали свет, а вслед за этим раздавался гудок. На следующем этапе обучения включали свет, а вслед за этим в кормушке появлялась награда – сахарный сиропчик. Таким образом, экспериментаторы создали для крыс ситуацию, которую было бы разумно (при умении разбираться в причинно-следственных связях) интерпретировать так: «Свет – причина звука, и он же – причина пищи».
Если крысы не способны различать причины и следствия, у них в голове должны были сформироваться только ассоциации: света со звуком, пищи со светом. Может быть, через посредство ассоциации со светом возникла бы также и третья ассоциация – пищи со звуком. Действительно, после подачи гудка крысы тыкались носом в кормушку в поисках награды. Это еще ни о чем не говорило: такое поведение можно объяснить как пониманием причин, так и формированием опосредованной ассоциации.
Затем задачу усложнили. Крысам предоставили возможность самим заведовать звуком – в клетке появился специальный звуковой рычаг. И что же? Если крыса нажимала на звуковой рычаг самостоятельно, то после этого она не проверяла, появился ли сироп. Но если сигнал раздавался без вмешательства крысы, она сразу бежала к кормушке.
Вывод напрашивается сам собой: крысы мыслят не по ассоциации. Если бы работала простая ассоциативная связь «звук – свет – пища», то крысе было бы все равно, по какой причине раздался звук. Звук просто наводил бы ее на мысль о свете, а свет связан с пищей, и крыса шла бы к кормушке искать сироп. Но она оказалась в состоянии понять, что звук, который она сама вызвала с помощью рычага, не приведет к появлению сиропа. Потому что причиной награды является свет, а света не было; причина раздавшегося звука была крысе известна, она сама нажала на рычаг. Поэтому нет никаких оснований предполагать, что свет все-таки был, но она его почему-то не заметила. Другое дело, если звук раздался сам по себе, без помощи крысы. В этом случае крыса не знала, в чем причина звука, и могла предположить, что причиной был незамеченный свет. А свет, как известно, приводит к появлению сиропа. Нужно проверить.
Более полное представление о понимании крысами причинно-следственных связей дал второй эксперимент. На этот раз у крыс изначально тренировали восприятие цепочки из трех событий: сначала давали звук, затем включали свет, затем в кормушке появлялся сахар. То есть была сформирована модель причинной связи «звук – причина света, свет – причина пищи». Эту формулу можно мысленно сократить, выкинув бесполезный для крысы свет, и прийти к выводу, что звук прямо или опосредованно может приводить к появлению пищи. Когда тренировка закончилась, крыс снова поместили в клетку со звуковым рычагом. На этот раз крысы одинаково активно начинали поиски пищи и в ответ на звук, данный экспериментатором, и в ответ на самостоятельно индуцированный звук. По мнению исследователей, это значит, что крысы понимали: раз звук сам является причиной пищи (а не побочным следствием ее истинной причины, как в первом опыте), то неважно, кто вызвал звук – экспериментаторы или сама крыса. Осознав причинно-следственные связи, крысы пытались заставить пищу появиться, нажимая на звуковой рычаг.
Такую модель принятия решений, как считают исследователи, нельзя интерпретировать с позиций ассоциативного мышления. Это не ассоциации, а настоящая логика.
Да что крысы! Зачатки логики удалось обнаружить даже у рыб.
Одним из важных компонентов мышления считается способность делать транзитивные логические выводы. Так называют умозаключения о связях между объектами, сделанные на основе косвенных данных. Например, транзитивным является следующий вывод: «если А > B и B > C, то A > C». Способность к транзитивной логике вначале была описана как один из рубежей в умственном развитии детей, затем была зарегистрирована у обезьян, крыс и некоторых птиц (голубей, ворон) – то есть у млекопитающих и птиц, в сообразительности которых теперь уже мало кто сомневается.
Недавно этологи из Стэнфордского университета (США) сумели показать, что рыбы тоже владеют транзитивной логикой (Grosenick et al., 2007). Ученые ставили опыты на аквариумной рыбке Astatotilapia burtoni, самцы которой отличаются ярко выраженным территориальным поведением и агрессивностью. Они отстаивают свое право на владение территорией в непрестанных поединках с другими самцами. Самец, раз за разом терпящий поражение в этих схватках, не имеет шансов обзавестись семьей. Неудачники впадают в глубокую тоску: они теряют характерную яркую окраску, а заодно и интерес к противоположному полу. Впрочем, все еще может измениться: природные местообитания астатотиляпии отличаются нестабильностью, и после очередной катастрофы местного масштаба, вызванной колебаниями уровня воды или прогулкой стада гиппопотамов, самцам часто приходится делить участки заново.
Ученые предположили, что рыбки должны уметь определять силу потенциального противника. Наибольшие шансы на успех (и следовательно, на продолжение рода) будет иметь тот самец, который сумеет благоразумно уклониться от схваток с заведомо более сильными соперниками и завоюет себе участок, потеснив слабейших. Предварительные опыты подтвердили это предположение. Оказалось, что самцы астатотиляпии действительно предпочитают держаться подальше от сильных соперников, причем о силе конкурента рыбы судят, в частности, по результатам его схваток с другими самцами.
Например, самцу-наблюдателю показывали через стекло бой двух других самцов, в котором, естественно, кто-то побеждал, а кто-то проигрывал. Затем «наблюдателя» сажали в центральный отсек аквариума, разделенного на три части стеклянными перегородками, а в два крайних отсека сажали победителя и побежденного. «Наблюдатель» в такой ситуации больше времени проводил в той половине своего отсека, которая граничила с отсеком проигравшего самца.
Такая особенность поведения делает астатотиляпию замечательным объектом для изучения рыбьего мышления. Ученые поставили простой и красивый эксперимент, чтобы выяснить, способны ли рыбы к транзитивной логике.
Первый этап эксперимента состоял в «обучении» самцов. Самец-наблюдатель последовательно наблюдал схватки, в которых участвовали пять других самцов (a, b, c, d, e). Все самцы были примерно одинаковыми по размеру и силе. В такой ситуации экспериментаторам было очень легко контролировать исход поединка. Рыбки яростно защищают территорию, которую считают своей. Поэтому при равных силах побеждает всегда «хозяин» данного отсека аквариума, а тот, кого к нему подсадили, обречен на поражение.
Наблюдателю давали посмотреть четыре поединка: в первом из них самец а побеждал самца b, затем b побеждал c, c – d и, наконец, d одерживал верх над e. Таким образом экспериментаторы пытались внушить наблюдателю, что пять соперников по своей силе располагаются в следующем порядке: a > b > c > d > e. Всего таким способом было «обучено» восемь самцов-наблюдателей.
Чтобы проверить, какие выводы сделал наблюдатель из увиденного, ученые воспользовались методикой, описанной выше, то есть предлагали наблюдателю «на выбор» двух самцов и смотрели, к кому он будет держаться ближе.
Сначала наблюдателям предлагали сделать выбор между a и e, то есть крайними членами ряда. Обученные рыбки безошибочно сочли слабейшим самца e и держались ближе к нему, чем к а. Однако этот результат еще не доказывал способности рыб к транзитивной логике. Хотя наблюдатели не видели схватки непосредственно между a и e, первого из этих самцов они видели только победителем, а второго – только побежденным. Это вполне могло стать основой для правильного вывода даже без осмысления всей цепочки побед и поражений.
Критическим моментом исследования был опыт, в котором наблюдателям предложили сделать выбор между самцами b и d. Каждого из этих самцов наблюдатели видели в двух поединках, и на счету у каждого были одна победа и одно поражение. Тут уж без транзитивной логики никак нельзя вычислить, кто сильнее. Тем не менее рыбы не ошиблись: они держались ближе к d, считая его слабейшим.
Общая схема этого эксперимента в точности соответствует классическим тестам на транзитивную логику, применяемым при исследовании умственных способностей детей. Самое удивительное, что рыбы успешно справились с тестом, с которым человеческие дети, как правило, начинают справляться лишь в возрасте 4–5 лет! Может показаться невероятным, что четырехлетние дети по каким-то аспектам умственного развития уступают рыбам. Однако транзитивная логика действительно относится к числу способностей, развивающихся у людей довольно поздно (Piaget, 1971). Это можно понять: для Homo sapiens данная способность, по-видимому, не так важна, как для самцов астатотиляпий. Мы уже упоминали о том, что наше мышление далеко не универсально, что мы уступаем, например, сойкам по способности запоминать точки на местности, а крысам – по умению находить выход из лабиринта (Резникова, 2009). В данном случае мы просто столкнулись еще с одним примером несовершенства нашего мышления.
Как и целый ряд других этологических исследований последних лет, эта работа подтвердила две важные идеи. Во-первых, мы по-прежнему сильно недооцениваем умственные способности животных и преувеличиваем собственную уникальность. Во-вторых, для того чтобы понять, как думают животные, самое главное – это удачно подобрать объект и правильно спланировать эксперимент. Многие опыты подобного рода в прошлом давали отрицательные результаты только потому, что подопытное животное не было по-настоящему заинтересовано в успехе либо ожидаемое экспериментаторами «разумное» поведение противоречило каким-то инстинктам, побуждениям или соображениям животного, о которых экспериментаторы не подозревали.
Сопереживание
Способность к сопереживанию (эмпатии) тоже когда-то считалась чисто человеческим свойством. Сегодня существование эмпатии у высших приматов уже признано большинством исследователей, и есть данные, указывающие на зачатки этой способности у других млекопитающих, а также у птиц. Например, было показано, что если крыса, наблюдающая страдания сородича, имеет возможность облегчить его участь, то она это, как правило, делает. Однако ее мотивация при этом неочевидна: может быть, она и не понимает, что товарищу больно, а просто хочет избавиться от раздражающего лично ее фактора в виде визжащего и дергающегося соплеменника.
Предполагают, что важную роль в эмпатии могут играть так называемые зеркальные нейроны, открытые у обезьян более 20 лет назад. Так называют клетки мозга, которые возбуждаются в двух ситуациях: когда само животное совершает какое-то действие (или испытывает эмоцию) и когда оно видит, что кто-то другой совершает такое же действие (или переживает такую же эмоцию). Возможно, система зеркальных нейронов вносит вклад в понимание животными мотивов поведения сородичей (то есть в «теорию ума», о которой пойдет речь ниже). Читателям, желающим побольше узнать о зеркальных нейронах, рекомендую недавно переведенную на русский язык книгу И. Бауэра «Почему я чувствую, что чувствуешь ты. Интуитивная коммуникация и секрет зеркальных нейронов» (2009).
Сначала вокруг зеркальных нейронов был поднят большой шум, но потом к ним все как-то привыкли. Возможно, некоторое снижение уровня восторга по поводу зеркальных нейронов, наблюдающееся в последние годы, связано с осознанием одного из базовых принципов работы мозга, который станет нам ясен из следующей главы, где мы обсудим устройство памяти.
Но я сейчас немного забегу вперед и все-таки скажу, что это за принцип. Суть его в том, что мысль о переживании сделана физически «из того же теста», что и само переживание. Когда мы о чем-то думаем, что-то себе представляем или вспоминаем, в мозге возбуждаются многие из тех нейронов, которые участвовали в непосредственном восприятии или переживании этого «чего-то».
Рисунок возбуждения нейронов мозга в ответ на стимул (например, на боль или на замеченный под кустом гриб) – это модель реальности, которую мозг создает на основе сигналов, приходящих от органов чувств. Воспоминание о данном стимуле представляет собой повторную активацию этой же самой модели.
Те же нейроны, которые возбудились при виде гриба, будут возбуждаться и при воспоминании о нем. Разумеется, не в полном составе: возбуждение нейронов, реагирующих на новизну, будет слабее, стимула к действию – нагнуться и срезать – тоже не возникнет. Все-таки мы, как правило, способны отличить воображаемую реальность от непосредственно воспринимаемой.
Но «информативная» часть у обоих переживаний одна и та же.
На нейробиологическом уровне она представляет собой возбуждение одних и тех же нейронов.
Когда с этой идеей свыкаешься, начинаешь понимать, что мозг вряд ли смог бы работать как-то иначе. Зачем создавать и хранить две одинаковые мысленные модели одного и того же?
Это расточительно, неэффективно и чревато путаницей. Конечно, модель должна быть одна. Из этого следует, что зеркальных нейронов просто не может не быть у животных, способных хотя бы приблизительно понять, что чувствует соплеменник.
В 2006 году сотрудники психологического факультета и Центра исследований боли Университета Макгилла (Монреаль, Канада) провели серию экспериментов с целью выявления способности к эмпатии у мышей (Langford et al., 2006). Они исходили из предположения, что если такая способность у мышей есть, то вид страдающего сородича должен влиять на восприятие мышами собственных болевых ощущений.
Мышей мучили тремя разными способами, причем в зависимости от вида истязания различной была и реакция на боль. Во всех опытах страдания животных были умеренными и не представляли угрозы для здоровья. Мышам делали инъекции уксусной кислоты (реакция на боль – подергивания), формалина (реакция – вылизывание больного места) и направляли на лапки обжигающий тепловой луч (сила реакции на боль оценивалась по скорости отдергивания лапок).
В первой серии опытов мышей сажали попарно в контейнеры из оргстекла и делали болезненные инъекции либо одной из них, либо обеим. Оказалось, что мыши сильнее реагируют на собственную боль, если видят, что их сосед по камере тоже страдает. Однако этот эффект наблюдался не всегда, а лишь в том случае, если подопытные мыши были знакомы друг с другом, то есть до начала эксперимента содержались в одной клетке не менее двух недель. Страдания незнакомцев не находили отклика в мышиной душе и никак не влияли на их «болевое поведение».
Было также замечено, что болезненные подергивания, спровоцированные инъекцией уксуса, у подопытных мышей синхронизируются. Одновременные судороги наблюдались чаще, чем диктуется простой вероятностью. Эта синхронизация была сильнее выражена у знакомых мышей по сравнению с незнакомыми.
Ученые попытались выяснить, при помощи каких органов чувств мыши получают информацию о страданиях соседа. Для этого использовались глухие мыши; мыши, у которых обонятельный эпителий был разрушен при помощи сульфата цинка; применялись также разные прозрачные и непрозрачные перегородки. Оказалось, что мыши, лишенные возможности слышать, обонять или прикасаться к товарищу по несчастью, все равно понимали, что он страдает. Они переставали это понимать, только если их разделяла непрозрачная перегородка, то есть одновременно были отключены тактильный и зрительный каналы, при сохранении возможности обмена информацией посредством звуков и запахов. Из этого исследователи сделали вывод, что мыши судят о страданиях соседа преимущественно на основе зрительной информации.
Было также обнаружено, что реакция на собственную боль значительно уменьшается у самцов, находящихся в одной камере с не испытывающим боли незнакомцем. Вероятно, присутствие потенциального соперника мобилизует силы зверька и отвлекает его от болезненных ощущений.
В другой серии опытов мышам кололи формалин: одним маленькую дозу, другим большую. Оказалось, что мыши, получившие маленькую дозу, облизывались чаще в том случае, если вместе с ними находился знакомый зверек, получивший большую дозу. Напротив, мышь, получившая большую дозу, облизывалась реже, если ее товарищ по камере получил маленькую дозу. Страдания незнакомцев, как и в опытах с уксусом, не оказывали влияния на болевое поведение мышей.
В последней серии экспериментов ученые пытались доказать, что наблюдаемые эффекты не связаны с подражанием. Ведь можно было бы предположить, что мыши облизываются или дергаются вовсе не потому, что осознают боль соседа и из-за этого острее воспринимают свою. Может быть, они просто зачем-то подражают его действиям. Мышам кололи уксус и проверяли силу реакции на обжигающий луч. Оказалось, что мыши быстрее отдергивают лапки от луча, если их сосед корчится из-за введенного уксуса; точно такое же повышение чувствительности к высокой температуре наблюдалось и при введении уксуса самой подопытной мыши. Таким образом, ощущение как своей, так и чужой боли обостряет восприятие болевых стимулов совершенно иной природы. Значит, дело тут не в подражании. Опять же, как и в остальных опытах, на поведение мышей влияли только страдания знакомых животных.
Физиологические механизмы эмпатии сейчас активно изучаются в основном на людях. Однако возможности экспериментов на людях сильно ограничены (к счастью), поэтому открытие хорошей «животной модели», не защищенной международными конвенциями о правах, выводит исследователей на широкий оперативный простор.
Тот факт, что мыши чувствительны только к страданиям знакомых мышей, наводит на мысль, что способность к эмпатии могла развиться как одна из адаптаций к общественному образу жизни. Она может играть особенно важную роль во взаимоотношениях между родителями и детенышами. Чувствительность к эмоциональному состоянию, понимание желаний и намерений детеныша могли бы помочь матери обеспечить потомству наилучший уход, защиту и воспитание. Хотя в принципе тут можно обойтись и одними врожденными или выученными поведенческими реакциями, без эмоционального отклика – как это, вероятно, происходит у насекомых, заботящихся о своем потомстве.
Эксперименты, проведенные биологами из Бристольского и Лондонского университетов, показали, что ключевые элементы эмпатии есть и у домашних кур (Edgar et al., 2011). Давно известно, что куры-матери внимательны к поведению своих цыплят. Например, они целенаправленно учат их клевать «правильные» (съедобные) объекты и меняют свое поведение, когда видят, что цыплята клюют что-то несъедобное. Это говорит о когнитивной чувствительности курицы к состоянию цыпленка, но не обязательно о ее эмоциональной вовлеченности: курица понимает, что происходит с цыпленком, но переживает ли она за него?
Чтобы хоть немного приблизиться к ответу на этот трудноразрешимый вопрос, авторы изучили не только поведенческие, но и физиологические реакции кур, видящих, как их цыпленок подвергается слабому стрессовому воздействию. В эксперименте приняли участие 14 кур со своими выводками. Каждую мамашу и цыплят сначала долго приучали к экспериментальной обстановке, чтобы она не вызывала у них беспокойства. Опыты проводились в деревянном ящике, разделенном пополам перегородкой из оргстекла. К курице ремешками приматывали прибор для измерения пульса; при помощи тепловизора регистрировалась температура глаз и гребешка. Использовалось четыре экспериментальные ситуации:
1. контроль – курица и цыплята в течение 20 минут находились в своих отсеках и не подвергались никаким воздействиям;
2. первые 10 минут ничего не происходило, а затем на цыплят направляли струю воздуха. Это продолжалось одну секунду, затем следовала 30-секундная пауза, после чего на цыплят снова дули одну секунду, и так далее;
3. все было так же, как во втором случае, только струю воздуха направляли не на цыплят, а на курицу;
4. птицы слышали шипение воздушной струи, вырывающейся из контейнера со сжатым воздухом, но струю ни на кого не направляли.
Каждая курица с выводком в течение двух недель была протестирована по два раза во всех четырех ситуациях. В каждом тесте сравнивались поведенческие и физиологические параметры в течение первого и второго 10-минутных периодов («до воздействия» и «во время воздействия»).
Поведение курицы в контрольных ситуациях 1 и 4 было одинаковым в оба периода. В ситуациях 2 и 3 курица в течение второй десятиминутки («во время воздействия») достоверно меньше времени тратила на чистку перьев, чаще принимала настороженную позу и в целом издавала больше звуков, однако специфическое материнское квохтанье, которым курица подзывает к себе цыплят, усиливалось только в ситуации 2, когда ветер дул на птенцов. Квохтанье выполняет как минимум две функции: во-первых, оно помогает матери уводить цыплят от опасности, во-вторых, ранее было показано, что эти звуки способствуют обучению: цыплята лучше запоминают те ситуации и события, которые сопровождаются материнским квохтаньем.
Пульс курицы достоверно учащался только в ситуации 2 и оставался ровным во всех остальных случаях. Температура глаз снижалась в ситуациях 2 и 3, гребешка – только в ситуации 3. Как и учащение пульса, охлаждение глаз и гребешка является признаком стресса (периферические сосуды сужаются, что ведет к оттоку крови от периферии к мышцам и внутренним органам).
Таким образом, куры продемонстрировали характерный набор физиологических и поведенческих реакций на стресс и испуг как в ситуации 3, когда ветер дул на них самих, так и в ситуации 2, когда ветер дул на цыплят. Самое интересное, что учащение сердцебиения и материнского квохтанья было отмечено только в ситуации 2, тогда как охлаждение гребешка наблюдалось только в ситуации 3. Авторы отмечают, что эти различия нельзя объяснить реакцией матери на звуки, издаваемые цыплятами, потому что цыплята в ситуации 2 пищали не больше, чем во всех остальных ситуациях. Кроме того, не было выявлено никаких корреляций между цыплячьим писком и поведением матери.
По-видимому, все это означает, что у кур имеется специфическая эмоциональная реакция на опасность, угрожающую потомству, причем она отличается от реакции на точно такие же стимулы, направленные на саму птицу. Это можно рассматривать как довод в пользу того, что куры обладают способностью к эмпатии или по крайней мере некоторыми ее ключевыми элементами.
Чтобы окончательно доказать, что неприятная ситуация, в которую попали птенцы, вызывает у курицы-матери отрицательные эмоции (а не нейтральные реакции, такие как «интерес» или «повышенное внимание»), следовало бы проследить за работой ее мозга. Пока же нейробиологи не подключились к этим исследованиям, приходится довольствоваться косвенными аргументами. В частности, авторы отмечают, что куры целенаправленно избегают ситуаций, на которые они реагируют так же, как на струю воздуха в эксперименте. Следовательно, эти реакции скорее всего связаны с отрицательными эмоциями.
Понимание чужих поступков
В 2002 году были опубликованы результаты изящных экспериментов, показавших, что уже в возрасте 14 месяцев дети способны критически анализировать чужое поведение и отличать осмысленные, целенаправленные поступки от случайных или вынужденных (Gergely et al., 2002). Экспериментатор на глазах у детей включал лампочку, нажимая на кнопку головой, хотя мог сделать это руками. Дети копировали это действие: когда им предоставлялась такая возможность, они тоже нажимали на кнопку головой – очевидно, полагая, что у этого способа нажатия на кнопку есть какие-то важные преимущества, раз взрослый человек так поступает. Однако если у экспериментатора, когда он нажимал головой на кнопку, были чем-то заняты руки, то дети не копировали слепо его действия, а нажимали на кнопку рукой. Очевидно, они понимали, что взрослый воспользовался головой лишь потому, что руки у него были заняты. Следовательно, малыши не просто подражают взрослым, а анализируют их поведение, учитывая при этом всю ситуацию.
Для такого анализа нужно обладать тем, что в англоязычной литературе называют theory of mind («теория ума»), то есть пониманием того, что другое существо тоже что-то соображает, что его поступки преследуют определенную цель и обусловлены некими рациональными мотивами[7]. Традиционно считалось, что такое понимание присуще только человеку.
Обезьяны, принявшие участие в эксперименте (слева направо): тамарин (Saguinus), макака (Macaca) и шимпанзе (Pan). По рисунку из Wood et al., 2007.
Американские этологи провели эксперименты с тремя видами обезьян – тамарином, макакой резусом и шимпанзе, – чтобы проверить, нет ли у этих обезьян такой же способности к неформальному анализу чужих поступков, какая была выявлена у 14-месячных детей (Wood et al., 2007). В первой серии экспериментов животных приучали выбирать из двух непрозрачных стаканчиков тот, в котором лежит конфета. Сначала угощение клали в один из стаканчиков на глазах у обезьяны, придвигали к ней оба стаканчика и смотрели, какой она выберет. Если она брала пустой стаканчик, то конфеты не получала. Это был еще не эксперимент, а подготовка к эксперименту.
Когда обезьяны усваивали правила игры (они это понимали очень быстро, практически сразу), ученые приступали к основной части опыта. Обезьяне показывали два стаканчика, потом закрывали их загородкой и делали вид, что кладут в один из стаканчиков конфету, но обезьяна не могла видеть, в какой из двух. Потом загородку убирали, и экспериментатор совершал одно из двух действий: «случайное» либо «целенаправленное». В первом случае он прикасался к одному из стаканчиков тыльной стороной ладони, а потом убирал руку. Во втором случае он брал один из стаканчиков пальцами, не поднимая его, а потом точно так же убирал руку. После этого оба стаканчика пододвигали к обезьяне и смотрели, какой она выберет.
Выяснилось, что все три вида обезьян четко отличают «случайный» жест экспериментатора от «целенаправленного». В первом случае они с равной вероятностью брали любой из двух стаканчиков. Очевидно, прикосновение тыльной стороной ладони ими интерпретировалось как ничего не значащее. Во втором случае они брали тот стаканчик, который экспериментатор хватал пальцами, в три раза чаще (то есть примерно в 75 % случаев). Авторы предполагают, что этот жест воспринимался обезьянами либо как попытка взять стаканчик, либо как указание, подсказка, адресованная лично им, – но, во всяком случае, как целенаправленный и осмысленный поступок.
Таким образом, обезьяны отличают в чужом поведении случайные действия от целенаправленных. Но оставался открытым вопрос: как они это делают? Может быть, они интерпретируют чужое поведение поверхностно, формально: например, акт хватания считается «важным», а прикосновение тыльной стороной ладони – «неважным». В этом случае результат можно объяснить и без «теории ума». Чтобы это проверить, была поставлена вторая серия экспериментов.
Здесь все было устроено в общем так же, но экспериментатор прикасался к стаканчику не ладонью, а локтем. Ни один из исследованных видов обезьян никогда не пользуется локтями, чтобы на что-то указывать или тем более что-то брать. Поэтому для правильной интерпретации такого жеста одними формальными методами не обойтись – нужно пошевелить мозгами. В этой серии экспериментов тоже применялось два вида действия: «целенаправленное» и «случайное». В первом случае у экспериментатора руки были заняты. Обезьяна должна была сообразить, что человек потому и пользуется локтем, что у него заняты руки, и жест должен что-то значить. Во втором случае руки экспериментатора были свободны. Обезьяне нужно было понять, что если бы человек хотел взять стаканчик или указать на него, то сделал бы это рукой – ведь она свободна, и поэтому весь жест можно интерпретировать как случайное, бессмысленное действие.
Все три вида обезьян правильно разобрались в ситуации: если руки у человека были свободны, они брали любой из стаканчиков наугад, если заняты – выбирали тот, на который человек им указал локтем.
Авторы сделали вывод, что все исследованные обезьяны способны анализировать чужие поступки, в том числе нестандартные, с учетом конкретной ситуации, и справляются с этим не хуже четырнадцатимесячных детей. Без «теории ума», по мнению исследователей, тут не обойтись.
Поскольку обезьяны Нового Света, к которым относится тамарин, отделились от обезьян Старого Света, по некоторым оценкам, около 40 млн лет назад, авторы заключили, что способность понимать мотивы чужих поступков появилась у приматов уже очень давно. Это умение, скорее всего, развилось в связи с общественным образом жизни: трудно выжить в тесном коллективе таких высокоразвитых существ, как обезьяны, если не понимаешь мотивации поведения соплеменников.
Орудийная деятельность
Давно прошли те времена, когда изготовление и использование орудий считались уникальными свойствами человека. Сегодня известно множество видов животных, использующих орудия в повседневной жизни, причем в ход идут как неизмененные природные объекты, так и обработанные (например, палки с удаленными сучками и листьями).
Людям, исследующим поведение животных, избавиться от антропоцентрических оценок трудно. Возможно, этим отчасти объясняется устоявшееся представление о том, что орудийная деятельность является лучшим показателем интеллектуального уровня (когнитивных возможностей) в целом. Еще бы, ведь мы, люди, достигли самых выдающихся успехов именно в этой области. Разные эксперты придерживаются разных точек зрения о том, насколько справедлива такая оценка. Например, один из ведущих российских этологов Ж. И. Резникова полагает, что сложная орудийная деятельность не обязательно говорит о большом уме (Резникова, 2006). Другие ведущие этологи расставляют акценты несколько иначе (Зорина, Полетаева, 2002).
Орудийная деятельность особенно широко распространена у млекопитающих, причем отнюдь не только у обезьян. Слоны отгоняют ветками мух, а если сломанная ветка слишком велика, они кладут ее на землю и, придерживая ногой, отрывают хоботом часть нужного размера. Некоторые грызуны используют камешки для разрыхления и отгребания почвы при рытье нор. Каланы (морские выдры) отдирают прикрепленных к скалам моллюсков при помощи крупных камней – «молотков», а другие, менее крупные камни используют для разбивания раковин: лежа на спине на поверхности воды, зверь кладет камень-наковальню на грудь и колотит по нему раковиной. Медведи способны сбивать плоды с деревьев при помощи палок; зафиксировано использование камней и глыб льда белыми медведями для убийства тюленей.
Много данных накоплено и об орудийном поведении у птиц. Новокаледонские галки достают насекомых из трещин в коре при помощи разнообразных приспособлений, изготавливаемых самими птицами из прочных листьев и хвоинок. Египетские грифы разбивают страусиные яйца, бросая в них камни. Некоторые цапли бросают в воду разные предметы (перья, личинки насекомых), чтобы приманить рыб. Семейство цапель в морском аквариуме Майами научилось приманивать рыб гранулированным кормом, который птицы воровали у сотрудников. Сычи собирают экскременты млекопитающих и раскладывают их вокруг своих гнезд, чтобы приманить жуков-навозников.
Но все-таки самые талантливые «технари» среди животных – приматы. Многие обезьяны разбивают камнями орехи, раковины и птичьи яйца; вытирают листьями грязные фрукты; используют жеваные листья в качестве губок, чтобы доставать воду из углублений (похожие технические решения наблюдались и у муравьев, столкнувшихся с необходимостью доставки в муравейник жидкой пищи); извлекают насекомых из щелей при помощи острых палочек; бросают камни и другие предметы в недругов.
Эксперименты показали, что высшие обезьяны в неволе быстро осваивают разнообразные, в том числе и весьма сложные, виды орудийной деятельности, которые никогда не наблюдаются у этих видов в природе. Вот тут-то и обнаруживается первая странность: почему при наличии таких способностей обезьяны в природе используют их довольно редко и явно не полностью? Так, из четырех ближайших к человеку видов (шимпанзе, бонобо, горилла, орангутан) систематическое использование орудий в природных условиях характерно лишь для шимпанзе. Остальные делают это очень редко, то есть «могут, но не хотят» (Резникова, 2006).
Вторая странность состоит в чрезвычайно большом размахе индивидуальных различий по «инструментальным способностям» у представителей одного и того же вида. Похоже, в природных популяциях «технические гении» мирно сожительствуют с «непроходимыми техническими тупицами», причем едва ли кто-то из них чувствует разницу. Иной капуцин справляется с задачами на сообразительность лучше многих шимпанзе. В ряде экспериментов и отдельные птицы, такие как новокаледонские галки, показывали лучшие результаты, чем человекообразные приматы. Знаменитые обезьяньи «гении», такие как шимпанзе Уошо, горилла Коко или бонобо Канзи[8], – это именно гении, а вовсе не типичные представители своих видов. Даже одно и то же животное может то показывать чудеса изобретательности, то проявлять необъяснимую тупость (к примеру, пытаться разбить орех вареной картофелиной).
Обычно считают, что орудийная деятельность животных – своеобразная вершина айсберга (ей предшествует оценка обстоятельств, поиск подходящих предметов, расчет последствий), и потому дает возможность интегральной оценки интеллекта. Возможно, это действительно так, но только приходится признать, что интеллект (в человеческом понимании), по-видимому, не является критичным для выживания большинства животных, что он – некий эпифеномен, побочный эффект более важных для их жизни характеристик мозговой деятельности. В противном случае в природных популяциях не было бы такого колоссального размаха изменчивости по этому признаку. Хотя, с другой стороны, разве у людей иначе?
Характерная особенность орудийной деятельности животных – быстрая фиксация и ритуализация найденных однажды решений и полнейшее нежелание переучиваться при изменении обстоятельств. По словам Н. Н. Ладыгиной-Котс (одной из первых исследовательниц обезьяньего интеллекта), «шимпанзе – раб прошлых навыков, трудно и медленно перестраиваемых на новые пути решения».
Шимпанзе Рафаэлю исследователи давали дырявую кружку и шарик, которым можно было заткнуть дырку. Рафаэль не догадывался это сделать, пока однажды случайно не плюнул шариком в кружку. Шарик заткнул отверстие, вода перестала вытекать, и шимпанзе это запомнил. С тех пор он постоянно пользовался шариком, чтобы заткнуть дырку в кружке, но всегда делал это тем же способом, что и в первый раз, – брал шарик в рот и плевал им в кружку. Через некоторое время ему дали кружку без дырки, и Рафаэль, совсем уж по-глупому, плевал шариком и в нее тоже. Наконец, когда ему предложили на выбор две кружки – привычную дырявую и целую, бедное животное не колеблясь выбрало дырявую. Впрочем, как знать, может, он просто любил свою дырявую кружку, а шариком плевался, потому что думал, что это нравится экспериментаторам?
Дикие шимпанзе в одном из африканских национальных парков научились сбивать плоды с дерева, на которое не могли забраться, с соседнего дерева при помощи сорванных с него веток. Когда все подходящие ветки были оборваны, животные впали в полную растерянность, и никто из них так и не догадался принести ветку с какого-нибудь другого дерева или куста, хотя для других целей (например, для выковыривания насекомых) шимпанзе часто пользуются палками, принесенными издалека.
Конечно, про людей тоже можно рассказать немало подобных историй. И потом, разве кто-то сомневается, что интеллект у людей в среднем все же мощнее, чем у нечеловеческих обезьян? Даром, что ли, наш мозг втрое больше по объему?
Ж. И. Резникова полагает, что подобное «глупое» поведение может быть обратной стороной способности к быстрому обучению, которое обеспечивается формированием устойчивых ассоциативных связей. Возможно, если бы животные не учились так быстро, выученные стереотипы были бы не столь жесткими. А сумей они и вовсе избавиться от плена стереотипов, их поведение стало бы гораздо интеллектуальнее.
Об этом говорит ряд экспериментов. Многим животным (обезьянам и птицам) предлагалась задача «Трубка с ловушкой»: нужно вытолкнуть приманку из трубки палочкой или проволокой, однако в трубке есть дырка, через которую приманка может выпасть в «ловушку», откуда ее невозможно достать. Животное должно сообразить, что надо обойти экспериментальную установку и толкать с другой стороны. Задача оказалась трудной для всех, но некоторые обезьяны и птицы все-таки справились с ней, научились уверенно ее решать.
После этого экспериментаторы переворачивали трубку дыркой вверх. «Ловушка» становилась нефункциональной, и необходимость заходить сзади отпадала. Ни одно из животных не смогло этого понять. Даже «гении», показавшие блестящие результаты в других опытах, продолжали упорно обходить установку и толкать приманку «от ловушки», то есть настаивали на однажды выученном решении, хоть оно и потеряло смысл. В одном из экспериментов, однако, удалось разрушить сложившийся стереотип, заменив стеклянную трубку непрозрачной. Подопытный – дятловый вьюрок, – увидев, что трубка-то теперь другая, снова «включил мозги» и стал действовать адекватно ситуации.
Может быть, в этом и состоит то трудноуловимое, но все-таки реальное различие, грань между человеческим и нечеловеческим мышлением, которое нас делает людьми, а другим животным не позволяет подняться до нашего уровня? Может быть, все дело в том, что мы в меньшей степени рабы стереотипов и догм и чуть чаще «включаем мозги»?
Разница в степени, а не в качестве[9]Впрочем, многие этологи полагают, что выводы о стереотипности мышления животных отчасти могут быть связаны с не совсем корректно поставленными экспериментами. Шимпанзе, живущий в неволе, действительно легко становится «рабом прошлых навыков», точнее – рабом повторяемости эксперимента, особенно если с ним работают специалисты по условным рефлексам. Возможно, животные просто принимают «правила игры», навязанные экспериментаторами.
Вышеупомянутый шимпанзе Рафаэль научился заливать огонь, который мешал ему взять апельсин, наливая воду в кружку из бака. Когда однажды в баке не оказалось воды, он был очень недоволен, но он схватил с окна бутылку для полива цветов и залил огонь из бутылки. В другой раз он помочился в кружку и залил огонь опять же из кружки. Он действительно отчасти стал рабом привычки. Когда опыты перевели на озеро, на причале стоял аппарат с огнем, а бак находился на плоту. Экспериментаторы думали: если шимпанзе понимает, что такое вода, то он наклонится и зачерпнет из озера. Вместо этого Рафаэль нашел доску, перебрался на плот и принес воду в кружке из бака. Очевидно, он не понимал, что такое вода, он просто умел заливать огонь из кружки. Но обезьяны не любят воду, и это может препятствовать изобретательству.
При этом Рафаэль все-таки изобрел новое решение задачи: сделал мостик из доски и сходил за водой к баку. Когда этот опыт повторяли для съемок фильма «Думают ли животные», долгой дрессировки с кружкой там не было. Одна из обезьян взяла с пола тряпку и затушила ею огонь без всякой воды. И эта, и другие обезьяны все-таки черпали из озера. Животные могут находить разные способы решений той или иной задачи. Но если уже есть привычный, отработанный способ, зачем лишний раз напрягать мозги?
В решении животными разнообразных сложных задач больше удивляет не легкость формирования стереотипов, а тот факт, что животные все-таки с ними справляются. В основе таких решений лежит весьма сложная мысленная операция – составление плана действий, позволяющего добиться результатов в ситуации, для которой нет готового решения.
Особенно впечатляют достижения обезьян, обученных языкам-посредникам – упрощенным аналогам человеческого языка. Эти обезьяны понимают речь на слух, адекватно на нее реагируют и сами строят из значков осмысленные фразы. В одной серии опытов сравнивали понимание простых фраз у бонобо Канзи, которому тогда было восемь лет, и человеческого ребенка – девочки двух с половиной лет. Девочка выполняла задания в целом хуже, чем Канзи. Ему говорили: «Канзи, залезь ко мне в карман, достань зажигалку, зажги огонь». Он лез в карман, доставал зажигалку и разжигал костер. «Налей молоко в кока-колу» – и он наливал. Потом ему через неделю говорили: «Налей кока-колу в молоко» – и он наливал кока-колу в молоко, а не наоборот. «Возьми ключи, положи в большой холодильник» – и он кладет ключи в большой холодильник. «Отшлепай гориллу открывалкой для банок» – и он берет на кухне консервный нож, находит игрушечную гориллу и шлепает ее открывалкой для банок. При этом ребенок выполнял параллельно такие же задания. Иногда девочка просто не хотела выполнять просьбы экспериментаторов. Значит ли это, что ребенок глупее? Вряд ли. Девочка в то время уже учила стишки. Потом ребенок начал быстро развиваться, а шимпанзе так и остался на всю жизнь на этом уровне.
Разница между мышлением человека и других животных все-таки в степени, а не в качестве. Но разница в степени может быть очень большой. Даже в самых сложных своих достижениях шимпанзе все-таки не превышает уровня 2–3-летнего ребенка: это их потолок. С другой стороны, этологи в один голос утверждают, что единой шкалы умственных способностей, общей для всех животных, не существует. Невозможно ответить, кто «вообще» умнее: дельфины, обезьяны или попугаи. Разные виды животных справляются с одними типами задач лучше, с другими – хуже.
И человек в этом плане не исключение. Выше мы уже упоминали, что в решении некоторых интеллектуальных задач другие животные вполне могут нас «обставить»: например, сойки, белки и другие животные, запасающие пищу в тайниках, лучше нас умеют запоминать точки на местности. А если нам такое умение не кажется хорошим мерилом интеллекта, то следует задуматься: не потому ли мы его недооцениваем, что сами им плохо владеем?
Бескорыстная помощь
Многие животные (например, общественные насекомые) бескорыстно помогают близким родственникам. Иногда заботятся и о неродственных особях, но такая помощь обычно подкрепляется непосредственной выгодой для помогающего. В обоих случаях альтруистическое поведение способствует выживанию и распространению генов самого альтруиста. Поэтому гены, способствующие такому поведению, поддерживаются отбором (подробнее об этом мы поговорим в главе «Эволюция альтруизма»).
Бескорыстная помощь неродственным особям встречается крайне редко. Традиционно считалось, что это свойство присуще только человеку, а у животных полностью отсутствует. Однако сотрудники Института эволюционной антропологии им. Макса Планка в Лейпциге экспериментально показали, что не только маленькие дети, еще не умеющие говорить, но и молодые шимпанзе охотно помогают человеку, попавшему в трудную ситуацию, причем делают это совершенно бескорыстно (Warneken, Tomasello, 2006).
В опытах участвовали 24 ребенка в возрасте 18 месяцев и три молодых шимпанзе (трех– и четырехлетние). Дети и обезьяны наблюдали, как взрослый человек тщетно пытается справиться с какой-то задачей, и могли ему помочь, если у них возникало такое желание (но специально их к этому никто не подталкивал). Никакой награды за помощь они не получали.
В экспериментах использовались четыре вида задач.
1. Не достать. Человек случайно что-то роняет (например, карандаш), пытается поднять и не может – не дотягивается (эксперимент), – или нарочно бросает и равнодушно смотрит (контроль).
2. Физическое препятствие. Человек хочет положить в шкаф пачку журналов, но «не догадывается» открыть дверцы и врезается в них (эксперимент) – или пытается положить журналы на верх шкафа, врезаясь при этом в дверцы (контроль).
3. Неправильный результат. Человек кладет книгу на верх стопки, но она падает (эксперимент) – или кладет рядом со стопкой (контроль).
4. Неправильный способ. Человек роняет ложку в маленькое отверстие и пытается через него же достать ее, «не замечая» большого отверстия в боковой стенке ящика (эксперимент), – или нарочно бросает ложку в отверстие и не пытается ее достать (контроль).
Полуторагодовалые дети охотно помогали незнакомому человеку справиться с возникшей трудностью во всех четырех экспериментальных ситуациях (и не проявляли активности в контрольных экспериментах, где общая ситуация была похожей, но помощь не требовалась). Шимпанзе вели себя точно так же, но лишь в одной из четырех ситуаций, а именно в первой, где и цель экспериментатора, которой он не мог достичь, и способ ее достижения были наиболее очевидны. По-видимому, в остальных трех ситуациях шимпанзе в отличие от детей просто не могли понять, в чем проблема, – не могли «просчитать» цели экспериментатора, смысл его действий и результат, которого он хочет добиться.
В прежних экспериментах такого рода не удавалось зарегистрировать бескорыстное альтруистическое поведение у шимпанзе, потому что в этих экспериментах, чтобы продемонстрировать альтруизм, обезьяна должна была поделиться с экспериментатором (или другим шимпанзе) пищей. В природе шимпанзе активно конкурируют друг с другом за пищу и делиться не любят. Однако, как выяснилось, они готовы прийти на помощь постороннему, если речь идет об «инструментальных» задачах, не связанных с едой. Кстати, перед тем как отдать экспериментатору оброненный им предмет, шимпанзе значительно дольше, чем дети, исследовали его и отдавали, только убедившись в его полной несъедобности.
Таким образом, бескорыстная взаимопомощь не является чисто человеческим свойством. Зачатки такого поведения, скорее всего, имелись уже у общих предков человека и шимпанзе, живших 6–7 миллионов лет назад.
Шимпанзе не бросают сирот[10]Группа исследователей из Института эволюционной антропологии Макса Планка (Лейпциг, Германия) под руководством Кристофа Буша в течение почти трех десятилетий наблюдает за несколькими группами лесных шимпанзе в их естественной обстановке в национальном парке Берега Слоновой Кости. За это время ученые обнаружили, что в этих группах практикуются оригинальные технологии добывания орехов и обучение молодежи этим технологиям, а также что шимпанзе умеют планировать свои отношения с членами коллектива. Кроме того, удалось подтвердить наличие у шимпанзе такого чистого проявления альтруизма, как усыновление (Boesch et al., 2010).
Взять на воспитание осиротевшего малыша – дорогостоящее предприятие. Даже в человеческих обществах не так уж много сердобольных граждан, берущих на себя такую ответственность и такие затраты. Родителям-шимпанзе приходится не только кормить приемыша, но и таскать его на себе. Или, рискуя жизнью, ждать уставшего малыша, пока вся группа уже ушла вперед. Нужно защищать его от опасностей, делить с ним свое спальное место и ограждать от нападок сородичей.
Обычно все эти затраты и риски берет на себя мать. Ее родительское участие продолжается три – пять лет, пока детеныш не станет достаточно взрослым. Самцы редко принимают на себя даже малую долю этих трудностей. Поэтому, когда у маленького шимпанзенка умирает мать, он чаще всего тоже не выживает или очень сильно отстает в развитии – слишком трудна и опасна жизнь для неокрепших членов группы, лишившихся защитника. Шимпанзенок-сирота может нормально вырасти только в случае усыновления. В неволе случаи усыновления неизвестны.
Но в природе, как показали наблюдения, такое случается.
За 27 лет ученые зарегистрировали 36 малышей-сирот, из которых были усыновлены 18. Примерно половина усыновленных детенышей (10 из 18) выжила. Среди приемышей было примерно одинаковое число девочек и мальчиков. Удивительно, что приемными родителями становились не только самки, но и самцы (тех и других было примерно поровну). Причем, как показали генетические тесты и наблюдения, среди самцов-усыновителей был только один настоящий отец осиротевшего детеныша, остальные были подросшими братьями, друзьями погибших матерей или случайными членами группы.
Так, например, пятимесячного Момо взял друг умершей матери, то же произошло и с двумя другими осиротевшими шимпанзятами. Четырех малышей опекали совсем не связанные с матерью взрослые обезьяны. Приемные родители показывали чудеса заботы. Ученые наблюдали, как приемный отец расколол за два часа около 200 орехов, из которых 80 % отдал своему приемному сыну. Другой самец много месяцев таскал на спине приемную дочку, не бросая ее в опасных стычках с соседней враждебной группой. Немало трудностей пришлось пережить и Улиссу, среднеранговому самцу, дважды бравшему себе воспитанников. Самцы-конкуренты постоянно проявляли агрессию к его воспитанникам, чтобы таким образом сводить с ним счеты. Ему приходилось вступать в драки, защищая приемных детенышей. Ему удавалось выдерживать конфликты в первый раз полтора года, во второй раз три месяца; потом он все же бросал сирот. Поистине, за этими обезьяньими историями просматриваются настоящие трагедии с человеческими слезами!
Из-за того что многие приемные родители не были генетически связаны с сиротами, это поведение трудно объяснить действием родственного отбора. Трудно себе представить и какую-то пользу от рискованной и дорогостоящей заботы о брошенных детенышах, поскольку самцы брали себе сирот обоего пола с равной вероятностью. Вряд ли они целенаправленно растили для себя будущих защитников или покладистых самок для спаривания – усыновление было выгодно лишь самим детенышам-сиротам и не давало никаких выгод взрослым альтруистам. По-видимому, воспитание сирот, забота о них приносят пользу всей группе, увеличивая ее потенциальную численность.
Проявление столь очевидного альтруизма ученые связывают с условиями жизни конкретной популяции. Все группы шимпанзе, в которых зафиксированы случаи усыновления, обитают в крайне опасном окружении. В отличие от других районов здесь много леопардов – наиболее опасных для шимпанзе хищников. Только кооперативное поведение – слаженные действия во благо группы – позволяет шимпанзе защищаться от этих свирепых врагов. В таких условиях и происходит становление альтруистического поведения.
В других популяциях, где пресс хищников невелик, а также в неволе подвиги становятся необязательными.
В человеческих обществах, между прочим, альтруистическое поведение тоже характерно для групп, живущих в окружении врагов и постоянно участвующих во внешних конфликтах. Таким образом, ясно видятся аналогии в становлении альтруистического поведения у шимпанзе и людей (подробнее см. в главе «Эволюция альтруизма»).
Планы на будущее
Планирование отдаленного будущего традиционно считалось чисто человеческой чертой. Турист перед походом собирает рюкзак, тщательно продумывая, что ему может пригодиться – топор, веревки, рыболовные крючки, ложка с кружкой и много другого, – хотя в момент сборов нет необходимости рубить ветки или ловить рыбу. Чтобы собрать рюкзак, нужно хорошо представлять себе, как будут разворачиваться дальнейшие события. Точно спланированные действия считаются признаком мудрости, плохо спланированные – легкомыслия (мол, будь что будет). Однако оказалось, что и эта эксклюзивная черта присутствует у других животных, нужно только правильно поставить эксперимент.
Германские этологи из уже неоднократно упоминавшегося Института эволюционной антропологии в Лейпциге поставили четыре серии опытов с орангутанами и бонобо. Предки орангутанов отделились от эволюционной линии наших предков около 15 млн лет назад, бонобо – 6–7 млн лет назад. По результатам экспериментов исследователи надеялись примерно определить, на каком этапе сформировалась способность к планированию.
Обезьянам предлагали решать задачу на выбор правильного орудия. В специальном аппарате крепилась трубка с двумя дырочками в стенках, в эти дырочки поперек трубки вставлялась сухая макаронина, к двум концам которой привязывались виноградные кисти. Обезьяна должна была выбрать тонкую палочку, просунуть ее в трубку и сломать макаронину. Тогда виноград падал из аппарата в руки обезьяне.
Когда обезьяны научались правильно выполнять это задание, начались тесты по планированию. Обезьяне показывали закрытый аппарат, из которого ничего нельзя было достать, и предлагали на выбор восемь инструментов (два подходящих и шесть непригодных). Через пять минут ее выпроваживали из комнаты и приводили назад через час. Теперь уже аппарат был открыт, и если обезьяна приносила с собой правильно выбранный инструмент, то могла достать себе виноград.
Итак, сначала правильно выбрать инструмент, затем взять его с собой, затем принести обратно в комнату – не так уж это просто. Тем не менее в 70 % случаев тест был пройден успешно! В двух случаях обезьяны унесли с собой неправильные орудия. Но, войдя в комнату с открытым аппаратом, быстренько сообразили, в чем дело, обработали неподходящие орудия, отломав лишние части, и все-таки добрались до винограда.
В другом эксперименте обезьян уводили из комнаты с закрытым аппаратом на целых 14 часов. Действия обезьян оказались успешными даже больше чем в 70 % случаев.
В третьей серии опытов обезьянам предлагали выбрать правильное орудие, когда сотрудники только устанавливали аппарат, то есть самого аппарата с виноградом еще не было. Успешными оказались 40 % попыток.
Если же, как это было проделано в четвертой серии экспериментов, обезьяны не видят, что устанавливают аппарат, то они не справляются с заданием, хотя в случае правильно выбранного и принесенного назад орудия получают награду. Удручающе низкий успех в последнем эксперименте показывает, что планирование нельзя объяснить формированием условного рефлекса, пусть даже и сложного (Mulcahy, Call, 2006).
Критическая самооценка и «метапознание»
Всем животным, включая людей, часто приходится принимать решения на основе неполных или неоднозначных исходных данных. Главное при этом – оптимальным образом обработать имеющуюся информацию, чтобы максимизировать шансы на успех. С этой задачей животные во многих ситуациях худобедно справляются. Но есть и другая сторона проблемы: часто оказывается полезным умение адекватно оценить вероятность того, что принятое решение было правильным. Особенно это актуально в тех случаях, когда последствия совершенного поступка (например, награда или наказание) реализуются не сразу, а спустя какое-то время. От степени уверенности в собственной правоте зависит, будем ли мы спокойно ждать награды или спешно искать способ избежать наказания.
Многие эксперты полагали, что для подобных оценок необходимо самосознание, которым обладает лишь человек, а в зачаточной форме, возможно, некоторые другие приматы. Действительно, казалось бы, как может существо, не обладающее самосознанием, неспособное анализировать постфактум свои поступки и их мотивы, быть уверенным (или неуверенным) в том, что совершенный ранее поступок был правильным?
Умение критически оценивать себя и свои поступки, по-видимому, распространено среди животных намного шире, чем было принято считать.
К счастью, современных нейробиологов и психологов-экспериментаторов абстрактными рассуждениями не убедишь – им подавай конкретные факты. Чтобы доподлинно узнать, способны ли животные, не относящиеся к приматам, адекватно оценивать правильность собственных решений, команда ученых из США и Португалии поставила серию оригинальных экспериментов на крысах. Результаты этой работы, опубликованные в журнале Nature, показали, что крысам в полной мере свойственна упомянутая способность (Kepecs et al., 2008).
Крыс научили выбирать одну из двух поилок в зависимости от того, запах какого из двух пахучих веществ – А или Б – преобладает в воздухе. В роли вещества А выступала капроновая кислота, в роли вещества Б – 1-гексанол. Если крысе давали понюхать смесь с соотношением A/Б > 50/50, крыса должна была выбрать левую поилку, при А/Б < 50/50 – правую. За правильный выбор крысу награждали (давали каплю воды). Награда, однако, появлялась не сразу – крысу заставляли ждать у выбранной поилки, мучаясь неопределенностью, от 0,3 до 2 секунд.
Меняя соотношение веществ А и Б в пахучей смеси, исследователи могли регулировать сложность задачи. Понятно, что чем ближе это соотношение к 50:50, тем труднее крысе сделать правильный выбор. Как и следовало ожидать, крысы ошибались тем чаще, чем сложнее была задача (см. нижний график на рисунке).
Подопытным крысам вживили электроды в орбитофронтальную кору (ОФК) – участок мозга, отвечающий за принятие решений в спорных ситуациях. Регистрировалась активность индивидуальных нейронов в то время, пока крыса находилась у выбранной поилки в ожидании награды и еще не знала наверняка, права она или ошиблась.
Cхема эксперимента. На верхнем графике показано, с какой частотой одна из крыс выбирала левую поилку при шести разных составах пахучей смеси (100:0, 68:32, 56:44, 44:56, 32:68, 0:100). Нижний график показывает, с какой частотой три произвольно выбранные крысы принимали правильные решения. По рисунку из Kepecs et al., 2008.
Ученые обнаружили, что активность многих нейронов ОФК в этот волнительный для крысы момент зависит от степени сложности только что решенной задачи. Часть нейронов, активность которых удалось записать (120 из 563), генерировали более частые импульсы в том случае, если выбор был сложным. Несколько меньшее число нейронов (66 из 563), наоборот, работало активнее, если решенная задача была легкой.
Еще более интересные результаты были получены, когда ученые сопоставили активность отдельных нейронов не со сложностью, а с правильностью сделанного выбора. Напомним, что активность нейронов регистрировалась в тот период, когда награда еще не могла появиться, то есть крыса еще не знала наверняка, правильно ли она поступила. Как ни странно, оказалось, что многие нейроны «знают» это заранее. Значительная часть нейронов работала активнее в случае ошибочного решения; несколько меньшее их число генерировало более частые импульсы в случае правильного выбора. При помощи математического моделирования и сложных статистических тестов ученым удалось показать, что активность этих нейронов не зависит ни от того, как часто крыса ошибалась в предыдущих тестах, ни от иных «посторонних» факторов. Эта активность в точности отражает ту оценку правильности сделанного выбора, которую крыса в принципе может «вычислить» на основе своих знаний о характере запаха в данном тесте, об условиях задачи и о собственном только что принятом решении.
Таким образом, экспериментатор, наблюдающий за активностью нейронов ОФК в крысином мозгу и ничего не знающий ни о составе пахучей смеси, ни о том, какую поилку крыса выбрала, может довольно точно определить, правильное ли решение было принято крысой. Иными словами, в мозге крысы в период «ожидания» уже содержится вполне достоверная информация о том, насколько высока вероятность получения награды. Но способна ли крыса использовать эту информацию, извлечь из нее какую-то пользу для себя?
Чтобы ответить на этот вопрос, ученые немного изменили дизайн эксперимента. Во-первых, время ожидания удлинили: теперь крыса после принятия решения должна была ждать награды от 2 до 8 секунд. В случае правильного решения каждый раз выбирался случайный интервал времени в пределах этого диапазона. В случае неправильного решения ровно через 8 секунд раздавался звуковой сигнал, означающий, что дальнейшее ожидание бессмысленно. Во-вторых, крысе предоставили возможность в любой момент прекратить ожидание и начать тест заново, то есть вернуться к источнику запаха, понюхать, а затем снова выбрать одну из двух поилок.
В этой ситуации умение оценивать вероятность ошибки перестало быть для крысы бесполезным, как в первой серии экспериментов. Если крыса уверена в своей правоте, ей выгодно ждать до упора – награда в конце концов обязательно появится. Если же крыса полагает, что скорее всего ошиблась, ей лучше не тратить зря время и поскорее начать все заново.
Крысы оценивают вероятность того, что сделали правильный выбор, и используют результат оценки к собственной выгоде. Показаны данные по одной из крыс. По вертикальной оси – процент случаев, когда крыса не стала дожидаться награды и начала тест заново. Светлая линия соответствует тем случаям, когда крыса ошиблась (и награду ждать было бесполезно), темная линия отражает случаи правильного выбора. По рисунку из Kepecs et al., 2008.
Результаты этой серии экспериментов (см. рисунок) показали, что крысы отлично умеют извлекать выгоду из результатов проведенной самооценки. Если задача была проста, а выбор был сделан неверно, крыса с большой вероятностью не будет ждать все 8 секунд, а начнет тест заново (крайние левый и правый участки светлой кривой на графике). Крысы, сделавшие неправильный выбор, ждут терпеливее, если задача была сложной («а вдруг я угадала?»). На рисунке это обстоятельство отражается вогнутой средней частью светлой кривой. Если задача была проста и выбор был сделан правильно, крыса вполне уверена в своей правоте и ждет до конца (крайние участки темной кривой). По мере того как задача усложняется (%А приближается к 50), степень самоуверенности крыс, сделавших правильный выбор, снижается (темная кривая в середине выше, чем по краям). Добавим, что в ОФК изученных крыс было обнаружено большое число нейронов, активность которых подчиняется той же закономерности: если на рисунке по вертикальной оси вместо частоты досрочных уходов от поилки отложить активность этих нейронов, то обе кривые – и светлая, и темная – будут иметь примерно такую же форму.
Таким образом, для того чтобы адекватно оценивать правильность собственных решений, вовсе не обязательно иметь огромный мозг и развитое самосознание, как у человека. С этой задачей неплохо справляются и грызуны. Исследователи предполагают, что алгоритм подобной самооценки, возможно, является неотъемлемой составной частью общего механизма принятия решений, «встроенного» в мозг высших животных.
Аналогичные исследования проводят, конечно, не только на крысах, но и на людях (см. главу «Жертвы эволюции»), и на других приматах. Интересные результаты по четырем видам человекообразных опубликовал недавно Джозеп Колл, руководитель приматологического центра все того же Института эволюционной антропологии им. Макса Планка в Лейпциге (Call, 2010). В начале статьи автор рассказывает о том, как он собирается в заграничные командировки. Упаковав паспорт и билеты с вечера, утром в день отъезда он всегда проверяет, на месте ли документы. В чем смысл этого действия, если он прекрасно помнит, куда их положил, и ночью к его сумке никто не прикасался? Очевидно, пишет Колл, я понимаю, что людям свойственно ошибаться. Лучше лишний раз удостовериться, что память меня не подводит – особенно если цена ошибки высока (авиабилеты Колл перепроверяет чаще, чем железнодорожные, потому что их труднее восстановить в случае потери). Это одно из проявлений способности к метапознанию – обдумыванию и оценке собственных мыслей и знаний. Колл называет этот поведенческий стереотип эффектом паспорта.
Специалисты по когнитивной этологии[12] провели много экспериментов для выяснения вопроса о наличии метапознания у разных животных. Для этого были разработаны специальные методики. Например, животному предоставляется возможность отказаться от прохождения теста, причем за отказ животное получает небольшое вознаграждение, за удачное выполнение задания дается более желанная награда, а за неудачное – ничего. Затем задание постепенно усложняют (например, заставляя животное делать выбор между двумя все более похожими друг на друга фигурами, звуками или запахами, как в вышеописанном эксперименте с крысами) и смотрят, будет ли расти частота «отказов».
В ходе этих экспериментов выяснилось, что крысы, дельфины и обезьяны при недостатке информации ведут себя вполне по-человечески: отказываются от прохождения теста или пытаются получить дополнительные сведения. По-видимому, это значит, что животные здраво оценивают собственную информированность и компетентность и понимают, каковы их шансы на успешное выполнение задания.
Однако не все эксперты согласны с тем, что эти результаты доказывают наличие метапознания у нечеловеческих животных. Некоторые критики полагают, что подопытные могли научиться максимизировать свой выигрыш, ориентируясь не на уверенность в собственных знаниях, а на конкретную экспериментальную ситуацию. Имеется в виду, что их поведение может быть основано не на метакогнитивном рассуждении («я вряд ли справлюсь с этой задачей, поэтому лучше отказаться»), а на более простом механическом навыке («если показывают два одинаковых круга, жми кнопку “отказ”»).
Критике подверглись и те эксперименты, в которых было показано, что животные при недостатке информации активно пытаются получить недостающие сведения. Может быть, у животного, не понимающего, как добыть лакомство, просто включается «генерализованная поисковая программа» – оно ищет не ключ к решению задачи, а само угощение? Когнитивная этология постоянно сталкивается с такими проблемами, связанными с неоднозначностью интерпретаций. Для окончательного решения того или иного вопроса, даже совсем простого на первый взгляд, порой требуются десятки разнообразных экспериментов.
Колл сообщает о результатах трех новых серий опытов с человекообразными обезьянами. Целью работы был поиск дополнительных аргументов за или против наличия у них метапознания. В частности, Колл хотел понять, характерен ли для обезьян эффект паспорта. В экспериментах приняли участие восемь шимпанзе, четыре бонобо, семь горилл и семь орангутанов. Во всех тестах обезьяны должны были определить, в какой из двух непрозрачных трубок находится угощение.
В первой серии экспериментов сравнивались три ситуации. В первом случае экспериментатор помещал лакомство (специальное печенье для обезьян) в одну из трубок на глазах у животного. Во втором случае обезьяна видела, что печенье кладут в одну из трубок, но не знала в какую. Третья ситуация отличалась от второй тем, что экспериментатор, «зарядив» одну из трубок, потом брал по очереди обе трубки и тряс их, так что можно было по стуку понять, где печенье. После этого обезьяна должна была сделать выбор, прикоснувшись к одной из трубок. Перед тем как принять ответственное решение, она могла заглянуть в трубку, чтобы убедиться в правильности своего выбора. Трубки располагались двумя разными способами: в одном случае заглянуть в трубку было легко, в другом – трудно.
Как и следовало ожидать, обезьяны реже заглядывали в трубку, если видели своими глазами, куда было положено печенье. Звуковая информация (стук при потряхивании трубки) влияла на их поведение по-разному в зависимости от сообразительности данной обезьяны. Ранее (в 2004 году) все участники эксперимента проходили тест на способность использовать звуковую информацию при поиске пищи. Примерно половина обезьян справилась с заданием, половина – нет. В нынешнем эксперименте те обезьяны, которые успешно прошли тест в 2004 году, реже заглядывали в трубку в ситуации 3 (когда была звуковая информация), чем в ситуации 2 (когда никакой информации не было). Напротив, те обезьяны, которые в 2004 году не сумели найти угощение по звуку, вели себя одинаково в ситуациях 2 и 3 (заглядывали в трубку одинаково часто). Таким образом, вероятность заглядывания связана со степенью информированности: чем точнее обезьяна знает, где лакомство, тем ниже вероятность того, что она заглянет в трубку перед принятием решения.
Повышенная трудность заглядывания в трубку привела к снижению частоты заглядывания в ситуации 1 у всех обезьян, а в ситуации 3 – только у «умных», способных найти печенье по звуку. В ситуации 2 участники эксперимента почти всегда заглядывали в трубку, независимо от трудности этого действия.
По-видимому, заглядывание в ситуации 1, а для «умных» обезьян также и в ситуации 3 – это типичный эффект паспорта. Обезьяна на всякий случай проверяет то, что ей и так известно. При этом обезьяны хорошо понимают, когда можно пренебречь такой проверкой, а когда нельзя. Гипотеза о наличии у обезьян метапознания лучше объясняет эти результаты, чем альтернативные гипотезы.
Во второй серии экспериментов изучалось влияние забывчивости. На этот раз приманку всегда клали в одну из трубок на глазах у обезьяны, но принимать решение нужно было не сразу, а через 5, 20, 60 или 120 секунд. При этом отверстия трубок либо загораживали, так что заглянуть в трубку перед выбором было нельзя (ситуация 1), либо оставляли отверстия открытыми, позволяя обезьяне удостовериться в правильности своего решения (ситуация 2). Первая ситуация использовалась для того, чтобы определить, с какой скоростью обезьяны забывают увиденное. Вторая – для того, чтобы понять, влияет ли забывание на вероятность заглядывания. Оказалось, что обезьяны довольно быстро забывают, куда было положено угощение: частота правильных угадываний в «закрытых» тестах быстро снижалась с увеличением временного интервала. Параллельно росла и частота заглядываний в «открытых» тестах.
Обезьяна, по-видимому, понимает, что она забыла, где приманка, и заглядывает в трубку, чтобы восстановить утраченную информацию. Об этом можно судить еще и по тому, в какую из двух трубок обезьяна заглянет первой – в «правильную» или в пустую. С увеличением отсрочки росла частота заглядываний в пустую трубку, что подтверждает гипотезу о забывании. Однако в большинстве случаев – даже после двухминутной задержки – обезьяны все-таки заглядывали сразу в «правильную» трубку. Следовательно, по крайней мере в некоторых случаях, обезьяна на самом деле не забыла, где угощение, а просто хотела лишний раз удостовериться, что память ее не подводит. С течением времени ее уверенность в точности собственных воспоминаний снижается. То есть налицо типичный эффект паспорта.
В третьей серии экспериментов гипотеза об эффекте паспорта подверглась еще одному испытанию. Люди склонны чаще перепроверять и без того известные им вещи, если цена ошибки высока. Если обезьяны мыслят так же, частота заглядывания в трубку должна положительно коррелировать с желанностью награды. В этой серии экспериментов в качестве малоценного угощения использовали кусочки моркови или апельсина, а высшей наградой был виноград. Это соответствует вкусам обезьян (и было дополнительно подтверждено в рамках данного исследования специальными тестами на пищевые предпочтения). Оказалось, что обезьяны достоверно чаще заглядывают в трубку перед принятием решения, если речь идет о винограде. При этом процент правильных угадываний был одинаковым для обоих типов угощений.
Эксперимент также показал, что обезьяны одинаково хорошо помнят, куда было положено угощение, независимо от его ценности. Однако они предпочитают лишний раз удостовериться в том, что не ошиблись, если ставки высоки.
В целом полученные результаты явно свидетельствуют в пользу наличия у обезьян метапознания и в частности эффекта паспорта.
Дикие девочки-шимпанзе играют в куклыВо всех человеческих культурах девочки любят играть в куклы, а мальчики предпочитают машинки (или другие игрушки на колесиках) и сабли с пистолетами. Это, между прочим, не досужие рассуждения, а факт, подтвержденный статистически в ходе специальных исследований. Такие же половые различия в выборе игрушек характерны и для юных нечеловеческих обезьян, воспитывающихся в неволе. Обезьяны-девочки предпочитают кукол и плюшевых зверей, мальчики выбирают «мужские» игрушки. Считается, что эти различия обусловлены отчасти социальным обучением (взрослые и сверстники вольно или невольно «учат» детей, в какие игрушки им положено играть), отчасти – врожденными склонностями. За детенышами диких приматов подобного поведения ранее не замечали. Однако недавно американские антропологи, в течение 14 лет наблюдавшие за группой диких шимпанзе в национальном парке Кибале в Уганде, сообщили, что в природе девочки-шимпанзе тоже играют в дочки-матери (Kohlenberg, Wrangham, 2010).
В роли кукол выступают разнообразные деревяшки. Обезьяны носят их повсюду, спят с ними в своих гнездах, играют с ними примерно так же, как матери-шимпанзе со своими младенцами. Девочки занимаются этим намного чаще, но и мальчикам не чуждо такое поведение. Это хорошо согласуется с тем обстоятельством, что у шимпанзе забота о детях возложена в основном на самок, однако самцы при необходимости тоже иногда нянчатся с подрастающим поколением (см. выше). Однажды исследователи наблюдали даже, как юный самец построил для своей палочки-куклы особое гнездышко. В пользу того, что это именно игра в куклы, свидетельствуют следующие факты.