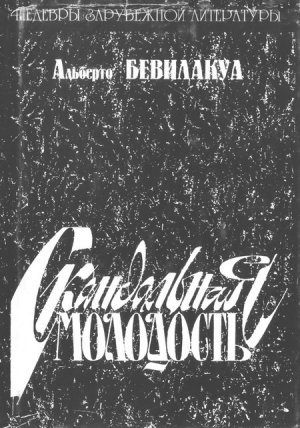
ПРОЛОГ
Прорицателей приковывали к позорным столбам.
От этих железных столбов с обрывками цепей, которые до сих пор можно увидеть на площадях городов вдоль По, шарахаются даже собаки.
Прорицатели — радостные и трагичные, хитрые, как лисы, или наивные, как дети, — заставляли одно время года сменять другое, с помощью математики заглядывая в будущее, предсказывали катастрофы и счастливые времена и, кроме метаморфоз, сулили миру успех и приключения. Они открывали людям тайны обратной стороны луны, или, проще говоря, тайну вечности.
Обитатели берегов реки, сжатой отвесными берегами, сливались с ее водоемами и каналами, стаями рыб и реликтами доисторических приливов — лодочники, пастухи, бродячие продавцы книг и шляп, пикадоры, жители Брентадоро и Навароло; и чужеземцы, появляющиеся на плотинах с видом проповедников, не принадлежащих ни к какому ордену, в высоких шапках армянского фасона, в черных кафтанах с красными крестами на груди и на спине. Одни из них играли на медных трубах, на рукавах у других были нашиты колокольчики, третьи несли граммофоны с трубами в форме кубка.
Так было всюду — от Аббатства Помпоза и Гран Боско делла Мезола до Саббьонеты и Казальмаджоре. И всюду их воспринимали как пришельцев из ниоткуда и узнавали в изображениях на картах Таро и в молитвенниках, среди виньеток с птицами, дельфинами, треножниками с символическим пламенем. Их подвергали бичеванию и травили.
Королевские Гвардейцы — руки в белых перчатках сжимают поводья, сапоги в стременах — наблюдали за их агонией, сонно покачивая головами в белых кепи; выкрикнув все истины, потеряв голос, Прорицатель начинал дуть прямо перед собой, и на песке четко вырисовывались слова, слова свободные, которые в таком виде существуют в ясновидении, как надписи существуют на бумаге. Королевские Гвардейцы терпеливо топтали их копытами своих коней до тех пор, пока они не становились неразличимы.
Прорицатель умирал с разбитыми в кровь губами, отрезанными ушами, не имея больше сил устремиться вверх, к свету и магии, с которыми общался раньше. И тогда Королевские Гвардейцы неторопливой рысью удалялись в заросли можжевельника.
Ребенком Дзелия усаживалась на скамеечке перед Прорицателями, на пустынных площадях, окруженных раскаленными солнцем или покрытыми снегом башнями. Ей казалось, что она задыхается вместе с ними, дрожит от того же холода, изнемогает от той же усталости. Она вставала, чтобы наложить прикованному на раны мазь, по совету некоторых взрослых беженцев, или чтобы приложить ухо к его груди и различить в прерывистом дыхании слова. Потом она зажигала фонарь между стульчиком и столбом и снова усаживалась под луной, яркой в июне и тусклой осенью. Иногда она даже засыпала под дождем, стремительно уносящимся в ночь.
Однажды к столбу приковали женщину.
Дзелия смотрела, как зимний свет падает на нее. Шаль у нее украли, и разорванные одежды сползли на землю. От нее исходил резкий запах самки, и окровавленная нагота подчеркивала линию ребер, напряженных, как мрамор; запекшаяся кровь на левой стороне груди напоминала фантастическую розу. Их взгляды скрестились, и, загипнотизированная непонятной силой этих глаз, Дзелия познала красоту и угадала в ней свое будущее. У прорицательницы были маленькие руки и ноги, небесно-голубые глаза, сильное и белое тело; когда Дзелия подошла к ней и поцеловала, та на каком-то причудливом языке произнесла слова, предвещающие счастье и наслаждение. Этот поцелуй ожогом навсегда остался у нее в памяти.
Знакомыми словами Прорицатели называли истины неведомые. И наоборот.
Женщина предсказала, что в жизни Дзелии будет то, что она сможет выразить уже изобретенными людьми словами. Будет и то, что она сможет выразить только словами, которые создаст сама, чтобы передать мечтания земли, лики и иронию природы. Будет и то, его она не сможет выразить, и услышит это от других, ибо оно покажется ей великим, как мечты, и пережитым всеми, кроме нее.
Она узнала, что существуют три формы познания.
Девочка проснулась от звука сорвавшегося с крюка тела.
В некоторых местах вдоль По словом arlia называют жажду самому создавать собственную жизнь, жажду играть в нее. И если в действительности что-то происходило каким-то определенным образом, но у меня возникал каприз, я немедленно изменяла это молодостью моего тела и дарованной мне силой воображения, которая могла свернуть горы, — чтобы с миром можно было играть, даже тогда, когда надо было бы серьезно задуматься. И не полагаться на Бога, если он есть, или на Био, который есть безусловно.
Даже в такой истории, как история Италии, которую я собираюсь рассказать, которую держали в секрете и которую я узнала, пережив в ней тысячу приключений, я никогда не чувствовала себя жертвой. А раз так, жизнь, если смотреть не на то, что она собой представляет, а на то, как человек, если хочет, ее строит и, прежде всего, ее видит, это — не Бог весть что. Включая и возмущение, которое кое-кто будет испытывать по отношению ко мне.
I
Однажды она неожиданно вспомнила о чем-то, случившемся еще до того, как родилась ее память. Она поняла, что молодость кончается, снова увидев паводок и вместе с ним свои первые в жизни впечатления: По покрывал землю от пармских берегов до Дельты, а она двигалась по лабиринту этой водной вселенной, одновременно привлекательной и угрожающей, как сама детская фантазия, на лодке с останками вымерших существ, среди столбов грязи, вздымавшихся в небо и обрушивавшихся с него.
Может быть, это был конец или начало какого-то века. А может быть, время, у которого не было ни начала, ни конца, некое воображаемое место, в котором совершенно логичны такие вещи, как игры и драмы, а то и конец света.
Она вспомнила о цапле.
Когда та неподвижно замирает, и ее с трудом можно различить на фоне солнца, которое, кажется, тоже имитирует ее неподвижность. Кровь Био окропляет землю, окрашивая тишину в мрачный предгрозовой цвет.
Она вспомнила о солнце за цаплей.
В Полезине, Колорно и Роккабьянке сильно поднялась вода, и стремительные потоки врывались в деревни, опережая сигналы дозорных. Люди не понимали, куда бежать, а животные сбились в кучу и пошли на звук грома, приняв его за голос Био, который наконец призвал их, предпочтя человеку. Сбросив всадников, в большинстве своем стариков или младенцев, и промчавшись изнуряющим галопом, лошади вставали на дыбы, пытаясь влететь внутрь этого голоса, а впереди вместо святых покровителей шел, в белизне крестильных одежд, Эрзац, чье пришествие ожидали веками, покровитель убийц и женщин с дурной репутацией, способный превращаться во Влюбленного Роланда.
Когда увидели, что он парит в тумане над бесконечным болотом, границы которого были обозначены смоляными факелами, начался исход.
Дороги заполнились повозками и семьями, примостившимися на грудах домашнего скарба; люди смотрели, как мешки с песком лопаются на плотинах в пойме реки, как баржи выносят на берег трупы утонувших домашних животных и человеческие тела, которые бились об откосы, исчезая в пропасти водоворотов или возносясь к проезжей части мостов.
Она вспомнила, как наблюдала с лодки за концом мира, в который собиралась вступить, и ее беспокойная душа вопрошала: стоит ли? Кто бросил ее одну? Кому принадлежали одежды и куртки, образовавшие подстилку между веслами? Никого вокруг не было. Только эти одежды, яркая шаль на уключине, большие свечи на дне, мышь, которая метнулась из лодки в воду, на миг удержалась на поверхности и утонула. И была еще бутылка из красного стекла с золотой пробкой. Однажды ночью она внезапно разбилась, и дурманящий аромат окутал Дзелию, постепенно растворяясь в бурном ветре. Чья-то женская рука оставила рабочую корзинку и соломенную шляпку с широкими полями и прикрепленной к ней массивной серьгой.
Лодка уперлась в какой-то столб. Она выдержала неистовую атаку ласточек, которые, полагая, что так безопаснее, летали столь низко, что попадали в зев грязевых воронок. Наконец она протиснулась в старое русло реки.
Это было спасение.
Грязевой прилив прогрохотал где-то вдалеке и пронесся вскачь, словно по какой-то другой земле: земле чужих живых и мертвых. Из своего убежища она увидела, как эта земля превращается в кладбище лодок, которые плыли с распятиями на носу, сопровождаемые тщетными молитвами, которые печально возносили к небу портовые сирены. Вода продолжала подниматься, и головка какой-то девочки почти уже коснулась солнца.
И тогда привели быка.
Его притащила толпа крестьян, невероятно исхудалых и потрясенных видениями, в которых самые мерзкие животные превращались в божества; люди сосали ядовитый тростник, думая, что припадают к материнской груди, и каждый день отдавали паромам своих мертвецов, которых становилось все больше и больше. У мужчин были головы леопардов, а у женщин — тигриц, разрывающих на куски лань. Они шли из Колонно и Медзано Рондани, и даже из более далеких мест.
Подгоняемое рукоятками топоров и остриями заступов, несчастное животное не понимало, откуда столько ярости и боли. Бык был так огромен, что от его шагов сотрясались верхушки деревьев, а сам он казался красно-коричневой горой. Рога блестели. Шея вздымалась, как башня. Самое страшное произошло, когда он внезапно остановился и пристально посмотрел на паводок, границы которого сливались с сумерками. Быка загнали на камни напротив старого русла, в которое ускользнула Дзелия. Мужчины схватили его за ноги, женщины упали на колени, простирая руки к его мошонке, словно к святому источнику. Они распевали слова заклятья, которое носит имя Галадура.
Огромный детородный орган вырвался на свободу, рассекая воздух. Женщины постарались, чтобы он обрел всю свою мощь. Сейчас они смеялись и плакали, охваченные безумием, с которым животное пыталось бороться, грозно тряся рогами; оно издавало жалобные стоны, словно охваченное стыдом, и, пытаясь спастись бегством, заставляло толпу откатываться то влево, то вправо.
Прорицательницы — строльги — и священники смотрели вдаль над поймой. И первые воззвали к Богу, а вторые — к Био, прося, чтобы семени выплеснулось как можно больше и чтобы все оно разлилось по берегу реки: тогда, как они уверяли, паводок пойдет на спад.
Совсем юная девушка сорвала с себя одежду и бросилась между задними ногами быка; налитый кровью стержень пронзил бы ее до самого сердца, если бы ее вовремя не оттащили. Бык покачнулся, ища опору. Пока семя выплескивалось в руки тех, кому больше повезло, он сломал ствол тополя. Его схватили за рога, и люди, цепляясь друг за друга, поволокли за собой животное, которое теперь двигалось вбок и бегом, несмотря на извержение семени, которому, казалось, не будет конца — оно заливало траву и корни, и строльги ликовали, ибо их просьба была услышана. Бык бежал, пока мог. А затем подчинился бесстыдной силе, превращавшей людей в больших животных, чем он сам: детородный орган втянулся обратно, плоский, как огромный пузырь, из которого выпустили воздух, хотя его и пытались удержать, дико крича и впиваясь в него ногтями.
И тогда они его убили.
Заклятье требовало, чтобы кровь тоже разлилась. Земля стала ярко-красной. Бык некоторое время держался на перебитых передних ногах, потом кости прорвали кожу, и он упал, как подкошенный. Над плотинами пронесся жалобный стон. Наибольшую жестокость проявили женщины, вооруженные ножами masen, которые они вонзали ему в яички и в сердце.
Эти видения, более древние, чем память, вспомнила Дзелия Гросси, у которой тогда еще не было этого имени; у нее вообще не было никакого имени. Толпа исчезла, как по волшебству. Цапля, замершая в неподвижности на фоне солнечного диска, созерцала паводок, и в самом деле пошедший на спад, и девочку, которая, с трудом держась на ногах, все-таки продолжала идти вперед между остатков жертвоприношения. Когда она подошла к быку и опустилась на колени, он еще дышал; отсеченный орган был брошен в грязь, и в устремленных на него глазах умирающего животного пульсировала тоска.
Цапля оторвалась от солнца и продолжила свой полет. Какой-то священник вышел на плотину, звеня в колокольчик и сияя величием золотого распятия. Тем временем течение реки вновь обретало свое величавое спокойствие, и доносившееся со всех сторон пение жаворонков подсказывало, какие деревья уцелели.
Так Дзелия Гросси вошла в то, что называют жизнью. Впрочем, никто не знает, что же это такое.
— Это забастовка восьмого числа! — воскликнул он.
— Забастовки нет, — был ответ. — И никогда не будет.
Его заставили выйти из цепочки арестантов во дворе и отвели в оружейную комнату.
— Род занятий? — спросил лейтенант.
— Работа фантазии.
Удар хлыста поперек груди.
— Имя и фамилия?
— Меня зовут Безумный Парменио. Парменио, как Беттоли.
— Безумный? По какой причине?
— Безумные не знают слова «причина». Поэтому они счастливы.
— Я тебе приказываю назвать причину. И немедленно!
Парменио пожал плечами. И ответил, мягко и с отсутствующим видом:
— Я считаю реальность воображением. И наоборот. Я считаю правду предположением и ложью.
— Этой причины я не понимаю. Приказываю назвать нормальную!
— Я считаю, что жизнь состоит из странных событий, которые опровергают ее логику. Через чудеса возможного.
— Причину, которую можно понять! — потребовал разъяренный офицер.
— Я верю в небесную истину. И мой спутник — Вселенная.
— То есть ты католик?
— Нет.
— Отвечай: нет, синьор!
— Нет, синьор, я не католик.
— Значит, ты сектант?
— Да, — усмехнулся Парменио. — Я — член секты, которая предупреждает: бойтесь офицеров и чистой совести. Убивайте героев. Плетите заговоры, особенно против самих себя. Верьте только в обратную сторону луны…
— Продолжай! — приказал офицер.
— Истории не существует, трагедии человечества есть не что иное, как жалкие метаморфозы. Гибнет все, кроме иронии. Мы всего лишь рыбаки без рыбы, созерцающие окончательный закат.
— Вполне достаточно, — с удовлетворением отметил офицер. — Ты действительно сумасшедший. И для сумасшедшего говоришь весьма неплохо.
В оружейную постоянно входили вестовые и, пройдя через помещение, исчезали где-то в глубине за дверью; было совершенно очевидно, что прибывали они из деревень, потому что, когда они отряхивались, от их гимнастерок поднималась пыль и повисала в воздухе между столами с мраморными столешницами, на которых лежали раненые и убитые, прикрытые окровавленными простынями.
Вокруг ламп вились мотыльки, и мгновениями в комнате были слышны только шорох их крылышек и слабое дыхание, свидетельствующее, что некоторые раненые еще живы.
— Мы убьем и Оресте Фьонду.
— Я знаю, — сказал Парменио.
— Да здравствует Фьонда! — с сарказмом в голосе выкрикнул лейтенант, вспомнив тот крик, с которым от рассвета до заката демонстранты выходили ему навстречу в пармских деревнях. — Да здравствует забастовка!
Парменио повторил его слова, но без сарказма.
Лейтенант с ненавистью уставился на него:
— Фьонда просто жалкий горлопан. Он же никогда не был рабочим. Как он может заседать в Палате Труда? По какому праву он руководит Комитетом?
— Ты сам его убьешь?
— Сам, — подтвердил лейтенант. — Своими руками.
Он поднял шпагу:
— Я перережу ему горло и отрежу яйца. Кстати, яйца я отправлю в Общество Аграриев или в Лигу, или, если это тебе больше нравится, его мамочке!
— Моя фамилия, — сказал тогда Парменио, — Фьонда. Оресте — мой брат. Если ты его действительно убьешь и отрежешь яйца, то должен отдать их мне. Наша мать уже много лет как умерла. А лучше отрежь свои, потому что это он тебя убьет.
Лейтенант осмотрелся, словно на поле боя, прикидывая, что же осталось в результате этой бессмысленной трагедии. Со двора донесся чей-то голос.
— Они в панике, — заявил он, гордо вскинув голову.
— Они поют, — поправил Парменио.
И в самом деле, в ночи эта песня без слов звучала с такой мощью, что ее было слышно за стенами казармы.
— Это жалобный стон, — упорствовал лейтенант.
— Это — «Реквием» Верди.
И Парменио откинул простыню на одном из столов. Он с самого начала заметил две босые ступни с порезом на правой и подумал, что это какая-нибудь мертвая девочка. Но это было не так. Как только Парменио открыл ей лицо, Дзелия впилась взглядом в обоих мужчин, и блеск ее глаз, подобный блеску глаз зверя в норе, заставил мир насторожиться.
Из своего дома в Санта Кроче Парменио внимательно смотрел на рассеченную каналами равнину, на заржавевшие краны маленьких стапелей, на которых ужe давно ничего не разгружали, на видневшиеся башня Сетте Кастелла и Пьеве ди Саличето, вдыхая воздух с другого берега По, из Помпонеско.
Он отметил, что мужчины, все, как один, здоровяки в плащах из грубой ткани и войлочных шляпах, были заняты беседой между собой. А женщины, озираясь, уходили из деревень и прятались в шалашах, заваленных старыми якорями, тросами и парусами, которыми, как и кранами, уже сто лет никто не пользовался; или же спускались по каналам, поверхность которых была покрыта ожидающими буксировки плавающими бревнами; некоторые находили укрытие на какой-нибудь из барж, много лет стоявших на приколе и почти полностью погруженных в грязь, которая плотной коркой покрывала полусгнившие борта. Они шли не заниматься любовью и не красть — они шли тайно выплакать свое отчаяние. На этой земле плакать было принято так, чтобы никто этого не видел.
— Это земля, которая никогда не изменится, — заявлял Парменио и продолжал без устали бродить по дорогам и пойме, в надежде, что она таки изменится у него на глазах.
— Ее изменят наши революции, — отвечали ему.
Парменио останавливался в кухнях, в хлевах. Внутри витала атмосфера воинственности, опровергавшая ту безмятежность, которую они излучали при солнечном свете; эта земля была не только зачарована утонченным духом, сарказмом и возвышенной чувственностью — это была земля, изначально неуверенная, готовая к неожиданным ребяческим выходкам. Поэтому королевская конница, делая вид, что находится на марше, двигалась вдоль некоей воображаемой прямой линии, никогда не теряя из виду заброшенные причалы, деревни вокруг которых выглядели похожими на флотилии.
Поговаривали, что гусарский полк из Пьяченцы, с его роскошным чако из красной ткани, поглядеть на который сбегались дети со всей округи, был создан для борьбы с этими загадочными берегами По.
— Ваши бунты — это просто капризы, — доказывал Парменио. — Пустое времяпрепровождение, как все те бессмысленные занятия, которым мы предаемся вместо того, чтобы по-настоящему работать. Правда в том, что вы ничего не меняете, ибо не хотите менять, потому что счастливы собственными странностями и даже собственными печалями.
Богатырского сложения мужчины скользили на маленьких лодочках, в безветренную погоду помогая себе длинными шестами. У каждого был полный достоинства вид, гордо вскинутая голова, аккуратная одежда; как будто он не бесцельно продвигался среди лягушек и водяных змей, а являлся частью некоего торжественного кортежа.
— Это — новая Галилея, — со смехом отвечал ему священник, Дон Тандзи, орудуя шестом с такой же небрежной легкостью, как и все остальные. — Мы представляем собой центр мира, ибо наделены всеми его добродетелями и пороками.
Парменио в сомнении присаживался на берегу. Какой смысл, думал он, в земле, на которой люди предаются исключительно бесполезным занятиям: разводят птиц, изготавливают картинки «ех voto» с изображением святых в момент совершения ими чуда и статуэтки скорбящей Богоматери, играют на давным-давно забытых инструментах, начиная с лютни, и предаются размышлениям о том, куда, как и когда какая-нибудь щука отправится умирать!
Но ведь и он оставил Парму и Палаццо Фьонда, отправившись жить в эти места под предлогом пропаганды революционных программ брата, это было сделано для того, чтобы заниматься тем же, чем и они, ради той же бессмысленности.
На лодках, которые уже почти слились с горизонтом, услышать его не могли. Поэтому свои разъяснения он заканчивал криком:
— Пусть ваши бунты будут искренними! Научитесь ненавидеть свои несчастья!
После чего потирал руки, удовлетворенный тем, что можно забыть о великих идеалах и, если возникнет желание, побеседовать с одним из тополей.
Он научился чувствовать окружавшую его природу, летними ночами бродя по округе с пучком пылающей пакли, и Дзелия наблюдала, как он расхаживает у заводей и протоков, не теряя его из виду благодаря язычкам пламени в его руке, которые только утренняя заря заставляла исчезнуть. Светящийся нимб перемещался в пространстве в соответствии с какими-то магическими расчетами, и в нем голова Парменио сияла необычайным блеском, и леопарды, пантеры, другие фантастические звери свертывались клубком у ног человека и слушали его. Иногда в песчаных карьерах, наполняя ночь танцевальными мелодиями, появлялись баржи, и прекрасные девушки бросались с них в воду, спасаясь от юношей, которые, смеясь, неожиданно нападали на них.
Отмели заполнялись удивительными созданиями. Здесь собирались ангелы с фиолетовыми и небесно-голубыми крыльями; эти насмешливые забавные уродцы опускались на колени, чтобы легче было копать руками, и в результате тяжкого труда извлекали ту вещь, которая находится в центре всех вещей, и торжественно поднимали ее вверх с криками ликования.
Об этом Дзелия мечтала, когда была маленькой.
Об этом же она мечтала и тогда, когда Парменио брал ее с собой в деревни, и люди сбегались посмотреть на них и поприветствовать. Или когда он призывал к восстанию усеявших плотины лягушек, и те переходили поля и стремительно, неустрашимо бросались под колеса телег на большой дороге: Дзелия и Парменио слушали, как их кваканье затихает, пока оно не замирало совсем.
В склепах знатных семей, например на кладбищах вдоль По, в Тамелотто, в Бельведере, в Дозоло, Парменио рассказывал ей истории о королях, и правдивость его слов подтверждали бюсты принцесс, герцогов в латных нашейниках, мраморные складки парчи, ниспадавшие до самой земли.
Так он открыл ей свою истину, столь простую, что для того чтобы ее осмыслить и высказать, требуется знание, не искаженное иллюзиями: существует только абсурд. У истины две стороны, как у монеты, и угадать, какой стороной она выпадет, невозможно. Дзелия слушала, не понимая, но чувствовала важность его слов и знала, что они будут сопровождать ее всю жизнь — подобно мурлу — ветру, разносящему секреты, которыми делятся друг с другом арендаторы на рынках рогатого скота, или молчанию запретной ночи, тайну которой можно постичь лишь с годами, а не сумевший разгадать ее погибает.
Он называл ее разными именами: именами растений или птиц.
И водил ее с собой в поисках героев для своих «ех voto».
Его картинки предназначались не для церквей и святилищ, а для домов крестьян и лодочников, считавших вполне естественным, что он изображает Бога, Христа, Мадонну и Святых в виде животных, и веривших, что вешают на стену ругательство, воплощенное в образах, которое им самим никогда бы не удалось выразить, несмотря на привычку с малых лет сквернословить, поминая Бога в самых неподходящих случаях.
В общем, им казалось, что так они бросают вызов лицемерам и богачам.
Они игнорировали закон о двух сторонах монеты. Это верно, что Парменио и другие певцы милосердия рисовали и высекали, как богохульники, это верно, но такое богохульство было допустимо и иногда даже необходимо; это была celestia: изящная и остроумная насмешка над смертью, дружеское подтрунивание. И какая разница, над кем больше — над животными или над Богом? Мадонну с головой козы имел Бог с головой козла, потому что козлы именно так и поступают. А Христос на кресте сжимал в зубах, подобных клыкам леопарда, голову центуриона, потому что так леопард защищается.
Парменио пристально всматривался в жизнь леса и при виде уползающей в нору змеи представлял себе сюжет будущего произведения. Прикосновение его ножа к дереву было похоже на ласку и не причиняло страдания. В памяти Дзелии навсегда остались таинственные цветы, птицы, которые, боясь обжечь лапки, не садились на речные камни, свежескошенные луга, — все это открыл ей Парменио. Они воровали лебедей из озер у вилл, павлинов из женских монастырей.
Расстаться со своими натурщиками ему было трудно, и животные заполняли весь дом; глядя на эту мешанину форм и красок, Парменио признавался:
— Это мои мысли.
Он пробуждал их естественные привычки, даже самые дикие и давно утраченные. Но в первую очередь учил их понимать речь, ибо был убежден, что с животными можно разговаривать; почти всегда ему сопутствовал успех, и он советовал Дзелии тоже учиться этому искусству и внимательно наблюдать за тем, как он пользуется голосом и жестами.
Он почти всегда побеждал в состязаниях сокольничих, которые устраивались на плотинах.
— На медведя! — начинал он.
И болотные соколы входили в пике.
— Поворачивай! — отзывался сокольничий с противоположного берега. И кулики-сороки сбивались в стаю.
— Вперед!
— Пошел!
Появлялась серебристая чайка, охотнее других подчинявшаяся приказам.
И, наконец, когда наступали сумерки:
— Н-о-о-о-чь!
— Н-о-о-о-чь!
Этому естественному языку Дзелия выучилась раньше, чем человеческим словам.
Однажды вечером Парменио пел дуэтом шуточные куплеты с дроздом, отказывавшимся спуститься с подвесной лампы. Следя за его движениями, она вдруг ощутила некую силу, которая развязывала ей узел под языком, освобождая от великолепного рабства, от мира, к которому она отныне не принадлежала.
Неожиданно с ее губ сорвалось первое слово:
— Бе-зу-мец!
Парменио это огорчило. Он не хотел, чтобы Дзелия научилась человеческому языку, настолько запутанному и враждебному — как он объяснял, — что он не выражает ни Бога, ни Био.
В январе 1910 года присланный из Рима Епископ совершил поездку от Виаданы почти до Дельты. Путешествуя то на автомобиле, то в экипаже, он не скрывал целей своей миссии. Наоборот, он старался как можно больше быть на виду и при этом походить на известных исторических персонажей, чтобы показать людям, на чью землю он приехал и до какой степени они были во власти примитивных языческих представлений и не понимали величия католической литургии.
Он бросил вызов опасностям разного рода. Он преклонял колена, чтобы помолиться на тех местах, где вешали священников. Он целовал реликвии в подвергшихся штурму церквах.
Через окошечко экипажа можно было видеть, как он сидит, опершись на руку гордой, привыкшей к митре, головой; глаза его не упускали ни одной мелочи. Менее чем за неделю он убедился в том, что отчеты, которые ему присылали, соответствовали действительности. Вдоль волока Кастеллаццо, в окружении гостеприимных зарослей тростника, заочно осужденные и сбежавшие из тюрем Севера беспрепятственно готовились к новым преступлениям; в окрестностях возникали тайные организации, и отряды конных полицейских безуспешно пытались имитировать австрийские репрессии. В Гвасталле возрождались древние Миссии. Мало-помалу в деревнях укреплялись профсоюзы и Лиги арендаторов, а из других районов валом валили неизвестные боевики, поджигали дома крупных землевладельцев и тем самым толкали народ на сопротивление властям.
У шлюзов выставляли в ряд, прямо на траве, белые гробики умерших от голода детей; после волнений в городах в одном и том же беспорядочном бегстве в никуда сливались анархисты, вольнодумцы, масоны, евреи, поденщики и крестьяне-социалисты. Уже повесили двух священников.
Епископ понимал, что хотя он, смиренный представитель папской магистратуры, ничего не мог сделать с беспорядками и бунтами, которые являлись частью общей европейской трагедии, возвращаться в Рим без какого-нибудь конкретного решения было нельзя. Но какого? Он искал его, но пока ответом на его мысли служили или драма, или безутешное молчание этих земель. Однажды экипаж увяз в грязи так прочно, что о продолжении поездки нечего было и думать. Епископ вышел и не смог сдержать любопытства при виде прекрасных юношей-лодочников, в окружении пышной болотной растительности вырезавших на стволах деревьев какие-то непонятные изображения.
Каждый его шаг обращал в бегство стаи птиц, которые, поднимаясь с отмелей, напоминали ему о вечности. Именно тогда у него возникла идея, способная, на его взгляд, наглядно продемонстрировать, что Церковь не умерла и вера обеспечивает вечную жизнь.
Он обратится за помощью к армии и полиции, подробно опишет святотатство, свидетелем которого оказался, накажет виновных, заставит доносчиков как следует потрудиться, и в результате навсегда запретит народные картинки и любые другие нетерпимые проявления примитивного культа: «ех voto» и статуэтки скорбящей Богоматери. Они не только богохульны, но и бесполезны. Поскольку Бог давно забыл об этом крае, то имевшие место случаи чудесного спасения следовало объяснять простым стечением обстоятельств.
То, что произошло в следующие месяцы, одни назвали Пастораль Био, другие — Избиение Челестии.
Они ворвались на верхний этаж. Украшенные миниатюрами кодексы раскрытыми лежали на пюпитрах. Ледяной ветер играл закладками с изображениями герба или экслибриса Библиотек: Палатинской, Кардинала Пассионеи и Пертузати; для книг то были свидетельства происхождения, как Савойский крест для Королевской Финансовой Гвардии. Офицеры, скрипя сапогами, произвели обыск. А карабинеры заняли двор.
— Это твои? — спросили его.
Парменио не ответил. Он думал о совершенной красоте: о солнце, падающем на голубизну и золото миниатюр и придающем смысл Генеалогии Девы Марии или распятому Иисусу в окружении трех Марий; сафьяновые переплеты подсказывали образы, краски для его картинок. Никогда больше не вернутся такие времена.
— Ты их украл?
Парменио подтвердил это.
Дзелия увидела, как они складывают и запирают в ящики кодексы, о красоте которых Парменио, когда был в ударе, пел в дни вдохновения: «Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi». Они поднялись в обсерваторию. В глубине комнаты, где по рассыпанному на полу гнилому зерну бегали мыши, целился в белое от снега небо телескоп.
— Это ты тоже украл?
— Да, — признался Парменио.
— Отвечай: да, синьор! И говори: где, как, когда?
Однажды ночью Дзелия вскарабкалась туда по приставной лестнице. И тогда Парменио рассказал ей, как называются звезды, начиная с Сириуса. И пока он объяснял, что Вселенная рождается и умирает, как человеческое тело, и срок ее жизни отнюдь не равен бесконечности, а наша жизнь есть не что иное, как заболевание земной коры, наступил день.
Парменио выволокли во двор.
Брагоне рыскал между сугробами, ища удовлетворения, которое от него ускользало. В развевающемся на ветру плаще, строевым шагом он проходил намеченный маршрут и по собственным следам возвращался обратно. Капитана Демоса Баратьери, утверждавшего, будто он родственник генерала Баратьери, что вовсе не соответствовало действительности, прозвали Брагоне, то есть «кальсонщик», из-за его тощих ног, на которых нелепо болтались брюки с двойными лампасами. После того как однажды он, подобно ведру, сорвавшемуся с ворота, упал в колодец, в его недоброй памяти осталась только Канта. Она повествует о набегах и резне от Пармы и Реджо до самого Дозоло, начиная с марта 96-го, когда произошла трагедия при Адуе. Разгром Батальона Тозелли при Амба Аладжи и брошенная Криспи фраза: «Это какая-то военная чахотка, а не война» ударили ему в голову. Совершенно непонятно почему, ибо его единственным боевым поприщем до этого момента была ротная канцелярия.
Когда приговоренных из Луниджаны отпустили на свободу и ему было поручено доставить их по домам, он под предлогом, что необходимо держать равнение, на протяжении всего пути весьма вольно пользовался саблей. Многие получили смертельные ранения. Nel trà gió, говорит Канта, то есть беспощадно. А когда амнистированные приближались к полевой кухне, он весело смеялся, выставляя перед собой саблю так, что она напоминала шутовской половой орган, торчащий из слишком широких штанов.
Он приказывал:
— На колени и целуйте ее!
Десять раз поцеловать лезвие, чтобы получить миску риса. Некоторые предпочитали голодную смерть, и их тела находили потом в зарослях горных кустарников.
Было очень холодно, но Парменио оставили в одной рубашке. Его заставили встать на колени у стены и со всеми формальностями, перед обоими небольшими отрядами, Демос Баратьери обвинил его в том, что он подобрал маленькую девочку с той же целью, с какой подбирал собак и кошек, то есть для удовлетворения своей похоти. Он предстанет перед судом. Кроме того, он обвинил его в многочисленных кражах и похищении из какого-то музея таблиц с надписями на неизвестных языках; это была неправда, ибо Парменио раскопал их в земле Тальо ди По.
Запертые в кухне животные выли от горя и бросались к окнам. Солдаты трижды выстрелили по стеклам. Потом они выставили картинки во дворе, прислонив каждую к небольшому снежному холмику. Кожа на коленях Парменио растрескалась, ступни онемели от холода, но его заставили обойти всю эту выставку.
— Твоя работа? — спросил Брагоне.
Это была Свадьба в Кане Галилейской. На заднем плане у Мадонны в голубых одеждах была голова лисицы.
Другая картинка изображала Встречу Богоматери с Сыном.
— Твоя работа?
У Сына была бульдожья морда.
На картинке со Святым Георгием, поражающим дракона, головы были переставлены местами: Святой изрыгал пламя из острозубой пасти, а у чудовища был изящный профиль и шлем на голове.
— Моя, — признал Парменио и перед картинкой Воскресение, на которой Христос возносился к Отцу с илистого дна реки, стоя на шаре из сплетенных друг с другом угрей.
— Это же змеи! — заорал Брагоне.
— Это безобидные угри, — возразил Парменио.
На картинке с Иисусом, исцеляющим слепых, у гиены справа была голова Демоса Баратьери.
Брагоне приказал сжечь картинки. Когда они решили, что изъяли и уничтожили все, Парменио вырвался из рук солдат и, прыгнув в снег, разорвал на себе рубаху. Вытатуированный на груди Иисус шел на Голгофу, и у него была красная голова и длинный клюв дятла, того самого, которого Парменио, как он клялся, удалось научить разговаривать, и от которого он получил описание первого восхода солнца на земле.
— Это тоже сжечь! — приказал Баратьери.
Один из солдат взял горящую головню и выполнил приказ.
Дзелию, которая должна была давать показания о развратных действиях, которых никогда не было, увели в сопровождении карабинера. Парменио босиком шел в кольце всадников. Кто же мог меня выдать, спрашивал он себя, переживая больше за девочку, чем за себя самого, и рассказать про картинки? Крестьяне и лодочники стояли вдоль дороги, и прежде чем повернуться спиной к стражам порядка, снимали шляпы перед Парменио; Демос Баратьери приподнимался на стременах, призывая их бросать в пленника камни и снежки, но они по-прежнему стояли к нему спиной. Парменио сказал себе: никто из них.
— Друзья! — позвал он, предчувствуя, что в будущем ему не придется произносить это слово.
Воздух был такой холодный, что ожоги на груди буквально горели.
— Попрыгай, Парменио! — предложил Баратьери. — Попрыгай, как следует. Это тебя согреет. Жонглер должен прыгать, петь и плясать.
Но он продолжал идти, опустив голову, скользя по грязи.
Он с первого взгляда узнал то, что и Дзелия увидела одновременно с ним — ограду поместья маркизов Риччи: герб с пурпурной лентой и греческими крестами, а в аллее — карету управляющего гидросооружениями, который мчался по направлению к вилле, изо всех сил нахлестывая лошадей.
Парменио вспомнил те снежные утра, когда вода с грохотом билась в основные плотины, поглощая отмели и заставляя жителей деревни дрожать от ужаса, и Управляющий приезжал верхом на лошади в окружении своих сотрудников. Мы идем, заявляли они, разведать, насколько это опасно; на самом деле под плащами у них скрывались ружья и портупеи для тайной охоты. Парменио знал их привычки и знал, как за ними следить; если бы не он, свидетелей бы вообще не было, но он был, и были его уши, улавливающие шепот ветерка с запада и востока, были его рысьи глаза, а по каналам и понтонным мостам он передвигался ловко, как белка.
— Ко мне! — раздавался крик Риччи. — Ко мне!
Но вместо того, чтобы подчиниться приказу и приблизиться, человек отчаянно бросался бежать: когда он на миг останавливался, чтобы перевести дыхание, становилось ясно, что это один из парней, выросших на скотных рынках с их волчьими законами. Развлечение состояло в том, чтобы застать его за браконьерством, напугать до смерти выстрелами из ружей и, наконец, схватив, занайтовить его, туго-натуго стянув веревкой так, что хрустели кости.
Парменио не упускал ни одного движения этого парня — крупного зверя, напоминавшего одновременно и волка, и кабана: все чувства напряжены, раненое тело залито кровью.
— Ату! Ату!
Эта издевательская охота приближалась, терпеливая, напористая, от волоков к зарослям тростника. Риччи угадывал намерения беглеца и направлял своих всадников так, чтобы перерезать ему путь. Крестьяне кричали детям, чтобы те бежали домой, и их голоса повисали в воздухе между выстрелами, раздававшимися в зарослях болотной корицы, куда в конце концов беглеца неизбежно загоняли. Его окружали и спокойно ждали, пока он не отдышится и не выйдет с поднятыми руками, словно бандит.
— Это урок, — предупреждали его, — который пойдет на пользу тебе и твоей семье.
Парня быстро и решительно хватали.
После чего Парменио выступал с заявлением. Это было право столь же бесполезное, сколь и древнее. Любой, кто хотел публично выступить с разоблачением несправедливости, мог нацепить на спину звонкие колокольчики и взять в руки бандьера даль кольдра — знамя гнева, правда, рискуя при этом, что его труп найдут потом в старом русле Тамелотты. Знамя было желтого цвета, как заразная болезнь, и Парменио носил его с должной иронией не только на плотинах, но и на площадях и даже в церквах.
В некотором отдалении за ним следовал конный карабинер, и, чтобы запутать следы, Парменио тратил целый день на то, чтобы леса, отмели и луга слились в один бесконечный лабиринт.
Об охотах Риччи он рассказывал, ни к кому не обращаясь, с таким видом, будто разговаривал сам с собой, шел ли он при этом сквозь толпу на рынке, или слушал мессу, с улыбкой перенося ту пустоту, которая образовывалась на скамьях вокруг знамени рядом с ним. В этих рассказах было только одно чувство — чувство удовольствия от того, что, рассказывая их, он делает то, чего люди от него ждали.
Те, кто останавливался послушать, прежде чем продолжить свой путь, похлопывали его по плечу.
И так он шел, чтобы подкараулить Управляющего на мосту Ливелло. Парменио и карета двигались навстречу друг другу с противоположных концов плотины. Bandera dla coldra доходила до середины окошечка, враги скрещивали взгляды, пытаясь прочесть в лицах друг друга будущее и время смерти. Риччи делал вид, что хочет схватить древко, но сразу же отдергивал руку, останавливая карету, чтобы объяснить, как и когда в форте Бельведере кастрируют жалкого духовидца и мечтателя; этой остановки вполне хватало, чтобы Парменио успел доказать, что, кроме людей, животных и растений, Бог создал на Земле и человеческое дерьмо, представляющее собой некую особую расу, имеющую свои задачи и живущую по своим законам.
Сейчас, когда карета исчезла, сопровождаемая взрывом смеха, Парменио притворился, что подчиняется Демосу Баратьери. Он принялся прыгать и петь, чтобы обмануть своих сторожей и беспрепятственно приблизиться к ограде, в прутья которой он и вцепился изо всех сил.
— Человеческое дерьмо! — кричал он тем, кто донес на него.
Как его ни пытались оттащить от ограды, разжать пальцы не удавалось.
— Судьи, знать и торговцы, я вас проклинаю!
Баратьери выхватил саблю.
— Ваша совесть онемела. Она немее водоросли или листка.
— Как и твой язык, — воскликнул Баратьери. — Отныне и навсегда.
Язык Парменио сопротивлялся, и отрезать удалось только половину. Но прежде чем самому стать немее водоросли, Парменио успел посоветовать друзьям:
— Что бы они вам ни говорили, всегда поступайте наоборот!
В суматохе Дзелия скрылась. Когда она вернулась к ограде поместья Риччи, наступал вечер и снег уже похоронил все следы; и все-таки у подножия колонны она нашла отрезанный язык, ярко-красный, словно сердце на жертвеннике.
Месяц спустя ее ввели в комнату для допросов. Она увидела оружие на стенах и множество военных врачей. Парменио сидел на табуретке, спиной к ней. Когда его развернули, Дзелия увидела, что он абсолютно голый.
— Ты его боишься?
— Нет, — твердо сказала она.
— Значит, он тебе противен? Смотри, это же совсем старик.
Ей объяснили, что она должна была понимать под отвращением, какие унизительные чувства испытывать, и какие отталкивающие мысли должны были у нее возникнуть.
— Нет, — повторила Дзелия.
У нее спросили, почему. Дзелия не ответила.
— Что ты у него трогала? Что он с тобой делал в том доме?
Дзелия улыбнулась Парменио. Но казалось, что он ее не видит; действительно, он смотрел на нее так, словно она находилась от него гораздо дальше, чем на самом деле, в своем желтом одеянии она была похожа на странный и жестокий плод воображения. Тогда его заставили встать и силой развели руки, которыми он прикрывал низ живота.
— Посмотри хорошенько.
Дзелия посмотрела.
— Сколько раз ты его вот так видела?
Она никогда раньше не видела мужского естества Парменио, но сейчас смотрела на него с тем же спокойствием, что и на его руки и лицо.
— У девочки отсутствуют реакции. Следовательно, она уже подчинена его воле.
— Двух мнений быть не может, — согласились все.
Спустя два месяца ее опять отвели к Парменио, помещенному в сумасшедший дом в Колорно. Сидя за решеткой, он забавлял своих товарищей: для Дзелии он попытался балансировать апельсином на кончике носа; потом принялся вальсировать с какой-то больной старухой.
Наконец он подошел ближе.
Дзелия почувствовала его дыхание, дыхание пса с разинутой пастью.
Было лето, когда карабинеры вернулись. По тому, как они провели обыск, не найдя никого и ничего, Дзелия поняла, что Парменио сбежал. Когда отряд ускакал прочь, он действительно вошел в дом.
Пока он осматривался по сторонам, животные осторожно терлись о его ботинки или подозрительно разглядывали его со двора через окно, а в его глазах навеки застыли ужас и насмешка над самим собой. Теперь ему не удавалось отвечать даже щеглам и зеленушкам, с которыми раньше он беседовал запросто. Он брал стул, усаживался на него верхом и так проводил целые дни, практически в одной и той же позе: обхватив спинку и уронив голову на руки.
Он сражался с образами, которые в изнуряющем ритме проносились у него перед глазами; он напрягал слух так, что его уши трепетали, как у его свернувшихся в клубок собак, и улавливали малейший шум. Он взвешивал непонятные бумажные свертки, но только лишь для того, чтобы понаблюдать, как свет отражается в латунных чашках весов. На одном из столов лежали всевозможной толщины линзы, но он направлял их на какую-нибудь вещь исключительно для того, чтобы разглядывать пыль, слой которой увеличивался с каждым днем. Вещь эту он крутил в руках несколько секунд, а потом клал обратно, как бы извиняясь перед самим собой. Пристально глядя на Дзелию, он видел в ней воплощение того смутного бессилия, которое им владело, и девочка, отвечая на его лихорадочный взгляд, так же пристально смотрела на него, на свисавший с потолочной балки обрывок веревки на том месте, где он хотел повеситься.
Ночью ему не давали уснуть все те же мысли, все то же напряжение, что и днем. И в первую очередь он думал, что должен считать себя проигравшим, ибо совершил роковую ошибку, сочтя смешным человеческое качество, которое на самом деле является выдающимся, то есть жестокость.
Приходили люди, пытались его утешить, но это оставляло его равнодушным; как и шутливые песенки женщин, направлявшихся в Помпонеско и останавливавшихся напиться из фонтана около дома. Когда ему сообщили, что на понтонных мостах происходит что-о новое, он перенес свою неподвижность в Тамелотту и на плотины Мильорини. Караваны лодок наконец отправлялись в путь, но он так и не понимал, к какому пункту назначения. На баржах перекликались лодочники, отдавались швартовы и приказания, пока буксир не устраивался во главе каравана, но их слова падали рядом с ним, оставаясь непонятными.
Ему казалось, что свершилось то, чего он желал: дьявольская притягательность бунтов сходит на нет. И эта земля начинает ненавидеть собственные несчастья, и наступает новая эпоха.
Но что это за эпоха, задавал он себе мучительный вопрос, что это за будущее?
В мокрой шляпе, в промокшем тяжелом пальто, Парменио упрямо скользил по грязи, и, хоть и не находил ответа, не сдавался; дождь был таким плотным, что даже дышать было тяжело. Он пытался привлечь внимание моряков, которые торопливо проходили мимо, кутаясь в черные клеенчатые плащи, и предлагал им покурить; это был способ поговорить или услышать, как тебе отвечают; но спички только бесполезно гасли на ветру.
Сейчас у жизни уже не было тех механизмов, которые можно было весело разобрать. Ни в одной из фигур, которые двигались энергично, как на слишком ярко освещенных подмостках, не было ничего загадочного; осталось только механическое движение, предсказуемое или в худшем случае просто непонятное для его старчески спутанного сознания. И он, испытывавший ужас перед пиетизмом, убежденный в том, что дух природы наилучшим образом выражается в преступлении, должен был согласиться жить, смирившись с рабской подчиненностью правилам и с тем, что люди, стараясь скрыть свою несчастливость, называют человеческим пониманием.
Как ни мучительно, но у него создалось впечатление, что единственным настоящим приключением в его жизни останется именно это, а прежние метания между ангелами, готовыми обречь его на адские муки, и огнедышащими львами, столь же готовыми броситься друг на друга, — просто детская мечта.
Ничто больше не могло быть спародировано. Не было и — хотя он напряженно искал — ни единого проблеска комизма.
Однажды он сидел перед целым миром чахлого кустарника, отвесных скал и сухого дрока, и мир этот казался отрезанным под корень, как и его язык. Не слышно было ни звука, и непонятен был смысл равнин и отмелей. Все выглядело состарившимся, утратившим желания, наполненным дьявольскими машинами, словно брошенными человечеством, забывшим о своем аде. Сдвинув шляпу на глаза, Парменио, казалось, спал; на самом деле он внимательно слушал, как одни его животные выходят из дома, а другие возвращаются издалека: может быть — воображал он — с его любимого маяка в Пунта Маэстра.
Он знал, что в тот день тростник из коричневого становился бесцветным, на месте крестьянских усадеб вздымались в небо скопления окаменелостей, в прудах, из которых спустили воду и превратили их в каменные карьеры, задыхались кефаль и угри, и даже серебристая чайка кружила в воздухе, не зная, куда же ей лететь; но По становился pén dʼangei, то есть гигантским, приобретая за Бузе ди Бастименто и Бузе ди Сорокко величие моря.
Там, внизу, человек, такой же, каким когда-то был и он сам, пробивался, одинокий, словно дельфин или караван кочевников, вперед, как рыжие цапли, взлетающие с полян в чаще леса.
Птицы спускались с крыш и с деревьев. Собаки, кошки и другие земные твари тоже подходили ближе. Дзелия подумала: это напоминает толпу, которая собралась под балконом королевского дворца, а король погружен в раздумье, и толпа ждет какого-то знака. Уважая молчание Парменио, толпа быстро заполнила двор; вытянутые шеи, напряженные уши — все выражало уверенность в том, что эта человеческая фигура со сложенными на животе руками и скрещенными ногами скоро должна свистнуть.
Из-под шляпы Парменио донесся какой-то звук. Хотя он походил на всхлипывание, толпа оживилась.
«Одно слово», с иронией повторил про себя Парменио, почему другие всегда просят у нас одно слово?
Но сейчас, правда, это было справедливо. Тем единственным, кто ждал его, кто был исключением из человеческого невежества, отправившего его в ссылку, он обязательно должен был дать какой-то знак. Невыразимо комичный. Такой, что мог бы уничтожить солнце заклинанием вселенской насмешки.
— Дорогие, подлые друзья, — начал он.
Он отбросил шляпу. Показал лицо, постаревшее на десятки лет, напряг горло: вены на шее стали фиолетовыми, глаза, казалось, вылезали из орбит. Надеясь на чудо, он подумал о Боге, потом о Био. Разочарованный, он попросил память вернуть ему какую-нибудь из тех гармоний, которые в прошлом удавались ему с таким блеском. И память откликнулась на его просьбу. Ему явились ясные партитуры, которые он мог просмотреть, как дни своей жизни, и которыми мог распоряжаться. Сейчас, мысленно повторял он толпе, сейчас иду. Он привел в порядок ноты и начал воспроизводить их с тем счастьем, с каким некогда воспевал деревья, усеянные воробьями, убежденный в том, что они прекрасно его понимают. Никогда еще они не понимали меня так хорошо, сказал он себе.
Почему же в таком случае толпа боялась? И все бежали в те же деревни, из которых никогда больше не вернутся? Не в силах понять это, он смотрел, как пустеет пространство вокруг. Во дворе не осталось никого. Озираясь по сторонам, он встал, взгляд его случайно упал на зеркальце родника, и он увидел свое отражение. Он увидел, как его руки, такие тощие, что пальцы казались когтями, мелькают в воздухе, словно обезьяньи лапки.
Он общался, но жестами: отчаянными, испуганными.
Когда-то он возил Дзелию в Парму, Реджо и другие города. Сейчас он позволял, чтобы возили его. Роль взрослого исполняла Дзелия, он же был ребенком.
Поездка в Парму заканчивалась в Остерии Вдовцов Терезы Фрески на Страда Фарина. Тот, кто потерял жену или возлюбленную, или тот, у кого их никогда не было, кто как бы родился вдовцом, мог садиться за столик: строльги предсказали, что рано или поздно в остерию войдет прекрасная женщина, чтобы выбрать одного из них, и они найдут свою половину. Но никто никогда так и не встал и не воскликнул: это она!
Парменио, сидя немного в стороне, разглядывал жестяную вывеску, изображавшую голубку, которая держала в клюве ленту с надписью: «Надеяться и ждать». А Дзелия внимательно разглядывала отдыхающих горожан, ломовых извозчиков без телег, последних трубадуров, улыбающихся самим себе. Они были отмечены той старостью, которая забывает происходящее с той же скоростью, с которой проходит время. «Голубка» скрипела, входили все новые и новые вдовцы и занимали свои привычные места. Единственными женщинами в заведении оставались Дзелия и Тереза Фрески, которая платила строльгам, следила, чтобы графины были наполнены вином, и напоминала:
— Пейте, вдовцы, за приход голубки.
А приходили только дни и месяцы.
Это случилось в январе. Днем.
Странным образом почти все места в остерии уже были заняты, и вдовцы мирно дремали над своими стаканчиками. Но не Парменио. Он смотрел на дверь, зная, что вот-вот произойдет. Жестяная голубка скрипнула около трех. Створки двери распахнулись, чтобы впустить пришедшего: тень, упавшая извне, отличалась изяществом, угадывались шляпка и пышное платье, туго перехваченное на стройной талии. Тень, в свою очередь, отбрасывала более мелкие тени. Две руки ласково дотронулись до стекол.
У всех бешено забилось сердце. И каждый вообразил, что избранник — это именно он. Удлиняясь, тень, казалось, останавливается то у одного, то у другого, но на самом деле она продолжала движение, скользя между ножками стульев. Остановилась она у столика Парменио. За ней никто не вошел. Парменио все равно встал и с жесткой улыбкой огляделся; на плечах его больше не было груза ни прошлого, ни будущего. И он казался живым воплощением мужской красоты. Она придавала силу и яркость его фантазиям, дарила ту свободу, которую он искал.
— Посчастливилось тебе, Парменио, — сказали вдовцы. — Не забывай нас.
«Да, друзья», — подумал Парменио, уходя все дальше и дальше; он держал Дзелию за руку, и его окружала тень, которую теперь отбрасывала его прямая фигура.
Дзелия никого не увидела и снаружи.
Не было ничего, кроме маленькой площади, белого солнца между редкими сугробами, карет в ожидании пассажиров. Но он по-прежнему видел ее и шел за ней. Он ускорял шаги. На каком-то перекрестке она исчезла. Через мгновение он снова увидел ее справа, на прямой и длинной улице, на которую из садов склонялись ивы. И тогда он неожиданно бросил Дзелию: отпустил ее руку и побежал. Он исчез вдали, на залитом солнцем лугу.
Дзелия прошла улицу до конца, и только много лет спустя, вспоминая этот день, поняла, что бывают мгновения, когда, в силу некоего непостижимого закона, мы не можем видеть смерть или ее тень, даже когда она идет перед нами всего в нескольких шагах.
Время легенды кончилось.
II
О некоторых периодах в жизни, которые длились по несколько месяцев, мне нечего вспомнить, кроме того, что надо было ходить в форме.
Это был «пунктик» Приютов для малолетних, как светских, так и церковных: от Пьяченцы до Дельты. Их называли «Ветви», очевидно, потому, что система коррупции в них была чрезвычайно разветвленной. И они были похожи на те самые паразитические годы, с 11-го по 14-й, которые, не имея своего лица, прятались в одежды буржуазии и прикрывались ее знаменами.
Каждая Ветвь, которая меня принимала, обязывала носить новую форму, новое свидетельство драм и моментов славы, которые воображала себе Италия. Из «Чезаре Корренти» виднелись прекрасные деревни Корте дельи Оппи. Я помню группы женщин в светлых платьях на центральном балконе: казалось, они вот-вот отправятся в дальний путь, и в их глазах отражался закат.
Это были жены землевладельцев, которые покидали роскошные виллы и приходили к нам поговорить о своих мертвецах; они обращались с нами хорошо, потому что в конце концов мы должны были растрогаться вместе с ними. Те, кто этого не делал, признавались жестокосердными и изгонялись. Прав был Парменио, когда говорил, что ласковые на вид тигры гораздо более жестоки, чем тигры с разверстой пастью.
В «Маршале Князе Яблоновском», которого лодочники Фоссетты дель Арджине прозвали Маршалом с Чугунными Яйцами, которые, кстати, можно было увидеть на верхушках башенок, я помню забавных солдат в потрепанных мундирах, круглых касках, обвисших портупеях, многие из них не расставались с трубкой. Это были времена, когда газеты посвящали передовые статьи вопросу: сможет ли бородатый офицер надеть противогаз?
Нас, и мальчиков, и девочек, водили на парады изображать восторг и упоение. Парад организовывали, как минимум, раз в неделю, и всю нелепость этого зрелища невозможно себе представить.
И хотя практиковалось умерщвление плоти, и наши комнаты были забиты картинами с изображениями святых, пронзенных копьями или прикованных к столбу, под которым был разложен костер, а преподаватели требовали, чтобы душа наша была сильной и суровой, как строение, чьи террасы, подобные бастионам, ограды и башни стерегли наше заточение, некоторые военные капелланы закрывали глаза на то, что девочки, под прикрытием широких офицерских накидок, занимаются оральным сексом.
Я с военными связываться не захотела. И на больших маневрах в Кольтаро специально вышла под пушечные выстрелы.
Королевский Приют Никомеде Бьянки находился в ведении министерства внутренних дел, и поэтому нас возили аплодировать деяниям корпуса полиции. На поезде и в каретах. Мы праздновали захват анархистов, террористов и знаменитых воров, но особенно — последних бандитов с По, и особенно хорошо я помню Мацьери, которого привезли на барже с украшенными флагами веслами, а мы вместе со всеми приветствовали карабинеров с берега, размахивая трехцветными флажками.
Когда его повесили вниз головой в Сколо Брента, мы позировали перед фотоаппаратом вместе с офицером, который опирался на ружье, воображая себя Вильгельмом Теллем.
Преступников называли локко. И нас заставляли ходить строевым шагом по дворику Никомеде Бьянки и кричать: «Смерть локко! Смерть локко!» Жандармы в своих жилетах были так омерзительны, что мы прониклись к этим локко самыми нежными чувствами и на парадах полиции размахивали трехцветными флагами для них, закованных в кандалы. Когда они это заметили, им пришлось отменить поездки на поезде и в каретах и, думаю, в конечном счете закрыть и «Никомеде Бьянки».
А в «Санта Мария Фориспортам», наоборот, приехал король Виктор Эммануил. После охоты в Гран Боско делла Мезола.
На протяжении всей церемонии он так и не вышел из кареты и высунул наружу только руку в перчатке, чтобы дать благословение и бросить кошелек с золотыми монетами бдящим и надзирающим после того, как ему спели арию из оперы «Дон Карлос». Он соизволил выслушать чтение прошений и концерт духового оркестра, но карета не сдвинулась ни на сантиметр, и дверцы ее остались закрытыми, как у стоящего посреди двора катафалка.
Король, говорили, боится умереть. Он боится микробов и выстрелов.
Ночью состоялся бал, и мы слушали музыку из дортуара. И тогда мы увидели короля перед собой: одного, на пороге. Казалось, он доволен, что один и что потерялся. На нем было пальто с меховым воротником, и он озирался по сторонам, высоко подняв лампу. Когда он прошел через дортуар, даже не взглянув на ряды наших кроватей, по звуку шагов можно было подумать, что он хромает, и я прочла у него на лице печаль о Королеве Маргарите, которая меня так поражала на его фотографиях.
На противоположной стене была роспись, изображающая какого-то святого, с лицом бледным и похожим на обезьянье, в окружении своры странных и счастливых собак, поэтому в Санта Мария его называли Собачьим святым. Король подошел и осветил стену, на которой влажность выела краски.
Он исчез за маленькой темной дверцей.
Когда разразился скандал с «Пием V», выяснилось, что наберется больше сотни девочек, которых монахини из этого заведения продавали любому, у кого были деньги. Даже, как говорили, посредникам борделей. От моста Кьяре сестры, которых называли навозницами, прочесывали долину По до Донады, Мезолы и Пунте ди Майстра. Они заходили в дома крестьян и лодочников, уговаривая отцов и матерей, убеждая их отказаться от веры в существование Орки Форкины и платя наличными за угрызения совести. Они набивали девочек в клетки, прицепленные к повозкам, и комнаты «Пия V» тоже были клетками, в которых на того, кто бунтовал, надевали смирительную рубашку. Били нас по плечам, чтобы не повредить почки и половые органы.
Тех, у кого были менструации, погружали в ванну, которая называлась Купель Крови, утверждая, что это уменьшает боль и очищает от стыда. Кровотечение усиливалось, и я слышала, как мои подружки всхлипывают, сидя в воде.
Они устраивали такие вещи, что, узнай о них Парменио, он обязательно сказал бы, что никогда еще Бог так тесно не смешивался с Био. Например, нас заставляли есть плаценту животных, потому что от этого мы станем более плодовитыми матерями; рисовать красного зверя с самыми отталкивающими формами, какие мы могли вообразить, чтобы потом возбуждаться в своем кругу, с маниакальным вниманием вглядываясь в эти формы и наказывая нас за то, что мы вообразили, забывая, что сами приказали это сделать. Или заставляли нас усаживаться в амбаре вокруг барабана, который назывался бука и издавал похоронный звук, и смазывали нам уши и грудь мазью, которая на веки вечные спасет нас от Био.
Мне удалось избежать mestia, то есть продажи. Нас выстраивали во дворе, и мужчины, и женщины, которые приезжали с видом безмятежных туристов, и которых я запомнила опирающимися на трости и шелковые зонтики, производили смотр, оценивая нас по выражению лица и фигуре. Они брали нас за подбородок и запрокидывали голову, охваченные жаждой обнаружить в наших чертах свой нос, свои глаза, свой рот.
Они приезжали купить подобие самих себя.
Если они останавливались передо мной, я поступала, как зверь из Калуннии, который, если на него напасть, способен превратиться в любое другое животное или растение. Я изменяла выражение лица так, чтобы не походить ни на кого.
В «Пие V» тоже царила страсть к форме. Шапочки в форме кепи, нагрудники, пальтишки; Воротнички Достоинства, которые заставляли высоко держать голову, уча нас не склоняться под грузом прошлого. Самым примерным нашивали на рукав ленточки, а остальным стягивали груди эластичными повязками, а ноги — кожаными гетрами, и вечером я обнаруживала раны, которые никогда не заживали, потому что на следующее утро гетры надо было обязательно натягивать снова.
Я сомневалась в себе, не видя своего тела, но ощущала во рту вкус его роста благодаря телесной памяти, которая заставляет инвалида чувствовать ампутированную руку или ногу.
Это прекрасно понимала надзирательница Луиза Иларди по прозвищу Тучка, да упокоится ее душа с миром.
Эта Иларди особо выделяла меня, и, чем больше я ее провоцировала, тем меньше она меня наказывала; она была счастлива, если у меня была температура, потому что, как она говорила, температуру нужно утешать, как грусть, и ложилась ко мне в постель, и мы засыпали вместе, впрочем, вполне невинно. В общем, она окутывала меня своими руками и уговорами, повторяя: я — волшебница, я знаю, так поговори же со мной.
Я понимала, что она поступает так из каких-то своих соображений. Но притворялась она так здорово, что я раскрывалась перед ней и даже призналась в своем страхе: я боялась, что маленькой девочке мужчины могут напустить в голову пауков и болезненные сны, и мысли, пятящиеся назад, как раки; их можно увидеть в испражнениях, и от этого некоторые навсегда сходят с ума.
Мы стояли во дворе, прислонясь к стене, и Тучка отвечала мне не словами, а песенками вполголоса, песенками, как она говорила, долины По близ Венеции, куда лодочники, гордые, как турецкие капитаны, возвращаются из вечного плавания и из манящего моря, чтобы утешить своих жен. Потом я переставала ее слышать, и Иларди таяла, как облачко; ее фигура в белом переднике, обыкновенная и все-таки таинственная, проскальзывала сквозь развешанные на просушку рыболовные сети, или в одиночестве бродила по пескам, или растворялась в лучах солнца, заливающего понтонные мосты.
Она ждала своих тайных путешественников, поставив ногу на швартовную тумбу и опираясь рукой на колено.
Наблюдая за ней в эти мгновения, я открывала в ее лице такую жестокость, которую не могла скрыть даже яркая красота тела; привыкшая постоянно смеяться, оставшись одна, она лишь печально улыбалась сама себе. Что ей мешало быть тем, чем она казалась: живой и жадной до жизни, готовой погнаться за любой волной, словно дельфин?
Сестры ее не увольняли, хоть она тоже называла их навозницами, и они прекрасно знали, что Тучка отдается лодочникам на понтонах и каждую ночь, выходя в район Габбиони, превращается в неотразимую шлюху. Быть может, ее терпели за ловкость, с какой она давала понять, что ей известны секреты того мира, желание обладать которыми заставляло навозниц рыдать по ночам на своих койках.
Что до нас, то она провоцировала нас самыми странными способами, выставляя свое тело напоказ перед нами, заключенными. Я помню, как она спускалась по наружным железным лестницам, подвешенным к фасаду, как рельсы подвесной железной дороги, в то время как внизу, во дворе, навозница — любительница пения дирижировала хором, благодаря трех Марий уж не знаю, за что, разве что за это одиночество, сгрудившееся вокруг сухого и серого, несмотря на весну, дерева; и мы ждали, чтобы Тучка спустилась до уровня наших глаз, и тогда ее ножки, как у балерины, под коротким фартуком казались еще более длинными, и от них исходило сияние, как во сне; это были ноги одновременно непристойные и чистые, они навевали нам мысли о свободе. Все, включая навозницу — любительницу пения, прекращали петь и молча следили за Тучкой, которая парила над нами, величественная, как цапля.
Навозницы видели ее во сне на носу своего Буцентавра. Или пытались подражать ее естественности, но результат всегда оказывался непристойным.
Они смеялись, когда Тучка запиралась в подвалах и ослепляла их, поднося лампу к решетке, если они подсматривали за тенями тех, кто разговаривал или пил с ней, может быть, это были мужчины, а может быть, никого и вовсе не было; и само лоно Облачка, инфернальное и материнское, с густым треугольником волос, исчезало так быстро, что оставляло их в замешательстве. Они смеялись, когда она с небрежным изяществом заявляла какой-нибудь из них: смотри, влюблюсь и женюсь на тебе; на это следовал любезный ответ: кто про что, а вшивый… Бывало и так, что она ходила по «Пию V», держа перед собой взятое из столовой распятие и приказывая: целуйте мужчину-хозяина; и они целовали.
Они следили за ней, когда она раздевалась в поле и вешала фартук на ветку. Они слушали ее дыхание, которое уносилось поверх изгородей, дыхание ее желания, становившегося огромным, как небо, словно ею одновременно овладевала сотня ее лодочников, на самом же деле оказывалось, что она просто поймала и душит куницу.
И тогда навозницы смеялись.
Тучка присутствовала на церемониях Купели Крови, сидя с краю и возмущаясь, что мы ведем себя, как трусихи, и позволяем пожирать наши души шакалам; начальство предупреждало ее, что в нашем присутствии не следует говорить подобные вещи, но она отвечала: лучше мы, чем власти и суды. С тем же сарказмом она в день поминовения усопших возлагала на ванну букетик белых цветов.
Был август 13-го. Мы оказались во дворе одни, лето превратило все в пустыню, жара стояла дикая. Тучка кивнула на окна Купели Крови, с заговорщической улыбкой заявив:
— Там секрет.
Но когда мы поднялись, я увидела только огромную комнату; в ней никого не было, и стояла абсолютная тишина; напрасно я впивалась взглядом в стены (на них углем были нарисованы черти), в ванну с возвышающимся над ней распятием, пустота внушала отчаяние, от которого сжималось горло.
— А в чем секрет? — Спросила я.
— В том, что я тебя обманула.
— Нет, — решительно возразила я. — Ты ошибаешься, Тучка. Потому что я знаю твой секрет.
Она разразилась смехом. Своим животным смехом, смехом повелительницы.
Я объяснила, что, хотя секрет мне и известен, я ей благодарна за то, что она пела мне песни долины По близ Венеции. Я молча ждала. В ней была легкость, легкость движений, которая меня очаровывала. Сумею ли я, подумала я, двигаться так же женственно, как Тучка? Лгать с такой же легкостью? Встречусь ли я когда-нибудь с заклятьем и тайнами Био, навстречу которому, бросая вызов смерти, она идет ночью по плотинам Тамелотты?
Она вошла в Купель Крови. И начала раздеваться, развешивая одежду по краю ванны и напевая шуточную песенку, в которой говорилось о красоте и о том, какую печаль она приносит, если ею не пользоваться. Особенно детской красотой, которая сопровождает нас до самой смерти, потому что она заперта внутри нас, как в золотой шкатулке, и не подвластна ничему.
Когда она сказала, чтобы я к ней присоединилась, я вспомнила, что уже много дней пот течет по моему телу под формой, и тоже начала вполголоса и с иронией напевать песню долины По близ Венеции. Она встала на колени. Я обошла ее, не снимая тяжелых кожаных ботинок. Я слышала, как стучат гвозди и нарочно шаркала по металлическому дну. Странным образом нагота Тучки сделала мою одежду более тяжелой, и в какой-то момент мне показалось, что форма меня душит.
Она сказала, чтобы я до нее дотронулась, и я положила руку ей на плечо. Не для того, чтобы угодить ей, ибо она оставалась тем, чем была, а я тогда дотронулась бы до любой, даже самой жалкой, живой плоти, а потому, что испытывала ужас перед любой формой, которую люди носят и будут носить, и еще потому, что Тучка была красива, а я стану еще красивее.
Ничто на свете, настаивала она, не могло в тот день сделать наше одиночество глубже, уж тем более не распятие, которое нелепо глядело в ванну, не черти навозниц и весь потусторонний мир, включая барабан буку с перекрещенными палочками.
В первый раз я увидела себя в своем теле: я открывала его вместе с ней с таким же удивлением, с каким, пересекая старое русло Гьяре, где, как говорят, весна приходит три раза в год и урожаи на редкость обильны, ты вдруг замечаешь корень или ветку в форме тела, которые выпускают на волю неизвестные желания, именуемые дзане, то есть противные естественному порядку вещей. Я подумала обо всех тех созданиях, которые, в силу того, что являются тем, что они есть, и понимают это, не нуждаются в жалком отчаянии Тучки.
Такими были мои фантазии, а она целовала меня, и мне тоже хотелось бы овладеть собой властным движением руки.
Через несколько недель состоялось первое разбирательство по поводу скандала в «Пие V». Навозниц грузили на баржи, как овец. Река покрылась их стадами, которые вопили молитвы к Деве Марии с такой яростью, что полицейские приходили в смятение. В залах суда голоса Комиссаров оказывались погребенными под молитвами, которые распевались, как романсы. Стоило только призвать к спокойствию, как вмешивались защитники, которые, со своей стороны, кричали: вам не удастся воспрепятствовать отправлению молитвы; и, обращаясь к навозницам: молитесь, пожалуйста, молитесь громче.
От молитв, казалось, вот-вот рухнет потолок.
Молитесь, возражали Комиссары, в тишине души и сердца.
Каждый молится, как может, смеялись защитники, для Бога форма не имеет значения.
Так мы прошли перед ними, пытаясь понять хоть что-нибудь из вопросов, которые нам задавали; но стоило начать давать показания, как со скамей, заполненных навозницами, неслась молитва к могущественной Деве, которая звучала, как угроза, так что призыв Комиссаров соблюдать тишину относился к нам и только к нам, и мы молча возвращались на свои места.
Они успокоились только тогда, когда появилась Тучка. В ней навозницы были уверены, и наступило молчание, глубоко поразившее Комиссаров. Некоторые привычно посмеивались про себя идиотским и жалким смехом. Вот последнее воспоминание, которое у меня осталось о молодой Тучке: в оранжевом платье, ярком, как и широкий лакированный пояс, она шла, раздавая приветствия направо и налево с выражением фальшивого сострадания, с видом победительницы, которой победа не принесла счастья.
Перед Комиссарами она повела себя точно так же, как в те вечера, когда на паромах Гьяре поджидала появления лодочников со стороны Риве деи Фальки; с той же ловкостью комедиантки, с которой вела себя со мной в Купели Крови.
После этого она показала себя совершенно безжалостным свидетелем.
Она обвинила их, перечислив все преступления и продемонстрировав, что их предполагаемая святость была преступлением еще более тяжким.
С тех пор я редко слышала что-нибудь о Тучке, и могу сказать, что снова увидела ее только в 45-м, когда ее арестовали за принадлежность к печально известной банде Сервенти, члены которой в Сакка Сардовари вырывали партизанам ногти и делали инъекции бензина.
Ее заставили собственными коленями пересчитать все сорок восемь понтонов моста в По дель Толле и заперли, вместе с другими подсудимыми, в Полезине делло Скьявоне.
Утро было туманное, и я шла, держась за решетку. Чья-то рука, совсем слабая, схватила меня за рукав. Еще до того, как я повернулась, Тучка спросила:
— Узнаешь меня?
Я не знала, что она была среди арестованных накануне, которые теперь сидели со связанными руками прямо в грязи. На ней было мешковатое мужское пальто, и к тому же все лицо у нее распухло. И все-таки я ее узнала и остановилась, не говоря ни слова и пристально глядя на ее содранные до мяса колени.
— Я — Тучка, — сказала она.
Это казалось мне абсурдом. Должно быть, она прочла мои мысли, потому что повторила давнюю свою фразу:
— Я волшебница, я знаю.
Тогда я солгала:
— Ты меня с кем-то путаешь. Я тебя никогда не видела.
Впрочем, я развязала ей руки, вывела за ограду и приказала:
— Шагай вперед.
На ступеньках одной из церквей сидели те, кто вскоре должны были стать ее палачами. Она помахала им рукой, потом посмотрела поверх них куда-то вдаль и пробормотала:
— Одинокие деревья под звездным небом…
И все. Но, когда я тоже взглянула на безмолвные деревья, у меня возникло впечатление, что я ее дослушала до конца, эту песню долины По близ Венеции.
Ее вырвали у меня из рук, чтобы остричь наголо и раздеть.
Я только один раз заглянула в дверь и увидела, как она сидит перед зеркалом, и ее, уже седые, волосы падают из-под ножниц ей на плечи, покрытые синяками.
Пока пленников везли на лодке в заросли тростника, мы, не отрываясь, смотрели друг на друга. И я думала, что время в Ветвях стало для меня временем открытий. Луизе Иларди было за пятьдесят, но из всех тел, повешенных на берегах Каʼ Дзулиани, ее тело выделялось каким-то странным сиянием.
И люди с удивлением восклицали:
— Можно себе представить, какая она была в молодости!
III
Человека, который шел из мира, звали Альчесте Гросси, и родом он был из Гвасталлы.
Он никогда не расставался с двумя картинками, которые давали ему ощущение смысла собственной жизни: на первой был изображен неизвестный молодой человек, на второй — разрушенный землетрясением город.
Когда он смотрел на молодого человека, ему казалось, что с величественной и недостижимой высоты тот обращается к нему, как к ребенку, пораженному невозможностью приспособиться к действительности взрослых, давая понять, что дальнейшее его существование будет всего лишь приложением к так и не определенному возрасту, лишенному даже прелестей детства. Его обличающее очарование начиналось с головного убора, залитого отблесками лампы, которой на картинке не было. Не какую-то обычную земную лампу он себе представлял, но лампу в руках Божиих. И это заставляло думать, что неизвестный шел из ночи без сумерек и без рассвета. В его глазах и линии рта было целомудрие открытия некоей таинственной родины, и именно в силу своей сдержанности это чувство принадлежности приобретало большую силу и глубину; оно было исполнено таинственной музыкой, которую Альчесте Гросси, как ни старался, не слышал.
К этой музыке он был глух, возможно, навсегда.
При землетрясении он оказался главным действующим лицом и одним из первых спасателей.
Он вновь видел, как рушатся дома старых фламандских купцов, дворцы пятнадцатого века. Из окон вылетали куски голубой и золотой парчи. Замок на вершине холма исчезал с лица земли, розарии разрывались на части и взлетали в небо. Он оказывался окруженным беженцами; взбирался по веревочным лестницам в развороченные жилища; рисковал ослепнуть от дождя искр, быть раздавленным каменными глыбами. Полы, выложенные железными листами, рассыпались в пепел у него под ногами. Он сжимал в руке смоляной факел и устремлялся на поиски, удаляясь от своих товарищей, не обращая внимания на их призывы. Он спотыкался о мертвые тела, одинокие или слившиеся в последнем объятии. Он брал приступом разрушенный город, подталкиваемый гордыней непобедимого спасителя и одновременно не менее неудержимой жаждой разрушения. Он многих спас, но гораздо чаще ему пришлось прижимать ухо к груди тех, в ком жизнь уже угасла.
Он не видел иного будущего для себя. И для Европы, куда он возвращался, тоже.
Он сошел с поезда в Парме и обнаружил, что на вокзале никого не было. Между рельсами кусок полотна, рядом — флажок, обозначающий опасность. Он приподнял материю: под ней был труп.
— Красная неделя! — воскликнул какой-то старик, который нес охапку флажков, и исчез за путями.
— Ты кто? — спросил его офицер-таможенник.
Прежде чем ответить, он сосредоточился, чтобы забыть языки мира, которые сбивали его с мысли:
— Я здесь проездом.
— Имя, фамилия?
— Меня называют Фламандцем. Настоящее имя Альчесте Гросси.
На столе лежало ружье. Тачка с оружием и окровавленным бельем стояла во дворе таможни, в пустоте, которая остается после набега мародеров. Из груды беспорядочно набитых в чемодан вещей офицер извлек свернутую в трубку карту.
— Это что? — спросил он, с подозрением разглядывая ее.
— Дорога Солнца, — ответил Фламандец. — Большая Дорога в Перу. Самая длинная в истории человечества, — объяснил он, и перед его взором снова предстали долины и горы в прозрачной голубизне, и приветствующие его governatores с серебряными жезлами: — Я ее восстанавливал. И в Перу знают мою работу: как везде, где существуют земля мертвых и земля живых. — Тачка уныло стояла во дворе. — Здесь, наоборот, земля только одна.
— Я тебя не понимаю.
— Оно и к лучшему, лейтенант.
— Знаю я вас, — продолжил офицер, не веря ему. — Приезжаете и взрываете мосты.
Однако карта была не похожа на карту Пармы. На ней действительно змеилась линия, стремящаяся в бесконечность.
— Хорошо замаскировался, — упорствовал таможенник.
— Значит, ты за Корридони? За Де Амбриса? — Он уловил совпадение: — Тебя зовут так же, как и Де Амбриса.
Фламандец покачал головой. Офицер вынул из чемодана статуэтку, изображающую короля.
— Знаю я вас, — с сарказмом заявил он. — Вы приезжаете, чтобы убивать королей. Таких, как Умберто. Значит, ты анархист?
— Я не анархист. А это Ваал, могущественное и древнее божество. Он вылечил меня от малярии, и я работал и на его земле, чтобы извлечь на свет Божий его сокровища. И в Египте тоже. Одна из пирамид мою работу помнит.
Он рассказал ему о Саргассовом море. О Пагане, городе тринадцати тысяч храмов. О дамбах Голландии и Асуанской плотине. О Северном море с песчаными островами, которых высокие приливы в равноденствие поглощают почти целиком. Они тоже знали его руку.
Офицер впился в него взглядом, словно пытаясь определить, нет ли в его словах насмешки. Фламандец выдержал взгляд совершенно спокойно.
— Почему ты вернулся?
— Из-за беспокойства, которого и сам не понимаю.
— Человек тратит всю жизнь на то, чтобы болтаться по свету, и возвращается в самый разгар революции только по этой причине?
— Нет.
— Вот видишь? — обрадовался офицер.
— И из любопытства тоже, — лаконично добавил Фламандец. Он показал свои огромные ладони. Лиловые мозоли, загрубелые, как воловья кожа. — Не волнуйся, таможенник. Мое оружие — это они и работа. Мои пророки — вещи, ибо, изменяя их, человек, в меру сил своих, оставляет память о себе.
— Значит, ты думаешь, что рабы тоже необходимы?
— Да. И становлюсь в один строй с ними.
— Иди, — сказал тогда офицер. И, вполне удовлетворенный, вернул ему чемодан.
Бродя по Парме, Фламандец увидел, что с моста сбрасывают статую Сан Джованни Непомучено. Он хладнокровно подумал: сегодня девятое июня четырнадцатого года, завтра у меня день рождения, сорок два. Он не видел для себя никакого способа его отпраздновать. Часовню охватил огонь, но оставался гранитный алтарь, который не могли сдвинуть вчетвером. Он один столкнул его в воду.
— Ты из наших? — спросили его.
Он не ответил.
Он присутствовал при сожжении Крочоне в Борго делле Грацие. Люди бурно обсуждали события в Анконе, где полиция убила двух молодых людей. Восставшие угрожали повесить генерала Альярди в Равенне. Какой-то берсальер упал, убитый из пистолета другим солдатом. Стачка парализовала всякую гражданскую активность. Десятки остановившихся поездов вытянулись в линию до самого горизонта. Когда Де Амбрис начал говорить на площади Гарибальди, Фламандец внимательно посмотрел на него и пожал плечами: общим у них было только имя. Толпа осадила печи завода Альварози; люди хотели захватить сырой хлеб, чтобы спасти население от голода. Это — враги тех, кто сбросил с моста Сан Джованни, почувствовал фламандец; и, поскольку им не удавалось снять с петель задвижку, он примкнул к их делу, заявив:
— Дайте-ка я попробую!
Он сконцентрировался, чтобы увеличить силу, как его научили в странах столь далеких, что теперь они казались несуществующими; одним рывком он открыл путь осаждающим.
— Ты из наших? — спрашивали его, сжимая в объятиях.
Тот же вопрос ему задали, когда для группы с зелено-красным знаменем он перевернул автомобиль перед зданием Префектуры; и когда, встав на сторону небрежно одетого партера, сорвал занавес Боргезе в Королевском Театре, где какой-то тенор, поклонник Де Амбриса, пел «И сияют звезды».
Вечер для него оказался весьма грустным.
Он пошел по направлению к памятнику Верди, расположенному напротив вокзала. Его установили во время его отсутствия, и он показался ему великолепным: мрамор был обработан с мастерством древних египтян. Он погладил его, думая: жаль, что не пришлось над ним поработать. Он уселся под табличкой с надписью «Ксименес», а на пустынную площадь опускался закат. Это был первый миг покоя. Вереница статуй, изображавших героев произведений Верди, тонула в контражуре; словно и в Парме тоже существовала земля мертвых, отделенная от другой земли, земли живых, на которой еще тащили флаги и выворачивали фонари.
В ближайших нишах Риголетто, в эксгибиционистском порыве, казалось, вот-вот взлетит с пьедестала; а Трубадур закутался в плащ и, опустив голову, сосредоточился на мыслях о мраке своей судьбы. «Две мои души, — подумал Фламандец, — и между ними пустота, как и во мне».
Он обрадовался, потому что мысль была красивая.
— Ты из наших? — крикнул он, чтобы поиздеваться над собой, пустоте площади. Из наших, подтвердила пустота. Фламандец просто зашелся смехом; когда он попытался умерить его и смеяться про себя, ему помешало чувство тоски.
С противоположного края площади подошел какой-то старик. Некоторое время он прятался на фоне статуй, потом поднял ружье.
— Я за тобой весь день слежу, — сказал он. — То, что ты сделал, бессмысленно. Таким сумасшедшим может быть только шпион или провокатор.
Фламандец промолчал.
— Ты за кого? — спросил старик.
— Ни за кого, — ответил он. — Я никому не принадлежу. Даже себе. Потому что не понимаю себя. А то, чего не понимаешь, тебе не принадлежит.
Пристально разглядывая старика, он вспомнил, что уже видел его: утром, когда приехал. Он встал, и они пошли навстречу друг другу. Но Фламандец понял, что старик ждет ответа, который бы его убедил, и тогда он повернулся к нему спиной и пошел прочь. Он знал, что тот в него выстрелит. Но ему было наплевать.
Старик спустил курок, и звук выстрела замер где-то в нише Фальстафа.
Два дня он ездил по местам, которые в той или иной степени могли выступить свидетелями его краха. Дом в Гвасталле, в котором он родился и в котором сейчас, после смерти его родных, жили незнакомые люди. Стекольная фабрика в Тамелотте, где в возрасте десяти лет он научился тяжкому труду у доменных печей, унижающему человека. Публичные дома в Дозоло. Маленькие церкви в Ливелло, Палаццине и Бонелли, в которых он размышлял о той, которая, без сомнения, станет символом его будущего величия.
Когда на третий день на мосту Гьяре он вошел в церковь приюта «Пий V», ему показалось, что он грезит. У портала его встретила женщина в небесно-голубом одеянии, которая сказала:
— Благословен плод лона нашего.
Фламандец шагнул внутрь, в застоявшийся запах пота, благовоний и воска. Его появление встретили аплодисментами, и пока он смущенно снимал шляпу, ему показалось, что он идет по тротуару мимо публичного дома. От одного придела к другому несся глухой шум:
— Благословен плод лона нашего.
Женщины и девушки перекликались, как с балкона на балкон.
Самая величественная, с видом начальницы над всеми остальными, восседала на епископском кресле. Крашеная блондинка с жестоким выражением лица.
— Ты веришь в наши доводы? — спросила она. — В наши права?
— Кто вы такие? — в свою очередь задал вопрос Фламандец.
В свете свечей десятки других женщин сидели на скамьях под балдахинами, курили и вполголоса переговаривались друг с другом. В одной из ниш целая группа людей спала прямо на полу, дыша спокойно и размеренно. Только самые древние старухи на передних скамьях искренне молились. Солнце, бьющее через витражи, заливало могилы, превращенные в отхожие места.
Фламандец подумал о фараонах. И о росписях, которые киркой освобождены из вековой тьмы и являют свету женщин в образе диких зверей, прильнувших к Богу. С амвона какая-то дама в соломенной шляпке заговорила о своей убитой дочери. Он взглянул вверх, и, хотя красивых женщин в церкви хватало, ее лицо его поразило.
Ризница тоже была превращена в бивуак.
Еще одна группа женщин преградила ему дорогу, он их кое-как обошел и оказался в келье. Старый священник прятался среди свернутых в рулоны портьер и изображений святых, снятых со стен. Он был без рясы, в черных брюках на помочах и нижней рубашке.
— Пришел меня вздернуть? — насмешливо спросил он. — В Гвальтьери священников вешают.
Фламандец спросил, кто эти женщины.
— Несчастные матери, — ответил священник. — Или блудницы. Или сумасшедшие.
— Они говорят о каких-то доводах и правах, — заметил Фламандец.
— Это правда. Церковь позволила превратить «Пия V» в рынок рабов. На нем они продают своих дочерей.
Фламандец схватил его за грудки:
— Так почему же ты тогда прячешься? Почему ты не с ними!
— Ты красный!
— Нет.
— Масон!
Фламандца часто охватывала беспричинная животная ярость. На этот раз ему удалось ее подавить.
— Но все равно ты кто-то. Сегодня все кто-то. Быть кем-то — это долг!
— Да, — признал Фламандец, узнавая в священнике всех тех, кто требовал от него ответа, который не был бы выражением сомнения или ожидания, как будто сомнение и ожидание больше не имеют права на существование. — Но на свете есть и крапива, священник, крапива, как я, которая ждет чьего-то знака.
Из окна была видна пустынная плотина, заросли кукурузы, какой-то штандарт с крестом на голубом поле. И пустая цементная дорожка «Пия V», вдоль которой стояли железные скамейки. Это мое небо, священник. Жалкая, бесполезная изнанка земли.
В этот момент, вздымая пыль, появились две стремительные тени.
— Ты — человек без веры.
— Моя вера со мной, — возразил Фламандец. — Она заключается в том, чтобы искать ее, эту веру. Как твоя — в том, чтобы искать вечность. Какая из них бесполезнее? И все равно я продолжаю гнаться за ней через огромные пространства, надеясь, что, по крайней мере, те народы, которые придерживаются самых фантастических религий, смогут меня научить. Но Христос и любой другой Бог — всего лишь мистификаторы, одержимые диким желанием обладать нами. Он усмехнулся, заметив испуг священника:
— Да, будь я анархистом или масоном, то с удовольствием бы тебя повесил. И я желаю твоему христианству, чтобы Красная Неделя стала Апокалипсисом!
Повозки навозниц приближались со стороны тополевых рощ. Они тащили напоминавшие переполненные птичьи садки клетки, в которых стояли девушки. Лицо Фламандца просветлело, и, когда женщины толпой хлынули из церкви, он призвал их к убийству. Противники столкнулись с яростным восторгом. Уже опрокинуты были и повозки, и клетки с девушками, но все новые и новые женщины спрыгивали с землечерпалок и вступали в битву, так что навозниц «Пия V» уже нельзя было отличить от нападавших, и они разбежались по направлению к плотинам.
Фламандец снова прошел через церковь, медленно, сохраняя нейтралитет; посреди хаоса перевернутых скамеек он на секунду остановился, огляделся, и Христос в раме из изъеденного жучками дерева тоже посмотрел на него, казалось, он согласен, что фарс — истинная суть мира. Он выглянул из портала, когда Королевская Кавалерия уже построилась там, где единственными следами схватки оставались только выдранные волосы монахинь на земле.
Только одна девушка бродила по асфальтированной дорожке, потрясенная тем, что осталась одна, а может быть, просто не зная, что делать. Фламандцу стало любопытно, и он попытался понять ее движения, которые вызывали любопытство и у солдат: казалось, она следует за какой-то забавной мелодией. В девушке было немного одиночества и немного насмешки, немного скуки и наигрыша.
Пантомима, которая была ему хорошо знакома.
Потом девушка снова поднялась по плотине и, помахав рукой, исчезла в зарослях кукурузы. Фламандец был натурой страстной, но непостоянной; но к этим желто-лиловым зарослям его влекло какое-то странное состояние души.
Когда он догнал ее, то увидел подсолнечник.
Он услышал ее дыхание за пыльными и усеянными муравьями листьями, потом появились два глаза, чтобы рассмотреть его и оценить.
— Иди первая, — дружелюбно сказал он.
Над равниной Тальята небо утратило свою прозрачность, ее сменило молочно-белое сияние, исходившее от воды, которая становилась все ближе и ближе. Оба они испытывали одинаковое необъяснимое наслаждение от движения, и шли вперед, сдерживая шаг. В старых руслах они увидели лодки, опрокинутые ветром мурлу, стаи малых зуйков возвещали о разразившейся вдали буре. Несколько кораблей пришли сюда в поисках укрытия.
У Фламандца возникла забавная, но пока еще смутная мысль.
Утесы Бальдо вздымались так высоко, словно море высохло. Они прошли дальше. Потом они миновали защитные кольцевые дамбы, похожие на солончаки. Они шли и шли, пока не проникли в пустынные, как до сотворения мира, места — приют отверженных мира сего, нищих поденщиков, которых изредка замечали то тут, то там.
Они шагали молча и так долго, что увидели Габбиони, где По казался океаном. Но они оставили его у себя за спиной и двинулись в сторону Маяка Рондини.
Маяк, который некогда подавал сигнал судам, утопал в покрытом трещинами и тянущемся, насколько хватало глаз, иле. Фламандец присел на железную лестницу, по которой давно уже никто не поднимался, и устремил взор на предзакатное небо. Ему показалось, что он утратил все связи с реальностью и сейчас находится один посреди прилива. Он вытащил из кармана куртки тетрадку, в которой каждый день записывал, что надо сделать, и перелистал ее: ни одной записи со дня его приезда; она была больше не нужна, и он отправил ее в полет с маяка к горизонту.
Он сделал это весело, понимая, что мысль, которую он пытался для себя уточнить, совпадала с очарованием пространства.
Девушка стояла и пристально смотрела на него — один из неподвижных элементов пейзажа.
— Смотри, — он вытянул руку. — По, как равнина, покрытая снегом.
Он сказал это и вспомнил вершину Альпамайо в перуанских Андах, на которой появляется белый олень Сан Карло, возвещая El Juego — высший каприз жизни. Его тень образует огромный крест, и индейцы, утопая по пояс в снегу, сбегаются к нему вместе с детьми, чтобы и те ощутили прикосновение загробной сущности в этот единственный миг реальности или иллюзии, в который она соизволяет открыться.
Мысль наконец сформулировалась.
Они снова отправились в путь. Дорогу теперь прокладывал Фламандец, он с большим вниманием, чем прежде, вглядывался в небо и линию горизонта, рассчитывая увидеть какой-нибудь знак, который смог бы ему помочь. Ему нужно было понять истоки охватившего его стремления к поиску идентичности и жажды удовлетворить его в другом живом существе. Девушка, которая его сопровождала, была всего лишь одной из воспитанниц «Пия V», так что действовать он мог совершенно свободно.
Ему нужно было только имя. И вот, ближе к вечеру, с какого-то гумна послышался женский голос: «Дзелия». Настойчивый и безответный, этот призыв, казалось, не обращен ни к кому, разве что к смотревшимся в зеркало реки деревням. Исполненный грусти, напевный, он словно радовался эху, которым отвечал на него По.
И идея Фламандца обрела завершенность: вот имя, обладающее и телесной весомостью, и душой этой земли, в которой, посетив ее снова, он открыл лодки, отмеченные печатью рока, как китайские джонки, небесно-голубой воздух Фудзиямы, тихие каналы Голландии, красную землю Кореи, туманы над Темзой, и прежде всего — греческую силу Минотавра. И только ее непокорность оттолкнула его, помешав вовремя понять, что в своей бедной и тайной сути она действительно была любой другой землей, которую можно было открыть, с ее прорицателями, обладающими большим знанием, чем тибетские мистики, с величественными сводниками Лиджерии, в своих шитых золотом жилетах похожих на марокканских каидов и излучающих блеск, тунисским кавалеристам в серых фесках и черных плащах. И с ее именами — как то, слыша которое, он сейчас весело кивал головой — подобными тем, что на испанских надгробьях в Мексике заставляют думать о дерзости человеческой красоты, бросающей вызов времени и побеждающей его.
Это был мгновенный и яркий сон, наполненный восхитительными видениями его путешествий.
Чтобы отпраздновать имя и их дружбу, Фламандец выбрал самый известный и дорогой ресторан — «Звезду Италии», за Борго По. Едва они сели, как, словно по чьей-то команде, появились молодые оркестранты с инструментами — в зеленых куртках, красных брюках и белых поясах. Обеденный зал выходил на реку, и оркестр расположился на краю находящегося внизу мостика, в свете бумажных фонариков. За темным пятном, похожим на островок, простирался берег Вилласанты. Фламандец понял, что на самом деле это был не островок, а целая флотилия стоящих вплотную друг к другу лодок с поднятыми на мачтах флагами.
— Это лодочники из Вилластрады, — объяснили ему. — Вот уже три дня, как они объявили голодовку.
Таким образом, столики слева от Фламандца занимали аграрии — богатые землевладельцы, которые ели, пили и бурно радовались жизни; а справа сражались во имя Красной Недели лодочники, чьим единственным оружием в борьбе с благосостоянием противников были они сами.
Он улыбнулся, подумав об иронии судьбы, которая в очередной раз, помимо его воли, усадила его посередине, обеспечив ему неподвластный законам нейтралитет. Оркестрик небрежно сыграл «Вино, женщин и песню» Штрауса. Потом, с воодушевлением — «Кайзервальцер». Но со стороны лодок не последовало никакой реакции. Оставалось думать, что за молчанием речных призраков скрывалось некое тайное знание, несущее угрозу врагу. И тогда Фламандец встал, хлопнул в ладони и заказал вальс. Только для себя.
— Есть одна женщина, — рассказал он ей однажды, — которую одни называют Мадре Лизандра, а другие — Мала Лизандра. Мать Александра, или Зверь Александра, что вообще-то означает одно и то же: Саламандра. Все зависит от того, как человек относится к земле, живет с ней в мире или воюет.
Говорил он так, словно это ее прямо касалось и каким-то образом имело отношение к ее происхождению.
— Где? — спросила Дзелия.
— В пустынях Серравалле.
Они искали ее несколько дней. Между старыми плотинами и остроконечными скалами, которые, как объяснял Фламандец, были вершинами гор, пока ледники не увлекли их за собой на равнину. А вот это, объяснял он ей, болотистая заводь, вот это — белая ива, это — колокол заклятья, который слышен на огромные расстояния, и при этом кажется, что звонит он в ближайших скоплениях окаменелостей, высоких, как колокольни.
Дзелия, охваченная желанием, бросалась в быстрые стремнины, где в миражах ей являлась Саламандра, живущая в водяных травах. Спустя годы, пересекая африканскую пустыню, она поймет, что По, открытый вместе с Фламандцем, гораздо страшнее; это эрг, хамадер и серир, вместе взятые.
На горизонте появились холмы Боариэ.
Он объяснил ей, как совершить последний переход по обжигающему легкие песку, потом показал плавучий дом: тот плавал на поверхности, как оазис бедности. Застыв среди камней, Саламандра ждала своих гостей, и взгляд ее господствовал над большим гумном, где не росло ни травинки и ничто не отбрасывало тень.
Это была дзана По. Дзаны, объяснил ей еще раньше Фламандец, были похожи на Тучку, но их безумие выражалось в видениях, в которых стаи орлов и обезьян захватывали города и деревни, и поэтому они оттуда бежали, или в том, что они постоянно вслушивались в какую-то только им ведомую мелодию.
Фламандец брал Дзелию с собой, когда ходил к дзанам. Дожидаясь его, сидя перед дверями, за которыми скрывался ад, она училась узнавать Путанов; у каждого была своя манера выходить и уходить, причесываться или вдевать цветок в петлицу, обнюхивать лацканы пиджака или руки, устало потирать лицо, поворачиваться к ней спиной, чтобы помочиться на стену; некоторые насвистывали или напевали арии из опер. По большей части люди пожилые, они были похожи на аграриев и, замечая ее, сдвигали шляпу на глаза.
Фламандец приказал, чтобы она оставалась на гумне. Но Дзелия пошла на кухню, где на полу сидели дети, которые посмотрели на нее, но ничего не сказали; у одного из них была кровавая ссадина на лбу. Кто бы ни управлял этой вселенной пепла, Бог или Био, она его прокляла. Это было первое проклятие в ее жизни, а сверху доносились голоса Мала Лизандры и Фламандца, первый звучал приглушенно, второй — властно. Непристойности сменялись неожиданным молчанием.
Дзелия поднялась наверх. Через приоткрытую дверь она увидела башмаки Фламандца, белые от песка. Жалюзи не могли справиться с солнцем, которое, казалось, умножало предметы, создавая впечатление, что вещей в комнате гораздо больше, чем на самом деле; платье женщины было брошено прямо на абажур оставленной зажженной лампы, и там же, на столике, лежали красная шаль и широкополая шляпа. В отличие от всего остального, они создавали ощущение элегантности.
Она решилась посмотреть на нее. Безо всякого страха.
Через плечо Фламандца, который не заметил присутствия Дзелии, она увидела запрокинутую голову Мала Лизандры. Женщина, в свою очередь, смотрела на нее, свесив с кровати обнаженную левую руку и ногу, обнаруживая полное равнодушие к мужчине; казалось, они стоят на разных берегах реки, разделенные чем-то эфемерным, непреодолимым.
И был только этот бесконечно долгий взгляд.
Дзелия спрашивала себя, кому же принадлежат светлые глаза, не имеющие возраста, взгляд которых поразил ее с такой силой: Матери Лизандре или Зверю Лизандре? Но не могла ответить. Выражение лица женщины менялось чрезвычайно быстро, и она прочла в нем недоверие и сарказм, стремление защититься, грусть, словно та ждала помощи; в очертаниях широкого лба, тонкого, изящного носа, полных губ угадывалось одиночество. Это было лицо, отмеченное той скрытой красотой, которая позволяет предполагать множество любовных историй.
Не существует ничего, о чем ты могла бы судить, и ничего, что ты могла бы решать, — казалось, говорила она с насмешливой улыбкой тех, кто даже смерть принимает равнодушно. И жалость, которую мы испытываем друг к другу, есть не что иное, как высшее выражение иронии.
Эта дружба продлилась до осени.
В Фосса Болоньина заканчивался сезон праздников. Они увидели процессию, которая несла освещенное распятие и возвещала наступление ночи народного гулянья. Юноши радостно улыбались, одна из девушек была одета императрицей.
Фламандец посмотрел на Дзелию и спросил себя: почему я это делаю?
С самого начала река разбушевалась от Горго до Мирасоле, и им пришлось пробиваться вперед, рискуя погибнуть либо в водоворотах, которые то исчезали, то неожиданно возникали вновь, уже на другом месте, либо в смерчах, взмывавших в небо, словно тысячи дельфинов; они шли и шли сквозь синие и зеленые сполохи, привязав к верхушкам посохов белые тряпки, чтобы кто-нибудь заметил их в этой буре. Наконец они добрались до водоемов, которые, казалось, высохли за ночь, и увязли в грудах погибших рыб.
Но сейчас был ясный вечер, и вода шла из Боскины, как прежде, возвращая к жизни каждую отмель. На каком-то суденышке солдаты, чьи мундиры едва можно было различить на фоне заката, торжественно поднимали флаг.
«Кто-то, после стольких усилий, победил, — подумал Фламандец. — Блажен, кто рождается победителем». Песок, коркой застывший на лице, сделал его неузнаваемым; ноги были, как ватные, и он с трудом вставал с камней, чтобы продолжить путь.
«Почему я это делаю, если это бессмысленно?»
Дзелия вошла в тихую заводь и вымылась. Фламандец не сводил с нее глаз, пока она не вытерлась и не оделась.
«Почему, если мне хочется, чтобы у нее осталось хорошее воспоминание обо мне?»
В «Траттории Ченси» они поужинали во дворе, под виселицей, с которой свисало чучело комиссара полиции Сквери. Шло веселое застолье лодочников, которых называли Болоньинские Выдумщики из-за постоянной готовности устроить какой-нибудь озорной розыгрыш; и сами дома Фоссы, с зажженными на гумнах огнями, аляповато раскрашенными фасадами, похожими друг на друга, как в сказке, — где по случаю праздника подновляли над дверями конюшен аллегорические изображения Любви, Смерти и Святого Георгия, отправляющегося на войну с турками, которые никогда, даже в самом далеком прошлом, не ступали на эту землю — казались созданием некоего чудаковатого гения, чей дух все еще витал в воздухе, пропитанном ароматом шиповника и наполненном стаями черноголовых чеканов.
— Это самая странная деревня из всех, где я бывал, — признался Фламандец, жалея, что не может вести себя так же беззаботно, как все остальные.
Когда они вышли, люди танцевали на террасе. Фламандец не умел танцевать и чувствовал себя неловко. Дзелия показала ему несколько движений. Он видел, как девушки позволяли мужчинам самого разного возраста и облика увлекать себя в темноту защитных кольцевых дамб. Сейчас, повторял он себе неохотно, сейчас я это сделаю, закончу танец и потом тоже уведу ее туда.
Он все откладывал и откладывал и в конце концов дождался, что, кроме них, на террасе не осталось никого.
— Это моя дочь, — солгал он оркестрантам, клюющим носом над инструментами.
Они в последний раз удалились в те места, напоминавшие ему образ других, которые тайно жили в нем и в которые он собирался вернуться. Насмешливое беспокойство, неумолимый вестник новых ошибок и прегрешений, сжимало ему желудок. Даже возвращение — что подтверждали образы, в которых это чувство воплощалось, — оказывалось одной из его пантагрюэлевских клоунад; и вся его дальнейшая жизнь в еще большей степени будет всего лишь приложением к некоему безымянному отрезку времени.
Но он сказал себе, что, подобно героям песен этой земли, он, продолжая идти вперед, найдет Прорицателя, способного заставить его исчезнуть или погрузиться в лоно Маэстры Компары — великого зверя, уснувшего навечно.
Камни буквально раскалились от солнца, и Дзелии казалось, что она идет по змеиным гнездам. Один раз на камне остался отпечаток ободранной до крови ступни. И еще раз ее кровь обагрила камни, когда Фламандец изнасиловал ее, ни разу не взглянув ей в глаза.
Потом она увидела его посередине отмели, какое-то время он наблюдал за восходом солнца, и вдруг снова поднялся на плотину. Железная дорога проходила за дюнами, поэтому товарный поезд — черные вагоны без дверей, горящие огни — появился неожиданно; он летел над песчаной равниной, излучая слабое сияние.
Ухватившись одной рукой за поручень, Фламандец вскочил в уносящийся прочь вагон. Он уже начал забывать…
Это время осталось у нее в памяти как время противоречий и завершилось зимой, в течение которой не произошло ничего.
Действительно, то была самая спокойная из всех зим.
Пойменные земли покрылись снегом. Из мелководий и родников появились ледяные создания, которых лодочники тут же наградили именами. Среди них были и угри, и светящиеся водяные травы, закованные в ледяную оболочку, которую приходилось разбивать пешней. Люди наблюдали, как чайки садятся на болотистые заводи и их крылья покрываются ледяной корочкой, а сами они судорожно разевают клювы, чтобы восстановить дыхание, сбитое в полете от тяжких усилий, потраченных на сопротивление холоду, постепенно прижимавшему их к земле.
В Бастии зажигали костры, самые большие на всем протяжении от Морто ди Примаро до Боргофорте. И стаи воробьев спускались так низко, что пламя почти касалось крыльев, и согретые его теплом отправлялись дальше в полет.
IV
Поместье Изи осталось последним из крупных земельных владений от Боргофорте до Дельты. Его называли Магога, что означает «серебристая чайка». Путь от Коломбаре через Минчо до Бастии шел через хутора с доверху набитыми сеновалами и скотные дворы с полными свиней свинарниками до сыроварен в Венето, где выделывались самые прославленные сыры.
В устах крестьян слово «амбар» звучало как «алтарь», а «алтарь» — как «ива». И от ломбардских тополей вы приходили к призрачным ивам и золотым тутовым деревьям.
В Магоге жили самые разные люди: пастухи, скотопромышленники, разбогатевшие землевладельцы, буржуазия, Прорицатели, бродячие сумасшедшие, которые превращали сеновалы в танцевальные залы, танцевальные залы в места молитв, а места молитв — в места поминок по случаю смерти свиньи.
Палаццо Изи было окружено с трех сторон рекой. Вода часто заливала поля, поэтому пейзаж представлял собой панораму плотно прижатых друг к другу землечерпалок, паромов и стоящих на приколе барж. Несмотря на свое огромное богатство — Клемента Изи была единственной владелицей поместья, — в палаццо вместо электричества пользовались керосиновыми лампами, отчего здание казалось окутанным каким-то призрачным светом.
Рассказывали, что Изи уже очень много лет, что девушкой, в отчаянии от того, что у нее больные глаза, она, грациозно прикрываясь зонтиком от солнца, отправлялась гулять под пулями, ища смерти. Об этой женщине, которая выглядела самое большее лет на шестьдесят, вообще ходило очень много слухов.
Я назвала ее чудовищем бездеятельности. Ибо она, как паук — насекомое, к которому я испытываю наибольшее отвращение, — добивалась того, чего хотела, оставаясь в неподвижности.
В те времена на равнине Боргофорте из-за меня уже останавливались кареты и машины богатых господ. Изи приблизила меня к себе, сделав чем-то вроде компаньонки. Помню, что ее первым приказанием было: читай. И я читала. Как меня худо-бедно научили в «Ветвях». Это были истории о благородстве, несчастной любви и прочей ерунде; река шумела так, что мне часто приходилось почти кричать. Тогда она говорила: читай спокойно, ибо самое худшее происходит далеко отсюда, и оно никогда не сможет нарушить наш покой.
Всех, кто допрашивал меня после ее таинственной смерти — тело, прикрученное проволокой к бревну, обнаружили в районе каналов Бокка ди Ганда, — я просила обратить особое внимание на этот начальный период, который был ключом к нашим отношениям. И повторяла: чудовища — это несчастные существа, которые думают не так, как мы, и у каждой земли они свои, и если ты понимаешь землю, то понимаешь и ее чудовищ.
Я вижу, признавалась Изи, только солнце, когда оно появляется на небе, его огненный шар и черный тополь, который становится все выше и выше. Действительно, в Кашине тополь был, и восходящее солнце, казалось, тащило его за собой.
И в заключение говорила: а потом день превращается в ночь.
Она никогда не спала в своей постели, только в кресле перед окном. Когда я начала за ней следить, то заметила — как только в комнату проникает свет, она успокаивается, и в момент перехода ночи в день испытывает счастье. Если бы ты только знала, говорила она, какие великолепные существа в этот миг устремляются мне навстречу.
В этой привычке чувствовалось что-то не совсем нормальное.
Могу вспомнить и такой эпизод: под окнами палаццо Изи проезжал первый обоз с солдатами, отправляющимися на войну, я была на улице, и в толпе говорили: эти повозки вернутся залитыми кровью. Солдаты тоже несли на своих плечах груз будущего, и единственный, кто вывесил на балконе трехцветный флаг, при виде такой печали поторопился снять его.
И тогда наверху раздался смех. Смех, который, казалось, не принадлежал человеку.
Он заполнил всю улицу, и все спрашивали себя: кто же это смеется, где он? Хотя каждый прекрасно понимал, что доносится он из окна со стороны Кашине, где Клемента Изи, которую они боялись, видела только солнце, поднимающееся из поймы.
Тогда я впервые поднялась по лестнице с предчувствием, что в голове у нее что-то сломалось, что она не способна ни на что, кроме как копаться в глубинах своего мозга подобно собаке, роющейся в отбросах. В этом меня убедили странные вещи, которые к тому времени творились вокруг меня.
Еще раньше Изи приказала мне: хватит читать, это наводит на меня грусть. И я больше не читала. Вместо этого она потребовала, чтобы я описывала ей комнаты в палаццо, в зависимости от времени суток и воспоминаний, которые приходили ей в голову. Я терпеливо описывала ей разбросанные повсюду знаки того, что представители рода Изи были абсолютными повелителями этой земли. Парадные мундиры, висящие в шкафах, шпаги с золотыми рукоятками, старинные гравюры и фотографии их праздников и оставшихся безнаказанными преступлений: о кровавом подавлении в 90-м году бунта пастухов в Казина Ферретти помнят и поныне. Я описывала ей бальные залы с возвышениями для оркестра, стулья для ухажеров. Коллекции оружия и чучела наемников-варваров в гигантских сапогах, которые под воздействием влаги стали крепкими, как дерево. И пожелтевшие ночные горшки самых крупных богачей долины По.
Описания, которые я часто искажала, чтобы оскорбить ее сословную гордость. Она слушала меня, хмуря лоб и роясь в сумке, вынимать из которой ей было нечего. Глаза у нее вваливались все глубже.
— Иди, — приказывала она. — Иди, а потом все расскажешь.
И я опять шла по длинным коридорам, открывая двери, которые годами стояли запертыми.
Пока она не устала и от этой игры.
Тогда она потребовала рассказов о моих прогулках в лесах, о подозрительных дорожках, по которым бродили фигуры, странности которых она умела разгадывать, о кафе, заполненных игроками в бильярд и людьми, пришедшими выпить свой стаканчик белого вина.
— Мне нужны имена и фамилии.
Почему, она мне не объясняла.
Я помню, как она растрогалась, когда я описывала ей судоремонтную верфь Фортис, где, по слухам, один из ее братьев бросился с башенного крана вниз головой.
А потом попросила:
— Расскажи про мужчину на мотоцикле, который остановил тебя в Монтеджане.
— Он, — начала я, — в шляпе и шарфе, закрывающем половину лица, приезжает из Торричеллы, проносясь по деревням, словно молния, и вызывая всеобщее восхищение. Но когда появляюсь я, он останавливается и, не слезая с мотоцикла, с улыбкой говорит мне: «Я знаю Изи».
Однажды она сказала: расскажи про мужчину под шелковицей. А в другой раз: расскажи про Марию Бертеди, гулящую.
Когда вечером я возвращалась домой, все больше мужчин и женщин выходили из темноты, в которой они меня поджидали, и повторяли фразу, которая буквально превратилась для меня в наваждение: «Я знаю Клементу Изи». Вершиной всего стал случай, когда один из них зашел ночью ко мне в комнату и, прислонившись к стене, объяснил мне голосом, который я сразу узнала, какой властью обладают тени, вкрадчиво повторяя: мы люди благородные, и никто тебе зла не желает, иначе сейчас, без свидетелей, я с тобой разговаривал бы по-другому.
На следующее утро я пошла к Изи и спросила, действительно ли она знает всех тех, кто утверждает, что знаком с ней. Она сказала, что да. Еще я спросила, почему происходит столько странных вещей. Дело в том, что жизнь — штука странная, ответила она, и мне следовало бы это знать. А потом запричитала: как горько сознавать, что ты во мне сомневаешься. Может, я тебе когда-нибудь советовала пойти работать на бойню в Сколо Сенга, где у работниц часто обнаруживают ложную беременность, потому что им кажется, что они зачали от быка? Или: встречайся с поденщиками Бертолуцци? Или, того хуже: служи мне, как рабыня!?
Нет, ответила я. Однако напомнила ей как любительнице занимательных историй песню Дзаны, и какие у нее налитые кровью свиные глазки, и как она скачет верхом на огромном члене. Может быть, вы хотите, поддразнивала я, чтобы я вела себя, как дзана с теми, кто выходит из ночи и предупреждает, что надо быть осторожнее, не то рано или поздно мой труп выловят из каналов Кашине?
Ни за что, возразила она.
Более ловких комедианток я не знала. Впрочем, признаюсь, что она ни разу не сказала прямо: переспи с таким-то или таким-то, даже тогда, когда между нами уже не было никаких недомолвок. Она ограничивалась тем, что повторяла: расскажи мне. Я имею в виду эту жажду гнаться за жизнью с таким же упрямством, с каким жизнь отталкивала ее, жажду, утолявшуюся через меня. Из-за нее она переодевалась к завтраку, к обеду и к ужину, словно ждала приглашения с одной из вилл Магоги, но так ни разу и не покинула своего кресла; иногда вечером я видела, как она надевает шляпку и берет сумочку, но все эти поездки заканчивались одинаково: она просто меняла позу и клала ногу на ногу.
Но, впрочем, была еще одна причина, чрезвычайно отвратительная, которую я обнаружила несколько месяцев спустя. А вплоть до этого момента, как только я входила, Изи, не давая мне даже снять пальто, набрасывалась на меня: я хочу знать.
И я рассказывала.
Об Эрмесе Микелотти, который выступал как мировой судья в тяжбах о земельной собственности, хотя сам был крупным землевладельцем и имел возможность пригласить мэров всех окрестных селений в остерию, где собирались рыбаки и контрабандисты, чтобы как следует воздать тому, кто был ему не по душе. Он сажал его среди жуликов и проституток и говорил: согласитесь с моей точкой зрения, иначе я заплачу лодочникам и сборщикам песка и подниму их против вас, у меня столько денег, что хватит на целую войну, вам это известно, и я могу устроить бунт работников боен в Сколо Сенга, потому что Палата Труда у меня в кармане.
Никто не отваживался даже вздохнуть.
— Я — хозяин, который презирает всех, начиная с самого себя, — заканчивал он разговор, — и поэтому отличаюсь от других хозяев и сильнее их.
А на одной сельскохозяйственной выставке он публично назвал префекта Милана папским жополизом. Останавливаясь в каком-нибудь местечке, где его ненавидели, он в первую очередь спрашивал, где колокольня, и приказывал возвещать о своем прибытии колокольным звоном.
Отпор ему дал мэр, католик Каматта, который заявил: встреча с тобой — тяжкое испытание, не надоедай нам больше и запомни, что сейчас течение По весьма быстрое, так что ты вмиг доберешься до моря в обнимку с тополем. Несколько дней спустя в церкви Форначе Боскетто случился пожар, а на крестины одного из сыновей Каматты Эрмес Микелотти явился пьяный и швырнул перед алтарем ловушки для рыбы, что означало открытую войну как для Лиджера, так и для Пезанте, двух преступных семейств.
В церкви было полно народу, у некоторых женщин началась истерика, некоторые бросились бежать, а Эрмес вдогонку осыпал их оскорблениями: вы бежите, когда вам в лицо говорят правду, но отныне вы уподобитесь засохшей земле, и ничто не сможет превратить ваши экскременты в то, что вы называете расцветом жизненных сил.
Карабинеры не решались его арестовать. Но вскоре Эрмес упал на колени и на свой лад взмолился: о Боже святый, ты бесконечно добр, так преврати людские экскременты в людей, даруй им эту милость…
Говорили, что со времен войны в Ливии у него в голове сидит осколок, который давит на мозг; а раньше он был человеком спокойным и открытым. Но я думаю, что такое оправдание придумали власти, чтобы не потерять лицо, тем более, что все знали, что Эрмес всегда надевал намордники на своих поденщиц, когда они работали на его виноградниках и во фруктовых садах; ни одно яблоко, ни одна виноградинка не могла попасть в рот через кожаные ремни.
Иногда ему что-то ударяло в голову, и он зазывал к себе заезжих опереточных артистов, садился за пианино и виртуозно играл, объясняя: никто меня не учил, я сам до всего дошел. Но было отвратительно видеть, как он отправлялся шпионить в поля Кашине в шляпе с широченными полями и даже, по утверждениям некоторых, нацепив на лицо маску. Он разъяснял крестьянам: я проверяю, все ли на моих полях в порядке, не шатаются ли в округе разного рода злоумышленники, потому что было совершено несколько террористических актов; но мы прекрасно знали, что он подглядывал за влюбленными парочками, для которых специально открывал калитки своих владений, чтобы завлечь их на мягкую травку.
Совершенно необъяснимое поведение, если учесть, сколько он имел от Клементы Изи и многих других женщин, которые на этой бесстыдной земле были к его услугам. Однажды под жерновым камнем я обнаружила окровавленные панталоны. Только я могла отважиться на то, чтобы пойти в сарай для лодок, только я могла отважиться на то, чтобы что-то искать там, только я, с моей страстной любовью к водным растениям, от кувшинок до лилий, которых в сарае было полно, от водяных лилий до шиповника, словно кто-то развлекался, каждую ночь отправляя лодки в старые русла Бокка ди Ганда, известные своими чудесами.
Я рассказала Изи, и ей это открытие показалось необыкновенным. Постарайся принести мне эти брюки, приставала она, и я, лишь бы она успокоилась, вернулась в сарай Микелотти, но под жерновым камнем уже ничего не было. Ты просто дурочка, упрекнула она меня, когда же ты начнешь соображать? Дело в том, что именно в эти дни распространился слух, что одна женщина из Горго, жена десятника в Бачино Савиола, была убита на плотинах Стеллы, и что в этом замешан какой то bavél, любитель подглядывать за женщинами; тогда и вспомнили, что Эрмес Микелотти однажды уже попал в похожую историю, но дело удалось спустить на тормозах.
Но ни любовник, с которым была эта женщина, ни тем более муж, фамилия которого была Парадизи, не обратились с заявлением в полицию, и в качестве версии, позволяющей замять скандал, приняли следующую: жертва каталась на велосипеде, упала и руль распорол ей живот.
Словно этого было мало, Парадизи появлялся в Боргофорте и спокойно беседовал с Эрмесом и, может быть, как рогоносец, радовался, что его жену убили; глядя на эту парочку, которая пила кофе в остерии Гирардини, я говорила себе: это именно то, о чем говорят — глазам своим не верю. Поэтому, когда похоронная процессия двинулась по деревне, что было признано необходимым, ибо в противном случае всеобщие подозрения только усилились бы, я постаралась попасть в дом Микелотти. Помню, что он прохаживался перед закрытыми жалюзи и, как только провожающие двинулись за катафалком, закурил и сообщил мне следующее: у меня тоже была жена, которая умерла и которую провезли под этим окном в точно такой же день, как сегодня; жена, насчет которой я до сих пор не уверен, была она дзана или нет.
А Изи недоверчиво спросила:
— Он больше ничего не сделал и не сказал?
Я ответила, что Микелотти догадался о моих намерениях:
— Ты пришла выразить всеобщие подозрения, и мне следовало бы тебя наказать, но я тебя извиняю, потому что ты девушка, и я хочу поговорить с тобой о фините.
Финитой у нас называют гроб.
— А потом? — спросила Изи.
— А потом он заговорил так спокойно и искренне, что я поверила. Он объяснил, что смерть — это фарс, который впивается в жизнь, как блоха. И что раздавить ее ничего не стоит, но мы думаем, что это она нас давит.
Изи возмутилась:
— Никогда не слышала ничего глупее!
Но я продолжала:
— Эрмес утверждает, что ему удалось избежать множества смертей, понять смысл жизни и найти способ не подчиняться законам природы. О вас, синьора Изи, он сказал: это привидение я в один прекрасный день сумею успокоить, это будет очень веселая месть. Ибо я обладаю невинностью младенца, с этой невинностью я и совершаю свои преступления, если, конечно, то, что я их совершаю, — правда, и первым смеюсь над ними. Тогда как другие замышляют их так, словно уже лежат в фините с заколоченной крышкой.
— И это все? — перебила Изи.
— И еще он сказал: я — достоинство этой земли.
Испугавшись то ли угроз Эрмеса, то ли упоминания о смерти, она решила закончить разговор:
— Ты все воспринимаешь через свои мечтания. Ты скрываешь от меня правду.
Но я от нее ничего не скрывала. Начиная с того, как Микелотти зажигал огни на гумне и собирал певцов — вольнодумцев из Корте Булгарина, прося исполнить La cansòn da Galà: бесстыдную, но грустную песню, в которой рассказывалось о лодочнике из Бельвизо, который был не столько влюблен, сколько оплодотворен петухом любви. Таким образом, в нем, кроме священного огня петуха, была и нелепость курицы, символа живущей вдоль берегов молодежи, которая в то время не решалась взбунтоваться в Капи Бастоне.
От Буза ди Широкко до Боргофорте этот лодочник искал себе подругу, но не встретил никого, кто захотел бы его. И отчаялся он сверх всякой меры…
Поэтому он присоединился к некоему торговцу лошадьми и путешествовал по свету, как Марко Поло, под именем Фариока Озел, причем Фариока означало — колокол, а также — бард, певец, а Озел — то, что Эрмес Микелотти в конце песни провозглашал восьмым чудом света, находящимся у него в штанах, а иногда и демонстрировал под аплодисменты собравшихся.
— А теперь, — просил он их, — идите и расскажите об этом людям.
Я поняла, насколько люди глупы и раболепны. Пьянка длилась до рассвета, и из соседних домов в знак возмущения даже стреляли в воздух; тогда Эрмес, испытывая счастье от того, что ненависть наконец проявилась, слезал со своего импровизированного трона и забирался на стены жертвенника, пристально вглядываясь в притворяющуюся спящей деревню и в старух, которые в этот час проходили мимо с требниками в руках.
Он обращался к ним, вопя во весь голос:
— Я проклинаю ваши обряды! — И отдавал приказ музыкантам из Корте Булгарина:
— Сначала и громче!
И снова звучал хор Фариоки, который рассказывал Султанам, Королям и особенно Королевам, как и когда на земле По Озел меняет имя в зависимости от того, кому принадлежит. Так, возчики из Арджинотто ласково называют его осью или кожаным шкворнем; лодочники из Барбамарко шутливо прозвали толстяком или щекотунчиком; контрабандисты из Мирасоле наградили загадочными прозвищами — акула или красный семинарист; сборщики песка из Вилластрады дали грозные имена — чума или беда; рыбаки из Ариано говорят просто — Био.
За бурной концовкой, в которой все имена сливались в залп из одного орудия, кулеврины или пушки, следовал пронзительный финальный аккорд, и Эрмес Микелотти призывал этот символ революции поднять восстание в долине По.
После чего он отправлялся спать. И часто говорил мне: приходи наверх.
Но однажды ночью явился комиссар полиции Сквери:
— Я пришел спеть вместе с тобой и принес несколько бутылок вина.
— Твоего вина мне не нужно, — ответил Микелотти.
— В таком случае, — сказал Сквери, — возьми вот это. И показал ему постановление об аресте за непристойные действия.
Такой арест был непростым делом даже для комиссара, задушившего Красную Неделю и отличившегося вынесением двух смертных приговоров, за что он и получил от Короля две медали. Микелотти укрылся в сарае для лодок. А когда его везли через деревню, закричал:
— Ваши души отвратительнее, чем разложившаяся падаль, а сами вы импотенты, хуже, чем Чино.
Так звали одного барышника из Монтеджаны. Потом он язвительно обратился к Сквери:
— Меня предали правительственные Христосики, в которых верит Каматта. Те же, в кого верит Король Витторио.
— Они самые, — согласился Сквери.
— Для них шутка — хуже преступления.
Сквери не стал спорить и с этим.
Я рассказывала Изи и об Аде Борди, представительнице одной из лучших семей в Мантуе, проводившей лето в огромном поместье в Саббионете, с которой мы дружили, пока она не предалась жизни, достойной ее и ее семьи.
У Борди тоже были улицы, названные их именем, и воздвигнутые в честь героических представителей этого рода памятники, около которых в дни национальных праздников играл духовой оркестр. Отсюда еще одна фанаберия Италии того времени: кто мог гордиться генералом, мог гордиться и легендой о нем. Вооружившись ею, Борди решили подменить собой государственные власти и приказали расстрелять у стены в Серравалле двух подозреваемых в измене Родине; на самом деле это были два несговорчивых и задиристых пастуха. В знак презрения к произволу они пали в окружении своих свиней с криком: да здравствует Италия!
Было непонятно, почему Ада, которой было лет двадцать, появлялась в тополевых рощах Арджинотто разодетая, как на бал в одном из своих дворцов, уходила в густую сеть высохших русел и мы, бывало, видели ее на причалах. Те, у кого было богатое воображение, предполагали: а может быть, она уже умерла, и это бродит ее кающаяся душа? В конюшнях Борди держали сто лошадей и карет, о которых Ада, когда мы подружились, рассказывала мне: украшения на них были из кованого серебра, занавески вышитые, а потолки зеркальные. Это исторические кареты, смеялась она, потому что в той, что с леопардами, ее отец прятался со своими знаменитыми любовницами, а в той, что с лилиями, Дон Карлос подхватил лихорадку, принесенную трамонтаной.
Я не знала, кто такой Дон Карлос, но ее отец, который переправлялся через По, гордо стоя во весь рост на носу украшенного флагами баркаса, чтобы торжественно открыть регату в Бокка ди Ганда, был необычайно красивым мужчиной.
Об Аде ходило очень много слухов, но то, что она вела себя весьма странно в Арджинотто, Форте Урбано и Бертелли, было правдой; я сама видела ее там много раз, задавая себе вопрос: какая могла быть связь между Порта Империале и этими болотистыми берегами?
— Я ищу одного человека. Он обязательно придет, — сказала она мне однажды.
Помню, на ней был фиолетовый пояс с застежкой в форме красного паруса под луной, похожей на турецкую печать. Я просто влюбилась в этот пояс и во многие другие ее вещи, но ни разу ничего не попросила, чтобы она не унизила меня подарком.
До самого конца она скрывала причину своего беспокойства. Либо она пришпоривала лошадь и уносилась прочь, крича мне: мы вас всех посадим на кол на сваях Горго, которое называли еще голодным болотом и где попадавшаяся в сети рыба была еще более больной, чем люди, которые ее ловили; либо, не говоря ни слова, увлекала меня то на старую верфь, где валялись брошенные корабельными мастерами детали так никогда и не построенных кораблей, то в барак, где не было ничего, кроме пыли и дохлых крыс, то под огромное дерево, в дупле которого легко мог спрятаться человек.
Она часами ждала, что ее найдет тот, кого она искала. Она приходила в возбуждение от любого случайно оставленного клочка бумаги: бережно разглаживала и вычитывала из него даже то, чего там не было. Как правило, это были старые, вышедшие несколькими месяцами раньше газеты, а один раз — прощальное письмо, адресованное не ей.
Единственным, в чем был какой-то смысл, оказался случай, когда она заставила меня всю ночь простоять на мосту через высохший канал в Альцайе Мирасоле, и со стороны Форте Басси появилось судно, с которого, когда Ада взмахнула рукой, мигнули фонарем. Четыре раза сверкнул фонарь, и четыре раза Ада отвечала взмахом руки, потом судно развернулось и ушло вверх по реке.
В конце концов она привела меня в плавучий домик на Теодольде, заявив: это будет твой весенний грех. Она познакомила меня с мужчиной лет тридцати по имени Этторе, и несколько месяцев мы прожили втроем. Он был мелким контрабандистом, из тех, что тайно перевозили товар и разного рода подозрительных типов в По делла Пила, откуда те отправлялись за границу, но, несмотря на такого рода деятельность, Этторе продолжал оставаться мечтателем и даже вырастил вокруг столетнего тополя живую изгородь из похожих на шпили люпинов, так что отражение тополя в воде напоминало церковь.
Глядя на него, он говорил:
— Это мой Миланский собор.
Когда мы не занимались любовью, то часами гуляли, обнаруживая немало интересного, как, например, развалины языческого храма, где из трещин росли огромные фиалки. Этторе показал нам большую отмель с добела выгоревшим на солнце песком и большим камнем, который оплетали узловатые корни: все вместе было похоже на привал всадников.
— Там спрятаны сокровища короля Фридриха!
Этторе был такой же, как и сама Теодольда, в нем была какая-то эксцентричность, которая мне всегда нравилась в мужчинах, потому что вся суть жизни состоит именно в том, чтобы быть слегка чокнутым; и эти неожиданные приступы меланхолии, заставлявшие забывать о его мошеннических проделках, и татуировка под сердцем — черная чайка, символ несчастной судьбы — и, как мне было известно, стычки с пограничной стражей. Каждую пятницу он отвязывал лодку, которая называлась «Местер», гладил меня по голове, произнося только одно слово: «Дзелия», а на Аду он при этом даже не смотрел, и говорил: ветер сегодня попутный, ведите себя хорошо, пока меня не будет. Она думала, что он отправляется на рыбалку в Бокка ди Ганда, потому что голова у нее была устроена, как у всех этих господ, которые не предполагают, что чужие судьбы влияют на их собственную, и считают, что жизнью можно управлять, как кораблем, но в конечном счете обнаруживается, что корабль этот — корабль Финиты.
Этторе спускался к пристани по самой длинной тропинке, словно хотел протянуть время, и в темноте только я видела, как он натягивает куртку и поднимает воротник, чтобы защититься от пронизывающего холода и страха перед тем, что его ожидало, тогда как перед Адой Борди он, как и подобает настоящему разбойнику, стоял в распахнутой на груди рубахе, даже если шел мокрый снег. Наконец-то он мог свободно шагать уставшими ногами по грязи, не заботясь о том, чтобы его походка выглядела непринужденной, и сутулиться, как человек, на плечах у которого груз двадцати лет туманов, окутывающих отмели, двадцати лет ледяных огней, которые появляются всегда in extremis, чтобы спасти тебя от водоотводов на спасательных лодках, но ты, один в ночном тумане, кричишь так, что срываешь голос. Он заботился о том, чтобы мы не раскрыли его истинную сущность, но мне это удалось, и я была рада.
Когда без носового фонаря невозможно было разглядеть друг друга на расстоянии метра, он удалялся, напевая, и в молчании реки лодки и паромы могли слышать его издалека и так избежать столкновения.
А Ада говорила:
— Приятно слушать Этторе, когда он счастлив. И мне хорошо от того, что ему хорошо со мной. Значит, я постепенно учусь общаться с людьми, это единственное, чего мне не хватало.
Я молчала и ясными вечерами выходила посидеть на пристани. Мне были прекрасно известны и опасность, и каждый метр По Тобре (Тобре значит — крапленая карта), который Этторе предстояло пройти, и я внимательно всматривалась туда, где река голосами птиц — серых славок пела песню, возвещающую об опасности.
Ада подходила ко мне в недоумении.
— Я смотрю, нет ли серых славок, — объясняла я.
— А если и есть, то что тут такого?
— Значит, луна расширяет водовороты и река начинает бушевать.
— Эго все ваши выдумки. Именно из-за них вам является Мадонна.
— Нет, — отвечала я. — Это всего лишь способ, которым мы, водные создания, помогаем друг другу, он называется «Pietà dla Sluma?»
Ада с сожалением качала головой.
— Странные вы люди. Почему вы все всегда называете по-другому?
Я пристально смотрела на нее, и мне, в свою очередь, было ее жаль:
— Потому что нам не нравятся имена, которые даете вы на своем лживом языке. И потому что так нам кажется, что мы снова становимся хозяевами вещей, и даже если вы их у нас украдете, от нас останется след.
Изи меня упрекала: обращайся с Этторе, как с любым другим, не привязывайся к нему. Но я постоянно о нем думала, правда, без тех безумных чувств, в существование которых никогда не верила.
В последующие годы я часто возвращалась в Тедольду, зная, что в плавучем домике уже никто не живет; я внушала себе, что в дверном проеме вот-вот сверкнут лукавые глаза Этторе, спрашивающие меня о той хитрости безумцев, составлявшей нашу единственную силу, как тогда, когда мы были в стае или отбивались от нее; о способности смеяться и чувствовать себя жестокими за спиной всех тех, кто, как Ада, считал нас неспособными на этот молчаливый сговор. Чтобы обладать, она должна была торговать своим телом, при этом веря, что покупает тело другого. И я наконец поняла, что она не скрывала никакой тайны, никого не искала и в своей гордыне была весьма далека от того, чтобы позволить найти себя. Это было обычным заблуждением породы людей, живущих на земле старых русел и чахлого кустарника, породы Изи и Риччи, и всех тех, кого я узнала. Действительно, у урожденного Изи или Борди, или Риччи, никогда не бывает необычайных взлетов фантазии, для этого надо самому создавать свою жизнь, надо быть обнаженным и одиноким и уметь, отбросив страх, говорить правду о своем противнике.
Иначе все это просто чудачества и капризы.
Я ходила по плавучему домику, думая, что, как бы там ни было, в те дни, что я провела с Этторе и Адой, деликатность впервые доставила мне физическое удовольствие; и дружба между нами заключалась в том, что у всех были одни и те же желания, начиная от нетерпения, с которым мы вставали утром, чтобы увидеть, как Этторе отплывает на «Местере» с зажженными огнями.
Потом Ада испортилась. Я помню тот вечер, когда, возвращаясь домой, я поняла, что то, что было между нами, кончилось, поняла по тому, как она держалась в отдалении на верху плотины, а за ее спиной высился столб с каменным орлом, обозначающий старую границу между государствами, словно это каким-то образом обозначало ее власть над реальностью, и то, что она останется земным созданием, не доверяющим этим водам, которые простирались у ее ног и над которыми проносились стаи слишком грязных чаек.
Любопытство, которое она проявляла ко мне, внезапно пропало. Когда я поднималась на плотину, у меня возникло ощущение, что она смотрит на меня, как смотрят на бродячую собаку, голодную и грязную, как чайки, и просто меня не замечает. Тогда я остановилась на середине подъема, решив, что пусть она остается надо мной. Я ухожу, сказала я, хотела попрощаться. А она меня спросила: как ты догадалась? Не отвечая, я предупредила, что пойду попрощаюсь и с Этторе.
Мне не пришлось его искать.
Передо мной стоял не просто нарядившийся бандит, а настоящий Тарокко; модных брюк, шляпы с ленточкой, запонок в манжетах, щегольского пиджака, перекинутого через руку пальто из тонкого сукна недостаточно, чтобы выглядеть, как Тарокко, — бандит должен смеяться над собой. Сама поза Этторе — а стоял он, прислонившись к двери плавучего домика и скрестив ноги, — говорила, что эта насмешка существует. Он снял правую перчатку, чтобы подать мне руку, и на нашем языке без слов дал понять, что человеческую природу не изменишь, что Ада Борди ему платит, и он, может быть, перестанет ездить в По делла Пила.
Он заблуждался. Потому что для Ады он значил столько же, сколько белая ива значит для Прорицателя, который показывает на ней людям Райские Врата и святых рыцарей; иными словами, привлекает ее жалкая оболочка; и чем в большей степени она остается ивой, тем лучше.
Я спросила, для кого он нарядился Тарокко.
— Для тебя, — ответил он. — Потому что, если ты не против, сегодня вечером я приглашаю тебя на ужин в «Черный Стол».
И я согласилась.
Мы пошли в это местечко, которое на самом деле называлось — траттория Маттиони, но, поскольку оно находилось за кладбищем Форте Урбано, родственники усопших устраивали в нем поминки; постепенно туда начали приходить и те, кто был в трауре, и те, у которых просто случилось какое-то горе, так что теперь траттория Маттиони зарабатывала кучу денег на том, что с гордостью рекламировала как блюда от горя.
Это было самое популярное и самое веселое заведение на всей равнине Боргофорте.
Мы с Этторе просидели за столом допоздна, и перестали есть только тогда, когда больше ничего не лезло в горло, потому что Ада смотрела на нас, сидя в одиночестве за соседним столом, и я знала, что она про себя говорит: что за люди, едят и смеются над собственными похоронами.
И о других рассказала я Изи. И о том, что я назвала временем злобы.
О тех, кто прятался на виллах и в загородных поместьях, ожидая конца света и расставив вдоль границ своих владений лодочников, вооруженных ружьями. Кто превращал свои последние балы в процессы над человечеством, где музыканты, которых мы видели бродящими от деревни к деревне, со все более грустным видом молча сидели в сторонке. Кто, наконец, подобно Энрико Челли, посреднику из Бастии, взбирался на башню Сан Джакомо. Хотя поднять на бунт толпу крестьян пытались многие, сделать что-то конкретное удалось только ему. Не благодаря идеям, которых у него не было, чем он весьма гордился, а благодаря его солидности и отсутствию предрассудков.
В первую очередь он обратился с призывом к женщинам, которые его даже не слушали, а просто восхищались его гордо посаженной головой с волнистыми светлыми волосами и жестом, которым он потребовал тишины. А потом и мужчины не смогли устоять перед очарованием его величественной фигуры, так же неподвластной времени, как его ничем не омраченное чело было неподвластно мыслям. Я объясняла Изи, что он завоевывал доверие пастухов и тех, кто разводил молочный скот, вызывая в них такие же переживания, которые они испытывали, когда у них в хлеву рождалось совершенное животное, отмеченное роковым знаком.
Он тщательно разрабатывал свое появление на зубчатой верхушке Сан Джакомо, зная, с каким важным и таинственным видом жрецы и короли предстают перед народом, устремляя взор куда-то вдаль; а те, кто внизу, говорят: кто знает, может, они видят то, что от нас сокрыто, хотя на самом деле ничего такого они не видят: их сила, как и сила Челли, заключается просто в умении выбрать место повыше.
— От Мезолы до Монвизо, — заявлял он, — я выведу вас из хлевов, свинарников и ваших домов, которые отличаются от свинарников только тем, что больше по размеру; я выведу вас, ибо я этого хочу. Я мог бы привести вам, как это делают другие, десятки причин, оправдывающих мою жажду власти, но не буду. И в этом доказательство моей искренности.
Все это были совершенно пустые слова, тем не менее они приводили в восторг крестьян, разуверившихся во всех богах, запутавшихся в идеалах или неспособных понять какую-либо идею и, таким образом, овладеть ею.
Челли надеялся, что его голос дойдет до болотистых заводей и пойменных участков реки, где страдали от болезней самые смиренные, до фронтов, на которых смерть косила не господ, а слуг, и не было для них другой купели, кроме земли, которую они испокон веков обрабатывали для тех, кого он называл генералами бойни:
— Куда, если не на скотные рынки слуг, бежит каждый день тот, кого называют Био ди Гьяре — деревенский посыльный, который разносит весть о погибших в окопах, нажимая на педали своего велосипеда с таким же удовольствием, с каким приходский священник из Бертеди, всем известный человеконенавистник, нажимает на басы своего органа?
И вот Челли спустился с башни, сел на коня и во главе колонны мужчин и женщин отправился в путь вдоль каналов Монтеджаны, и повсюду его встречали криками: а вот и колонна Челли! Эта толпа была вооружена ружьями, вилами и кнутами, которыми их веками хлестали хозяева, и факелами, и распевала песню в честь Челли Освободителя. Они стучались в двери, окружали причалы, во весь голос выкрикивая радостную весть, и, стиснув зубы, упорно шли вперед по песчаным равнинам, стремясь настичь неведомое, а в качестве оправдания говорили: мы, в сущности, не более сумасшедшие, чем все остальные.
К знамени Командующего присоединилось все, что казалось символом: знамена святых, пестрые занавесы бродячих цирков, орлы, изобретенные тиранами, а также карты Священного Писания с изображением лабиринтов Рая и Ада, которые помогали сориентироваться и не сбиться с пути.
Изи была недовольна: о Челли я хочу знать совсем другое, он ненормальный и, значит, ценен своими скрытыми пороками, а не явным безумием.
Я все еще не понимала. Как и в случае с Доном Мазетти, лишенным сана священником, который устроил скандал в Епископстве Реджо, было странно, что он нравится Изи. Она спрашивала меня: и что же дальше? Я отвечала: он клянется, что прекратит военные действия, и поэтому воздвиг с помощью лодочников из Бокка ди Ганда каменный алтарь в виде пирамиды и молится на его вершине. А еще что? — не отставала Изи.
Ничего, уверяла я, а это что, не странно? И это было действительно странно, ведь в это время дождь неделями хлестал по деревьям, ломая ветки, крыши домов проваливались под его напором, а груды мертвых чаек разлагались в оросительных каналах Корте Булгарина, мешая кораблям выходить в открытое море. Но Дон Мазетти не спускался с пирамиды и, хотя его молитва не оказывала никакого влияния вообще ни на что, не говоря уж о военных действиях, она была исполнена того покоя, который царит на земле цветущего миндаля и городов с воротами из чистого золота — я видела их потом в таинственных краях, где мне довелось побывать.
Это тебе этого достаточно, возмущалась Изи, потому что ты уже утратила чувство стыда. О том, что тайно движет миром и изменяет его, она и слушать не желала — ее интересовали только мелкие или крупные преступления, которые делают человеческую душу уязвимой.
И тогда я убедилась, что она пользовалась мной и моими рассказами для того, чтобы шантажировать мужчин и женщин.
Я спросила ее: итак, это правда?
А Изи мне ответила: если и правда, то не тебе меня судить.
Меня охватило какое-то странное спокойствие: хорошо, притворилась я, вы правы. И, повысив голос, с небрежным видом, чтобы скрыть, что я собираюсь сделать, продолжила: вы увидите, сколько у меня для вас замечательных историй, одна другой удивительнее.
Поняв, что я передвигаю вещи, она без тени подозрения спросила: что ты делаешь?
Порядок навожу, ответила я.
Она сказала: я тебе благодарна. Я знаю, что служанки воруют и не заботятся обо мне; что бы я без тебя делала? Мы всегда будем вместе?
Всегда, успокоила я ее.
Потом я закрыла и жалюзи, и внутренние ставни. В комнату больше не проникало ни одного луча света. Я поставила зеркало перед окном, развернув отражающей поверхностью к креслу Изи. Последнее, что я увидела, были ее ноги, голые и неподвижные, в желтых тапочках.
Я заперла дверь, осторожно повернув ключ, который потом выбросила в канаву; уходя, я думала о том, что, когда в комнате стало темно, я сама почувствовала, что задыхаюсь, и на миг испытала страх. Итак, завтра Изи не увидит ни солнца, ни тополя, и будет ждать, думая, что ночь оказалась длиннее, чем она предполагала, и иллюзии и надежды усилят это ожидание, и оно продлится дольше, чем длится век человеческий.
Но на первом понтоне в Коломбаре я оглянулась и обнаружила, что во всех окнах по фасаду палаццо горят хорошо знакомые мне старые светильники, отчего дворец казался неким царством, населенным немыми, однако способными выжить, что бы ни происходило и в какую бы страшную бездну ни рушились столетия. Я бы закричала, если бы уже не научилась понимать причину того, что происходит.
V
Много дней она шла на восток и наконец увидела палатки дезертиров на плато Маркезана: освещенные изнутри лампами, отливающие белизной и золотом в лучах заходящего солнца, они казались сказочными дворцами.
Она подошла к ним в самом начале ночи, неся с собой веселье голода.
Никто не спал. Они сидели, нахохлившись, охваченные досадой, и чутко реагировали на исходящую от теней угрозу. Кто-то хватался за ружье, услышав плеск воды у створок шлюзов или дыхание песка на границах. Кто-то исчезал в глубокой тьме с белым флагом в руках. Они никого не ждали, уверенные, что мир никогда не сможет их настичь. Днем они спали, распространяя животный запах, от которого перехватывало горло.
На плацу — бутыли с вином и продукты. Столб с вывеской: «Полк „Ничто“». Прибывали всадники и объявляли по бумаге:
— Обвиняются в дезертирстве!
Присутствие Дзелии заставило их воспрянуть духом.
Они организовали футбольный турнир, сходили в Борго Санти и вернулись, ведя на поводу мулов, нагруженных свежим хлебом; офицеры снова начали отдавать приказы. Некоторые призывники были из области Венето, все, как один, ростом были не меньше метра восьмидесяти: Дзелия любила смотреть, как они стоят в строю, пока военный капельмейстер дирижирует импровизированным духовым оркестром, музыканты которого бродили по естественным эскарпам, тщетно пытаясь найти в засыпавшем их песке какую-нибудь причину для исполнения маршей, которые в окружающей пустоте в конце концов начинали звучать печально. Погруженные в солнце, лишенные теней, они, казалось, обращаются к стаям грачей, застывших в неподвижности на стерне.
У всех прибывающих в лагерь снимали с погон звездочки.
Однажды вечером одновременно зажглись все лампы и появился полковой священник в рясе, которая была ему заметно велика. Он остановился на плацу и, глядя себе под ноги, ждал, пока ему вынесут приговор: подбородок ему оторвало гранатой и целлулоидный воротничок закрывал половину лица. Один из дезертиров вышел из строя, взял его за руку и опустился перед ним на колени. Они застыли в молчании, ибо ни молитв, ни слов у них больше не было. Все, наблюдавшие эту залитую возвещающим катастрофу светом луны сцену, затаили дыхание.
Потом появился француз по прозвищу Ханси, который, прощаясь, говорил: ревуа. И еще один, в парадной форме, по прозвищу Пруссак.
Лошади без всадников галопом проносились через лагерь и исчезали в дюнах. Однажды пришли какие-то дозорные, которые, казалось, возвращались с поля битвы: солдаты опирались на ружья и палки и еле двигались, сгибаясь под тяжестью снаряжения, а лица у них были того же цвета, что и шинели. В последующие дни они, не обращая внимания на то, что все смотрели на них с ненавистью, держались так, словно все еще находились в окопах. Они пели: наша ненависть к тебе безгранична — и мы от нее не отречемся — ни на земле, ни в море — мы ненавидим сердцем — мы ненавидим руками — наша ненависть неудержима и непобедима — это ненависть дезертиров.
Дзелия слушала, не понимая, к кому они обращаются.
Они принесли несколько ящиков украденных где-то медалей, серебряных и бронзовых, и вручали их друг другу, смеясь, или, наоборот, торжественно, с подъемом знамени. Потом они начали торговать ими в ближайших деревнях, что их и погубило.
Дзелия ходила умываться вместе с дезертирами. За обломками скал, похожими на выбросившихся на отмель китов, скрывались хрустальные старые русла, и там они раздевались донага и погружались в воду. Река вдохновляла на безумства, и местные девушки с завистью наблюдали за ними с защитных кольцевых дамб, но подойти не отваживались. Звучала музыка, и Ханси своим прекрасным голосом пел гимн любви.
Лаская тела, которые, освободившись от военной формы, теряли свой варварский облик, она замечала, что вдыхает жизнь в чистый язык дружбы, и вспоминала о некрополях из рассказов Фламандца, об изображенных там сценах пиров, на которых мужчины выглядели застывшими в неподвижности леопардами, а женщины воплощали неуверенность в собственной судьбе. Как некрополь, лагерь дезертиров уходил от трагедии мира в добровольное изгнание.
Прежде чем покинуть старые русла, они пережидали, пока конный патруль карабинеров, который каждый вечер совершал обход, притворяясь, что не замечает их, не исчезнет вдали в лучах заката. Во главе колонны, отделившись от спутников, с видом строптивого быка скакал капитан, и на всем участке покрытого галькой берега держал правую руку поднятой, словно священнослужитель, предостерегающий грешников. На многих дезертиров его белая перчатка, ослепительно сияющая в лучах заходящего солнца, действовала завораживающе. Некоторые пытались бежать, чтобы укрыться от этого грозного благословения, но товарищи их не пускали.
Самым важным событием стало прибытие того, кого впоследствии прозвали Человечным Полковником. Чрезвычайно элегантный, в наброшенной на плечи шинели и до блеска начищенных сапогах, он, едва сойдя с лошади, принялся отдавать приказания, в которых можно было обнаружить какой угодно смысл, кроме военного, и произносить апокалиптические фразы вроде того, что солнце устало сиять, и Вселенная погрузится во мрак. Разум его был ошеломлен — как говорили — тем, что он слишком долго слышал только звук канонад и перестрелок. Иногда он целыми днями просиживал на вынесенном на плац стуле, погрузившись в сон; а иногда взбирался на самую высшую точку Маркезаны и оттуда обращался с пламенными воззваниями к несуществующему войску или к какому-нибудь растерянному дезертиру, или чаще всего к Дзелии, которая, усевшись прямо на песок между дюнами, изображала публику, чтобы он чувствовал себя не таким сумасшедшим и не таким одиноким.
— Tabula rasa нашего прошлого! — кричал он. — Да здравствует несознательное общество! Война войне!
Хотя перед ним не было никого, кроме девчонки и туч комаров, он отдавал приказы стрелять и сообщал траекторию невидимому командиру расчета. При каждом известии о победе он повторял: прекратить огонь; а в знак траура уединялся на высоте, отказываясь от пищи. Одну из амбразур он превратил в обсерваторию, в которой была даже подзорная труба, хотя для наблюдений только и было, что пустыня и чайки на горизонте. Потом он разражался рыданиями.
После последнего сражения под Изонцо, подробности которого доходили постепенно, преувеличенные сказочными голосами сухого русла, полковник появился с ручной гранатой, прижатой к груди; видели, как он ушел в мрачную желтизну округлых обломков горных пород, чтобы к вечеру вернуться, по-прежнему сжимая в лихорадочно дрожащих пальцах гранату на боевом взводе. Он уединился в своей палатке, и один из лейтенантов ввел Дзелию.
— Встаньте на колени, — приказал ей полковник.
Опустившись к его ногам, Дзелия обнаружила, что голова полковника, там, где ее не прикрывала каска, была вся в шрамах. Он долго молчал, а потом произнес:
— Пожалуйста, снимите с меня сапоги.
Он смотрел на нее пристально, но неуверенно, и было ясно, что его раздирает внутренняя борьба. То, ради чего Дзелию привели к нему в палатку, и ее красота представлялись его мятущейся душе равновеликими.
Потом он крикнул:
— Принесите ружье!
Он сжал ложе руками и оперся подбородком на дуло. Он надеялся, что принять решение будет не так трудно, но оказалось, что он по-прежнему размышляет о зыбкости границы между смертью и жизнью. В окошечко они увидели, что закат исчезает и в небе появляется луна. Иногда из тех миров, в которые он уходил, полковник благодарно улыбался ей за то, что она так терпеливо ждет его знака. Наконец, он вспомнил о том дне, когда познакомился с женщиной, может быть, со своей женой или просто какой-то женщиной, и пространство между ними, каким бы огромным оно ему сейчас ни казалось, отступило перед движением руки, которая тянулась навстречу другой руке, как знак желания завязать дружбу. Прежде чем опустить руку, он что-то невнятно пробормотал; Дзелия инстинктивно сделала шаг вперед, приняв это за приглашение, которого она ждала; между тем палец скользнул по спусковому крючку, подобно тому, как скользит палец по клавише рояля, чтобы извлечь протяжный, ленивый звук, и голова вместе с каской взлетела к потолку.
Мысль о памятнике пришла в голову Ханси.
Дезертиры приняли массовое участие в его создании, а сам он под палящим солнцем руководил работой, используя Дзелию в качестве натурщицы. Наконец, когда сняли леса, она увидела себя в виде высеченной из камня фигуры, которая должна была символизировать Родину, но от этого образа в ней не было ровным счетом ничего: голова статуи поражала естественностью, тело — отсутствием какой бы то ни было величественности, и вся в целом она дышала грацией, которая принадлежала не Истории с большой буквы, а повседневной реальности. К празднику открытия памятника военный капельмейстер сочинил вальс.
Монумент сразу же осадили чайки, прилетавшие подремать на нем в знойные дни, потом его засыпало снегом, который, казалось, обладал способностью изменять расстояние между предметами.
Однажды утром Дзелия увидела лошадей, яростно грызущих удила, горящие понтонные мосты и карабинеров на плато.
— Да здравствует несознательное общество! — закричал Пруссак. Его убили первым. Военный капельмейстер пустил себе пулю в лоб и рухнул на груду музыкальных инструментов. Лагерь быстро превратился в беспорядочное нагромождение горящих палаток, и расстрелы прекратились только под утро.
Ханси преградил дорогу трем конным офицерам.
— Почему вы ждали так долго? — спросил он.
— Потому что, — ответил капитан, тот самый, который всегда скакал с поднятой рукой, — теперь мы точно знаем, что победили.
Из-за национальности и внешности, резко выделявшей его из других дезертиров, Ханси расстреляли не сразу. Когда карательный взвод отдыхал, он, сидя рядом с Дзелией, наслаждался этим мгновением покоя, и вдыхал ветер с Дельты, который осыпал трупы пыльцой болотной корицы.
Они колебались до последнего момента, потом приказали:
— Выходи.
— Ревуа, — сказал ей Ханси.
Дзелия осталась в лагере; на следующий день они вернутся, чтобы похоронить мертвых. В воздухе распространялся запах гниющих листьев, и мародеры уже приступили к своей работе. Еще не раз жизнь проведет ее через лагеря уничтожения, но сейчас это было впервые, и то, что она выжила, показалось ей каким-то абсурдом. Потом она ушла, оставив за плечами почерневшую от дыма пожарищ статую: у нее отбили голову, всю исковеркали ударами кирки и водрузили над ней трехцветное знамя.
Она возвращалась на земли Парменио.
Гигантских размеров нос, белый в красный горошек, поднялся над плотинами Помпонеско. Не видно было ни веревок, ни лебедок. Плывя над горизонтом, он повернул в сторону луны, и она приняла его за корабль; на самом деле это был «Большой Нос», который тащил свой монгольфьер над деревнями.
Глубокое молчание высохшего русла реки сменилось музыкой. Дзелия спросила, что это.
— Семирамида, — весело прошептала ей какая-то тень.
Ее охватила необъяснимая радость, когда на широкой естественной лестнице появился оркестр; чем ближе, тем многочисленнее казался он ей, и тем страннее выглядели инструменты. «Большой Нос» скрылся в направлении Кароббио, и в ясной ночи его проводили аплодисменты невидимых зрителей.
— Это карнавал Прорицателей! — восклицали люди, обнимая Дзелию и тут же исчезая.
Она очутилась на равнине, заполненной самыми разнообразными типами. Палатки и павильоны образовывали отдельные островки праздника, никак не связанные друг с другом; это были муравейники, охваченные иллюзией вечной жизни. Скитальцы и Колдуны украсили флагами нечто вроде допотопного скелета. Повсюду горели костры. В неописуемой суматохе один из Распорядителей Праздника тщетно пытался привлечь внимание зрителей к персонажам в масках, которые по очереди выходили на дорожку и, представившись, с поклоном удалялись. Первый заявил, что он Рокамболь — благородный грабитель. Второй, Бертольдо, символизировал житейскую хитрость, третий, Робинзон, — одиночество, и четвертый, Распутин, — священнослужителей. Потом маски вышли все вместе и прочли смешные отрывки из того, что было объявлено как «Книга бродяг».
Затем прозвучали серенады Котов и дикие пляски с их подопечными.
Переходя из одного праздничного мира в другой, она обратила внимание, что ничему уже не удивляется. На огороженной площадке представляли персонажей, умерших столетия тому назад и воскресших специально ради этой ночи — Сантальти, Дивели и Скромных Нищих, которые появлялись между палатками, вызывая молчаливое изумление публики. Они участвовали в праздновании Мистерий, и в небе, с помощью оптического колдовства открывались взору скрытые покровом, далекие, в белых туниках, звездные сферы. Эти пришельцы из глубины веков также утверждали, что способны вернуть человеческому разуму такие не утраченные, но остававшиеся без применения способности, как память о прежних жизнях и дар предвидения; желающих увидеть звезды, движущиеся со скоростью сто тысяч километров в секунду, приглашали взглянуть в телескоп. Дзелия так и сделала, чтобы убедить всех присутствующих, что никакого обмана нет, и полюбовалась звездами, которые гнались друг за другом, как чистокровные скакуны.
В качестве поощрения ей сказали:
— Повернись.
Какая-то фигура в красной тунике поднималась из оврага, заросшего по краям тополями, и она сразу же почувствовала к ней доверие, хотя, чем ближе та подходила, тем расплывчатее становилась — мешали отблески огней в стоячей воде; Дзелия видела ее, как через мутное стекло, из-за чего красный цвет туники казался тусклым. В руках фигура держала выкрашенную серебряной краской урну, от которой исходил аромат святости.
— Это прах Парменио.
Она не спросила себя, как этот человек, если это был человек, мог знать о ней и о Парменио; она принялась плакать от счастья о том единственном, кого она ощущала своим отцом, о том, к кому она обращалась мыслью в моменты полного одиночества, и кто сейчас возвращался к ней с выходящей за пределы реальности конкретностью.
— Там, где Парменио находится, он творит чудеса! — воскликнула фигура.
— Кто ты? — спросила Дзелия.
— Карнавал! — и фигура исчезла, оставив урну у ее ног. Дзелия подняла ее и отправилась дальше, и ей казалось, что она видит, как Парменио сидит и курит на фоне заходящего солнца, в час, который он называл волшебством зерна, и его вечность — всего лишь обыкновенный и спокойный эпизод существования.
Когда она появилась на бале-маскараде Прорицательниц, в руках у нее ничего не было. Начиналось представление под названием «Тысяча китайских удовольствий» с участием настоящих китайцев, приехавших посадить caplass, то есть цветы лотоса, в Вилластраде и других богатых районах; сейчас они зазывали в свои палатки, которые называли Высшим Средоточием Гармонии. В одну из них очередь была особенно длинная. Дзелия тоже вошла: посередине, прямо под лампой, стояло задрапированное красным бархатом кресло. В него уселась одна из Прорицательниц, которая предсказала потепление климата на всей Земле, таяние полярных льдов и повышение уровня океанов; практически речь шла о последних днях человечества. Их, предупредила Прорицательница, следовало прожить без страха перед адом. Она заявила, что готова назвать дату конца света. Но потребовала, чтобы все встали и обнажили головы.
Дзелия ушла, расстроенная. И сразу же увертюра к «Семирамиде» вновь окутала ее, словно облако, и ей показалось, что из этого облака выходит какой-то великан.
— Ты узнаешь меня? — спросил он.
Она сказала, что никогда его не видела.
— Я Атос, — он был явно удивлен. — Знаменитый Атос Лунарди!
И он исчез между дорожками, на которых танцевали вальс, там, где были арены для Забав, залитые благодаря автономным электрогенераторам в форме драконов ярким белым светом. На стоянках кучера в ожидании хозяев спали или притворялись спящими; отстранившись от всего, они отказывались смотреть и слушать. Ведь в павильонах продавали себя такие же люди, как и они: установленное Управлением полиции и ханжеством священников правило, по которому нужно было молча умирать от голода, на время праздника сменилось на свою гротескную противоположность; иными словами, Власть давала людям свое согласие, если не прямой приказ, на то, чтобы они ели, пока не свалятся замертво, пели, пока не лопнут легкие, мерялись силой в кулачных поединках и фаллических состязаниях.
Забавы, в силу отсутствия светского и религиозного контроля над ними, пользовались определенными привилегиями: карабинеры не вмешивались, церковные власти не предавали их анафеме.
Господа приезжали из своих поместий и городских особняков, чтобы оплатить организацию состязаний и тотализатора, и требовали, чтобы игра велась абсолютно честно. Типы, похожие на фокусников, принимали неизменно высокие ставки и выплачивали выигрыш. Едоки сидели за столами, уставленными горами тарелок и бутылок, прямо перед глазами заполнявшей партер элегантной публики; на сделанных после победы фотографиях на фоне лежащих прямо на земле проигравших, которым тут же оказывали помощь, улыбались, показывая испорченные зубы, победители с погасшими глазами. Певцы выстраивались в ряд на эстраде и начинали с романсов; затем, по сигналу зазывалы, брали все более и более высокие, уходящие в небеса, ноты; павильон дрожал от грома этого уникального хора, который постепенно терял голоса, как дерево теряет листву, пока в конце концов не оставалась только звенящая нота победителя.
Снаружи наготове стояла «скорая помощь». Рассказывали, что непобедимый Писсери навсегда ушел в райские певческие сады в один из дней Феррагосто, повергнув в ужас всех присутствующих тем, что дыхание продолжало выходить у него из легких даже тогда, когда смерть была неопровержимо установлена.
Обстановка на площадках для фаллических состязаний напоминала дом терпимости. Одетые в доспехи мастера непристойных поз выходили к зрителям под восторженные крики тренеров, секундантов и рабынь; они преклоняли колена перед обтесанным и украшенным смоляными факелами стволом тополя, который символизировал божество, и замирали в этой позе, пока объявлялись испытания. Они состояли в раскалывании орехов, поднимании груза, дуэли и жонглировании.
Мужчины и женщины, охваченные возбуждением, заключали пари, не смущаясь неизбежностью отвратительных или жестоких сцен. С каждым выступлением аромат масел постепенно улетучивался, и в воздухе распространялась вонь от истерзанных половых органов и мочи.
Были такие, кто побеждал в каждом состязании и становился знаменитым от Торричеллы до Корболы: например, Атос Лунарди, по прозвищу Обжора, который дебютировал 14-го июня, в день Сант Элизео, на Забавах в Чиконьяре; говорили, что он похож на самого Коллеони, хотя этого Коллеони никто никогда не видел.
Дзелия стала свидетельницей его смерти.
Она снова увидела его, когда тот одиноко сидел за богато накрытым столом, в роскошной куртке, украшенной вышитым двуглавым орлом. Он продолжал упорно смотреть в пустоту, не обращая никакого внимания на окружающих, даже тогда, когда Идальго Анджели, его секундант, похлопал его по спине с тем ласковым безразличием, с каким относятся к скаковым лошадям. Анджели был горбун и пользовался славой волшебника, лицо у него было молодое, но сколько ему лет на самом деле, определить было невозможно. Как всегда, он собрал ставки, по-приятельски болтая с самыми авторитетными игроками; затем поочередно поднял вверх руки крупного землевладельца Витторио Дельнеро, его жены Кристины, членов семей Марки и Пицци, хозяев острова Пескароли, и даже одного из кузенов короля, чтобы привлечь к ним внимание и заставить публику их приветствовать.
На выступлениях Обжоры никогда не было свободных мест.
Еще до начала, с удовольствием отметив, что зрители рассажены, как надо, а освещение установлено прекрасно, Атос совершенно ясно понял, что войдет в историю, как Джирарденго и Чевентини; на этот залитый светом костров берег никогда не ступит нога бойца, способного его одолеть, и, продолжая пристально, с клоунскими ужимками, на которые он был великий мастер, разглядывать со своего помоста аграриев и представителей знати, он увидел себя в их глазах избранником Бога.
— Аплодируйте! — приказал он. — Я — самый лучший!
Они подчинились, отвечая благосклонными улыбками.
По его знаку мгновенно воцарилась тишина.
Яйца вкрутую он проглотил молниеносно: прежний его рекорд был равен тридцати, в этот раз он довел его до тридцати пяти. Он не обратил внимания на всеобщий восторг и сосредоточился исключительно на том, чтобы превзойти самого себя, соглашаясь бисировать и вызывая у организаторов, которые заранее радовались огромной выручке, страх остаться без прибыли. То, что он воображал своей душой, подобной более крепкому, чем дуб, розовому кусту, наполнялось гордостью, как наполняется съестным желудок. На чествовании триумфатора вместо речей были пироги и куры, свиные и говяжьи окорока, торты и реки вина.
Зрители непрерывно бросали на стол куски пищи, требуя, чтобы он выступил в роли живого символа того голода, от которого страдали целые поколения, и кричали:
— Всегда приятно посмотреть, как голодали раньше.
Атос выполнил эту просьбу с ощущением, что он их унижает.
«Свиньи, — размышлял он. — Вы и не подозреваете, что в один прекрасный день я заставлю вас целовать мне ноги и жрать мое дерьмо. Я — Давид и Голиаф в одном лице. А вы просто вши».
В сопровождении свиты он перешел в павильон песен.
Дзелия тоже признала, что голос у него великолепный. Он не ограничился высокими нотами: Идальго Анджели выступил в роли дирижера, и он спел из «Отелло» Кредо; из «Фальстафа» Все в мире шутка, дерзко называя кузена короля Пистолетом, а для его друзей исполнил — Воров. Спустившись в зал, он остановился около Дельнеро и спел «Мистер Форд, разбуди свою жену-замарашку». Всем пришлось отнестись к этому, как к милой шутке, потому что здесь было его царство.
«Кто, спросил он самого себя, может понять мое счастье?» В конце концов ему это надоело, и, презрительно повернувшись к ним спиной, он посвятил себе, только своему величию высокую ноту, ради которой напряг легкие до такой степени, что перед ним забрезжили ворота в ад.
Кулачные бои и фаллические состязания прошли без сучка, без задоринки. Что касается первых, то Дзелия увидела, как он уложил трех борцов из школы Райчевича и штангиста Тиберио; он выразил желание, но ему не пошли навстречу, бороться с медведем, который сидел в клетке у Прорицателей. Что же до вторых, то целый лес рук массировал его и умащал ароматными составами: рабыни были совсем молоденькие, и в окружающем шуме их имена звучали причудливо.
То, что Атос сумел проделать, держась обеими руками за свое неимоверных размеров мужское естество, как за корабельную мачту, превратилось в какое-то безумие и просто потрясло Дзелию, успевшую уже повидать самые невероятные вещи и готовую к любым сюрпризам. Как сумасшедший, не разбирая пути, он ринулся на тренеров и секундантов, повторяя: «Озел, озел» и наводя страх на зрителей, которые отпрянули к стенам. Все летало. Несколько женщин упали в обморок. Это длилось до тех пор, пока Атос не рухнул на землю, увлекая за собой ленты и знамена.
Теперь его голос превратился в хрип. Он лежал в луже извергнутой им спермы, и перед мысленным взором Дзелии вновь предстал бык, которого принесли в жертву, чтобы умилостивить паводок. Он выкрикивал непонятные имена: Гаспара, Нигра и Секка; казалось, это разные женщины, но на самом деле он звал одну, неподвижно застывшую на берегу в лучах рассвета.
— Он зовет смерть, — воскликнул Идальго Анджели, приложив ухо к его губам. И потребовал дополнительный гонорар, поскольку выступление оказалось действительно необыкновенным.
Бросая деньги на тело Атоса, все быстро расходились, чтобы не оказаться замешанными в историю с мертвецом, которого к тому же звали Обжора. Только у Кристины Дельфини хватило духа остановиться, поцеловать его в отмеченный печатью смерти лоб и, как всегда, сунуть ему под ремень свою визитную карточку. Несколько человек отправились за врачом, но найти его оказалось невероятно трудно, ибо все павильоны и площадки неожиданно опустели, как будто никто ничего не праздновал и этой бесконечной карнавальной ночи никогда не было.
Когда они вернулись, Атос уже снова был на ногах. Он размахивал горящей головней, никого не подпуская к себе.
— Прочь! — закричал он. — Я бессмертен!
Дзелия стала одной из рабынь Атоса Лунарди.
Церемония посвящения состоялась на острове Пескароли во время изгнания дьявола в храме Мадонны делла Фидуча. Прежде чем ввести ее в павильон нравов, Идальго Анджели попытался отговорить ее, предупреждая, что для обычного человека это все равно, что пойти в бордель.
— Они будут презирать тебя и преследовать за эту ошибку, — предсказал он тоном смирившегося священнослужителя. — Большую ошибку, заключающуюся в том, что ты их развлекаешь.
Дзелия окунулась в полумрак, наполненный отблесками красного, голубого и золотого: детское и бессмысленное хвастовство великолепием. Это было похоже на путешествие передвижного цирка по деревням и селам авантюрное путешествие, единственный смысл которого состоит в насмешливом опровержении правил, по которым живет человечество.
Она выбрала тунику с вышивкой в виде павлина, и Идальго Анджели объяснил ей, что это — эмблема zurabio: венецианской лодки-гонца, которая столетия тому назад привозила в По — Par Sempar, то есть в По — навсегда забытый Богом, не пустые обещания, а набитые деньгами сундуки.
В песне рабынь говорилось: я научу тебя есть не торопясь и с наслаждением, как ест вол, и дам тебе желудок, как у страуса; я научу тебя дышать небом, как дышит вековой дуб; петь, как поет птица; заниматься любовью, как это делает бык.
— В чем цель того, чему ты учишь Атоса? — спросила Дзелия.
— В том, чтобы вновь обрести утраченную силу, без которой нельзя изменить вещи. В том, чтобы использовать хитрость — науку игры.
Когда они вышли из павильона, рабыни встретили их аплодисментами.
Затем состоялась церемония, которую Атос почтил своим присутствием; ею было торжественно отмечено начало того, что должно было стать для Дзелии временем ее настоящей молодости, и одеяние рабыни стало для нее первым из тех, которые ей придется надевать в жизни. Носить его было труднее всего, ибо невозможно было понять, как его воспринимать — как шутку или как наказание.
Он чувствовал его приход, широко раскрывая глаза в темноте, и видел свет до того, как он заливал его, возвращаясь из неведомых царств, в которых сам он никогда бы не проявил своего блеска. И все же, думал он, во вселенной существует бесчисленное множество солнц и для всех есть место, следовательно, вполне могло бы найтись место и для Атоса Лунарди, несостоявшейся звезды. Он не мог смириться с несправедливостью, заставившей его родиться прекрасным, как бог, но по образу и подобию простого смертного.
Не вставая с постели, он протягивал руку, чтобы приподнять край палатки. С нетерпением в сердце, в смолкнувшем — и это немного пугало — мире, он следил за его появлением. И вот оно движется со стороны плотин Торричеллы, окутанное звездным сиянием, сопровождаемое щебетом птиц.
— Пой, сволочь, — взрывался он. — Проклятое воскресение!
Он мечтал о приходе окутанного сумерками рассвета, о вечном холоде. Короткий сон, и вот уже пришелец насмехается над ним; огненная просфора на переносице ослепляет его и заставляет выбегать из палатки. Он так рассчитывал время, чтобы два существа, присутствие которых он считал необходимым — он сам и солнце, — являлись обитателям реки одновременно.
— Вот я! — возвещал он.
И немедленно с помощью вошедших в пословицу чемпионских рывков приводил в движение свою великолепную мускульную машину, сгибался и разгибался, как могучий подъемный кран, и дышал так, что вместе с воздухом в легкие втягивались насекомые. Потом он ложился на берегу, широко раскинув руки и ноги, чтобы те, кто в этот час уже следил за ним из тополевых рощ, могли смело сказать: замечательная у нас порода и уж Лунарди-то за всех нас отомстит.
Он смеялся все громче и громче, чтобы разбудить лагерь.
Никогда, ни в какой другой час, он не ощущал с такой полнотой, что все в нем принадлежит ему, не угадывал с такой безошибочностью движение рабынь, которым так трудно было просыпаться в палатках после ночных любовных утех. Все секреты этого сообщества раскрывались под его взглядом. Но, дойдя до палатки Идальго Анджели, он закрывал глаза, отказываясь видеть сквозь щель в занавеске само воплощение мудрости, то есть своего секунданта и крестного отца, заснувшего над книгой.
Палатка Дзелии возбуждала его любопытство, несмотря на то что такому человеку, как Атос Лунарди, все женщины мира были совершенно неинтересны и он никогда не подчинился бы ни одной из них. Для него существовала только любовь героя и хозяина этого цирка, и берега, и всех царств, которые он в будущем завоюет.
Проснувшись, лагерь приступал к тренировке по бегу; в голубом с золотом спортивном костюме, с вышитой большими буквами надписью «Обжора» на спине, Атос бегал по дорогам и тропинкам под присмотром Идальго, который вместе с рабынями ехал за ним следом в экипаже, выступая в роли кучера. Время от времени взрывался и замирал в одиночестве плотин «Королевский Марш». Густая пыль обесцвечивала вывески с объявлениями о воскресных состязаниях, костюмы, грим, поврежденный жарой и ветром.
После обеда приходили жители деревень, чтобы присутствовать на уроках пения, которые Идальго давал своему ученику. В тот знойный июль он появлялся из-за дюн неизменно в один и тот же час, с пюпитром и партитурой под мышкой. Учителем он был очень требовательным, Атосу приходилось иногда повторять какой-нибудь пассаж десятки раз.
Он предлагал тему:
— Забыл я прежние невзгоды, живу, как в молодые годы.
Атос пел.
— Повтори, — останавливал его Идальго.
— Почему? — удивлялся Атос. — Это было безупречно.
— Нет, не было.
Они скрещивали взгляды, один — с обидой, другой — с невозмутимым спокойствием.
— Колоратуры, Атос. Нет колоратур.
— Я их ненавижу, эти колоратуры. И вообще не знаю, что это такое.
— Следи за мной, — терпеливо улыбался ему учитель. И, четко интонируя, напевал: — За-был я преж-ни-е невзго-ды, жи-ву, как в мо-ло-ды-е го-ды….
Атос недовольно бурчал:
— Какая разница? Лишний завиток, да и только…
— Нет. Больше изящества. Больше легкости. Колоратуры, это еще и вот что: легкость и изящество.
Больше он не говорил ничего. И эта таинственность приводила Атоса в бешенство:
— Перестань наконец говорить, как по заумной ученой книге, и объясни, что такое колоратуры, если они существуют. А может, их и вовсе нет. Ты наверняка их сам придумал, чтоб легче было мной командовать.
— Возможно, — соглашался Идальго Анджели.
Атос буквально выстреливал в него «до», от которого отмель содрогалась, как от пушечного залпа: оно было наполнено презрением к дону Паскуале и Лючии, но в первую очередь — к дону Паскуале, предмету его ненависти и одному из его наиболее рьяных преследователей, и жаждой борьбы, как у Аттилы и короля Филиппа, когда он, властно вытянув руку, исполнял «Стража! Разоружить его!»
С плотин доносились аплодисменты.
— Видишь? — ликовал ученик.
— Миру нужна железная рука.
И, сжав кулаки, строил планы: почему бы мне его не убить? Почему я позволяю ему отравлять меня своим ядом? Значит, в моей душе владыки сокрыто столько милосердия? Однажды, раз тридцать повторив «Парик сюда, быстро бриться» — на солнцепеке, сжигающем ящериц на крышах палаток, он решил объясниться раз и навсегда. И громовым голосом закричал:
— Идальго!
Тот обратил на него отеческий взгляд.
— Прежде всего… — смутился Атос, обескураженный этой добротой, христианской или животной, неважно.
— Прежде всего?..
Атос совершенно не представлял, что же говорить дальше, и заявил:
— Объясни мне, раз ты такой умный, как это люди так по-дурацки умирают… Дело в том, что сегодня я тебя прикончу. Заколоть тебя, как свинью?
Идальго поправил его:
— Не сегодня. Но когда-нибудь — обязательно, Атос.
Ученик услышал в его голосе те нотки, которые появлялись всякий раз, когда Идальго безошибочно предсказывал его будущее, и похолодел от страха. Он подождал, пока маэстро сложит пюпитр и спокойно удалится в сторону дюн, и пошел за ним, держась на некотором отдалении. Ноги у них горели от раскаленного песка, головы — от напряженных мыслей, и так они шли и шли, а потом остановились и пристально посмотрели друг на друга с одинаково неожиданной решительностью.
На этот раз Идальго Анджели господствовал над горизонтом, а Атос, несмотря на то что они оба стояли на равнине, испытывал странное ощущение, что находится ниже.
— Я правда мог бы когда-нибудь? Такой, как Атос Лунарди, мог бы?..
— Мог бы.
Солнце отражалось от дюн, и пространство между ними заполнялось причудливыми фигурами. Казалось, что они пришли из Мотта Балуффи и из Кантона Христа, из Роккабьянки и из Кольтаро, и всеми ими движет мысль о смерти, на которую Атос и Анджели друг друга натолкнули.
— Вот она! — воскликнул Атос, который не боялся этих видений.
— Да, — подтвердил Идальго, испытывавший от происходящего истинное наслаждение. — Это Guardadura di Ро и ее тысяча миражей!
Появилось множество самых разных персонажей. У органистов, гитаристов и волынщиков, которых всегда приглашали на сельские балы, из штанов торчали крысиные хвосты. Лошади из Корте Бьянкина, чуя молнию, приседали на пяти ногах. Маццуоли, художник старый и изобретательный, как Парменио, но более знаменитый и менее изящный, шел по отмелям острова Корбеллини в том виде, в каком его похоронили в церкви Делла Фонтана, обнаженный и с кипарисовым крестиком на груди; во лбу у Маццуоли, как у разъяренного циклопа, горел только один глаз.
Слуги графа Альберто да Каносса прошлись на руках, и то же самое проделали собратья маркиза Альберто Маласпины. Все это появлялось справа, проживало блестящую мгновенную жизнь в центре, а слева вновь обретало отчаяние дюн: Рануччо Фарнезе всхлипнул, одержимый и изломанный демоном эпилепсии, мессер Альдигьери дельи Азиначчи состроил гримасу. И сразу же вперед выступил Венецианец, который, если верить хроникам, был столь же огромным и великолепным, как Обжора; он как-то привез в Константинополь в подарок Визирю сыры диаметром в два с половиной метра, и они катились, сопровождаемые свитой из баядерок, тщательно отобранных и купленных Светлейшей опять же в подарок властителю.
Там были все те, кто, по словам лодочников, устраивал между плотинами свои представления в знойные дни или в холодные ночи. Даже пехотинцы Риччо прошли, сомкнув ряды, но весь их «блеск гремящих орудий, сверкающих доспехов, шлемов, гордо увенчанных белыми плюмажами», выражали, в общем-то, только обнаженные половые члены размером с копье, которые произвели впечатление даже на начинающего духовидца Атоса Лунарди.
Между тем ветер поднимал в воздух песок то с комическим изяществом, которое предпочитал Идальго Анджели, то издавая «до», вследствие чего Атос чувствовал себя Вседержителем.
Но приятно удивило их и заставило ощутить общность, которая никогда раньше не была столь братской, не столько это, сколько то, что они удостоверились: даже История, для того чтобы очаровывать или пугать, мечтать или подтверждать свой непреходящий смысл, гораздо больше пользуется не логикой, а героями, которые выглядят в высшей степени странно и причудливо.
Они поняли, что без таких героев — если предположить, что другой правды не существует — мир никоим образом не является истинным и представляет собой всего лишь половинку расколовшегося арбуза. Следовательно, они были не одиноки: они были двумя из множества грубых ошибок Бога, и в силу этого были способны признать за тем же Богом, всегда сердитым, внушающим страх и мрачным, блаженное неведение ребенка.
Атос смиренно спросил:
— Послушай, это и есть то, что называют колоратурой?
Идальго Анджели ответил уклончивой улыбкой.
Когда они вернулись и рассказали рабыням, как провели день, Дзелия сказала, что знает, почему для действ Прорицателей особенно благоприятны июль и август.
Солнце садилось, и Атос удалялся в палатку. Первое заставляло подниматься в небо болотных соколов на виллах в Боско Кантоне, второй опускался на трехспальную кровать.
Идальго Анджели шел той же дорогой, что и Фабрицио дель Донго, к реке; но воспоминания, хранившиеся в его чуткой душе человека, который все свои знания приобрел самостоятельно, были другими. «В Парме мы познакомились с одной певицей, и пошли послушать, как она поет, к ней домой, что доставило нам большое удовольствие. Это — знаменитая Бастарделла, у нее прекрасный голос, хорошо поставленный и невероятного диапазона. Она спела в моем присутствии отдельные ноты и пассажи…» Блуждая вдоль высохших русел, он понял, как же далеко ушел, только когда из лагеря на плотинах Бози донесся звон колокола, которым Атос призывал рабынь.
Они входили и зажигали турецкую лампу. Подложенная под голову рука, согнутая в колене правая нога придавали обнаженному телу Атоса величие скульптурного надгробия. И действительно, девушкам, когда они натирали его маслами, казалось, что они прикасаются не к человеку. Тем не менее они, каждая на свой лад, радовались человеческому могуществу, позволяющему увеличивать вещи до гигантских размеров, а тем временем воздух становился дурманящим от ароматических эссенций и начинал действовать подготовительный массаж, который они потом повторят в павильонах для состязаний.
Атос рос, и вместе с ним росло его удивительное мужское естество. И всем приходилось соглашаться, что никакая фантазия не может сравниться с этой Ирландской Башней, этим Флорентийским Дионисом. И сам чемпион, хоть и не подавал вида, испытывал такое же радостное волнение, что и все остальные, пристально разглядывая это чудо, при виде которого люди восклицали: благословен плод чрева твоего, Атос, растущий наружу.
Одна из девушек, беременная, обнимала его колени и рассказывала, что в странах Востока, где она побывала с цыганами, беременным женщинам ради блага будущего ребенка советовали поцеловать член сумасшедшего или пророка.
Идальго Анджели слышал аплодисменты девушек.
Это был обычный, ничем не отличавшийся от других вечер, в который не произошло ничего примечательного, кроме странного оживления, охватившего их сообщество. Поэтому, когда Идальго, бродя по Фоссетте дель Арджине, внезапно заметил, что по лицу у него текут слезы, он не мог поверить, что это слезы искренние и к тому же слезы поражения. Ведь он ни разу в жизни не плакал и презирал подобные проявления чувств у других. Но игре, которую он вел, и той естественной религии, которую он пытался заронить в души своих артистов, пришел конец. Он осознал это с поразительной ясностью, и понял, насколько был самонадеян, поверив в то, что уставшие от войны люди будут работать ради мирного будущего, ради того, чтобы оставаться людьми и жить, насколько это возможно, счастливо. Ему открылось все, что произойдет, начиная со следующего дня, и он смирился с тем, что это неизбежно.
Тогда он бросился прочь от высохших русел. Он бился в темноте, как летучая мышь, постоянно выбирая не то направление, пока не очутился на площади лагеря.
Он послушал, как смеются рабыни где-то вдали, на дороге; прислушался к доносившемуся из палатки шумному храпу Атоса, потом зашел погасить турецкую лампу; он стоял и смотрел, испытывая всю ту скорбь, все те муки совести, которые испытывает учитель и воспитатель, совершивший ошибку потому, что слишком уверовал в то, что счастье действительно существует, он стоял и смотрел на своего ученика, а тот спал, широко раскрыв рот, и ожидало его совсем не то, о чем он, в славе своего божественного тела, мечтал сейчас…
VI
В октябре 22-го мы стояли лагерем в Босконе делле Кавалле.
Я оказалась первой, кто его увидел, потому что прошедшая ночь была туманной, туман проник даже внутрь палатки, я лежала с открытыми глазами, и казалось, что воды реки, которые поднимались все выше и клокотали вокруг, уже объяли нас своей глубиной. Поэтому, когда на плотине появился священник, я сказала себе: это просто невозможно, не может быть, что туман действительно рассеялся, и я вижу чистое небо и, что совершенно невероятно, священника, высоко поднимающего серебряный крест.
Я снова легла, а солнце становилось все больше и больше, и наконец священник закричал:
— Люди ада, прочь отсюда, пока не поздно, бегите!
Все давно уже привыкли к неприятностям и даже преследованиям, так что никто даже не выглянул из палатки, и он продолжил:
— Скоро вас сожгут заживо, спасайте свою жизнь, пусть горят палатки, в которых вы предаетесь плотскому греху. Об этом вас предупреждает во имя Христа церковь, которая столь же добра, сколь и велика, и никому не желает зла.
Тогда я поняла, что раньше уже видела это лицо, что все происходит на самом деле, и священник с выправкой прусского офицера служит на острове Песка-роли; он преследовал меня по волокам и болотистым заводям Риоло, когда я там купалась: иди сюда, я тебе все объясню и обращу тебя, а я отвечала: ты такой же лицемер, как и вся ваша порода. И оставалась в воде, свободная телом и духом, что его безумно злило.
Он пустился бежать по песку.
Вслед ему полетел град камней, кто-то даже выстрелил, но самой первой начала действовать я, бегая от палатки к палатке с криком:
— Спасайтесь, они пришли убить нас!
Выражение лица священника было более красноречиво, нежели его слова, и я никогда не забуду, как он воткнул крест в песок и заявил:
— Во имя Господа совершаю это! — давая понять, что захватывает территорию.
Идальго попытался вежливо объяснить, что мы никому никакого зла не причиняли, поскольку имели должным образом оформленные разрешения как на организацию игр, так и на то, чтоб занимать государственную территорию. Но вдруг на него что-то нашло, и он без всякой логики принялся говорить: забери свой крест, кто меня любит, пусть отречется от самого себя; это было тем более абсурдно, что вокруг стояли мы, полуодетые, и Атос, который потягивался и зевал, даже не понимая, который час под этим небом, наполовину небесно-голубым, а наполовину затянутым туманом.
Я попыталась оттащить его и открыть ему глаза на то, что мы напрасно теряем время:
— Это шпион и провокатор, — кричала я. — Его прислали, чтобы нас отвлечь.
Идальго не слушал меня и начал рассказывать притчу о проклятой смоковнице. Смоковница не виновна, но бывают моменты, когда невиновный не может больше оставаться невиновным: перед людьми, которые предадут вас судьям, — упорствовал он, — которые будут бить вас палками в своих синагогах. Остальные девушки, почувствовав опасность, тоже стали упрекать его: вот увидишь, этому подлому выродку наплевать на смоковницу и на Иисуса. Но тут мы увидели, что Идальго и священник выдернули из песка серебряный крест и бросились друг другу в объятия.
И тогда вспыхнула первая палатка. Палатка Атоса.
Страх затмил наш разум настолько, насколько все вокруг сияло огнем. Лагерь разлетался на тысячу кусочков, и банда сумасшедших наступала со стороны плотины, их становилось все больше, и они были вооружены до зубов; они уже разрушали то, что нужно было разрушить, порождая знакомый мне звук, звук разверзающейся земли и буйного ветра, который пахнет кровью за миг до того, как она прольется, сжимая горло, как дым от костров, на которых сжигали грешников, ослепляя, как самый беспощадный свет, этот звук неожиданного крушения, у которого не существует иного источника, кроме его самого, и который повергает ниц и львов, и кроликов, заставляя человека забыть о чести, и тот, у кого такие способности к преступлению, что он действительно может его совершить, становится не просто бесчеловечным, а равным Эрзацу, порождению чрева Био, мешаниной разъяренных мертвецов, тем землетрясением, которое, еще не родившись, уже не хотело жизни, и которое, я думаю, до сих пор скрывается в каком-нибудь уголке этой нежеланной Вселенной.
Я знала, что Идальго тоже узнал священника, но вместо того, чтобы попытаться бежать, он вцепился ему в плечи и начал трясти:
— Кто они? — спрашивал он. — Кто они?
А тот в ответ плакал:
— Клянусь, не знаю, кто заплатил мне за то, чтобы я сыграл роль ширмы.
Идальго не отставал:
— Скажи, это карательные отряды или кавалерийские дозоры, всадники смерти или «отважные», люди Бальбо или изменники из Союза аграриев — кто из них предает огню мир на этой земле?
— Я не знаю. Знаю только, что они заплатили за мой крест.
С криками «Долой Парламент, да здравствует диктатура», как будто мы, жалкие рабыни, имели к этому какое-то отношение, они вдесятером набросились на Атоса, который боролся, как подобает гиганту, коим он и был, и уже кое-кому свернул шею, но против десяти, а потом и двадцати что он мог сделать? Они порывались кастрировать его кинжалами, посадить на кол, вместо кола используя древко знамени, и все время повторяли, что их товарищи предали огню Геную, Ливорно, Анкону и Парму, которая уже начала петь победную песню, так что сжечь лагерь каких-то шлюх им проще простого.
От горящих палаток пламя поднималось так высоко, что воробьи опаляли крылья и погибали, и первой, кого закололи за то, что она не захотела им отдаться, была Инес Гецци, которая, став рабыней, получила имя Вагеция, и я ее никогда не забуду, потому что она нашла в себе силы рассмеяться в лицо своему насильнику, не похожему в этом аду из-за всего того оружия, что он на себя нацепил, на человека, и по мере того, как рукоятка кинжала входила ей между ног, она смеялась все громче, и чем громче она смеялась, тем больше тот путался в своей форме, потому что в каждой трагедии есть свой мрачный комизм, пока не подошли его товарищи, чтобы его увести, заметив, что Вагеция, лежавшая в луже крови, уже ни на что не годилась.
Эта Инес дала мне столько сил, что первому, притворившись, что целую его, я почти оторвала нижнюю губу, и мне тоже было наплевать на смерть, но потом они распяли меня между двумя шестами палатки и изнасиловали, все по очереди, и точно так же они поступили с другими девушками.
К счастью, снова опустился туман, и никто не мог видеть нашего унижения. В высокопарных выражениях они принялись расписывать собственные подвиги, а потом мы услышали, как они говорят: все равно это не люди, а звери из цирка. Вдруг в густом тумане зазвучал хор: готовясь отправиться в путь, они пели и заявляли, что Поход на Рим теперь дело решенное; они были счастливы до небес, выкрикивая: «Да здравствует колонна Боттаи!»
Мы подсчитали потери.
Уцелел только флагшток со знаменем игр, и изображение Атоса Лунарди в виде смеющейся марионетки по иронии судьбы развевалось на ветру над этим кладбищем обуглившихся бревен, которые Атос поднимал, чтобы вытащить нас наружу.
Две девушки были ранены, а Инес убита. Когда мы ее нашли, то увидели, что она обеими руками сжимает живот, из-за беременности она должна была уехать из лагеря, но упросила Идальго разрешить ей остаться с нами еще несколько дней, и вот теперь лежала там, словно сама была зародышем в какой-то огромной матке. Атос на руках отнес ее к реке и отдал на волю течения, чтобы она могла отправиться навстречу своей судьбе в дальние края, потому что она всегда нам рассказывала о Турецкой Испании и других чудесных странах, в которых побывала, и совершил он это с таким достойным титана изяществом, какого мы за ним не знали.
Еще отчетливее, чем тогда, когда я оказалась вместе с Ханси в лагере дезертиров, всепожирающее пламя показывало мне, что Бог движется в сторону Био, как рассеянные облака, а его око, которое называли всевидящим, на самом деле закрыто на преступления. Так я подумала, прежде чем потерять сознание. Последнее, что я увидела, были Атос в воде, крест священника, бежавшего по плотинам Босконе делле Кавалле, и одна из наших девушек, которая раньше все время молчала, так что мы прозвали ее Smanga, что значит «молчащая под пытками», а теперь вцепилась мне в руку и говорила, говорила все те слова, которые держала в себе на протяжении многих лет молчания.
Я была рядом с Идальго и мысленно попрощалась с ним: прощай, друг; я понимала, что мы никогда больше не увидимся, а он стоял на коленях, молча, среди всех этих разрушений, и держал в руках чашечку, которую нашел целой и невредимой под рухнувшими шестами палаток, свою любимую, из которой пил утром кофе, и просто смотрел в нее, как человек, который только что сделал последний глоток.
Потом я лишилась чувств. И только гораздо позже узнала, что, оставшись на пепелище, мы совершили ошибку: приехали другие солдаты и, осыпая нас новыми оскорблениями и ударами, загнали всех в грузовик.
Когда я пришла в себя, грузовик мчался по тем же дорогам, по которым мы каждый день объезжали округу, приглашая на состязания; у негодяев, стоявших на подножках и облепивших открытый кузов, под ремни были засунуты пистолеты, а некоторые даже вооружились ружьями, угрожая которыми они заставили девушек стоять в кузове во весь рост, чтобы их было видно, всех, кроме двух раненых и меня, лежащей рядом с ними, потому что я притворилась, что мне совсем плохо.
Моих подруг беспрерывно оскорбляли; какие-то одержимые, стоя на обочине, размахивали здоровенными кулаками, а некоторые пытались прямо на ходу запрыгнуть в кузов, чтобы дать кому-нибудь из девушек пощечину и обозвать грязной шлюхой; но солдаты были начеку, они хватали нападавших поперек туловища и сбрасывали вниз. Целью всей этой клоунады был вовсе не самосуд. С того места, на котором я лежала, заметить это мне было трудно, но потом я все-таки поняла, в чем дело: впереди грузовика бежал Атос в своем чемпионском спортивном костюме, который его заставили надеть силой. Он бежал, низко опустив голову, в куртке с вышивкой «Обжора», а они держали его под прицелом карабинов, и иногда кто-нибудь стрелял, так, чтобы пуля попала в землю как можно ближе от него.
— Беги, чемпион, — кричали они. — Давай, все уже отстали!
Шофер время от времени прибавлял газу, стремясь заставить Атоса бежать быстрее и в конце концов загнать его окончательно. Но Атос собрал все силы, и бежал в тот день так великолепно, как никогда раньше не бегал, поэтому на крутых подъемах он неожиданно уходил вперед, а перегруженный грузовик отставал, оставался сзади, и, как шофер ни давил на газ, они оставались в дураках. Тогда они начинали стрелять. И я поняла, что дураки и трусы стреляют и становятся убийцами, чтобы люди думали, что они не дураки и не трусы. Вот так и родился фашизм.
Для нас важнее всего было то, что этот спектакль шел без зрителей: окна и двери закрыты, во дворах и на току никого, даже скамеечки, на которых обычно прислонясь к стене дома сидят старики, опустели. Они призывали в рупор: выходите, смотрите, сегодня для вас бесплатно самая замечательная Забава. И стреляли в воздух. Но никто не вышел, никто из тех, кто каждое утро встречал нас аплодисментами и посылал девушкам воздушные поцелуи; тишина стояла такая, словно все деревни превратились в кладбища, и это пугало даже солдат, они перестали зазывать зрителей и говорили: коммунистические свиньи. Поэтому слышен был только топот Атоса, топот его ног великана с неисчерпаемым запасом дыхания, наводящего страх даже на тех, кто сжимал в руках карабины.
Никогда я не видела эти места столь безлюдными, хотя время от времени то тут, то там появлялись какие-то типы, они бежали, размахивали руками и кричали: молодцы, слава победителям; призраки другой Италии, которые выползали из-под камней, как черви, только наполовину, потому что еще не были уверены, что встали на ту сторону, на которую нужно. Одним из них был некий Чельсо; мы его знали, потому что у него была связь с одной из наших девушек, — он промчался на велосипеде, украшенном белыми гвоздиками и трехцветным флагом. Но больше всех бесновался погибший впоследствии в республике Сало Массимен Бонарди, который выскочил перед Атосом с криками «Вива Бальбо!»; впрочем, он проявил осторожность и оставшуюся часть пути бежал сзади, не переставая орать: «Хочу посмотреть, как эта тварь сдохнет у меня на глазах, продырявьте ему шкуру, доставьте мне радость, пали, пали!» Но Атос не обращал на него внимания и продолжал бежать, как ни в чем не бывало, так что Бонарди, охваченный ужасом, выскочил на тротуар, упал на колени и так и застыл, как символ всех трусливых в те дни.
И тогда я увидела, что Идальго в кузове не было.
Но я не успела задуматься о причинах его отсутствия, потому что мы увидели то, что Атос уже показывал раньше, — виллу Кристины Дельфини и Витторио Дельнеро. Затерянная в Лугах Пескароли, она явилась нам подобно фата-моргане: бастионы разрушенной цитадели, центральная аллея, манеж с красными стойками, где хозяйские дети со счастливым видом гонялись за лошадьми, — казалось, там совсем другой мир; потом домик для гостей, откуда через портик, в мирной тишине которого разговаривали и смеялись мужчины и женщины, так же далекие от нашей реальности, как и их дети, доносились звуки фортепиано.
Мы подъезжали все ближе, и я изумленно повторяла про себя: что это за видение, стремительно мчащееся нам навстречу? Мне понадобилось совсем немного времени, чтобы сообразить, что Атос неожиданно изменил направление бега, удвоив скорость посреди Лугов Пескароли, и застигнутому врасплох грузовику пришлось резко повернуть, отчего его занесло.
Стой, приказывали ему, стой, скотина. Атос не обращал на это ни малейшего внимания, и они взялись за дело уже всерьез: нужно было убить его до того, как он доберется до виллы, потому что за ее воротами начиналась свободная зона. Они выстрелили несколько раз в бегущего зигзагами Атоса, и, как мы потом узнали, одна из пуль скользнула по ноге, но он притворился, что ничего не произошло, так что вскоре мы все уже неслись по аллее, и при виде этого зрелища хозяева и гости вскочили с плетеных кресел, словно перед ними появился морской дракон.
Только подбежав вплотную к ним, Атос остановился, и в метре за ним остановился и грузовик. Первым заговорил командир негодяев: это просто недоразумение, синьор маркиз; а Дельнеро сказал: так выясните его; тогда Атос объяснил ему, что произошло, напомнив присутствующим, где и когда он развлекал их своим искусством. Они начали переговариваться отрывочными фразами, смысл которых мы поняли позже; тем временем Кристина Дельфини, которая обожала Атоса, заявила, что правда на нашей стороне и что наши преследователи вели себя как люди, недостойные называться цивилизованными.
Дельнеро поддержал ее и спросил: вы что, не знаете, что это знаменитый чемпион и что обращаться с ним надо соответственно? Он обернулся к гостям и, скрывая иронию, задал им вопрос: а вы как думаете? А они: действительно, он отличный парень. В конце концов нам дали разрешение: можете слезать.
Они собирались положить раненых девушек в портике, но Дельнеро возразил: нет, отвезите их в госпиталь. Они стали спорить: здесь госпиталей нет, синьор маркиз, придется ехать в Реджо или в Парму и объяснять, что с ними случилось. А он им: ну, это уж ваши заботы, я требую сделать так, как сказал. И они: будет исполнено. Но они наверняка просто сбросили их в какой-нибудь канал.
Дельнеро, во всяком случае, не смог удержаться от вопроса: как это вы их довели до такого состояния? Бывает, синьор маркиз, на войне — как на войне, вы как сын генерала, несомненно, это понимаете. И он: конечно, понимаю. Между тем я спрыгнула с грузовика, и они поняли, что я не ранена, что со мной все в порядке и я их просто надула; один из них попытался меня задержать, но было уже поздно.
Они дали задний ход и с Божьей помощью исчезли.
Отведите их умыться и накормите, приказала Кристина Дельфини слугам. Нас повели в ванную, и, когда Атос проходил мимо нее, она у всех на глазах протянула ему руку и громко сказала: я рада, что ты здесь; словно ее дом не был гнездом безумных мечтателей о режиме твердой руки, финансировавших, как выяснилось впоследствии, боевые отряды. Но Дельфини держалась с непринужденной властностью и обычной смесью неудовлетворенности, скуки и гнева, которую я раньше замечала и в Эрмесе Микелотти; это был способ выразить презрение тому обществу, частью которого она была, о чем, впрочем, сожалела, и это чувство, не имея возможности выразиться иначе, выражалось в телесном беспокойстве. Для людей такого типа тело становится единственным средством избавиться от компромисса, и в этом их отличие от нас, потому что для нас тело никогда не будет средством выражения сознания. Рассказывали, что она способна устроить публичную сцену: однажды в Ревере, когда состязание приобрело уже совершенно животный характер, она разделась догола прямо на глазах у униформистов в павильоне.
Она была не такая, как другие, и поэтому ее называли Мадам Откровенность.
Прошло много времени, наступил вечер; тишина на балконах виллы, опустевшие портики, ни детей, ни лошадей; и По в районе Ка Гранде и Боско дель Ваиро тоже не подавал признаков жизни, и я понимала, что это была пустыня испытывающих страх. А может быть, думала я, о нас забыли. Между тем мы вновь обретали память, и память превращалась в обиду, а обида — в бессильную ярость; некоторые из нас продолжали лежать в ваннах, некоторые сидели на каменных сиденьях, некоторые, как и я, предпочли смотреть из окон, хотя смотреть в общем было не на что.
Ванны стояли в зале в форме подковы и размером с театральный, но только Атос чувствовал себя, как на сцене. Он смеялся, нырял, неожиданно начинал петь, как делал всегда, когда чувствовал себя победителем; он даже забыл о ране, о которой говорил: царапина, и об Идальго, о котором не было никаких известий, и о предчувствии, которое было у каждого.
Исключительно потому, что нам оказывали королевское гостеприимство.
Наверное, было часов восемь, когда, второй раз за день, мне бросилось в глаза нечто непонятное. Началось все с поджога у лодочников в районе Джаре дель Маркезе — мы поняли это по языкам пламени, напоминающим растянутые сети. И сразу же занялась мельница на дороге в Риоло ди Меццо, которую мы знали как «Мельницу Солнца». И вот уже горела Рипа По, и дым поднимался такой, что стало не видно неба, и вскоре мы уже не могли сосчитать всех очагов пожаров на объятой безумием долине.
Храбрый, как все сильные люди, которые действительно способны свернуть горы, но только если сумеют отличить их от всего прочего и самое главное — сообразить, что это такое, Атос растерянно повторял: это конец света. И я тоже, сказать по правде, ничего не понимала.
В конце концов мы увидели, как по дороге за Лугами Пескароли бегут люди; и не крестьяне тащили скотину, а, наоборот, охваченные ужасом животные увлекали хозяев за собой; некоторые ехали на велосипедах, низко согнувшись над рулем из-за пыли и искр, и из-за того, что навстречу, оглушительно сигналя, хотя крестьяне и так прижимались к противоположной обочине, мчались, излучая мрачную радость знамен, грузовики таких же вооруженных банд, как та, которая привезла нас на виллу Дельфини.
Атос и девушки воскликнули: бедное человечество, да как такое возможно, какое несчастье! Я возмутилась: это возможно, невежды, в том смысле, что они делают с другими то же, что сделали с нами. Они спросили: почему ты называешь нас невеждами? А я им: да потому, что вы их жалеете сильнее, чем себя, и не понимаете, до какой степени со всем смирились.
— Таун! — выкрикнул Атос.
Это было его самое страшное оскорбление, слово само по себе ничего не означало, только показывало мощь его дыхания.
Я сказала в ответ:
— Ты еще совсем недавно пел, Атос.
И объяснила, что его мозг так же безумен, как его руки, как его бычья шея; весь его ум остался в каменоломнях Полезеллы, где он с юных лет надрывал спину, нагружая под ударами бича телеги ломовых извозчиков. И поэтому некоторые предпочитали называть его «Паяц с По».
У него бывали неожиданные приступы необъяснимой тоски. Вот и сейчас он, обводя взглядом помещение, в котором мы находились, осознавал, ловя в настенных зеркалах не только свое отражение, но и отражение своих заблуждений в том, что то, что он принял за дворец, было тюрьмой или ловушкой.
— Прикажите мне сделать что-нибудь, — повторял он, — мне, у кого нет слов, мне, у кого есть только сила сделать что-нибудь.
Полыхнули молнии, они били с террас виллы Дельфини и окатывали зал волнами запаха серы. Девушки сказали: на этот раз горит вилла. Но я заметила, что под флагштоком стоит пиротехник и что одновременно со вспышкой начали поднимать флаг с савойским гербом, и успокоила их: если горят дома крестьян и лодочников, то здесь мы в безопасности, не могут одновременно гореть и хозяева, и слуги — так повелось с незапамятных времен, иначе пришлось бы признать, что сам Бог перешел к активным действиям, а это всего лишь фейерверк. Наши хозяева отвечали на огонь разрушения таким способом: они запускали в небо изумрудно-зеленые зонтики, луны, взрывающиеся на фоне настоящей луны, трехцветные полотнища, похожие на половой орган быка шпили, из которых извергалось белое пламя. В их свете можно было разглядеть пиршественные столы и стоящих наготове официантов.
Потом Атос воскликнул:
— Идальго!
Идальго шел по аллее, опираясь на сломанную ветку, словно возвращался с прогулки; он заметил, что мы выглядываем из окон, и ответил на наши приветственные крики, при этом он смотрел на окружавшее его пламя, переводя взгляд с огней избиения на огни праздника с видом человека, у которого нет ни желания, ни времени прислушиваться к миру. Мы знали эту его способность к предвидению и иронии, которой он нас научил, особо предупредив, чтобы мы пользовались ею в первую очередь в дни Био. Однажды днем на плотине в Гварда Венета состоялись похороны какого-то ребенка, которые мы издали приняли за праздник по случаю прихода весны. Рассекающий толпу мужчин и женщин гроб напоминал одно из Шутовских Величеств; к тому же казалось, что все шагают быстро, как в радостной процессии.
Мы тогда, не разобравшись в чем дело, очень обрадовались, и когда Атос открыл правду, так и не смогли с ней смириться. Идальго сказал: остерегайтесь иллюзии.
Я тоже ему кричала. Но про себя продолжала думать: почему сейчас, когда ты возвращаешься, я не чувствую в тебе жизни? В тебе, который советовал мне: доверься, Дзелия, своим ощущениям; постарайся навсегда остаться одним из тех восприимчивых животных, о которых говорят, что они больны человеком, — собакой, например, или дельфином.
Не знаю, каким образом, но в ночи наступил миг покоя. Ветка, служившая Идальго тростью, вознеслась вверх. Сначала она так и застыла, потом начала медленно опускаться все ближе и ближе к телу; мы поняли смысл этого знака: он позволил самым простым силам природы, к познанию которых он попытался привести других, нести его туда, куда они хотели, и скатился в кювет, к людям, у которых не было времени обратить на него внимание. Мы подбежали, и Атос вырвал один из смоляных факелов, которыми встречали гостей по обеим сторонам аллеи; увидев его перед собой, Идальго с ласковым упреком, как в тех случаях, когда тот фальшивил, сказал:
— Колоратура, Атос….
И, может быть, на сей раз Атосу удалось бы узнать эту тайну, если бы Идальго вместо того, чтобы продолжить, не протянул руку раскрытой ладонью вверх, приглашая каждого из нас прочесть начертанные на ней знаки, знаки жизни, смерти, любви и денег, прочесть их с той легкостью, с которой он предсказывал судьбу, но мы были на это не способны, и он это знал.
Атос сказал:
— Идальго умер.
Он бился головой о дерево и кричал:
— Мой друг умер!
Вскоре прибыли гости. От площади Лугов Песка-роли они прошли по аллее пешком под охраной полиции, демонстрируя свою власть создавать угодные им истины и упорядочивать беспорядок. С той же уверенностью, с которой они нас приветствовали, они дали мне понять еще раз, что ничто никогда не следует считать концом света.
Если это и есть человеческое общество, сказала я себе, мне придется провести жизнь в вечном бегстве от него; я убедилась в том, что моя жизнь, которую я считала пропащей, была, если хорошенько подумать, гораздо более праведной, чем у многих других. Между тем звуки вальса возвещали: на нас снизошел новый мир, еще более великий и нерушимый.
Атос вылез из кювета, люди останавливались, узнавая его, и смотрели скорее с любопытством, чем с удивлением: очевидно, слух, что Дельнеро заполучил в свое распоряжение чемпиона Забав, чтобы скрасить ночку, уже распространился.
— Это Обжора, — восклицали они. — Посмотрим-ка, что он за зверь!
И Атос сказал:
— Наденьте на меня парадный костюм.
И он исчез внутри виллы, уже не как пленник, а как почетный гость; он добился своей цели, потому что никто не стал бы за ним следить.
Остальные девушки подумали, что все кончилось, и ушли, не послушавшись меня; они повторяли, что он не только сумасшедший, но и предатель, и будь проклят тот миг, когда они с ним связались. Они думали, что это высшее святотатство дня, который никогда не изгладится из нашей памяти, но они были просто дурочки; позже я узнала, что практически все они и жизнь свою закончили, как дурочки.
А я предпочла подождать.
И, действительно, Атос вновь возник на балконе, сожалея, что только одна я не разуверилась. Ему одолжили фрак со слишком короткими рукавами и слишком узкий, но с золотыми пуговицами и гвоздикой в петлице; лицо, которое подпирал крупный узел галстука, было загримировано так же, как на состязаниях — маска клоуна, первым смеющегося над собой. Он был такой же, как всегда, сказочный и настоящий, великолепный и жалкий; но я понимала, что после того, как он всю жизнь изображал громовержца, сейчас он смиренно и в молчании готовится к тому, что собирается совершить, и, видя, что миры ночи далеки от нас, может быть, открывает вместе со мной то пожатие плечами, на которое человек способен, чтобы выразить, сколь невыносимо быть здесь и сколь невозможно добраться туда.
Его позвали в зал, и окно закрылось.
Я тоже ушла в поля, и вскоре догнала своих подруг, и мы не знали, куда направиться, нас окружало пламя догорающих домов и люди, возвещающие о том, что Рим пал. И когда у меня за спиной все принялись говорить друг другу: «Смотрите, вилла Дельфини!», я даже не обернулась, потому что и так все знала и прекрасно представляла себе огненный столб, возникший на ее месте.
— Да, — подтвердила я. — Это горит вилла Дельфини. И это уже не фейерверк.
VII
В пансион Мезола в Моло Фарсетти почти никто никогда не приезжал. На случай появления постояльцев в холле рядами были выставлены сапоги, чтобы можно было сменить промокшую обувь, ибо дождь лил, не переставая. Но мужчины предпочитали спать у себя в лодках, оставляя бортовые огни зажженными даже днем.
С паромов сгружали покрытых черной клеенкой лошадей, которым приходилось часами ждать, пока за ними придут.
Женщины коротали время, глядя, как идет дождь, и размышляя о том, что осень 23-го они запомнят как самую отвратительную. Короткая прогулка вдоль волока, тесно прижавшись друг к другу под зонтиками, и опять — в комнаты, где столики были покрыты клеенкой, как лошади, а стены оклеены обоями с застывшими в неестественных позах птицами. Все вещи были связаны друг с другом ожиданием.
Когда, расхаживая по пансиону, в котором пахло конюшней, Дзелия начинала чувствовать, что похожа на лошадь, выставленную для продажи на рынке, на котором не было ни одного покупателя, она отправлялась в одинокую прогулку и добиралась до Ка Ферретти по защитным кольцевым дамбам, превратившимся в болото. После лет, густо заполненных людьми, у нее не осталось ни сообщников, ни свидетелей; казалось, даже сторожа на шлюзах исчезали при ее появлении, и тогда она воображала свое прошлое в виде цепочки фантастических предположений. Не слишком, впрочем, отличающихся от тех, которые роились у нее в голове, когда она строила планы на будущее. Пережитые события оставили в ней лишь готовность заново пережить их — ту жажду вещей и людей, которую она помнила в себе с самого рождения.
Это пугало ее и очаровывало, тем более, что пансион Мезола держал ее в подвешенном состоянии между непреодолимым скрипением шлюзов и смирением Мириам Маэстри, хозяйки, которая с плохо скрытым сарказмом предсказывала, что в один прекрасный день появятся Коты и выгонят их всех за неумение работать.
А пока она приказывала чистить сапоги.
Дзелия пыталась вместе с подругами предаться неожиданной праздности, но внутренний голос подсказывал ей, что все еще только должно случиться. Белые фонари на пристани служили ориентирами во время прогулок; красные огни подъемных кранов создавали иллюзию счастливого прибытия; туманы скрывали мысли; и их уже не удивляло, что этот почти невидимый мир разрушает правила, и крупные флегматичные мужчины вместо того, чтобы подходить к ним, исчезают на фоне каналов и волоков.
Они взяли в свои руки кухню, и запах супа и кофе вытеснил запах конюшни. Они научились готовить травяные настойки, а кое-кто тряхнул стариной и начал шить или придумывать прически. Мириам Маэстри тоже присоединилась к этой игре, которая постепенно начинала казаться естественной.
Но зимой, утром, они спрашивали, показывая в направлении Понте Триполи:
— Они приедут?
— Приедут, — подтверждала Маэстри. — Скоро будут здесь.
Оставшимися днями они воспользовались с мудростью тех, кто научился доставлять удовольствие другим. Они прожили их хорошо и в мире. Коты появились в конце января и закрыли пансион Мезола, заявив, что в силу каких-то необъяснимых причин люди Дельты перестали испытывать потребность в любви, и заведение Мириам Маэстри превратилось в обычный пансион, единственное отличие которого от других заключалось в том, что там можно было хорошо поесть.
В марте 24-го от Мелары до Дельты было распространено распоряжение полиции, которое лодочники окрестили Сапфировым Указом; в нем будущая Италия представала в виде каких-то джунглей, населенных шпионами и сексотами, которым давали понять: настало ваше время.
В пансион Голена в Бергантино прибыла не похожая на других сексотка: чем больше она открывала лицо, тем более делалась незаметной. Звали ее Лючия Малерба, ей было пятьдесят, и она гордилась, что тридцать из них посвящены борьбе за моральное оздоровление этих мест. Каждый день после обеда она усаживалась в холле, заявляя, что не придерживается никакой религии, кроме своей собственной, и что эта ее религия предпочитает легковесному морализаторству и проповедям точное и честное свидетельство; поэтому она наблюдала за всем своими наглыми глазами молча, как затаившийся хищник.
Как они ни старались, избавиться от нее было невозможно: Голена номинально числилась пансионом, и Малерба платила, как и все остальные постояльцы, за время, проведенное на диване. Мужчины, поднимавшиеся наверх, были вынуждены проходить мимо нее и представляться, спускавшиеся удостаивались ее саркастических аплодисментов. У Дзелии создалось впечатление, что она с каждым днем выпускает все новые побеги, как какое-нибудь растение-паразит, и она шла, садилась напротив и разглядывала ее так же пристально, как та разглядывала всех. У Малербы были белые руки, большие, как у мужчины, которые при ходьбе она держала за спиной.
«А-ля Малерба» сохранилось в истории как обозначение системы доносительства.
Анджело Поджи принадлежал к богатому семейству из Полезеллы, и его знали под кличкой Звереныш из По ди Горо, поскольку в слове «звереныш» присутствует то неагрессивное начало, которого нет в слове «зверь», и та симпатия, которую исключает слово «чудовище». В Доме Ариоста в Вилланова Маркезана по субботам после обеда заводили на полную громкость пластинку с какой-нибудь танцевальной музыкой, чтобы он порадовался, когда приедет.
Отец и два брата помогали ему, закутанному в одеяло, выйти из машины и подняться на крыльцо. Говорили, что они прячут от посторонних глаз сгусток плоти, не имеющий ни личности, ни сознания, его никто никогда не видел, за исключением самых опытных девушек, которые вели его на верхний этаж и чьим заботам его поручали.
Пока его тащили по лестнице, освещенной светом мутных от пыли лампочек, отец и братья оставались в холле, наблюдая за передвижением этого существа; и Анджело Поджи высовывал из-под одеяла руку, чтобы помахать им. Они оставались в холле и тогда, когда он скрывался из виду, и обшаривали взглядами пустые лестницы в поисках кого-нибудь, с кем можно перекинуться словом; но все двери в комнаты были закрыты и танцевальная музыка больше не играла.
Сверху доносился крик, а может, им так казалось. Они резко вскидывали головы, и хотя знали, что это знак совершенно обычного действия, в результате которого появляются на свет все: и нормальные, и уроды — происходящее было выше их понимания. И они поспешно уходили.
И сразу же голоса девушек заполняли Дом Ариоста. Некоторые рассказывали, что Анджело Поджи — человек любезный и веселый, но такой хрупкий, что им нужно было постоянно себя контролировать, чтобы случайно не сломать ему ребра. Другие, наоборот, говорили, что его приходилось держать за руки, потому что он впадал в ярость и пытался выцарапать глаза любому, кто оказывался рядом с ним.
И те, и другие помогали существовать маленькой легенде Дома Ариоста. Дзелию поразило, что каждая из ее подруг была убеждена в истинности своей версии: Анджело Поджи, сидя в кресле, как кукла, довольствовался тем, что ласкал их слабой рукой и без особого желания; обычно он предавался любви с почти сверхъестественным пылом, так что в конце концов извергал уже не семя, а кровь; его равнодушие к людям было столь же сильным, сколь сильна была любовь к животным, и больше всего он любил сидеть на полу в окружении собак и кошек, специально согнанных в номер.
Из этих противоречивых историй ей больше всего нравился рассказ, как звереныш издает уже забытые людьми звуки, требуя от Бога внешность, которой тот ему не дал.
Номер, в котором его принимали, располагался в задней части здания и выходил на оранжереи Казальново; как-то раз Дзелия мельком увидела его, он напоминал душевнобольного, который выглядывает в окно, и кажется, что он очарован пейзажем, тогда как на самом деле взгляд его устремлен в глубины мысли, в какую-то неведомую точку мозга. Однажды, когда его оставили одного, а дверь не заперли, она решилась войти: он сидел на краешке кровати и бросал на нее веселые взгляды, словно приглашая принять участие в игре, суть которой состояла в том, чтобы скрыть часть тела, наклоняясь и ложась грудью на колени. Явно выраженного уродства в нем не было, лицо отличалось даже каким-то болезненным изяществом, а постоянное покачивание плечами напоминало движения быка в ярме.
Она не могла понять, чего он хочет, и подошла поближе: он просил завязать шнурки. Дзелия встала на колени и начала делать бантик; от этого движения сознание Анджело Поджи неожиданно просветлело, он выпрямился и перестал стесняться.
Он вежливо поблагодарил ее.
В октябре 25-го Анджело Поджи был застрелен из револьвера неким землевладельцем из Берры, который не был с ним знаком и, как и все остальные, никогда прежде его не видел; на суде он заявил, что выстрелил потому, что не мог вынести мысли о том, что над номером, где он занимался любовью, находится подобное чудовище.
В заведение в Порто Мароне, которое было известно как Дом Голубки (голубкой на тюремном жаргоне назывался один из способов, с помощью которых заключенные получали и посылали письма), но официально именовалось пансион Виго, приезжали со всех концов Европы. Когда звенел колокольчик над входной дверью, все разбегались по комнатам и хозяйка Тоска Бельтраме приглашала:
— Заходите, прошу вас.
В отличие от других заведений такого рода, с которыми Дзелии пришлось познакомиться раньше, оно было светлым и изящно меблированным, его украшали статуи, довольно неплохие картины и попугаи, которые совершали чудеса ловкости, чтобы получить от женщин лакомство, повторяя при этом разные слова на диалекте Бадиа Павезе. Клиенту, пока он шел из центрального зала по коридорам с красными ковровыми дорожками, постоянно попадались навстречу оживленные группы людей, каждая из которых была занята чем-то своим.
Действительно, устав Дома Голубки начинался не с обычных запретов делать то-то и то-то, а с вселяющей бодрость фразы: «Нас в первую очередь интересуют люди».
Это давало возможность оркестрантам из Павии, которым управление полиции запретило выступать в каком-либо театре Королевства Италии, репетировать в подвальных помещениях; позволяло так называемым посредникам из Арена По придумывать зашифрованные надписи для этикеток, которые затем наклеивались на бутылки белого вина неизвестного происхождения; а остановившимся отдохнуть путешественникам — обниматься с огромным количеством людей, называвших себя их родственниками.
Когда приходили полицейские, чтобы допросить ее, Тоске Бельтраме, заранее предупрежденной сочувствующими информаторами, удавалось сохранять абсолютное молчание после заявления, что все уже и так ясно из вывески Дома Голубки, на которой жестяной ангел в ярких одеждах, оказывавшийся, если как следует присмотреться, женщиной легкого поведения, вращался на ветру, монотонно разыгрывая пантомиму жизни.
Ее арестовали в сентябре 26-го и увезли в пакгаузы Фьори Альдрованди, на Олоне, откуда, как ни кричи, все равно никто не услышит. Товарищи по подполью искали ее в другом месте, в районе Порто Толле.
Однажды январским утром в Сальсо, где царила атмосфера подготовки к национальному празднику — на улицах репетировали духовые оркестры, на окнах вывешивали флаги, — в пансион «Конь» привезли зеркало, которое, как объяснила Ольчези, директриса, принадлежало раньше испанской инфанте. Дзелия и девушки притворились, что поверили: верить в росказни Ольчези было частью их работы.
Перед этим зеркалом они позировали, как будто их снимал фотограф; меняли платья, шляпки, парики, испытывая радостное чувство солидарности, которое никогда раньше здесь не ощущали.
День прошел, как обычно, было много военных, в основном курсантов военной академии в Модене, прибывших для предстоявшего на следующий день парада. Дзелия осталась у себя в номере, заперев дверь и не притрагиваясь к пище; взволнованная еще не до конца ясными решениями, она внимательно наблюдала, как морозный воздух изменяет цвет стекол и озера в парке. Около восьми, когда поток посетителей спал, она инстинктивно вышла в коридор и остановилась в полумраке, пристально глядя на свое отражение в зеркале. Одна из подруг появилась у нее за спиной. И вот уже все высыпали из комнат, как будто заранее договорились встретиться; утром они смотрелись в зеркало весело и с выдумкой, теперь же молчаливо созерцали себя в убожестве домашних халатов.
Хотя они и не сказали друг другу ни слова, общее решение созрело, и они разошлись по комнатам.
Они знали, что Мори прибудет в час ночи: его пунктуальность была одним из способов, которыми он выражал презрение к тому, что считал заслуживающим презрения, то есть ко всему; действительно, они услышали, что он подъезжает, и Дзелия, лежа на кровати, увидела свет фар десятка автомобилей, поднимающихся по дороге, а потом водители, так и не выключив дальний свет, устроили карусель: на полной скорости они врывались во двор и, заложив крутой вираж, выскакивали обратно на улицу, чтобы пронестись вдоль тротуаров, опрокидывая мусорные баки, которые падали и катились по мостовой с жутким грохотом.
Они всегда заявляли о себе таким образом. Потом выходил Мори, и вместе с ним все остальные. Он долго разглядывал вывеску над входом, изображавшую вздыбившегося перед короной голубого коня, и непременно спрашивал:
— Вы знаете историю этого замечательного животного?
— Нет, — отвечали ему, хотя слышали ее бесчисленное количество раз.
И тогда Мори в очередной раз излагал историю вывески, сообщая, что своим названием пансион обязан Марии Луиджи ди Парма, некоей развратной герцогине, которая влюбилась в жеребца. Держали его в стойле, украшенном диванами и большими зеркалами; в ожидании возлюбленной он очень возбуждался, и конюхам приходилось сковывать ему ноги специальными серебряными кольцами, которыми — как Мори уверял — можно и сейчас полюбоваться в одном из пармских музеев.
— Страсти, на которые нынешнее поколение, жалкое и трусливое, абсолютно не способно. — Он вглядывался в лица окружающих, жаждущих услышать подробности, которые он с насмешливой улыбкой пропускал, и заключал:
— Когда предмет страсти скончался, роскошная процессия из лошадей провезла его через весь город на убранном хрусталем и цветами катафалке, словно тело какого-то великого человека.
Всякий раз следовал непременный комментарий:
— Только Мори умеет так рассказывать!
И они быстро входили в дом.
Это были провинциальные казначеи, тайные эмиссары обращавшихся к префектам клиентов, и девять из них имели при себе набитые деньгами кожаные сумки, поскольку все пармские пансионы, вплоть до самой границы с Пьяченцей, уже были посещены; но Мори, главный сборщик, оставлял для себя пансион «Конь», в котором собирал дань лично, считая его самым лучшим: здесь они ужинали и оставались ночевать.
— Вспомним молодость, — напутствовал он.
И все же он отворял дверь осторожно и с противоречивым чувством; он был доволен, что содержатели заведения называли его губернатором, и огорчен, что придется подниматься по лестнице. Поднимались они, затаив дыхание, спрашивая себя, из-за какой же двери раздадутся первые оскорбления, тем более коварные, что произносились они ласковым тоном, как будто это был разговор с возлюбленным. Они пытались угадать, как их обзовут на этот раз: Котами или чугунными яйцами, или хреновой властью, или толстожопыми, или просто-напросто — Ваше Препаскудство. Это бывало в тех случаях, когда на лестнице не раздавались два слова, которые, как было известно Мори, предназначались только для него, и смысла которых он не понимал, не отваживаясь спросить у кого-либо:
— Небесная Серенада…
Он поднимал меховой воротник, чтобы закрыть уши, но шепот становился все громче. Казначеи крепко прижимались друг к другу и стояли стеной, на всякий случай прижимая к груди свои кожаные сумки. Мори, напротив, стягивал с рук перчатки, стремясь скрыть замешательство: почему именно я, Итало Мори? Я, которого уважают, как какого-нибудь иерарха, единственного из всех сборщиков, кто знает наизусть лицензию Альфонсо Арагонского, папские эдикты, а также Закон о полиции со статьями Дзанарделли по поводу заметок Кавура и Раттацци и захватывающую историю вариантов Никотеры! Я держу в кулаке моральную распущенность со всеми ее совокуплениями, вынося Предупреждения, отдавая под Специальный Надзор, приговаривая к Принудительной Высылке, так что вам следовало бы знать, что я мог бы вас отправить на самый дальний из островов.
Казначеи с трудом поспевали за ним.
А Мори продолжал про себя: называть Толстожопым меня, обладателя права подписи и печати; меня, кто не взвинчивает тарифы; меня, кто благосклонно пересматривает правила санитарного контроля и обязательных осмотров; меня, кто дает вам возможность жить, как уважаемым гражданам, а не так, как в парижских борделях; меня, кто во имя вас ведет сражение с марсельцами и провансальцами; меня, кто в рождественскую ночь угощает вас шампанским?! Так в чем же моя вина? В том, что я глаз не смыкаю?
— Небесная Серенада!..
Никогда больше я не буду защищать вас от преступности, которая усеивает нашу плодородную землю вашими трупами.
— Небесная Серенада!..
Я вас заставлю носить холщовые панталоны; будете пользоваться щетками с гвоздями, сидеть за решеткой в железных ошейниках. Это будет трагедия, и потомки никогда не забудут ночь Мори в пансионе «Конь!»
— Небесная Серенада!..
— И тогда сборщик Итало Мори выхватывал табельное оружие и стрелял в воздух.
В ту январскую ночь ничего подобного не произошло.
Он обследовал один этаж за другим, но единственным движением было движение луны, прекрасно видной через одно из окон и освещавшей здание, в котором почему-то не горела ни одна лампа. Он начал подниматься, и в конце пролета топнул ногой, чтобы спровоцировать возможные реакции: тишина осталась абсолютной, никто даже не хихикнул. Он подумал: неужто поняли? Честно говоря, у него возникло подозрение, что подобное молчание было выражением презрения к нему, но он тут же отбросил эту мысль.
И снова, исключительно с целью провокации, крикнул:
— Хватит! Мое терпение на исходе!
Никто не ответил.
— Дешевые лакеи, боящиеся порки! Я и к вам обращаюсь, засранцы! Вы меня слушаете?
Правосудие требует, сказал он себе, и правосудие получает. Тем временем в зеркале инфанты он обнаружил самого себя и казначеев за спиной, и понял, что пальто с меховыми воротниками, точно такие же, как у него, придают им устрашающий вид, словно стаду буйволов на лугу. Быть вместе и быть похожими, признал он, защищает и возвышает, наша судьба уж во всяком случае не одиночество. Свет луны стер с его лица краски, и он обрадовался этому, хотя вовсе не боялся красноватых пятен и отказывался верить, когда ему ставили диагноз, что они являются признаком болезни. Глупости: это свидетельство полнокровной молодости, которая не меркнет.
Он достиг вершины. Пальто и костюмы были сшиты по последней моде, пистолет надежно размещался во внутреннем кармане, ему было всего сорок, и он мог с гордостью сказать, что еще лет двадцать он не собирается отказываться от женского общества; он даже позавидовал той, кто вскоре получит возможность осыпать его поцелуями.
Они вздрогнули от внезапно загремевшей музыки, но радио тут же умолкло.
Тогда он расставил ноги и со смехом расстегнул брюки.
— Так мы сэкономим время! — воскликнул он.
Казначеи тоже стали расстегиваться, и он вдруг вспомнил, что любое удовольствие заканчивалось для него необъяснимой грустью, ощущением, похожим на угрызения совести, которое обретает форму во сне; однако он приказал себе: это неправда. Они вошли в последний коридор, и сладковатое благоухание, в которое они сразу же окунулись, смешалось с запахом сгоревшего воска и увядших цветов; ему показалось, что за неплотно закрытой дверью он видит мертвую девушку: она лежала на кровати, и ноги ее были связаны какой-то лентой.
Он уверил себя в том, что ошибся.
— Никто не может умереть, — заявил он, — в наших пансионах.
Стол, уже накрытый и уставленный канделябрами, которые оставалось только зажечь, ждал их в отдельном зале; но сначала Мори ударом ноги распахнул дверь в комнату Дзелии и приказал:
— Быстро по номерам!
Казначеи мгновенно исчезли.
Он заказал ее лучшему портному Болоньи, снабдив того подробнейшим описанием, какой он желает ее видеть. Она напоминала форму воздушных бригад, с металлическими пуговицами, на которых был изображен распростерший крылья орел; она могла бы принадлежать одному из тех полковников, которые смотрят человеку в глаза, не говоря ни слова, словно пытаясь разглядеть в нем какого-нибудь своего старого подчиненного, убежденные в том, что мир населен исключительно подчиненными. Гениальная мысль, автор которой был ему неизвестен. Когда Дзелия сняла ее с него, он заметил:
— Это самая оригинальная куртка, до которой ты когда-либо дотрагивалась!
Было приятно позволить женщине раздеть себя: ничто не доставляло ему такого удовольствия, как эта церемония, которую он стремился продлить. Но что-то его раздражало, и, обведя взглядом комнату, он возмутился:
— Эти номера какие-то унылые, чувствуешь себя, как в морге. Как вы можете здесь, где нет ни малейшего признака жизненной силы, жить, заниматься любовью? Значит, убогость вашего сознания так сильна, что распространяется и на вещи?
Дзелия с криком отшатнулась: из кожаной сумки Мори извлек крольчиху, белую и жирную. Держа ее за шею, он, улыбаясь, поднял ее, а потом швырнул девушке. Дзелия не шелохнулась, и крольчиха тоже замерла на мгновение; Дзелия, прежде чем та выскользнула и заметалась по комнате, успела почувствовать, как бешено бьется ее сердце.
— Так что завтра ты ее съешь. Крольчиха ест крольчиху.
Он оттянул ей книзу кожу на щеках так, что обнажились глазные яблоки. Делая это, он подумал о священнослужителях на амвонах, о генералах на алтарях отечества. Глаза Дзелии, налившиеся кровью, утратили ясность и даже, казалось, цвет.
— Ничто не может быть смешнее женского испуга, — прокомментировал он. — В вашем испуге нет достоинства.
Он оттолкнул Дзелию к стене.
— Ваше женское безумие распространяется по нашим пансионам. И мы вынуждены констатировать, что эта язва с каждым днем становится все глубже, и мы не можем больше скрывать ее. Мы думаем о разных мерах, о законах. Но я уверен, что они не помогут. Безумие — ваш способ самовыражения, даже в тех случаях, когда вы притворяетесь перед нами по-матерински мудрыми. Вы знаете только различные фазы той тупой природы, которой подчинены, а ум, попавший во власть глупости природы, уже является умом безумца.
Он приказал:
— Открой рот! Безумие видно по зубам. Оно разъедает зубы, как и мысли.
Его успокоил вид самых прекрасных зубов, которые ему когда-либо встречались.
— Женщин, одурманенных своими ожиданиями, загипнотизированных своими мечтами, охваченных своими страхами, мы заставим исчезнуть из наших пансионов!
Он позволил ей вытащить булавку для галстука. Она была сделана в форме миниатюрного кинжала, которым пользовались турецкие султаны, и камень был настоящим. Он позволил себе мгновенье помечтать о странах, где было сделано украшение, и, рухнув на кровать, чтобы Дзелия могла снять с него сапоги, сказал себе: в один прекрасный день я стану Великим Ханом этих земель.
У него были белые ступни, как у старика. Он поднял одну из них и понял, что жизнь не закалила в нем ни храбрости, ни духа — ничего, кроме этих ступней, которые часто и охотно обращались в трусливое бегство, которые потерпели полное поражение в борьбе со слишком многими дорогами от одного пансиона к другому. Ступней, которые отреклись от друзей и следовали за власть имущими; но они могли позволить себе не бояться наказания, потому что, если даже и можно читать по руке, то кто же опустится так низко, чтобы исследовать проступки человека по его ногам, тем более, если они защищены сапогами, похожими на сапоги королевских карабинеров!
Он заставил Дзелию признать оригинальность покроя, нарядный вид всех предметов своего туалета. Про пряжку на ремне он рассказал, что на ней изображен Фудо, восточный бог гнева, обряды культа которого совершались ночью, в запертой комнате.
Он снял и часы.
Голый, на огромной постели — он сам настоял на этом, ибо в постели представителей рода Мори должны были помещаться, по крайней мере, три человека — он потребовал:
— Скажи, что я красивый. Скажи, что я стройный, как кипарис. Знаешь, я купаюсь в По даже зимой.
Дзелия останавливала взгляд на тех местах, на которые он указывал глазами, но было уже поздно спасаться от безжалостного света лампы: его тело было столь же прекрасным доносчиком, как и его ступни, предъявляя знаки его ничтожной породы, погрязшей в пессимизме.
Но это только подтверждало тот факт, что фашистская вера была еще сильнее, чем вера Церкви, потому что если эта последняя ограничивалась тем, что гарантировала бессмертие самым ничтожным во всей Вселенной смертным, то первая, и только она, позволяла существам, рожденным от чего угодно, только не от Непогрешимого Творца, и получившим определение жалкого меньшинства, хотя великолепное большинство никому не было известно, называть себя совершенными, «нерушимыми опорами святой бойни».
Счастье его оказалось равным головной боли, которая с недавних пор накатывала на него, как только он принимал горизонтальное положение. Он закрыл глаза:
— Сегодня ночью ты у меня будешь кончать без перерыва.
Дзелия собрала одежду и пошла к двери:
— Пойду повешу твои вещи. И крольчиху выгоню.
— Молодец! — воскликнул Мори. — Значит, дела здесь и вправду начинают идти на лад.
Направляясь к зеркалу инфанты, она увидела других девушек, которые выходили из комнат с одеждой казначеев в руках; и пока они собирались в группу, эти пальто с меховыми воротниками и повисшими рукавами наводили на мысль о смертной казни. И в самом деле, девушки могли бы заколоть их владельцев кинжалами, волоча по земле, как поступали сейчас с оболочками их тщеславия и безумия, или, несмотря на уважение к Ольчези, предать огню пансион «Конь», или же кто-нибудь из них мог повеситься над столом, накрытым для ужина Их Препаскудств. Но они предпочли более сильную шутку, в которой инстинктивно чувствовали правдивое и в то же время карикатурное воплощение жизни и смерти, подтверждая тем самым, что силу их общности составляла arlia.
Не хватало Терезы Мадои, что доказывало, что она была осведомительницей.
Группа поднялась по лестнице, которая вела на террасу; когда они на нее вышли, луна висела высоко-высоко, на озере в парке флаги покрылись инеем и застыли в неподвижности. Пока проходили первые отряды, направляющиеся к плацу, городок еще спал.
Одна из девушек затянула Песню Котов, или песенку о подлом Никотере:
— В железной клетке на столбе мы подвесим толстомясое Его Превосходительство и протухшие задницы мертвых Превосходительств, командиров обгаженных ночных горшков. Вот такая наша песенка тюр-люр-лю…
Она была, как и их поступки: ребяческой и жестокой. Истоки ее лежали в крестьянских ругательствах; в искаженных евангелиях; в тайных похоронах, когда над гробом не произносят ни благословений, ни молитв, как не произнесут их над гробом, в котором увезут из пансиона «Конь» умершую накануне Серену Пеццали; и в заунывных песнях сумасшедших домов:
— Баба жаба, ути-ути, ути-ути, баба жаба. Песенка тюр-люр-лю…
В крамольных куплетах:
— Ди Рудини, жадная глотка, только жрет, пьет да…!
Они пропели это все вместе, подходя к парапету и по сигналу одновременно освобождая руки: летя к откосу железной дороги, куртки неуклюже имитировали своих орлов, галстуки переплелись и образовали круги. Пистолеты они оставили.
Когда Итало Мори услышал выстрелы, он, не понимая, бояться ему или ликовать, спросил себя: «Кто это? Какой-то обезумевший военный? В таком случае могли возникнуть осложнения. Или, наоборот, провансальцы?» Он тут же уверил себя: «Провансальцы!» Это была удача. Казначеи передвигались, имея при себе, с согласия префектов, оружие и разрешение воспользоваться самым незначительным предлогом для того, чтобы устроить бойню, в результате которой эти мерзавцы будут раз и навсегда стерты с лица земли.
Месяцами, годами они их поджидали. Уверенные в их существовании, знающие о них все, до мельчайших деталей, хотя провансальцев никто никогда не видел, так что волей-неволей приходилось признать хотя бы то, что они были хитрыми и опытными профессионалами.
Мори слез с кровати и, сколько ни искал, не нашел ничего, кроме халата Дзелии; чертыхаясь, он натянул его, поскольку годилась любая форма, тут даже их извечные враги не смогут возразить, ибо, по данным префектов, они сами носили в левом ухе цыганскую серьгу, на щеках у них были родимые пятна, на лбу — морщины, и были они хуже своих женщин, которые все до одной славились как воинствующие лесбиянки; будучи верными союзниками тунисцев, они верили в томления извращенного мистика Кришнамурти; их дома назывались Бонбон. Тогда как люди, подобные Мори, довольствовались Ортигарой и Изонцо.
Он бросился вперед, стараясь не споткнуться о крольчиху, которая каким-то таинственным образом все еще оставалась в комнате, объятая ужасом, и то пулей вылетала из-под кровати, то так же стремительно пряталась обратно. Только в конце лестницы, когда он уже высунул голову на террасу, он вспомнил, что табельное оружие не могло лежать во внутреннем кармане халата, и что у женских халатов обычно вообще нет внутренних карманов.
Дзелия увидела, как они появляются с воинственным видом, некоторые даже вооружились опасными бритвами, которые девушки держали в номерах для самозащиты; но у пистолетов в стволе были пули, и поэтому, когда они наставили их на казначеев и велели подойти к парапету, те безропотно подчинились.
— Теперь, — пригрозили они, — мы сбросим вниз вас, как сбросили ваши вещи.
Потом приказали Мори:
— А тебе придется повторить здесь тройное сальто, которое ты нам показываешь в номерах.
Тем временем подошла Ольчези в сопровождении своих помощников; на ее взгляд, во всем было виновато зеркало инфанты.
— Прыгай, Небесная Серенада!
И Мори прыгнул.
Тогда раздался смех, который, как показалось Дзелии, продлился несколько часов. Он вырвался из уст ее подружек, служащих, клиентов, всех, кто проходил мимо; и продолжал звучать даже тогда, когда отряд полицейских в парадной форме вломился в дом и обыскал его сверху донизу, но, не обнаружив следов ни провансальцев, ни каких-либо иных подрывных элементов, продолжил свой путь к плацу.
Смех, который не заглушили ни музыка военных духовых оркестров, ни звон колоколов; который послужил ответом Ольчези, когда она позвала Дзелию, чтобы сообщить ей о том, что, по приказу Мори, подлежащему выполнению в воскресенье, то есть в тот же день, она должна покинуть пансион. Может быть, ей это просто казалось, но смех продолжался и тогда, когда день клонился к вечеру и она совсем уже собралась уходить: она услышала, как он пронесся по опустевшим ящикам, по убранной постели, по запертому чемодану, отразился от зеркала инфанты.
Спускаясь по наружной лестнице во двор, она увидела только руки своих подруг. Они махали ей на прощание, аплодировали, тянулись вверх, чтобы зажечь первые лампы, закрывали окна, уже уставшие от того множества историй, которые вскоре случатся.
Эти руки, подумала она, неподвластны времени.
— Куда едем? — спросил ее шофер такси.
— Куда хотите, — ответила Дзелия.
— В парке еще играют.
— В парк, — одобрила Дзелия.
Она заметила, что странным образом земля выглядела чистой, а небо казалось темной горой.
Шофер, который от ее молчания чувствовал себя не в своей тарелке, воскликнул:
— Печальные истории любви!
— Что в этом смешного? — спросила Дзелия.
— Ничего. Это я так.
VIII
Он принимал роды у коров и делал аборты женщинам.
Ренато Ченси, которого прозвали Гореплаватель, потому что он когда-то дерзко отправился на поиски приключений в Адриатическое море, откуда вернулся весьма грустным, жил в Порто ди Леванте: точнее, на острове Альбарелла. Он плавал от конюшни к конюшне на лодке, на носу которой был светящейся краской нарисован петух, и казалось, что этот петух с большим красным гребнем парит над окутанными туманом болотами. Время от времени Ченси арестовывали, потому что он не был ни ветеринаром, ни акушером, и из-за его связей с Пезанте. Но никто не мог отрицать его способности возвращать к жизни даже задохнувшихся в утробе матери телят.
Больных животных он лечил в районе Буза ди Бастименто и Сканно дель Пало в заводях, где вода была чудотворной, и о которых знал только он. О его появлении из тумана еще раньше, чем светящийся петух, возвещало жалобное мычание быков и коров, и мы говорили: Гореплаватель едет.
Женщинам, которые хотели сделать аборт, приходилось отправляться в пустынные уголки острова Альбарелла, где было безопаснее, а он ждал их, сидя на мостках, плотно закутавшись в клеенчатый плащ. Я устал, — говорил он, — от того, что в этом мире все постоянно беременеют. Поэтому он жил один и о его связях с женщинами не было известно абсолютно ничего. У него были свои колдовские методы. Тем, у кого срок был больше трех месяцев, он советовал отправиться к перевозу Ка Тьеполо и искупаться в заводи, которую называли Морина, то есть «Смугляночка»; она была расположена в месте, где можно наблюдать обратное течение, удивительное явление природы, суть которого в том, что морские волны сталкиваются с водами реки, побеждают их и вынуждают течь вспять, так что кажется, что По стремительно возвращается обратно к источнику.
Ченси утверждал, что в этом месте действуют противоположные силы пресной и соленой воды, и, как везде, где природа ведет себя странно, провидение проявляет себя здесь самым таинственным образом. Может быть, это была одна из тех сказок, которые он очень хорошо умел сочинять, но она действовала, и во время прилива на поверхности воды в заводи Морина часто можно было заметить головки девушек вперемешку с заградительными буйками; прилив наступал, поглощая отмели, как лава, и устоять перед ним мог только тот, кому уже нечего было терять.
У меня после этого осталось воспоминание о подъеме все выше и выше, во время которого я не открывала глаз, представляя, что возношусь к какой-то розовой мечте.
Ченси явно находил удовольствие в сценах, которыми сопровождал свои операции. И тогда, когда пользовался железом или палочками, обмотанными паклей, и тогда, когда давал выпить колдовского напитка или заставлял подпрыгивать до потери чувств, он очерчивал вокруг женщины круг, изображающий солнце с вырывающимися из него языками пламени; смуглый, худой, но крепкий, как дуб, со светлыми глазами жителя далматинских островов, он рисовал эти и другие знаки с видом демона. Он пытался заставить нас поверить, что в него вселяется некая сверхчеловеческая сила, а мы притворялись, что верим.
То, что на самом деле он просто развлекался за наш счет, рисуя вокруг нас солнца, ослов с двумя головами, тыквы, огромные, как живот беременной, и божества любви, украшенные перьями, как индейцы, было ясно по той arlia, которая сквозила в его взгляде. Я помню, что он бросал в костер ароматические травы, чтобы воздух не пропитался запахом крови и дезинфицирующих веществ, как в комнатах городских мясников, не скрывающих своего отвращения и злобы, отчего женщины чувствовали себя совершенно одинокими, как чувствует себя человек, оказавшийся на краю света; по зрелому размышлению я поняла, что это отвращение и злобу цивилизованная Италия, с которой я познакомилась, испытывала по отношению к самой себе, потому что ее общество, состоящее из мужчин, женщин и мыслителей, испытывало ужас перед жизнью, которую давало, и когда оно подводило итоги своего выживания, превращая их в философские теории, и говорило даже о такой безумной форме будущего, какой является бессмертие, на самом деле ему хотелось бы увидеть себя стертым с лица земли.
К этому вела — и всегда будет вести — Италия лжи: потому что, если люди, исчезая, смогли бы перестать притворяться или вынуждать притворяться других, они стали бы безмерно счастливы.
Ченси, наоборот, обладал способностью делать вещи естественными, с уважением относясь ко всем нам. И именно те, кто толкал девушек к нему, кто впоследствии заставил его исчезнуть в горестном море его имени, — выдающиеся представители высокой нравственности и создатели ее законов — проявляли наибольшую жестокость, если их задевали за живое. Это они говорили: сплаваешь на лодке с петухом, пустишь кровь, и быстро обратно. Воспользовавшись абортами как предлогом, они задумали наказать его за то, что на острове Альбарелла он давал приют самым разным людям, которых разыскивала полиция, так что потом их уже невозможно было обнаружить в лесах и болотах; и пользовался девушками для Поездок Тобре, которые он, по мнению одних, организовывал для мафии, а по мнению других — для подпольщиков: речь шла о сопровождении людей, скрывающихся от правосудия или замешанных в противозаконных действиях, чтобы обеспечить им прикрытие, и девушки, которые соглашались на это за приличные деньги, выдавали себя за жен, сестер или невест тех неизвестных, к которым их прикрепляли, в большинстве своем ничего не зная о цели и смысле Тобре.
Я этого боялась и избегала; но три раза соглашалась, так как не могла постоянно отказывать Ченси, к тому же мне нужны были деньги. Одну из таких поездок я помню особенно хорошо, потому что она поставила передо мной много загадок и повлияла на мою жизнь в те годы, хотя бывают моменты, когда мне кажется, что ее никогда не было, и мы с Ченси ее только вообразили.
Он тайно встретился со мной в Сканно дель Пало весной 30-го и предложил хорошо заработать. Я спросила: что на этот раз? Он объяснил, что мне придется провести несколько дней с неким Джулио Пезенти, которого я раньше никогда не видела; Тобре начнется в Помпонеско, откуда по реке нам предстоит отправиться в Порто Толле. Кроме совместного путешествия, добавил Ченси, ты проживешь с ним две недели там, где он скажет, это время будет неплохо оплачено; всем будешь говорить, что вы с ним вместе уже год. Он дал мне несколько листков бумаги с описанием всех событий, якобы случившихся со мной за этот год, — это я должна была выучить наизусть — и довольно скудными сведениями о характере Пезенти, который значился под фамилией Фалько.
Но в Тобре нас будет трое, мы и еще один пожилой человек, который будет выдавать себя за рабочего.
Я спросила:
— А почему за разнорабочего?
— Пока это тебя не касается, — ответил он, — а потом сама поймешь.
Инструкции в подобных случаях были самым важным делом, и горе тому, кто их нарушал. Начинались они с так называемой литании, то есть версии, которую следовало излагать, если начнут задавать вопросы; моя выглядела так: «Вы в управлении полиции хорошо меня знаете: это мои гарантии, потому что вам известна вся моя подноготная…»
Пока я слушала, я думала, что Тобре нравится мне все меньше и меньше, что некоторые девушки расстались из-за этого с жизнью, а многие — со свободой; я сказала: послушай, Ченси, если на этом парне висит убийство, я — пас. Никого он не убивал, заверил меня Ченси, более того, когда вы познакомитесь, ты очень удивишься, потому что он такой образованный, как профессор. Тем хуже, возразила я, убийцы с такой внешностью пугают меня еще больше.
Ну и черт с тобой, не выдержал он.
Я попробовала вызвать его на откровенность и прямо спросила: а почему ты это предлагаешь именно мне? И Ченси ответил: потому что на этот раз придется не просто ограничиться помощью, надо будет смотреть дальше; истинная цель этой Тобре не имеет ничего общего с обычной уголовщиной, никакой вульгарности, никакого насилия, и если тебе и смогут предъявить какое-то обвинение, так только в том, что ты действовала из благородных побуждений. И напоследок сказал: мне нужна твоя голова.
Я согласилась в основном из любопытства, но предупредила: я иду на это потому, что ты сказал, что ценишь мой ум, но я тебя знаю, Ченси, ты помогаешь коровам рожать, а нам делать аборты, ты любишь выведывать то, что люди скрывают и стремишься сделать так, чтобы их самые интимные секреты зависели от тебя, потому что жизнь отодвигает тебя в сторону, ни один из этих секретов жизни и смерти ни разу тебе не достался, и свой остров Альбарелла ты носишь в сердце. Ты хотел бы, чтобы все, что происходит в мире, было похоже на тот огромный механизм, который ты себе воображаешь, потому что у тебя, как у всех, кто живет на обочине жизни, изощренные фантазии и звериное чутье, но помни, что реальность — совсем не то, что твои Тобре, как их ни называй, хоть проклятыми, хоть благословенными.
Необычно покорный, он закрылся шапкой, чтобы не смотреть на меня, и, уходя с отмели к своей лодке с петухом, держал плечи уже не так гордо, как обычно. Я подумала о двусмысленной фразе, с которой он мне вручил деньги: то, что ты поняла меня, подтверждает, что то, что ты едешь с Пезенти, правильно, но помни, что никогда не следует поддаваться очарованию ни одного мужчины, ни одной идеи, и думать нужно только о выгоде.
Фразу эту я начала понимать, когда Ченси у меня за спиной закричал: возвращайся! И я, уходя по отмели, крикнула в ответ: возвращайся! Так мы прощались друг с другом — даже те, кто не отправлялся навстречу приключениям, а оставался на своей отмели и не понимал, откуда должен был вернуться, поскольку за всю свою жизнь ни разу никуда не уезжал.
Лодка отошла от берега Помпонеско, и Дзелия проводила взглядом ее тень, которая перемещалась по широким лестницам плотин и понтонам, безлюдным, как аллеи, ведущие вглубь материка, и далекие площади, окаймленные колоннами: это одиночество продлилось до Дозоло. На реке в это время наступил мертвый час, когда люди, исчезая, кажется, демонстрируют собственное изумление перед тем, что они — люди воды. Дзелия узнавала молчание реки, огни в старых руслах, чувствовала ее, как некое глубинное измерение самой себя, которое объяснялось только принадлежностью к общей магии.
Пейзаж оживился, когда показались плотины Мильорини, и они прошли мимо обломков старого понтонного моста. Здесь пожилой человек спустился по лесенке и сел напротив Дзелии рядом с устало дремавшими рабочими из песчаных карьеров.
— Чезаре Карра, — непринужденно представился он.
И сразу вполголоса начал свою литанию:
— Я не социалист. Не коммунист. Не анархист. Меня не привлекали к суду ни по политическим, ни по уголовным обвинениям. Я перепробовал множество занятий. Вот уже пять лет держу механическую мастерскую в Виадане, лицензия в порядке.
Он говорил, глядя в землю. Потом закурил короткую сигару.
— Мне шестьдесят лет и у меня один принцип: не лезть в чужие дела. Я знаком с Гвидо Пезенти, так как его мать — урожденная Годи ди Казальмаджоре, а мой отец служил в этом благородном семействе дворецким.
Дзелия дождалась, пока он закончит, и в свою очередь начала:
— Вы в управлении полиции хорошо меня знаете: это мои гарантии, потому что вам известна вся моя подноготная. Во всяком случае, я никому никогда не причинила зла, только себе. У меня никогда не было ни желания, ни возможности заниматься политикой. У меня нет никаких взглядов, меня интересует только моя скромная жизнь, жизнь простой женщины; ни разу, хотя у меня и была такая возможность, я не скомпрометировала высокопоставленных лиц, с которыми встречалась, так что они могут вспомнить обо мне только хорошее. Это неопровержимо доказывает мою благонадежность, имена и адреса людей, которых я имею в виду, я могу вам предоставить.
Я совершенно точно помню, когда встретилась с Пезенти, это было на следующий день после знаменитого пожара на сахарном заводе Тавернелле, 12 апреля прошлого года, на празднике в Мотта Балуффи, я тогда пошла на танцы в Босконе делле Кавалле. У меня есть свидетели, которые могут подтвердить, что, как только мы ушли с танцплощадки…
Карра кивнул, продолжая разглядывать носки своих ботинок.
— Хорошо, — одобрил он.
Но Дзелии показалось, что он ее совершенно не слушал. Она увидела, что он разворачивает газету и демонстративно раскладывает ее на соседнем сиденье.
— Это трудная Тобре, — сказал он.
— Почему? — спросила Дзелия. — Ченси говорил, что все делается с самыми лучшими намерениями. Складывается впечатление, что это мы должны были заплатить за право участвовать.
— Гореплаватель все время врет.
Гвидо Пезенти появился, когда в Габбнонн, белых, как солончаки, зажигали первые огни. Они обменялись рукопожатиями, пристально посмотрели друг другу в глаза; Дзелия поняла, что Карра тоже никогда с ним не встречался. После чего они замолчали, глядя в пустоту: это был самый неловкий момент Тобре. Притворство одного впервые столкнулось с риском не суметь приспособиться к притворству другого; инстинктивные симпатии или антипатии, чтобы не сказать недоверие и страх, могли непоправимо испортить отношения.
Пезенти тоже продекламировал начало своей литании:
— Что касается чувства, которое я испытываю к Дзелии Гросси, могу сказать, что это главное, что у меня есть в жизни. Своими ошибками эта женщина помогла мне понять мои; своим характером она помогла мне обрести доверие к обществу, к которому я в прошлом относился скептически. Сейчас я другой человек, способный придать смысл даже своей работе, которую можно было бы считать просто демонстрацией определенной ловкости, если бы достигнутые мной успехи не убедили меня в том, что посредством этой новой и вместе с тем старой, как мир, формы отваги я высоко несу знамя нашей Родины во всем мире. Подобными успехами я всецело обязан Чезаре Карра, без помощи которого в крупнейших столицах Европы…
— Европы? — поразился Карра.
— Да, — подтвердил Пезенти. — В Париже, в Берлине, в Варшаве…
— В Париже?
— Я вам расскажу про эти города, и не только про них, с такими подробностями, что вам покажется, что вы прожили там всю жизнь.
Наступила ночь. В Скордзароло сигнальные огни постоянно мигали на горизонте, и не ощущалось ни малейшего человеческого присутствия.
— А что у тебя за работа? — неожиданно спросила Дзелия.
Впервые Пезенти посмотрел на нее действительно внимательно.
— У нас будет время поговорить.
— Вы серьезно? — отреагировал Карра. — Это Тобре, а не увеселительная поездка. Нас могут прикончить даже здесь.
— Да, — признал Пезенти. — Прошу меня извинить. Я как раз думал об абсурдности нашего положения.
— А в чем дело? — с подозрением спросил Карра.
— В том, что я мог бы оказаться кем угодно. И обмануть вас, говоря, что я такой-то, будучи на самом деле совсем другим. Но, несомненно, я одинокий мужчина, у меня нет возлюбленных.
Он улыбнулся Карре:
— И механиков тоже.
— Это нас мало волнует, — парировал тот. — Нам платят не за то, чтоб мы тебя жалели.
Пезенти по-прежнему улыбался.
— Я не для вас говорю. Я имею в виду, что одинокий человек выглядит более подозрительно. Мир боится одиночества еще больше, чем смерти, и поэтому не доверяет существам одиноким. Вот почему вас отправили вместе со мной в это путешествие.
Карра откинулся на спинку, демонстративно отказываясь от почтительной позы, которую сохранял до этого момента.
— Значит, это твоя первая Тобре, и ты даже не представляешь, что же это такое — Тобре. Всегда будет так, что тот, кто на нее соглашается, разделяет чье-то одиночество. Иначе какой бы в ней был смысл? Ты даешь объяснения, которых у тебя не просят, и выдаешь себя. Это говорит не в твою пользу.
— Это правда, — признал Пезенти. — Вам придется научить меня некоторым уловкам.
— А ты не мыслитель? Из тех, что вместо философских теорий придумывают преступления? Суть, впрочем, от этого не меняется.
— Вид у него именно такой, — с иронией выпалила Дзелия.
Маяк, показавшийся над массивными, вросшими в землю стенами, возвестил, что они приближаются к Бор гофорте. Карра выглянул в иллюминатор и принялся осматривать местность с таким видом, словно развалины австрийской крепости могли скрывать какой-то знак, имеющий отношение к ним. Он мгновенно обернулся, когда услышал, как Пезенти воскликнул:
— Я простой акробат.
— Акробат?!
— Я уже работала с цирковыми акробатами, — вмешалась Дзелия, — и с типами, которые прыгали с трапеции на трапецию на десятиметровой высоте.
— Я летаю повыше. Поэтому меня называют Соколом.
Они снова замолчали. Стихло даже глухое ворчание Карры: «Кто бы мог подумать, что я попаду в цирк? После стольких лет Тобре бок о бок с великими людьми». Гореплаватель начал темнить, придется с ним разобраться, с этим Гореплавателем. Дзелия не сводила глаз с профиля Пезенти в мерцающем свете фонаря, прикидывая: ему лет сорок, выглядит уверенным и в то же время ранимым; кажется, что погружен в размышления, но все решения уже приняты; выражение лица грустное, но ему безразлично, что он все потерял. Кроме того, впервые мужчина разговаривал с ней, интересуясь ею не только как женщиной.
Карра заснул. Немного спустя Дзелия показала рукой на одно местечко, и объяснила, что они проходят Сан Бенедетто По, где есть колокольня, на верхушке которой укреплена железная клетка.
— В ней держали пленников, пока они не умирали от жары и голода.
— Что ты пытаешься мне сказать? — спросил Пезенти.
— Что аббатство очень старое, я туда ходила еще ребенком, и мне рассказывали про Матильду из Каноссы, но этой клеткой пользовались всего два месяца тому назад. В нее посадили человека с Тобре; они надеялись, что он будет кричать, подтверждая тем самым, как жестоко они умеют наказывать, но он ни разу даже не застонал, так что никто ничего и не заметил. Люди отвыкли поднимать голову.
Они проговорили о страхе до самого Ревере, когда на борт поднялись таможенники. Карра мгновенно проснулся и, увидев их, начал:
— Я не социалист. Не коммунист. Не анархист…
Но это не понадобилось, потому что ничего не произошло. Таможенники внимательно посмотрели им в лица и ушли.
Из Порто Толле они отправились в Ка Дольфин, где расположились в заброшенном монастыре, прозванном монастырем Мелиорации, там были портики, которые вели в старые конюшни и ремесленные мастерские, а также в помещения, где жили семьи, которые, казалось, сбежали в крайней спешке, забыв кучу вещей. Все было засыпано соломой, даже внутренний дворик и гробница, в которой, как объяснил Пезенти, покоился солдат-мученик, в честь которого и был построен монастырь.
С башен взлетали целые стаи вальдшнепов.
Карра заснул на убогой койке размером не больше скамейки; зато на стене над ней красовалась величественная надпись: «Pius Episcopus Servus Servorum Dei»; ночью они слышали, как он читает ее вслух и замысловато ругается.
Из окошка в комнате Пезенти можно было разглядеть интерьер монастыря, и в определенное время дня мраморные плиты приобретали красноватый оттенок, а солнечные лучи создавали море света, ограниченное темными силуэтами колонн.
— Это просто чудо! — восклицал Пезенти.
— С такими чудесами, — возражал Карра, — не поешь и не спасешься во время Тобре.
— Ты не веришь в Бога?
— Не знаю. Надо посмотреть в инструкцию, которую дал Ченси.
Пезенти делал вид, что не замечает его иронии и беспокойства. Однажды вечером он заставил его и Дзелию спуститься к купели, и они оказались в окружении знаков вековых, торжественных церемоний, проходивших в величественном безмолвии. Неправильно поняв смысл этого собрания, Карра взял слово:
— Слушаем тебя, Сокол. Итак, объясни нам, от каких врагов ты скрываешься или каких врагов ищешь, сколько их, и опасны ли они.
— Один… — поколебавшись, ответил тот. — Только один. Но опаснее его нет никого на свете.
— Имя, — потребовал Карра. — Может быть, в какой-нибудь Тобре я с ним встречался и изучил его привычки. Очень важно знать привычки своего врага.
Пезенти с опаской подошел к своему нетерпеливому спутнику; казалось, он хочет понять, до какой степени это нетерпение, которое превращалось в вызов, было разумным; он стремился освободиться от груза невысказанного, и хотел, чтобы его перестали считать посторонним. Но, так ни на что и не решившись, он взял Дзелию за руку и подвел к купели, показывая на фигурки, которые ее украшали. Круг, похожий на хоровод ликующих ангелов, оказался колесом фортуны; рыцари-крестоносцы, если внимательно присмотреться, изображали королей, королев и валетов карт таро; в трапезничающих апостолах угадывались жирные чревоугодники, похожие на лодочников Дельты.
— Бог, который пользуется магами, — остроумный Бог, — прокомментировал он. — Это благоприятный знак, и ты можешь его понять.
По этой его манере излагать мысли, пользуясь фантастическими идеями, типичной для людей театра и напоминающей ей Идальго Анджели, Дзелии стало ясно, что он догадался о тайных сторонах ее истории и ее характера. Он пытался рассказать о существовании особой связи между вещами, о том, что достаточно исследовать их или позволить их фатальному присутствию, их магической информации исследовать себя, и ум станет ясным и освободится от подозрений и сомнений. Карра в знак протеста уселся в одиночестве на самом дальнем сиденье и заорал:
— Перестаньте сговариваться друг с другом! Ты нечестно играешь, Сокол. Ты все еще мне не доверяешь, и ты слишком гордый. Какая бы тайна ни скрывалась за твоей Тобре, не забывай о двух вещах: о том, что слишком гордые умирают первыми, и о том, что тебе ни за что не удастся обмануть меня своей болтовней!
На следующий день, когда они ужинали, с колокольни послышались равномерные удары колокола, и Карра вскочил на ноги, сжимая в руке револьвер. Пезенти внимательно прислушался к этим звукам, а потом спокойно продолжил есть, сказав:
— Сядь, Карра, и успокойся.
Но тот не подчинился.
— По договору никто из нас, без моего разрешения, не может иметь оружия. Разве Ченси тебя не предупредил?
— Предупредил. Но он еще добавил, что риск, на который мы идем, не просто огромный, но и… — Карра стукнул кулаком по столу, — реальный, как это дерево. От тебя же я слышу только рассуждения об ангелах, об остроумном боге, который меня почему-то не смешит, о колесах фортуны… Ты и сейчас недоговариваешь, пока кто-то, кого я не знаю, пользуется колоколом, чтобы отправить сообщение.
Пезенти пристально посмотрел на направленный на него револьвер.
— Вам, тебе и Ченси, нужно было обратиться к кому-нибудь другому, — заключил Карра. — От меня, если я не смотрю реальности в лицо, толку никакого.
— Пойди и закопай револьвер. Ты это сделаешь, потому что тебе платят за то, чтобы ты мне подчинялся.
Карра закопал револьвер под полом в колокольне, после того как обследовал ее сверху донизу и убедился, что там никого нет и не было. Прежде чем опустить его в вырытую в земле ямку, он расстрелял все патроны по теням, которые его окружали и с которыми до самой смерти он откажется вести переговоры.
Два дня Пезенти постоянно куда-то ездил и возвращался с загадочными свертками. Ночь он проводил в подвале, а на рассвете выходил и ложился спать. Дзелия и Карра коротали время за картами, но запустение, царившее в трапезной, куда постоянно залетали чувствующие себя лишенными власти вальдшнепы, мешало им отвлечься.
На третий день Пезенти вернулся на автомобиле и приказал им садиться; они добрались до равнины в районе Скардовари, над которой нависала возвышенность, а по периметру шли сплошные заросли тростника; на горизонте можно было разглядеть красные здания мелиорационных станций, из-за дымовых труб, какие принято ставить в области Венето, похожие на примитивные лодки народных праздников.
— Вот где мы устроим Май, — показал он. — Через десять дней.
— Май? — поразился Карра.
Пезенти объяснил: это общинный праздник, на котором в роли актеров выступают крестьяне и лодочники. Он описал мавританские костюмы участников, и рассказал о Майе, богине полей, и Маге, что на санскрите обозначает первое завершенное выражение, начало жизни. Теперь была его очередь посмеиваться над своим спутником, затуманивая ему голову сведениями, которые вызывали у того скуку.
— Понятно, — поспешил сказать Карра, уже убедившийся в том, что спорить бесполезно.
— Здесь выступят артисты, — уточнил Пезенти, пройдя немного вперед. — Они будут петь, играть и показывать сценки. А вот там поставят трибуну для представителей властей. — Он пристально посмотрел на них. — Кажется, будет Дуче. И принц Умберто.
Карра схватил его за руку.
— Ты опять сочиняешь. Сам подумай, разве подобные люди будут пачкать обувь в этих забытых Богом и людьми болотах?
Пезенти подтвердил:
— Дуче и принц Умберто. На большом параде по случаю Мелиорации. Он показал рукой на возвышенность:
— А оттуда полетят те участники праздника, которые умеют летать.
— Почему ты привез нас в Скардовари? — спросила Дзелия. — Почему ты с таким жаром говоришь об этом празднике, словно он — цель Тобре?
Пезенти ответил:
— Потому что так оно и есть. И я приехал, чтобы участвовать в празднике Весны.
Он разбудил ее глубокой ночью.
Дзелия оделась и пошла за Каррой, не спрашивая, в чем дело, но в какой-то момент он сам начал:
— Это тайна, которая не может принадлежать только мне.
Чтобы спуститься в подвал, надо было обойти здание по дорожке, которая шла рядом с монастырем. Она напрасно надеялась увидеть, как появится Пезенти:
— А Сокол? — спросила она.
— Сегодня его нет. Первый раз не ночует. Он вместе с кем-то еще взял машину, и я слышал, как они говорили про Контарину.
Проходы были перегорожены старыми гробами, прислоненными к стенкам распятиями, и образами, краски на которых выцвели, сохранив казавшиеся демоническими формы; сильно пахло гнилью. Карра привел ее в помещение, которое оказалось просторным и тщательно убранным.
— Вот! — воскликнул он. — Сокол заставляет меня ставить болты, крюки и растяжки на это чудо.
Он потянул за веревку, покрывало упало на пол, и перед ними предстала ослепительно сияющая конструкция. Карра некоторое время походил вокруг нее, непрерывно повторяя:
— Это похоже на шутку.
Потом показал на контейнер:
— Но вот здесь сжатый углекислый газ, а это уже не шутка… А вот эта прелесть — двигатель.
Дзелия пыталась понять, что представляет собой двойная рама, высотой до потолка, с вертикальными опорами, матерчатой обшивкой, упором для груди. Небольшой треугольный участок был раскрашен всеми цветами радуги, и на этом фоне выделялась голова Сокола.
— А сам он что тебе говорит?
— Ничего, как обычно. Работай и молчи. Он мне говорит только: сделай это, сделай то. А я его спрашиваю: да что же мы все-таки строим? Не волнуйся, говорит, увидишь.
Дзелия уверенно сказала:
— Это воздушный змей.
— Журавль, — добавил Карра.
— У Лодки Катойа, которая возила к позорному столбу убийц-рогоносцев, были такие же крылья, как у летучей мыши.
Они расхохотались.
— И ты думаешь, — небрежно спросил Карра, — что с помощью воздушного змея или журавля, или летучей мыши можно кого-нибудь убить, Дуче или принца Умберто?
— Кто тебе говорил про убийство? — спросила Дзелия, насторожившись.
— Никто, — смутился он. — Это просто мои предположения, я ведь все время думаю, пытаюсь как-то связать обрывки фраз этого сумасшедшего, и вообще в девяти случаях из десяти Тобре несет с собой смерть.
Дзелия по-прежнему пристально смотрела на него.
— Ченси дал нам слово: никого убивать не придется.
— Правда, — признал Карра. — Но если бы даже и пришлось, то в нашем случае это был бы представитель Власти, которого нельзя рассматривать как человека, ибо Власть бесчеловечна по определению.
— И ты тоже умеешь притворяться, как Сокол, или даже лучше, — уходя, сказала Дзелия. — Это помогает тебе прятаться и никому не верить. Насколько я разбираюсь в мужчинах, ты в глубине души всегда был полной противоположностью твоей литании: социалистом, коммунистом или, может быть, анархистом. Но по чьему-то приказу или из трусости повел себя с миром нечестно, и поэтому ты такой неуверенный и несчастный.
Они вышли из подвала, когда автомобиль Сокола въезжал во двор.
На следующее утро они поднялись с равнины Скардовари на возвышенность. Карра и Пезенти поддерживали части конструкции, и когда туман рассеялся, Дзелия увидела, что метрах в тридцати от края обрыва выдолблены гнезда, там, где они начертили круг и смешали солому с грязью.
Сокол просунул туловище в отверстие в центре аппарата и, пока Карра закреплял на шлеме рулевые тяги и застегивал ремни, приладил к рукам крылья. Он крепко сжал поперечную планку и оперся на нее локтями, пропустив вертикальные опоры под мышками.
— Порядок! — воскликнул он.
Он начал разбег; подталкиваемая ветром конструкция стала много легче. Сделав несколько шагов по склону, он исчез и снова появился метрах в пятидесяти от них. Конструкция зависла и, казалось, вот-вот рухнет на землю. Сокол из последних сил давил на перекладину, голова его откинулась назад, как будто он только что вынырнул на поверхность и жадно глотает воздух.
— Упадет, — обреченно сказал Карра.
— Знаешь, сколько у меня полетов? — говорил ему Сокол. — Сто. И с первого раза все пошло, как по маслу.
Он рассказывал ему об Отто Лилиентале и графе Дзамбеккари, о красоте человеческого полета.
— Может, оно и так, но он упадет. — И это мгновение, пока он неподвижно висел в небе, показалось ему вечностью. Но Сокол восстановил равновесие, просто взмахнув крыльями; чтобы компенсировать восходящие потоки, он отталкивался ногами, а чтобы затормозить, выбрасывал их вперед. Уже без напряжения, с непринужденным изяществом.
Они увидели, что он набрал высоту; когда боковой порыв ветра вывел его из равновесия, ему оказалось достаточно нырнуть отвесно вниз, чтобы восстановить его; и опять против ветра, исправляя неловкое движение. На этот раз Дзелии показалось, что он исчезнет навсегда.
Сокол взглянул на землю, которая была такого же цвета, как вода, на склон Джаретте и противоположный — Форначе; можно было разглядеть даже Валле Боккара. Он отдался радости изобретения все более совершенных виражей.
— Он просто счастлив! — воскликнул Карра. — Начинает забывать.
— О чем? — спросила Дзелия.
— О том, зачем он там. Будем надеяться, он об этом не забудет в тот день, когда понадобится.
Сокол спланировал к ним с громким шуршанием.
— Как акробат ты молодец, — признал Карра, пожимая ему руку. — Но пули летают еще лучше, и при этом ружье не ломает стрелку шею.
Все еще охваченный возбуждением от полета, Сокол засмеялся:
— Будь я стрелком, меня не пригласили бы на Май как чемпиона, и я бы не, смог заставить их смотреть вверх, пока ты будешь готовить ловушку.
Четыре дня он тренировался на равнине Скардовари. Однажды утром приехала машина, которая остановилась поодаль и так и простояла всю тренировку, после чего из нее вышли полицейские и зааплодировали:
— То, что вы делаете — просто чудо!
Но, пока один из них сторожил Сокола около летательного аппарата, другие приказали Дзелии и Карре шагать вперед к зарослям тростника на отмели. Они старались выглядеть вежливыми и все время повторяли:
— Просим прощения, мы просто выполняем свой долг.
Они скрылись из поля зрения, и Сокол мог видеть только красноватые верхушки камышей; наступила тишина, которую он попытался истолковать, но тщетно: он обнаружил, что равнодушно относится даже к тому, что может произойти что-то трагическое, и впервые осознал высокомерие, в котором его обвинял Карра. Это было противоречивое чувство, которое он мог сейчас оценить и которое отражалось в предметах: в каменной плотине, по которой пробегали неясные тени, в деревянных лачугах, казавшихся необитаемыми, но на самом деле битком набитых людьми — они просто спрятались при виде полицейских. Пейзаж равнодушный и вместе с тем полный злобы, похожий на него самого.
Почему ему не дано ощутить беспокойство, ответственность, которую с него никто не снимал, за ту абсурдную игру, которой он отдавал свою жизнь с чистой совестью революционера? И это он тоже понимал с абсолютной ясностью: их дело останется одной из игр, в которых нашла выражение его жизнь, неспособная выразиться иначе с тех пор, как он совершил свой первый полет, когда его сверстники начинали учиться какому-нибудь ремеслу, с тех пор, как зрители начали заключать пари на его смерть.
В сущности, они покупали билеты, надеясь ее увидеть: то, что он приземлялся победителем, их разочаровывало. Люди, подумал он, любят смотреть, как умирает чемпион и, таким образом, перспектива Мая не отличалась от сотни предыдущих.
Пока полицейский осматривал летательный аппарат, Пезенти думал о Ченси, беспощадно разъяснившем ему некоторые рискованные моменты; на всякий случай он нарисовал ему картину погружения арестованных головой в воду, описал особые козлы, на которых человека распинают с широко раздвинутыми ногами и обрабатывают стрекалом, которым погоняют волов, о личном досмотре, с необыкновенной легкостью превращающемся в акт насилия, особенно если досматривали женщину. Он рассказал, как мужчины, даже такие крепкие, как Карра, падают замертво с воспаленной головкой и яичками.
Речь шла об импровизированных допросах, которые полицейские проводили в труднодоступных местах реки и которые называли «Am Masi».
Но Сокол, с его глубочайшим пессимизмом, трансформировавшимся в смирение и затем в холодность, уже не сознавал ни зла, ни добра. Его чувства были исступлением циника, или просто героя, вышедшего из шкуры шута, который оценивает спектакль, как нечто, ему чуждое. И он сомневался в том, что его поступок в день Мая будет оценен менее высоко, если его совершит какой-нибудь акробат, а не непреклонный борец за идею.
Его не оценят, к нему отнесутся с иронической снисходительностью, поскольку он принадлежит только самому себе, что идентифицировалось с этим аппаратом, к которому он прикоснулся рукой, ибо тот казался ему еще горячим от полета. Чтобы победить в борьбе с классом, не нарушая естественного хода вещей, необходимо самому принадлежать к какому-нибудь классу, заключил он; а сейчас ему хотелось закричать от ярости.
Он возненавидел идеи, партии, в своей ненависти слив воедино диктаторов и бунтовщиков. Он возненавидел и тот принцип, который вдохновлял его до этого момента: важны только факты, душа есть только в фактах. Я всегда останусь акробатом, сказал он себе, как Ченси останется бродягой с Тобре, и нас обвинят в том, что мы действовали ради того, чтобы устроить спектакль, и совершали поступки, не подобающие нашему жалкому положению.
Его взгляд упал на сапоги полицейского, они показались ему сапогами несчастного человека. Вот индивидуумы, подобные этому, признают важность его поступка, хотя бы для того, чтобы осудить его и подвергнуть наказанию. Он ощутил необъяснимую потребность единения с ним.
— Ты не боишься на этом летать? — спросил полицейский, перестав осматривать аппарат.
— Боюсь, — ответил он. — Просто смертельно.
Тот посмотрел на него с презрением.
— А я нет, — парировал он. — Уж я бы не испугался.
— Храбрость, — улыбнулся Сокол, довольный тем, что обнаружил, что полицейская ищейка остается полицейской ищейкой, — это большое счастье для того, у кого она есть.
Они оба обернулись, когда стая птиц вылетела из зарослей тростника, где единственные прозелиты Сокола продолжали нести свой крест.
Карра продекламировал литанию, но вполголоса, не стараясь ею прикрыться, впервые обратив внимание на то, что она выглядит смехотворно; он заметил, что слушает ее в одиночестве, потому что, несмотря на то, что он стоял с поднятыми руками и повернувшись спиной, как ему было приказано, никто не обращал на него внимания. Сапоги погрузились в воду, густые заросли тростника мешали дышать, зеркало болотистой заводи ослепляло стоявшим в зените солнцем.
Он слышал какой-то звук, словно ломались ветки, но звук этот — звук боли — исходил все-таки от человека; он понял, что боль, когда вступаешь с ней в контакт, обретает простую и неизбежную истинность. Так звучал голос Дзелии, когда ее колени бились о дерево. Он, утверждавший, что в жизни видел все и ничто уже не может произвести на него впечатление, не осмеливался обернуться, и испытывал постепенно усиливающееся восхитительное, чудовищное ощущение, что его не тронут, ощущение, которое, подобно растущему чувству голода, не оставляло места ничему другому. Они продолжали смешно продвигаться вперед, сапоги увязали в грязи и снова вытаскивались на поверхность, в отрывочных фразах смешивались страдание, развлечение, безграничное чувство вины. У него не было сил даже на то, чтобы опустить руки и крикнуть всем своим существом, как ему хотелось:
— Идите к черту и вы, и Сокол, и летательный аппарат, да будут прокляты Бог и эта земля!
Он замер в молчании, стараясь дышать, как можно тише, чтобы не привлечь внимание, и смотрел на охотящихся в камышах чаек, которые, как заведенные, пикировали с абсолютной уверенностью, что схватят добычу, и, промахнувшись, взмывали в небо.
Так он и стоял, не шевелясь, и вдруг понял, что полицейские ушли.
Когда они возвращались в монастырь, он, как ни вглядывался, не смог увидеть на лицах Сокола и Дзелии никаких следов происшедшего, и они молчали.
— Скажите хоть что-нибудь! — закричал он.
На него не обратили внимания и продолжали вести себя безразлично. На высоте Джаретте они опять столкнулись с машиной полицейских, которые продолжали нести свою необременительную службу. Один из них приветственно помахал рукой:
— Счастливого Мая! — И потом: — О, эти акробаты! Эти акробаты!
Настал день Мая.
Сокол надел новый сценический костюм и несколько раз выглянул из окна, посмотреть, какая погода: туман и солнце постоянно сменяли друг друга в районе Полезине Камерини; он подумал, что, во всяком случае, день будет ясным.
Они отправились на равнину Скардовари, и Карра был вне себя от радости, потому что близилось завершение, и, каким бы оно ни оказалось, потом он о нем больше думать не будет, а пока музыка на плотинах и звон колоколов оглушали его. Неожиданно он стукнул себя по лбу.
— Я с ней не попрощался! — воскликнул он.
— С кем? — спросил Пезенти, поглощенный своими мыслями.
— С этой Гросси.
Но времени возвращаться не было.
Дзелия не пошла на праздник Мая, поскольку поручение, которое ей дал Ченси, было выполнено еще накануне вечером. После обеда она должна была сесть на паром в Каʼ Тьеполо, и оставшееся время она использовала на то, чтобы сложить в чемодан вещи, разбросанные Пезенти и Каррой, и уничтожить таким образом все следы их пребывания.
Когда она пришла на пристань и села в ожидании парома, люди уже возвращались с праздника, который к тому времени закончился. Они спускались со стороны волока, и река покрылась лодками и флагами.
Мимо нее прошла какая-то компания со словами:
— Принц мертв!
По тому, как они держались под руки и со смехом толкали тех, кто шел навстречу, Дзелия поняла, что они были пьяны.
А другие говорили:
— Такого Мая, как сегодня, давным-давно не было. Молодец этот Сокол. Никогда не видел таких акробатов.
Еще в одной компании, которая несла знамя с изображением головы мавра, наоборот, бурно спорили:
— С Соколом никогда такого не случалось. У него всегда были самые лучшие аппараты. Говорят, он взорвался в воздухе, потому что у него была бомба, или в него выстрелили с земли.
И группа смущенных женщин:
— Бывают же люди, которым нравится, чтоб их убивали ни за что.
Многие проходили молча. И только один молодой парень тихо признался своему товарищу:
— Жаль. Чуть-чуть не хватило, чтоб все получилось, как надо.
Дзелия села на паром в Ка Тьеполо.
IX
Период забытья длился для меня до тех пор, пока в июле 34-го не произошел эпизод с так называемым номером Дольфуса. Я часами бродила по берегу Адриатики, проводила дни, не строя никаких планов, чувствуя себя прекрасно, как кошка, только немного мрачная, а кошки у меня были, причем самые странные из всех существующих, то есть морские, которые быстро сходят на берег из лодок, но по-прежнему предпочитают близкое небо приливу. Они знают мудрость портов, которая, в отличие от всех других, изменяет судьбы людей в зависимости от штормов.
Такой была и я. Мне нравилось сидеть на тех же самых подоконниках, хотя проходящие мимо люди меня не интересовали, и от людей я устала. Я была способна проводить часы на пирсах, в солоновато-горьком запахе моря и рыбы, от которого у меня усиливался аппетит, и возвращалась домой на рассвете, наступавшем с такой же леностью, которой отличалась я. Никогда больше мне не довелось испытать это радостное ощущение утра.
Наконец-то у меня было достаточно денег, и я позволяла себе тратить их весьма щедро, так что вокруг меня постоянно были самые разные люди, и не один из них хвастался, что приходится мне дядей, двоюродным братом или, на худой конец, каким-нибудь дальним родственником и знает меня с пеленок. Сначала я гнала их прочь, как собак, но потом мне стало любопытно, и я развлекалась, слушая, как меня каждый раз выдумывают заново, когда они рассказывали, как и почему они мои родственники; они изображали меня святее святой Риты, более страстной, чем Петаччи, более красивой, чем Паольери.
Чудеса Италии ничтожеств. Были и такие рассказы, в которые я сама почти верила. На многое они не претендовали. Я принимала их в гостиных отеля Реджина ди Каттолика, угощая обедом или ужином, или возила на прогулку вдоль побережья, позволяя свободно предаваться фантазиям. Я вспоминала Бастардов, которые проходили через Мелану и Бергантино, Костерщиков, или носителей огня, Пикадоров, пришедших из Испании и в отсутствие быков для убийства оставшихся на речных землях воспевать героические подвиги.
Они тоже начинали:
— Вот послушайте, такой версии вы еще не слышали! — И излагали варианты одной и той же истории.
В конце концов я им говорила:
— А теперь убирайтесь. Игра окончена.
Было уже так поздно, что берег моря становился бледным, и в гостиных отеля Реджина стулья громоздились один на другой, как мои мысли. И я лишний раз убеждалась, что замечательная выдумка — жизнь тем больше с тобой играет, чем больше ты ее недооцениваешь и считаешь смешной, и первая стремится забыть себя, хотя и ты тоже стараешься это сделать.
Реджину ди Каттолика называли Сладостные обманы.
Своей в высшей степени двойной душой, безупречно гибельной и извращенно ортодоксальной, в которой запретное рационально соединялось со строгостью нравов, она была обязана профессиональным качествам Джоунс Сангинетти, ее директора, и ее знанию людей. Обманы заключались в том, что все страсти там были бурными, а идеалы — чрезвычайно высокими; но потом, когда вы закрывали за собой дверь комнаты, от них не оставалось ни малейшего следа.
В Реджине все, вплоть до решеток, производило эффект, и каждый исполнял свою роль.
Приезжали разбогатевшие семейства из Большой Вены, отягощенные нервными заболеваниями и лишившиеся свободы. Сангинетти замечала, что несмотря на то, что они гордо выставляли напоказ превосходство подданных Габсбургов и распространяли «Немецкий реквием» Брамса, они принимали папье-маше за розовое дерево, гипс за мрамор, стекло за драгоценный оникс: с той же наивностью они предпочитали пепельницы в форме прусского шлема. Английские семьи, убежденные в том, что Бог направляет Короля, и только его одного, перемещались, утратив всякую жажду рая; мужчины — в большинстве своем чиновники Департамента Колоний, имеющие право на особую скидку, — любили охоту, которой занимались с брутальным восторгом, и многокилометровые прогулки вдоль пляжа; женщины, не сознавая истерии сожалений, которой они были поражены, предавались меланхолии в гостиных или молчаливыми группами сидели среди утесов, в атмосфере первых осенних бурь слушая, как разбиваются о них волны и стаи морских птиц. Только одиночество могло сделать их отпуск настоящим.
Французы досаждали поварам на кухнях; в подвальном кинозальчике они устраивали просмотр «А nous la liberté», чтобы поддразнить Сангинетти; они никогда не вставали, когда играли чужие гимны, и своим культом mot injuste оскорбляли в первую очередь немцев. Те были единственными, кто с чувством исповедовался в гостиничной книге, но кое-кто вписал туда стихи Брехта, впоследствии вычеркнутые чьей-то рукой: …Fehlte er — Wie trostlos dann waren — Haus, Bäume und See.
Для партийных бонз и их сотрудников Реджина была волшебным замком. Сангинетти понимала, что им, одержимым, требуется отдых, наполненный вполне конкретными безумствами; для этой цели им годилась даже проститутка, обладание которой давало ощущение мужественного экстаза (с кем еще, если не с женщинами, которых поставляла Сангинетти, они могли безбоязненно поделиться каким-либо личным или государственным секретом? Посмеяться над лозунгами режима? Заявить, боясь собственной смерти: «Наша ошибка в том, что мы убивали слишком изящно?» Поэтому Сангинетти, способной собрать на вечеринку тридцать девушек и предоставить их для кутежа за закрытыми дверями, удавалось убедить их отмечать у нее назначения и снятия с должности.
Надевая форму и произнося тосты за великое будущее, они допускали даже исполнение песенок, которые высмеивали их нелепость и говорили об их конце; слушая их, некоторые начинали стрелять по люстрам или из окон в сторону порта. Один выстрелил себе в висок. Дирекция проявила себя с самой похвальной стороны и представила самоубийство как несчастный случай.
Наиболее стойкие перед совращением созерцали море с балконов, воспринимая его как толпу народа, молчащую у их ног, уверенные в том, что существование без ценностей может быть восхитительным. Они прижимали руку к сердцу, убежденные, что центр государства переместился с площадей и из парламента сюда, в это избранное место, под сень орденских лент, и ему угрожали уже не идеи и покушения, а только годы и невзгоды времени. Потом они поворачивались на каблуках, и в широких зеркалах Реджины каждый видел себя зеркалом Европы.
Снова слышались пророческие слова: «Фашизм может столкнуться с трудными временами, жестокими падениями и поражениями, но он всегда будет возрождаться из пепла. Ему понадобится сто лет, чтобы созреть, и его возрождение произойдет в совершенно неожиданных формах». С сожалением они должны были признать, что в пору наивысшего расцвета этого, как его назвали, золотого века они будут уже давно в могиле.
Между тем семьи воротил, новой экономической власти, будучи матриархальными, несмотря на яркую внешность их мужских представителей, которые неустанно повторяли: «Государство — это мы, и только мы»; за роскошным ужином пристально смотрели друг на друга поверх стоящих на столах свечей и с гордостью игнорировали Историю, которая тем не менее зарождалась из их аристократических олигархий, и это молчание выдавало те постыдные поступки и компромиссы, о которых в эти выходные дни они заставляли себя забыть. Купленные ими адвокаты и консультанты делали невозможное, чтобы облегчить эту забывчивость и дать им возможность считать себя единственными буржуазными политиками: современной версией — «Государя» Макиавелли.
— Не терзайтесь, — любезно утешали они. — Вы вовсе не сторонники диктатуры. Просто вы по-другому ощущаете демократию. По вашей вине не проливалась кровь. У вас другое понимание смерти.
Из-за увенчанной головой льва двери в глубине помещения доносились мелодии из «Сельской чести» и «Паяцев», а также «Танец часов», исполнявшиеся в красном оркестровом зале, где в определенный час музыкальные вечера переходили в праздники высоких представителей режима. После кофе музыка начинала звучать с каким-то лихорадочным весельем, но постепенно становилась все более и более вялой в ожидании момента, когда придется уступить место. Жесткие нравственные принципы начинали поскрипывать, как старая мебель. Проходя между столиками в «пальмовый» или «скульптурный» залы, офицеры, которыми уже никто не командовал, принюхивались к тому, как воздух становится все более порочным и, вспоминая, что потеряли уважение к самим себе, бросали вызов ушам шпионов:
— Мне стыдно, что я итальянец!
Автоматические створки огромной двери начинали закрываться с тщательно рассчитанной медлительностью, чтобы обеспечить приток жуиров и уход наименее уступчивых танцовщиц; затем по ту сторону воцарялись смех и приглушенные крики девушек, а по эту — обеспокоенность и трусость благовоспитанных людей.
Когда раздавались выстрелы или какие-то неизвестные швыряли в окна камни, Сангинетти, стремительная и разгневанная, мчалась через парк, волоча по земле свое эксцентричное манто.
— Эта женщина, — восклицали мыслители, которые раболепно испросили разрешения вступить в Партию и мечтали об Академии Италии, — обладает очарованием гипотезы, но она конкретна, как факт!
Эхо выстрелов или звона разбитого стекла затихало, и они возвращались, стремясь элегантностью движений придать форму своему моральному ничтожеству, они принимали его как неизбежный противовес гениальности и верили в тиранию: в то, что тиран равен художнику; что мир таков, каким мы хотим его видеть, он — наше творение; что в классовой борьбе все есть суета. Затем, словно старые дамы, которые могли выбирать между фортепиано и шарманкой, они падали в кресла и засыпали.
Кто-нибудь в возбуждении от миновавшей опасности вставал и спрашивал:
— Не изволите ли объяснить, к какой Европе мы принадлежим?
Кто-то другой отвечал:
— В России уничтожают поляков.
Однажды ночью все это человечество, раздробленное на отдельные человеческие личности, так и не смогло сомкнуть глаз в темноте комнат — чтобы не уступить двум знаменитым глазам, которые, в люксе на втором этаже, безусловно, не спали, в соответствии с распространенной Сангинетти листовкой: «Глаза, которые сверкают и горят внутренним огнем».
Дзелия поднималась к ней в ее комнату.
Они пользовались любым предлогом, чтобы снова встретиться: неожиданными моментами счастья, ежедневными страхами; самой скукой, даже потребностью истолковать сон.
Джоунс Сангинетти было около сорока, но выглядела она лет на десять моложе; ее суровые серые глаза светились живым умом, а величественная осанка скрывала от посторонних взглядов моменты уныния, а то и отчаяния. Они проводили вместе целые вечера, непринужденно, обнаженные, как подруги, наслаждаясь покоем и предчувствуя: что-то должно случиться, что-то, что изменит человечество, что разделит нас, и, может быть, очень скоро мы окажемся вдалеке друг от друга. Из-за этого предчувствия они относились к самим себе с таким же вниманием, с каким человек всматривается в место, через которое проезжает, как будто, запечатлев его в памяти, можно остановить время.
Они не считали нужным прикрыть наготу, даже если официанты приходили с заказами; все было дозволено в этой огромной постели, неприбранной, как после изнурительного акта любви, но они даже не прикасались друг к другу. Исследовать друг друга с таким полным отсутствием стыдливости было чем-то большим, чем обладать друг другом; то, что оставалось повисшим в воздухе, было больше любой определенности.
Для Дзелии Сангинетти была единственной подругой в жизни, единственной, кого она уважала. Их дружба была странной и трудной, то есть плотской; возможной между теми, кто много познал телесно, причем не столько секс, сколько жизнь. Сексуальность придавала ей таинственность, при условии, что обладания не было; она приобретала силу от бесстыдной обнаженности, но очевидная нагота пробуждала память и предчувствие судьбы. На многие годы Дзелия утратила радость тела, и вот она обретала ее вновь, как после долгого сна молодости.
Ее тело снова начинало двигаться, обретало свободу, ощущение приключения; постепенно она переставала приписывать ему ответственность, которую мы часто приписываем фактам, словно они обладают собственными сознанием и волей. Она делилась этим с Сангинетти, исповедуясь с беспощадной откровенностью, говоря, что в некоторых отношениях та напоминает ей Тучку, но Тучка воплощала реальность, противоположную ее реальности, тогда как теперь они открывали, что дружба есть принятие в других нас самих.
Она снова принимала себя, уверенная в моральном, духовном росте, который, как-то незаметно для нее самой все-таки произошел.
Когда Сангинетти одевалась и красилась, готовясь покинуть мир комнаты, которая была их сообщницей, и вернуться к своему трудному ремеслу, отдавать и получать приказания, Дзелия проскальзывала ей за спину, и они обе смотрелись в зеркало. Однажды напряжение этого момента достигло такой силы, что Сангинетти, резко повернулась и поцеловала ее, чувствуя, что они — единое целое…
Перед ужином они катались в карете вдоль побережья. Они останавливались за волнорезами: всегда в одном и том же пустынном месте, на которое Сангинетти смотрела отстраненно, словно уже забыла его за время, прошедшее с предыдущего вечера. Море билось об основание полуразрушенной аркады; взгляд женщины скользил по диким цветам, пыльными кустами выбивавшимся из щелей, по квадратной башне, по дворику с колодцем, окутанным гробовым молчанием.
Островок дель Фаро, напротив, по размерам был немного больше того кусочка пляжа, где они останавливались, но слабый свет с запада заставлял его казаться огромным и усиливал ощущение загадочного ожидания, связывавшего два этих места.
Дзелия не задавала вопросов.
Сангинетти отправлялась домой только тогда, когда ночь полностью уничтожала пейзаж; она казалась обессиленной и откидывала голову на спинку сиденья, а свет маяка заливал ее мертвенно-бледным светом.
Однажды вечером она сказала:
— Там мы согласились на то, чтобы убили человека.
У ворот Реджины в ожидании событий всегда собиралась небольшая толпа. С позволения дирекции она окружала гостиницу по разным причинам: тут были молчаливый протест, один из способов обмануть безработицу; надежда на работу или какое-нибудь чудо, возможность поглазеть на богатых. Дзелия видела, как эта толпа появляется из тумана: бродяги или матросы берегов По, рыбаки, лишившиеся своих лодок, изгнанные по политическим мотивам крестьяне, чьи семьи оставались на скамейках эспланады; если кто-то вызывал их на разговор об их несчастьях, они рассказывали о паводках и заморозках, не называя истинных виновников.
— В этом году, — говорили они, — снега выпало видимо-невидимо.
Приходили оркестранты из разогнанных оркестриков; цирковые силачи и клоуны; охваченные лихорадочным возбуждением лодочники с Тибра, которые погрузились на пароход в Брагоццо дель Соле, рассчитывая добраться до Америки, а сейчас сидели на земле, стыдясь вернуться домой.
Ждал, на свой лад, и Энцо Корви.
Тот, кого впоследствии запомнили на Адриатическом побережье как руководителя одной из самых жестоких и безумных волн репрессий сороковых годов, был тогда заместителем комиссара полиции и разъезжал по округе с миролюбивым видом, причем вел себя так странно, что казался просто посредственным, чтоб не сказать хуже, исполнителем воли государства.
Говорили, фамилия Корви как раз для него подходит. Но это был ворон с мокрыми перьями, который, к всеобщей радости, никогда не превратится в орла.
То, что он не вызывает никаких чувств, даже презрения, не говоря уж о страхе, он сознавал и, казалось, это его не угнетало; напротив, хвастаясь тем, что у него свифтовское чувство юмора, он первым принижал себя, признавая, что у него нет выдающихся качеств, но в то же время провозглашал, что только над человеком действительно трагическим, то есть не испытывающим никаких иллюзий и разочаровавшимся даже в инструкциях, которые он обязан выполнять, можно смеяться и, оскорбляя его, радоваться.
Он, отдаваясь каждодневной рутине, желал себе, чтобы неожиданностей было как можно меньше. После службы он неторопливо отправлялся в Реджину по малолюдным улицам, между старыми домами, многие из которых были разрушены. Он заходил внутрь, пересекая дворики, заросшие чахлым кустарником, и его чувства просыпались от запаха пыли и разложения; он садился на груды кирпичей, его внимание привлекали растрескавшиеся полы, пепел погасших очагов, заколоченные досками окна.
Если вещи могут подсказать, на что похожа душа человеческая, то он обнаруживал ее именно здесь, в окружении деталей этого заброшенного мира. Ему нравилось, что вокруг не было признаков жизни, в крайнем случае, можно было услышать, как где-то по полю толкают тачку; точно так же ему нравился погруженный в темноту город, в котором освещенными оставались только несколько окон. Он изучал тени, и постепенно из них рождались контуры сломанных и бесполезных предметов; в этом занятии было нечто общее с его работой, состоявшей в том, чтобы сломать допрашиваемого и выжать из него правду, как ядовитый сок.
Ему хотелось, чтобы кто-нибудь обнаружил его, подобного жрецу, в этом странном месте и, встревоженный, обратился бы в бегство. В дни же, когда он чувствовал себя наиболее тревожно, он, наоборот, ходил смотреть, как наступает прилив, как сильные порывы юго-западного ветра обрушиваются на лодки, и подставлял ветру грудь, вступая с ним в поединок.
Придя в Реджину, он садился в первое попавшееся кресло и разглядывал толпу у ворот и прохожих, пытаясь угадать профессию то одного, то другого.
— Тренировка проницательности, — говорил он.
Если его видели расхаживающим по гостиным с опущенной головой, это означало, что он в очередной раз подвергся какому-то унижению; заложенные за спину руки казались застывшими, лицо еще более заострившимся, рыжие волосы поредевшими.
И в гостинице он не скрывал своих странностей, таких, например, как явное недоверие к тем, кто любил ярко освещенные места и не испытывал необходимости говорить вполголоса. Единственным, что предвещало жестокость, которой суждено было превратить его в другого человека, были как раз излишнее смирение, демонстрировавшееся в любых, самых тягостных обстоятельствах, манера держаться неназойливо, тщательно сохраняя дистанцию, и та фальшивая покорность, с которой он принимал дурное обращение.
Иногда в компании друзей он позволял себе побрюзжать на судьбу, которая уже столько лет была к нему несправедлива; именно в таких случаях он излагал свои взгляды. Он утверждал, что один сумасшедший способен превратить в сумасшедших еще сто человек, и поэтому этого сумасшедшего надо убить. Что, родись он более способным, он объявил бы себя анархистом Государства, как другие с удовольствием объявляют себя анархистами Бога. В таком случае он действительно смог бы посвятить себя небольшим политическим экспериментам, посредством которых можно произвести истинно революционные операции социального манипулирования: ибо настоящая революция состоит в том, чтобы прекратить безумный монолог человеческого скотства, окопавшегося на площадях и прикрывающегося знаменами равенства, которых развелось слишком много.
— Мое учреждение, — продолжал он, — и сами тюрьмы, которыми меня вынуждают пользоваться, я превратил бы в одну-единственную лабораторию для таких экспериментов и феноменов, лабораторию эксцентричного благонамеренного гражданина, наделенного добрым сознанием, и ради достижения моей цели я бы поостерегся отдавать предпочтение какой бы то ни было политической идее. Особенно близкой мне идеи у меня нет, как нет у химика любимого вещества из числа тех, которыми он манипулирует; я люблю, сказал бы я, даже не порядок, а мою концепцию порядка, и только в ней вижу, как реализуется задача, поставленная передо мной Государством.
Он уверял, что в один прекрасный день появится тот, кто, будучи более гениальным или более безумным, или более жестоким, чем он, выскажет в лицо миру принцип: «Демократия — это суеверие, основанное на статистике». Несмотря на всю неясность и вульгарность этого принципа, он не мешал ему верить в репрессии; не в те, которые можно предусмотреть, вроде прежних тюрем и каторги, а в другие, непредсказуемые и в определенном смысле пророческие, находящиеся на службе у фактических данных: поскольку в сложных районах, где, по традиции, фашизм разрастается вместе с анархией, а она — вместе с социализмом и коммунизмом, а эти, наконец, вместе с правлением Церкви, природа функции подавления может быть только театральной. То есть, она должна пользоваться неожиданными поворотами событий и кульминационными сценами, ни в чем не отклоняющимися от старых добрых канонов театрального зрелища; беда, если публика заранее узнает, что произойдет на сцене, заявлял он, она утратит любопытство и способность удивляться. В случае самого Корви она бы утратила страх.
В заключение он говорил:
— Я мечтаю стать главным режиссером подавления.
Эпизод с номером Дольфуса произошел в конце июля.
Привилегированный номер люкс в Реджине, когда был свободен, был для Дзелии местом все новых открытий. Она заходила в него поразмышлять о счастье. В атмосфере, пропитанной оставшимся от женщин ароматом, ей чудились страшные тайны и душераздирающие любовные истории; пышные обряды какой-то неведомой религии; и то, что она видела с балкона, менялось в соответствии с этими фантазиями.
Но однажды Сангинетти объявила:
— Люкс теперь табу.
— Но его никто пока не заказывал, — возразила Дзелия.
— Нам предстоит его как следует подготовить, а имя гостя не может фигурировать в обычном списке.
Сначала в номер поднялся офицер с итальянским флагом и закрепил его на балконе. За ним последовал еще один, который нес флаг австрийский, он проявил больше усердия и повесил его так, чтоб его было видно с эспланады и чтобы он развевался как можно более величественно. Потом люкс оккупировали рабочие. Они подновили штукатурку; установили кровать с балдахином, увенчанным короной; сменили занавески, диваны и до блеска натерли пол; наконец, принесли портрет Муссолини в раме из золотых листьев, который поставили рядом с изображением неизвестного гостя, о котором все настойчиво спрашивали: приедет или не приедет?
— Это личный гость Дуче, — отвечала Сангинетти.
Но он все не приезжал. Тем временем садовники продолжали создавать в парке новые цветочные изобретения, а официанты обнаружили, что их обязывают носить форму: отягощенные шнурами и погончиками, они теперь казались боями из варьете, в котором давали оперетты. С эспланады приезжали машины с дипломатическими номерами, и Дзелия замечала каких-то незнакомых людей, которые выходили из машин под охраной полиции; они поднимались в люкс, чтобы проверить все до мельчайшей детали, и говорили Сангинетти: хорошо. Только один из них, в надвинутой на лоб шляпе, резко спросил:
— А торжественность? Где торжественность?
— Какая торжественность? — обиделась Сангинетти.
— А Большая Вена? Где Большая Вена?
Дело в том, что они дополнительно установили граммофоны с усилителями в коридорах, чтобы почетный гость мог послушать «Легенду об Иосифе» или вальс из — «Кавалера розы». В течение недели в самое невообразимое время отель Реджина сотрясался от этой музыки, пущенной на полную громкость, а также от австрийского гимна. А однажды в субботу было официально объявлено, что ожидаемая персона прибудет двадцать шестого, эта дата окончательная, и от того, какой прием ей будет оказан на Адриатике, будет зависеть очень многое не только для престижа Италии, но и для мира во всем мире. Сангинетти открыла тайну:
— Это глава Австрии, Энгельберт Дольфус!
Двадцать шестого с самого раннего утра Дзелия была на волнорезе. Толпа ждала, но время шло, а никто не появлялся. Все с удивлением отметили отсутствие представителей гражданских властей и фашистской партии, тогда как власти военные присутствовали. Почему же нет секретаря, беспокоились офицеры, и Подеста, и никого из Рима? Разве не должен приехать сам Муссолини? Великие люди заставляют себя ждать до последнего момента, отвечали им, разве не знаете? А офицеры: а мы что, мелочь какая-то? Здесь у нас, господа, овеянные славой знамена, генерал, три полковника и лучший взвод почетного караула, не говоря уж о духовом оркестре из Градары, знаменитом на все побережье.
На закате появился катер.
Видя, как он постепенно приближается со стороны маяка, рассекая волны с властной прямотой, они попытались определить, под каким флагом он идет, но флагов никто так и не разглядел, и все оправдывались тем, что судно двигалось наполовину на свету, а наполовину в тени темно-зеленых отблесков заходящего солнца.
У штурвала стоял матрос, а за его спиной — какой-то молодой офицер: упираясь левой рукой в бок, правой он держался за стойку зажженного круглого фонаря, и его форма издалека казалась совершенно черной; на подушке из голубого бархата, где, как уверяли, должен был сидеть Дольфус, не было никого. Он слишком молод, чтобы быть Дольфусом, комментировали люди, и выглядит скорее, как ловкий ординарец, чем как погруженный в раздумья вождь народа, да Президент и не стоял бы в такой вызывающей позе.
Заспорили о возрасте Президента. Кто говорил, тридцать, кто — пятьдесят, а кто — все шестьдесят. Как бы там ни было, приказал генерал, играйте австрийский гимн, мы выступим и за Муссолини, и за начальство из Рима; для армии это благоприятнейший случай продемонстрировать, что мы могли бы прекрасно управлять Италией и без них. И оркестр заиграл гимн, а высшие чины нервничали все больше, переминаясь с ноги на ногу, и один из полковников спросил:
— А не может ли быть, господин генерал, что это издевка над армией?
Катер причалил. Офицер спрыгнул на волнорез и, взбежав по лесенке, объявил прерывающимся голосом с немецким акцентом:.
— Президент Дольфус скончался!
Воцарилось изумленное молчание, полное вопросов. Затем он объяснил:
— Он был смертельно ранен вчера во Дворце Канцлера, когда готовился отбыть в отпуск сюда, к вам на море.
Тогда оркестр оборвал гимн, и какое-то мгновение были слышны только крики чаек и сирены кораблей; первым отреагировал генерал, который заявил:
— Фашисты это знали и, как трусы, не предупредили нас, они хотели, чтобы мы выступили как прикрытие, вот в чем причина. Потому что они в Риме развлекаются, превращая политику в какой-то синематограф.
Подняв саблю и крепко сжимая ее рукоятку, австрийский офицер сделал шаг вперед и сказал:
— Ваше возмущение неприлично, генерал, прикажите лучше салютовать флагу: мы перед лицом смерти великого человека, это трагедия для всей Европы.
Один из полковников обнял его и спросил:
— Кто убил Дольфуса?
— Нацисты, — последовал ответ.
Тогда Дзелия впервые услышала, как это слово было произнесено публично.
Офицер вернулся на катер, и тот отбыл туда, откуда пришел, с погашенными огнями и флагом, который, как выяснилось, был траурным, поэтому-то его и не было видно издали; всем показалось, что бархатная подушка, удаляясь, становится еще более пустой, а из окон домов радиоприемники на полной громкости подтверждали, что Дольфус пал от рук убийц; что речь идет о переломном моменте в судьбе человечества, одном из самых драматических; и что Дуче даровал бы Президенту счастливые дни.
— Мы выступим против дегенератов, убивающих счастливые дни, — говорилось в заключение коммюнике.
Толпа оставалась на берегу до тех пор, пока вода не потемнела, в том числе и военные, которые потом разошлись, в большинстве своем отказавшись от автомобилей и грузовиков, чтобы вновь обрести в шагах силу слова, духовые инструменты оркестра по инерции продолжали звучать, знамена были свернуты и перекинуты через плечо. Этот уход солдат в отчаянии показался Дзелии воплощением судьбы войск, разгромленных в войне, которую они сейчас считали неизбежной.
— Она будет, — повторяли они. — Страшнее всех предыдущих.
Дзелия слышала, как эти пророчества разносятся по номеру люкс, в котором оба флага сменили на траурные, и куда входили важные посетители. Как будто Дольфус лежал на постели или на одном из диванов, покрытых, по желанию Сангинетти, белыми простынями, в знак ее личного траура, поскольку она была связана с убитым Президентом, как с неким божеством, которому запретили совершить чудо явления народу. Однажды прибыл посланник Папы, и Дзелия увидела, как он преклоняет колена перед покрывалом, а он увидел, как ее тень на полу, напрасно начищенном до зеркального блеска, подбирается к его молитвенно сложенным рукам; но не обернулся и, еще не зная, кто это, спросил:
— Ты знаешь, почему его убили?
— Нет, — ответила она.
— Потому что он был христианином.
— Что такое христианин? Объясните мне, наконец.
— Тот, кто знает, что Евангелие не объясняют, а принимают. Во имя этого приятия, столь трудного для имеющего власть на земле, человек, который должен был отдыхать здесь, боролся за освобождение Европы от зверей, которые вынудили его умолкнуть навеки; за то, чтобы помешать повторению предательства Христа и чтобы человечество не подверглось казням без суда и следствия, а весь мир не был залит кровью.
В поисках других слов, которые они так и не смогли найти, они осмотрелись. Диваны и кресла придавали трауру загадочный покой и наводили на мысль, что они заняты неосязаемыми телами, которые беззвучно беседуют между собой, так как от сквозняка простыни колыхались то тут, то там, и это было похоже на вздохи. И они поняли, что вещи тоже, с большим, нежели люди, благородством, ждали прибытия гостя — Энгельберта Дольфуса.
На следующий день Сангинетти объявила, что Реджина будет закрыта на неделю, а может, и больше. Она наглухо заперла окна и двери. Потом пошла и села в холле, рядом с пианино: единственная живая душа в опустевшей гостинице. И она улыбнулась, отчего лоб ее рассекла морщина, морщина сомнения, сомнения неизгладимого, словно увидела, как на дороге кто-то пытается сориентироваться в свете фонарей — одетый в белое, благородный и погруженный в тихую сосредоточенность, делающий таинственные жесты. Потому что так ей описали Дольфуса.
Он начал с того, что принялся изобретать знамена, которые потом оставались у него в кабинете, или же их забирали представители различных общественных движений; изображения на них и диссонирующие друг с другом цвета — желтый и красный, сталкивающиеся с черным и темно-фиолетовым — отражали его личные кошмары. После того, как его повысили в звании, его истинная и самая потаенная сущность проявилась в бунте против посредственности, быть которой его вынудили, и против стольких лет нереализованной жестокости.
Он проявил рвение, которое еще несколько месяцев назад невозможно было вообразить и, осуществив свою жажду общения через насилие, чрезвычайно быстро превратился в того, кого надолго запомнят все: квестора Энцо Корви.
Он сдержал слово и не проявил никаких пристрастий, в том числе и политических, выступая выразителем идей общества, потерявшего всякую надежду найти выход, который не был бы кровавым взрывом; он взял на прицел и таких людей, как Дзелия Гросси, дабы превратить их в еще больших отщепенцев, чем они были, хотя для них сам он представлял нечто постороннее и абсолютно не интересное. Не скрывая иронии, он заявлял, что преследует их исключительно в пределах необходимой обороны, для того, чтобы и они вошли в число тех, кого он желал видеть на своих выступлениях, — публики весьма разнородной.
Он не изменил ни своим странностям, ни духу противоречия.
Перед процессом или, что бывало гораздо реже, перед освобождением, он просил, чтобы scaia, как он называл наиболее закоренелых, приводили не в Управление, а к нему домой — в прекрасный дом с большим участком, который он приобрел на окраине Форли. Он приглашал их расположиться в кабинете и начинал свою проповедь, не обращая внимания на то, что многие уже неоднократно ее слышали.
— Вы представляете собой некую ускользающую Вселенную, — начинал он, — и чем дальше я продвигаюсь, тем глубже понимаю, сколь трудно познать вас.
Он приказывал им наблюдать за окружающим миром, слушать его, и при этом непременно уточнял: внимательно. Он кружил по кабинету и описывал все с двусмысленной улыбкой, начиная с того, что было видно из окон; стекла в них были мутные, и казалось странным, что такой приверженец порядка, как он, не обратил на это внимания — листья на деревьях, крестьяне и домашние животные как будто плавали в каком-то сером тумане и выглядели весьма неприятно. В саду переговаривались между собой отдельные группы мужчин, у одних, несмотря на гражданскую одежду, был весьма воинственный вид, другие ждали в глубине сада.
— Смотри хорошенько. Слушай, scaia!
Звучало пианино. Под деревом маленькая девочка играла сама с собой, смеясь и хлопая в ладоши: она настолько не гармонировала со всем окружающим, что была похожа на маленькое счастливое чудовище.
Стены были увешаны портретами и изречениями в рамках под стеклом. Одно из них гласило: «Жизнь, которую мы знаем, кошмар. Попытки ее изменить могут превратить кошмар в ад». И другое: «Доверь будущее Великому Кормчему». Спинку кресла, в которое усаживали scaia, украшали чудовищного вида маска и очередное изречение: «Я сражался на фронте. А ты изменял в тылу». Среди оружия, развешанного по стенам, было много шпаг. Даже цветы в вазах, казалось, склонились по тяжестью витавшей в воздухе трагедии.
Не есть ли это, замечал Корви, самое цивилизованное и уютное из жилищ, яркий символ организации, которая не могла не обеспечить благосостояния? Зачем же отказываться от него ради тюремной камеры или конспиративных квартир!
Scaia не находил ответа.
В окружающей обстановке угадывалось то, что могло бы, а в первую очередь — то, что не могло бы доставить радость: она была создана для одиночества, наполненного холодными идолами, доказывающими, что все преходяще, кроме власти, которая побеждает иллюзию.
— Соглашайся! — настаивал Корви.
Он подходил спокойно, без угроз, но глаза его наливались кровью, а в морщинах залегала тень; прочно уперевшись ногами, он вцеплялся в ручки кресла и ждал, пока собеседник — от усталости или от отвращения, или в насмешку — не признает, наконец: да, этот дом — само воплощение культуры и благосостояния.
И тогда он разражался смехом, давая выход наслаждению парадоксом и эксгибиционизму, накопленным за время, когда он был вынужден подчиняться.
— Нет, — заявлял он. — Это могила. Все в ней мертво, начиная с нас обоих. Меня спасает то, что я это знаю, что я это принял, что я это даже сам захотел. А вы, впадая в экстаз и думая, что жертвуете собой ради ваших идей, забываете об одном человеческом законе, который, невзирая на все ваши будущие завоевания, прочно запрет вас в таких домах, как этот, даже еще хуже — в мире, похожем на этот дом. И тогда вы с той же убежденностью, с которой минуту назад притворялись передо мной, почувствуете, что это действительно максимум того, чего можно желать. Это будет такое сильное заблуждение, что только ваша последняя и далеко не самая худшая смерть — смерть физическая — освободит вас от него.
Покидая кабинет и оставляя scaia в руках своих подручных, он говорил в заключение:
— Ваше будущее общество демократии и равенства обречено на вырождение и превратится в кошмар.
Закончив работу, он теперь уже не совершал тех долгих прогулок, во время которых исследовал пейзажи и людей. Он поднимался на второй этаж, открывал одну из дверей, и входил в комнату, где старая женщина, сидя на краю кровати, ждала его; Корви поступал так уже очень давно, но его мать все равно каждый раз боялась, что некая сила заставит его нарушить эту привычку, и перед ней предстанет кто-то другой. Корви тоже радовался, убедившись, что по сравнению с предыдущим днем все идет точно так же, ничто не изменилось, начиная с жеста, которым женщина отвечала на его успокаивающие слова:
— Это я.
Они под руку спускались в сад погулять; чтобы скрыться от посторонних глаз, они всегда садились на одну и ту же скамейку, радуясь, что практически сливаются с ней. Он курил, задумчиво глядя перед собой, она почтительно снимала ему шляпу, надеясь, что без нее он будет меньше принадлежать своим мыслям и больше — ей. Она держала шляпу на коленях и иногда украдкой гладила ее, потому что сын не любил, чтобы к нему прикасались.
В дни Освобождения, когда за ним пришли, тo нашли его дома, в кабинете. Все думали, что он спрячется неизвестно куда, а он спокойно сидел за письменным столом, просматривая документы, которым вскоре суждено было сгореть; он это понимал, но все равно накладывал резолюции и подписывал их своим нервным почерком, а потом складывал по порядку, словно у них было какое-то будущее, и его люди, которых, как он видел своими собственными глазами, несколько минут тому назад расстреляли прямо во дворе, могли бы выполнить эти его указания о проведении арестов, казней и отлучения (отлучением он называл пытки).
— Энцо Корви! — закричали они. Он не отреагировал. Удивленные таким хладнокровием, они позволили ему закончить работу. Подписав последний документ, он снял очки, протер их и положил на груду бумаг. Потом погасил теперь уже не нужную лампу и с удовлетворением отметил, что все вещи находятся на своих местах. Тогда он встал, протиснулся сквозь толпу и остановился перед ее предводителем, более чем когда либо убежденный в том, что был совершенно прав, интерпретируя современную истории согласно принципу, гласящему, что человек представляет собой наиболее разрушительную природную патологию, и только с помощью науки его в какой-то мере можно укротить и сделать не столь опасным.
Потом он сделал еще несколько шагов и оказался впереди всех.
— Куда это ты собрался, Корви? — спросил его один парень из Римини, которого звали Бертоли.
Корви обернулся и посмотрел на него с сожалением.
— Это ведь я палач, а не ты, Бертоли. Мне, с твоего позволения, лучше знать, как, где и когда пытают человека.
Они двинулись за ним, а он даже не обернулся, чтобы в последний раз взглянуть на дом, хотя и знал, что кое-кто смотрит на него из окна, и уверенно направился в поле, всем своим видом показывая, что прекрасно знает дорогу, а толпа у него за спиной все увеличивалась. Не останавливаясь, он снял френч и отбросил его в сторону, потом точно так же избавился от насквозь пропотевшей рубашки. Несколько раз он вдруг останавливался, чтобы сориентироваться, после чего, тяжело дыша, шел дальше; никакой необходимости подталкивать его дулами автоматов не было, но кое-кто все равно не смог удержаться.
Он заметил то, что искал: старую межевую изгородь. Она прикрывала вход в узкую долину, огороженную невысокими заборами из камня: долина была похожа на высохшую заводь, ожидавшую паводка; это удивительное местечко, подумал Корви, тоже вполне могло бы подойти, поскольку самое важное — найти такое место, в котором люди, сбитые с толку тем, что оно слишком бросается в глаза, будут тебя искать в самую последнюю очередь. Он заметил широкие, как столешница, плиты, слегка приподнятые с одной стороны, и метрах в тридцати от них вход в пещеру, которым он в свое время несколько раз воспользовался.
Но идеальное место для казни открылось прямо перед ним, и оно было почти прекрасным; за россыпью камней — небольшой холм, на вершине которого высилось засохшее дерево: упавшее к его корням тело неминуемо должно было скатиться вниз, в ров. С правой стороны небо было грязно-белым, а слева до самого горизонта тянулось такое темно-фиолетовое облако, что, казалось, на этой стороне наступила ночь. Его охватили счастье и душевный покой. Он помог реальности, которая, как он полагал, нуждалась в отрицательных, неприятных ролях, подобных той, что она возложила на него; он верил, что наступит день вечного спокойствия: спокойствия трагического, каким только и могло быть все то, что относилось к нему.
Он показал рукой на дерево и сказал:
— То, что надо.
Ситуация становилась парадоксальной, поскольку судьями все сильнее овладевало любопытство, и теперь они просто ждали, что решит Корви, пытаясь как-то истолковать его поведение, как будто печально знаменитый квестор вел на казнь одного из них, а отнюдь не себя самого. Ярость, с которой они ворвались в так называемый дом разговоров, поутихла, так как каждый почувствовал себя в роли убийцы, что оказалось весьма неприятно.
Именно поэтому, хотя по крайней мере десять человек захватили с собой опасные бритвы, никто даже не шелохнулся, когда Корви поднялся на холм, примерился, прислонился к дереву и спросил:
— Так кто же это сделает?
Они молчали, предоставляя ему сделать этот последний выбор — выбор палача. Корви понял, в чем дело, и принялся взвешивать все за и против; он несколько раз обвел взглядом всех собравшихся на холме и наконец остановился на парне, которого все звали Колодка, как потому, что он был сапожником, так и потому, что ума у него было столько же, сколько у этого приспособления.
— Ты, — указал он на него с равнодушным видом. — Ты подходишь.
Колодка сделал шаг вперед. И все с изумлением увидели, что у него была бритва, и он раскрыл ее неуловимым движением. Но командир выступил против:
— Только не Колодка. Оставьте его в покое. Во-первых, он не сумеет, во-вторых, это добряк, каких мало.
— Пытка — дело тонкое, но ты ошибаешься, — возразил Корви. — Он справится лучше всех.
На этот раз не согласился уже Бертоли, и немедленно перепоручил это какому-то старику, у которого тоже была бритва: длиннее, чем у Колодки, и более блестящая.
— Тебя я знаю, — сказал ему Корви. — Ты — Серени, ничтожество, которого я трижды сажал под арест.
— Ты забыл, как приказал меня выпороть. И продержать всю ночь в кандалах.
— Ты этого заслуживал. По сравнению со своими друзьями ты — просто падаль. Если бы я мог, то повесил бы тебя за ноги.
Он сказал это с такой силой, что никто не осмелился возразить. Корви не успокоился и заявил:
— Если вы порождаете себе подобных, то либо ваше дело обречено на поражение, либо от вашей победы не будет никакого толку.
Они не поняли, что он это говорил для того, чтобы раздразнить Серени, вызвать в нем озверение, необходимое для того, чтобы выдержать предстоявшее ему ужасное испытание; он совершенно правильно угадал, что вся его брутальность — просто мыльный пузырь: налившиеся кровью глаза и напряженные мускулы отражали всего-навсего его внутреннюю борьбу с собственной глупостью и нерешительностью. Правда, понять это мог только Корви, но уж никак не Серени, который шагнул вперед, весьма довольный, что его признали крутым мужиком.
Пока толпа освобождала место, Корви успел совершить три последовательных действия: он заметил, что над загаженной отбросами землей повисла тяжелая атмосфера преступного невежества, корни которого уходили в глубь тысячелетий, присутствующие были здесь ни при чем, оно возникало из некоего таинственного измерения, из той неизбежности, которой было пропитано все вокруг; Корви повернулся к девушке, которая направила на него ружье, девушке лет двадцати, с тяжелой грудью и красными щеками крестьянки, и стиснул ей руку, пронзенный тоской по живой плоти и ужасом перед тем, что с ним собирались сделать, но она страшно испугалась и отпрянула назад, не понимая, что с его стороны это был первый поступок, который он совершил уже не как квестор, и, наконец, опередил Серени, лишив его удовольствия спустить ему брюки: он сам расстегнул ремень, и они сползли вниз. Как профессионал, он прекрасно знал, что нужно делать, чтобы испортить палачу настроение — надо было просто выдавать трагическое за смешное.
Серени опустился на колени. Он рассчитывал, что все пройдет без сучка, без задоринки. Но Корви, напрягшись, прошептал:
— Смотри, дерьмо, как бы тебе не опозориться.
И действительно, Серени держал бритву под неправильным углом, отчего разрез оказался неглубоким, хлынувшая на лицо и руки кровавая пена обожгла его, как огнем, и ему показалось, что вопль, который издал Корви, вырвался из его собственной груди. Он понял, как трудно кастрировать человека, и растерялся, чувствуя, что все смотрят на него с осуждением и ждут немедленного исправления ошибки. И тогда он развернул запястье и ударил слева направо, на этот раз дело пошло лучше, лезвие рассекло плоть от мошонки до головки, но мужское естество Корви, казалось, превратилось в камень. Мощь его эрекции была поразительна, ибо она была последней: в ней сосредоточилась вся сила агонии, и с ее помощью Корви цеплялся за жизнь; а Серени плакал от отчаяния, которое было сильнее, чем отчаяние его жертвы, и, опустив руки, повторял:
— Не выходит, да что же это, просто чертовщина какая-то.
Он увидел, что кончик бритвы сломался, половые органы, иссеченные разрезами вдоль и поперек, так и не отделились от тела, а Корви, обхватив руками дерево у себя за спиной, по-прежнему держался на ногах, колени его судорожно дергались, рот был широко раскрыт в беззвучном крике, а застывший взгляд полузакрытых глаз устремлен в пространство. Он сохранил ясность рассудка, и сказал себе: я должен, так надо, и я должен это сделать. Удерживаясь на самом краю пропасти, в которую вот-вот должно было рухнуть его сознание, он вспомнил еще одно правило поведения перед пыткой: зафиксировать взгляд на какой-нибудь точке, смотреть только на нее, до боли в глазах, и думать, думать, напрягая мозг изо всех сил; или, что еще лучше, вслушиваться в первую пришедшую в голову мысль, словно это не мысль, а звук, и, если ты сумеешь это сделать, ты вновь обретешь способность отстраняться от боли, одну из тех, что даны людям с незапамятных времен, но о которых они забыли, как забыли о том, что могут ходить по воде или летать, достаточно лишь подвести себя к своему истинному пределу.
И Корви это удалось. Он забыл о бритве, сосредоточив взгляд на калитке несуществующего уже сада, и думая о том, что любой мальчишка мог бы с легкостью перелезть через нее. Какой-нибудь мальчишка, возвращающийся домой, где мать ждет его с ужином, а он подрался с приятелем, порвал рубашку, и ему надо скрыть это от родителей, как ему сейчас надо скрыть от толпы свое истерзанное тело.
Они двигаются, как закутанные в знамена чудовища, еще раз сказал он себе, и с уважением смотрят на то, как я умираю, для палача добиться этого — просто шедевр, они меня запомнят, и когда моя мать будет идти по улице, не будут выкрикивать оскорбления и плевать ей вслед, потому что я завоевал их уважение.
Серени, взбешенный тем, что проиграл, снова набросился на него, но его оттащили, не позволив продолжать это бессмысленное надругательство.
И тогда, без всякой просьбы, Колодка вышел вперед и с удивительной ловкостью сделал последний надрез. Потом он взял это обеими руками и поднял над головой, чтобы всем было видно:
— Это Корви! — выкрикнул он. — Аминь.
X
И мы снова начали переговариваться теми криками, которые в тумане, называемом бессонница, потому что он днем и ночью стоит над Сакке, с незапамятных времен помогают рулевым определять направление, дают объяснение все новым и новым безумствам и разгулу паводков, подобно тому, как в древности пророки объясняли людям их судьбу, бросая свои слова в невидимость мира.
И там, где текли воды, а вместе с ними и мы, мы снова заговорили об этом огнями кормовых фонарей, мы поворачивали руль, пока лодки не сближались настолько, что свет наших огней сливался в одно облако, и нам начинало казаться, что это движение лодок и есть человеческая речь.
А за пределами этого светового круга, неизвестно на сколько миль, расстилалось одиночество.
Они отмечали наши дома белым крестом, как дома больных малярией, хотя мы были совершенно здоровы. Им удалось изгнать нас с побережья Адриатики и из других относительно спокойных и богатых районов и вытеснить обратно в болота и тростниковые заросли Босконе или Лидо ди Волано, или в ад Сакка Сардовари, которые были для них синонимом ушедших в небытие или никогда и не существовавших миров. Но и этого было мало. У них не было иной религии, кроме собственных желаний, и абсолютная власть над нами отравляла людей этой ложной верой.
На рассвете в дверь с властным видом стучали какие-то люди, закутанные в серебристые от инея плащи, а мы искали на фуражках какой-нибудь знакомый герб, но гербов было столько, что, казалось, любой из этих людей обладал правом величественно поднять руку, и я помню, что эта рука всегда оказывалась большой и белой, как сигнал на шлюзе, рукой предсказателя или предающей анафеме. Или на корме плывущей навстречу лодки мы замечали человека, который стоял, вытянувшись во весь рост, полицейского или пристава, а может, это был посланник курии, призванный исцелить души, погрязшие, так они говорили, в пороках, кто знает.
Они приказывали нам остановиться.
Под небесами, принадлежащими болотным птицам и чайкам, между гниющими остовами лодок в Горо и бочагами, где находили приют стаи кефали и угрей, выбор, куда бежать, был небольшой; и, чтобы ускользнуть, мы искали какой-нибудь самый незаметный проход, но и там нас останавливал повелительный жест одного из тех, которые, несмотря на все наши усилия, оставались для нас неизвестными.
И приезжали женщины, которые устанавливали в Ка Дзулиани, в Барбамарко, в Буза Дритта помосты с церковной утварью, украшенные не традиционными знаменами, а цветами, и начинали: знайте, что у меня самой мать родилась в нищете, и даже хуже, она родилась в таких же богом забытых местах, как ваши, поэтому слушайте и верьте мне, если хотите выжить. Они, эти женщины, тоже хотели подчинить нас, им нужны были наши души, при этом они изо всех сил старались не испачкаться в грязи. Но мы все равно не знали, кто они.
И приезжали представители власти, у них был взгляд ищейки, а на груди красовались кресты за заслуги, они напевали куплеты про ослов и мартовских уток, которые занимались теми же извращениями, в которых они обвиняли нас, и, пытаясь разобраться в нашей жизни, сгоняли нас в сарай и с таким видом, словно с их стороны это была какая-то милость, приказывали: сидите смирно и слушайте, если не хотите, чтоб вас заковали в колодки и бросили во дворе. И снова заводили разговор о Христе, который предпочитал ослов таким, как мы, а сам был таким прекрасным — тонкие черты, голубые глаза, жемчужные зубы, — что просто глупо искать других любовников, лучше уж отдаться ему.
И про этих мы тоже не знали, кто они.
Дело в том, что Италия в угаре недоверия к самой себе не только запутывала общественную мысль до такой степени, что уже не оставалось никакой мысли, а только путаница, но и неустанно множила число своих инквизиторов, которых посылала не туда, куда нужно, а туда, где их появление могло вызвать наибольший эффект, чтобы спасти лицо и при этом ничего не менять.
Доходило до того, что они оставляли нас в пустых комнатах для допроса, за покрытыми пылью столами, а сами появлялись только изредка, чтобы в очередной раз сказать: ждите. В результате выяснялось, что допрашивать нас никто не будет, поскольку государство приняло решение передать право проводить подобные следственные действия чиновникам другой категории, а наших отправило приносить вред куда-то в другое место; это приводило к тому, что, хотя наши объяснения были признаны не заслуживающими внимания и абсолютно бесполезными, некоторые сомнения и подозрения все же оставались, и кого-нибудь обязательно забывали в камере пересыльной тюрьмы, и в один прекрасный момент он обнаруживал, что сидит, причем ни он сам, ни охранники не знали, за что; я знаю многих, про кого говорили: раз он здесь, значит, что-то натворил.
Их называли белыми заключенными, считая чем-то вроде жертв аборта.
Но самое худшее наступало, когда приплывали, причем тайком, прижимаясь к плотинам в Валле дель Мораро или в Валле Ка Пизани, в любую минуту готовые укрыться в зарослях тростника, большие лодки, которые привозили людей, изо всех сил старавшихся, чтобы их не узнали, хотя над их головой и развевалось трехцветное знамя; некоторые говорили, что это, наверное, члены какой-нибудь корпорации выехали на охоту, и, правда, у них были старые ружья, с которыми ходят на болотную птицу, но мы мало верили в то, что государство организует такого рода развлечения, и прозвали их лодками Тази, то есть Безмолвие: действительно, там, где они проплывали, оставалось только молчание, и те, кто их видел — безобидные рабочие песчаных карьеров или мелкие браконьеры, — с криками «Тази! Тази!» налегали на весла, чтобы побыстрее укрыться в ериках.
Не только не было известно, кто они, но и цели, с которыми они устраивали засады, тоже оставались весьма неясными, потому что свои кремневые ружья они предпочитали наводить не на болотных птиц или диких голубей, а куда-то в направлении плотин, где собирались лодочники и все те, кого можно назвать тружениками реки, чтобы выступить наконец против угнетения: прежде всего против тех призраков, которых никто из них никогда не видел, и ради которых отдавали свою жизнь они сами и их отцы и деды; против могильщиков поколений, живших, как минимум, в палаццо Феррары и Болоньи, и совершенно не интересовавшихся своими владениями, которые представлялись им чем-то вроде земли в доисторическую эпоху.
Между ними и нами не было никакой связи, кроме посланцев, разрывающих туман светом кормовых фонарей, они несли нам слово хозяина, но за светящимися шарами, заключенными в металлические клетки, не было их лиц, только силуэты, точно такие же, как те, что нас преследовали.
Поэтому в тот период, о котором я рассказываю, нам не оставалось ничего другого, кроме как прибегнуть к покровительству семейства Маньяни, которое с презрением игнорировало власть государства, обладая достаточными силами, чтобы диктовать ему свои условия.
Члены семьи Маньяни называли себя предпринимателями, имеющими самые разнообразные интересы, но их главным орудием, причем не столько для извлечения прибыли, сколько для шантажа, были передвижные бордели, которые называли colombare, как башенки с окошечками для почтовых голубей: в роли голубей в них выступали как те, кто на них плавал, так и те, кто посещал их с какой-то своей целью. Я тоже нашла убежище на одном colombare, которым владел на правах Кота некий Джино Медзадри, по прозвищу Мараза, то есть топорик, Красавчик Мараза: поскольку в этой пантомиме жизни все стремились запутать дело всяческими уловками и фальшивыми именами так, чтобы даже мы ничего не могли понять, каждый предпочитал выступать под своей боевой кличкой.
От первой поездки на colombare у меня в памяти остался эпизод, которому в моей жизни суждено было получить продолжение. Медзадри вез нас на праздник в Контарину, солнце было в зените, и вдруг я заметила какую-то странную радугу между побережьем и отмелью. Я крикнула ему: стой. Мараза остановил грузовик. Я выпрыгнула на землю, сказав остальным: пойду, посмотрю, что это за поезд.
Товарняк медленно прошел перед нами, нагруженный диковинными шапками, в которых подбежавший Медзадри узнал тропические шлемы, что для меня было пустым звуком. Кто мог подумать, что очень скоро мне придется шагать под африканским солнцем и под одной из этих шапок будет плавиться от жары моя собственная голова.
Дверей в вагонах не было, только решетки, и отблески солнца от амуниции стоящих вплотную друг к другу солдат — их были сотни — напоминали стремительный полет ласточек, рассекающих тучи в разгар бури.
Они похожи, подумала я, на то, что остается на поле битвы после проигранного сражения, и эта мысль оказалось пророческой, ибо через несколько месяцев мне снова пришлось их увидеть; и поезд, но уже на пути в Асмару, и аскеров на плоскогорье вместо лодочников, которые певуче перекликались между собой, забрасывая сети, и услышать бу-бум абиссинских барабанов вместо выстрелов браконьеров на болоте. После бойни при Тембьене эти шлемы отправляли на родину вместо тел погибших солдат, потому что, хотя оставшиеся в живых и перекопали барханы до последней песчинки, они не нашли ничего, кроме песка. И тогда они сказали: это песок съел их, он похож на хищное растение и ненавидит жизнь смертельной ненавистью приговоренного жить в пустыне. Оставил на поверхности только объедки, то есть шлемы, патронташи и ботинки, мрачное свидетельство произошедшего.
В тот день, когда поезд пойдет в Асмару, он вызовет у толп негров и белых то же изумление, которое испытала я в Тальо ди По.
Я вцепилась Маразе в руку, а кто-то, то ли солдат, то ли железнодорожник, затянул:
— Я тебе покажу, я тебе дам, ты у меня помрешь от наслаждения.
Это была песня легионеров, которые сошли с ума, но не утратили веселья, валяясь, возможно, после ампутации в лазарете где-нибудь в Данкалии, Нубии или Сомали:
— Мы умрем вместе, мы умрем рядом, и с нами умрет наша молодость!
И легионер мог поднять руки и захлопать в ладоши, аплодируя своему увечью, словно финалу оперы, а капитан Мерли кричал: заставьте его замолчать. Ему отвечали: придется пристрелить, он уже ничего не понимает. А он прислонялся к стене, блевал себе на сапоги и требовал: так пристрелите, это же просто невыносимо.
Медзадри попытался оттащить меня назад, а я ему: подожди, со мной что-то случилось, сама не понимаю, что. Я не могла оторвать взгляд от шлемов, пока они не скрылись за горизонтом. Скоро я узнала, что такие составы шли каждый день, они отправлялись прямо с одного оружейного завода в Милане; груз затем перегружали на суда для перевозки бананов, вместе с ящиками печально известных пуль «дум-дум» — еще одного чудовищного изобретения, с которым мне суждено было познакомиться.
— Ты чего, — со смехом спросил он, — тебе-то что до войны?
Я могла бы сказать ему, что случится. Но вместо этого ответила: просто затмение нашло. И мы поехали дальше, и на празднике в Контарине он выгодно меня продал.
Отличительным признаком colombare Маньяни была наглость. Грузовики разъезжали по равнинам, деревням и предместьям, добирались до вилл и отдаленных хуторов, останавливались в таких местах, где не ступала нога человека. Они были ярко раскрашены, преимущественно желтой и голубой краской, на фарах — решетки для защиты от камней пуритан. В удлиненном кузове могли разместиться двадцать человек. И в знак презрения к светским и церковным властям, которым они постоянно бросали вызов, на тентах большими буквами было написано «Маньяни», словно это был фирменный знак какого-нибудь уважаемого предприятия.
В грузовик сажали от пяти до девяти женщин, а начальником над ними назначали Кота, чьи обязанности были весьма разнообразны: обеспечивать работу на праздниках, общественных и частных; общаться с клиентами, выясняя их тайные пороки и степень продажности, и самое главное выступать в качестве сборщика, получая деньги и передавая их затем Маньяни. Трем братьям — Нерео, Обердану и Витторио.
Нерео был не только самым умным и авторитетным, но и наименее откровенным; честолюбие заставляло его вести себя так скрытно и уклончиво, что иногда он и сам запутывался. Некоторые говорили, что он просто сумасшедший, другие называли его хитрованом или парнем не промах: как бы там ни было, в паутине постоянно вьющихся вокруг него дельцов и мелких политиканов, каждый из которых преследовал свои собственные цели, зачастую противоречившие целям другого, он чувствовал себя как рыба в воде и намеревался закончить свои дни отнюдь не владельцем частного борделя, вынужденным постоянно бороться с общественным мнением и Квестурой, а уважаемым гражданином, заслуги которого будут признаны обществом. Он мечтал, что катафалк, который повезет его в последний путь, будет украшен всеми теми знаками уважения, которые режим любил выставлять напоказ, забывая, что за ними скрывается всего-навсего разлагающийся труп.
Дзелия, хоть и с неприязнью, тоже вынуждена была признать, что Нерео Маньяни прекрасно разбирается в жизни и, если не может стать для человека наставником, то может его развратить, что зачастую одно и то же; из любой ситуации он выходил с издевательской легкостью. Объявившие ему войну ответственные работники режима теперь перешли к тактике заманивания с помощью лести и в письме, адресованном третьему лицу, но каким-то образом оказавшемуся у Нерео в его изящном секретере, даже уверяли, что в будущем приложат определенные усилия, чтобы он был должным образом вознагражден морально и материально при условии, что он положит конец позорной деятельности, осуществляемой с его согласия и под его покровительством.
Рассказывали, что от Итало Бальбо он получил еще одно письмо, в котором содержалось напоминание о некоем обязательстве и одновременно предостережение, сделанное деликатно, с симпатией: естественно, в молодости нам необходимо развлекаться, и сам он однажды, прибегнув к опыту и знаниям Нерео и Витторио, провел весьма приятную ночь; но как молодость не может длиться вечно, так и нарушения закона не могут повторяться без конца. Пусть он об этом поразмыслит.
Это была ночь, когда Маньяни дал свой ответ. Он притаился во дворе дома, в котором собрались гости, и подождал, пока они закончат одеваться в своих комнатах; и вот они, наконец, вышли, наполнив воздух запахом дорогих духов, которыми Нерео обязал пользоваться своих девушек; они полной грудью вдыхали аромат свежескошенной травы на берегах, наслаждаясь им, как наслаждались воспоминанием о том, что только что произошло. Он дал им возможность обсудить все это между собой, грубо и цинично, в свете луны, которая казалось огромной каплей, падающей вверх; потом он пошел за ними, бесшумно, словно лиса, скользя в зарослях, как тогда, когда был молодым Котом и следил за клиентами в лесной чаще; гости шли к катеру, чтобы отправиться на нем к гидросамолету воздухоплавателя.
Серенада Котов, часть праздника и его последний акт растаяли где-то вдалеке в тополиной роще; Маньяни появился на капитанском мостике и приказал гостям, которые поудобнее устраивались в креслах:
— Выслушайте меня, как следует.
Его узнали и даже выключили двигатель.
— Мы тебя уже выслушали, и отблагодарили, — сказали ему. — Наши разговоры закончились в номерах, где, отдадим тебе должное, во всем чувствуется твое профессиональное мастерство.
Маньяни вытянул руку, точно так же, как он делал, забрасывая удочку.
— Кое-что надо говорить на открытом воздухе, — заявил он с иронией. — Уточняю: то, что я мог бы сказать на открытом воздухе, может быть, в воскресенье на площади. Потому что, хочешь-не хочешь, очень многие ко мне прислушиваются. Дело вот в чем: фашизму необходимо заняться мелиорацией не только на болотах, но и в морали этой земли, не ради христианского милосердия, как вы заявляете, или на благо простого человека, потому что на него вам плевать, пусть хоть заживо сгниет от сифилиса, а потому, что большая чистка произведет большое впечатление, все будут довольны, и другие проблемы, и ваши, и правительства, отойдут на второй план, в том числе и эмиграция тех, кого вы называете объявленными вне закона, потому что этого не остановить, и скоро здесь вообще ни души не останется, потому что во всем мире не найти другого такого голодного края…
Кто-то из пассажиров, на чье лицо не падал свет, с угрозой в голосе произнес:
— Выкладывай, что тебе нужно, Маньяни.
Маньяни не обратил на это внимания и спокойно продолжил:
— Если вы полностью запретите нашу деятельность и выполните свое намерение публично сжечь colombare, а женщинам прикажете повесить на грудь табличку с надписью fiat voluntas dei и побросать их в реку, в По делла Пиа, — зрелище, не спорю, более чем убедительное — это приведет, грубо говоря, к маленькой эфиопской войне. Потому что и в Африку вы отправились, чтобы отвлечь итальянский народ от того, что происходит.
— Твои моральные принципы, Нерео, нас не интересуют.
— Мои моральные принципы, если на то пошло, дают вам возможность удовлетворять то, что у вас между ног. Я сейчас говорю о здравом смысле.
— Чего ты хочешь?
— Я хочу, чтобы все было по справедливости. Во сколько вам обходятся ваши безумные войны и радужные мечты? И, соответственно, сколько стоит та, честно говоря, подлая, безжалостная и отвратительная деятельность, благодаря которой семья Маньяни сумела удержать эту землю от восстания? Мы не обещаем молочные реки в кисельных берегах, а предлагаем то, что еще не развалилось, а это дорогого стоит. Не забывайте, что мы никогда не выступали против вас, хотя прекрасно могли бы это сделать и толкнуть на бунт крестьян и рабочих с реки, а это вам не анархисты и не подрывные элементы.
— Мы знаем. И поэтому избавили тебя от больших неприятностей.
— В болотистых заводях мы утопили только Ленина и Троцкого. Но с большим удовольствием, можете мне поверить, утопили бы вашего Дуче, по сравнению с которым мы просто ангелочки.
— Маньяни, — заговорил Бальбо. — Есть одна поговорка: человека судят по делам. И это правильно. Сделай широкий жест, а мы его оценим.
— Широкий жест! — воскликнул Маньяни. — Когда я его сделаю — если сделаю — вы пожалеете. В этом мире всегда будут земля и вода, мужчина и женщина, и уж не вашим империям менять то, что заведено природой.
Всем показалось, что со стороны похороненных в ночи деревень, из Маддалена Джаретте и Пеллестрины, донесся какой-то звук: не ветер с Дельты и не человеческая музыка, а принадлежащие Шуту ноты, которые звучат в голове подвергшегося осмеянию человека, тем более, если он воздухоплаватель, познавший небеса с их шутками, тайнами и облаками.
Катер отчалил. А Маньяни отправился спать только тогда, когда гидросамолет исчез где-то на горизонте в лучах восходящего солнца, неотличимый от обыкновенной серебристой чайки.
Ему оставалось встретиться с финансистами Пезанте.
Безошибочно определив, как и когда с ними говорить — а ему только что это удалось по отношению к их непримиримым врагам — он точно так же продиктует им свои условия. Он выставил себя на аукцион. И поскольку он был убежден, что жизнь есть не что иное, как борьба жадного с более жадным, его весьма забавляла мысль, что участниками этого аукциона оказываются полностью противоположные друг другу персонажи, и он не знает, в чьи руки попадет — государства или тех, кто хочет его разрушить. И еще он был убежден вот в чем: для чрева, которое его породило, наступил момент решающей битвы: желудок, которому он скармливал любую съедобную материю, должен был наконец мощно отрыгнуть, и все должно было кончиться, в первую очередь, вымысел; а изгоняющим дьявола мог быть только тот, для кого нет ничего серьезного, кто допускает все и для кого лишь скука смертельна.
Братья Маньяни жили и работали, ни на секунду не позволяя себе отвлечься или расслабиться. Они отдавали приказания Котам, с глубоким внутренним удовлетворением составляли списки мужчин и женщин, от которых следовало потребовать денег, и разрабатывали способы наказания тех, кто отказывался платить. Тело Кота, нарушившего приказ, могло всплыть на поверхность где-нибудь в районе Валле дель Мораро. Вся земля от Дельты до Казальмаджоре была у них в руках, так что Нерео в той речи, которую он назвал пробной, ночью, в Буза ди Бастименто, ничего не преувеличил; они были бесспорными лидерами Лиджеры: проституция, воровство, укрывательство, контрабанда. Все на грани с убийством, но грань эту они никогда не переступали.
Они мечтали возглавить Пезанте, взять на себя организацию преступлений, среди которых были и государственные, и прибрать к рукам столицу, в значительной степени контролировавшую сельское хозяйство и речное судоходство. Однако вот уже лет пять финансисты Пезанте — в их числе были находящиеся вне всяких подозрений аграрии и промышленники — хотя и выслушивали их мнение, особенно высоко оценивая новаторские идеи Нерео, не давали ни малейшего намека на возможность соглашения.
— Вы прекрасно делаете свою работу, — заявляли они, сразу же замыкаясь в себе. — Дела сейчас идут прекрасно, все неприятности позади. Почему же вы рветесь покомандовать где-то еще, ломаете налаженный порядок? Кем прикажете вас заменить?
С презрением, которое улавливал только Нерео, а тщеславные Обердан и Витторио принимали за похвалу, они в заключение говорили:
— Для того, чем вы занимаетесь, лучше вас никого не найти.
Думали же они совсем другое. И стоило братьям, с которыми они только что договорились насчет лучших девушек из их colombare уйти, раздавались ехидные смешки:
— Деревенщина и есть деревенщина. Кто в грязи родился, там и останется.
Нерео казалось, что он кожей чувствует и слышит эти насмешки; и вот однажды в сентябре, в воскресенье, они прозвучали у него в мозгу отчетливее, чем когда-либо, словно произносили их не за толстыми стенами герцогского дворца в Ревере, где они под видом обычных посетителей собрались во внутреннем дворике. Поэтому он попросил братьев подождать, пересек в обратном направлении небольшую площадь и оказался в украшенном колоннами портике, с той быстротой, которая отличала его и делала похожим на хищного зверя. По его улыбке все собравшиеся поняли, что притворяться дальше бесполезно.
— Как настоящая деревенщина, — сказал он, — я хотел бы вас угостить павлином а-ля Мантенья. Я знаю место, где его прекрасно готовят.
Они не решились ответить, зная, что попадут в ловушку, что бы ни сказали. Тогда Маньяни ответил себе сам:
— Дело в том, дорогие друзья и коллеги, что нам надо выяснить одно недоразумение. Не может быть и речи о том, чтобы такие слова, как «ничтожества», «недоумки», относились к нам, Маньяни.
— А к кому, если не к вам?!
— К вам. Вы страшно рискуете. Опасность для вас кроется именно в том, что вы считаете гарантией безопасности: в ощущении себя людьми вне всяких подозрений, почтенными и уважаемыми. Это вас и погубит.
Возразить ему решился некий Негри, контролирующий скотобойни в Меларе:
— Ты ошибаешься и рассуждаешь, как баба. Такими разговорами ты можешь произвести впечатление на твоих Котов, но суть от этого не изменится: это — слова засранца.
— Может быть, — парировал Нерео. — Но я все равно правильно во всем разобрался.
— Ты разбираешься только в том, что ниже пояса — в моче, сперме и дерьме. Твоя беда в том, что вместо мозгов у тебя яйца.
— Ты прав, Негри. — Он улыбнулся. — Но не забывай, что именно по тому, что ниже пояса, можно судить, сколько нам остается жить. Вот у тебя, например, мочевой пузырь пока работает, ты еще способен кончить, но по твоему дерьму видно, что ты стареешь, так что, вместо того чтобы мечтать о каких-то вершинах, посмотри на себя, если можешь это сделать без отвращения, и увидишь, что до могилы тебе остался только шаг, и поймешь, почему и как все получилось.
— Что ты несешь! — закричали все. — Крыс надо душить в норах.
— И вы, дорогие друзья и коллеги, если хотите увидеть время, как прорицательница видит его в своем хрустальном шаре, посмотрите вниз, на землю, ибо она хранит человеческую историю.
Нерео не переставал улыбаться и, сунув руку в карман, чем-то позвякивал, возможно, ножом. Он не стал возражать, когда они решили отойти в сторонку и обсудить все между собой, а они подумали, что, если у него в кармане нож, это не страшно, потому что у них были револьверы. Когда они снова к нему подошли, решение было принято: никаких аргументов у него не осталось, и пора кончать это дело — сбросить его в колодец пятнадцатого века — и все.
— А что ты видишь в своем волшебном шаре? — спросил Лино Паризи, в чьих руках были все сыроварни.
— Сейчас объясню. Людям стыдно: за себя и за тех, кто ими командует. Даже если они этого не хотят или не могут показать. Они хотят сбросить груз совершенных ошибок, которых можно было избежать, груз пособничества в том, чего они даже не понимали. Точно так же ты, Негри, пытаешься отмыться, но запах свиней въелся в тебя навсегда. Что же из этого следует? То, что люди соглашаются, чтобы человеческими экскрементами занимались те, кто сами известны как экскременты, и соглашаясь на это, как, например, братья Маньяни, открыто об этом говорят. Что же касается вас…
— Что же касается нас? — повторил, словно эхо, Паризи.
— Они придут в ярость, когда обнаружат, что отдали вам свое доверие, дружбу, деньги, а вы занимались тем, что планировали разные преступления. Они обнаружат, что пригрели у себя на груди змею, и вполне смогут размозжить ей голову, поскольку ни войска, ни полиция вас защищать не будут. Они заставят вас заплатить и за других змей, неприкасаемых, во имя режима; в первую очередь, запомните мои слова, они заставят вас заплатить за их грехи. Им понадобится ваша шкура, потому что… — он сделал паузу и постарался, чтобы его слова прозвучали еще более убедительно, — они во многом похожи на вас. А то, что каждый любит себе подобных, — неправда. Правда другое: убивая себе подобного, люди думают, что успокаивают свою совесть.
Они зааплодировали с вызовом, впрочем, достаточно осторожным.
— Говоришь ты хорошо, Маньяни. Придется тебя пригласить, когда у наших детей будет праздник первого причастия.
— И я приду, — твердо заявил Маньяни, — чтобы еще раз сказать, что прошу то, что заслуживаю.
— То есть?
— Отдайте Маньяни руководство Пезанте. Мы все сделаем. А у вас руки останутся чистыми, и вы сможете жить без всякой опаски.
— Дело в том, — возразил Паризи, — что иногда вместо проповедника требуется убийца. А ты не сможешь убить даже крольчиху.
Нерео подошел и обнял его.
— Это правда. Крольчиху не смогу. Потому что люблю животных. — Он бросил на всех остальных взгляд, в котором они отчетливо прочли свое ближайшее будущее, и сказал: — Пока вы решаете, пусть все остается, как есть. Главное, чтобы вы не забыли о нашем существовании.
И вернулся к братьям.
В поисках хозяина, который купит его подороже, он, помимо женщин, принадлежавших ему, не обходил вниманием и женщин из комитетов: «Оздоровление побережья» или «Ласковые очаги», у наиболее радикальных названий не было, и всеми ими, по слухам, руководила политическая полиция. Их знамена представляли собой национальный флаг, на котором был начертан девиз: Плодитесь и размножайтесь и Бог есть, но на некоторых была изображена Бестия Форкина, нечто вроде восточного дракона, недвусмысленный намек на Нерео, или Иисус на кресте в окружении семи смертных грехов. Члены этих комитетов принадлежали к средним и высшим слоям буржуазии, среди них было несколько вдов героев и учительница гимнастики, выпускница Академии в Орвьето; будучи сторонниками княгини ди Лингваглосса, делегата от женских ячеек партии, они проводили у себя в комитетах дискуссии на тему «Атлетическое совершенство Дуче как воплощения мужчины».
Это было время, когда colombare нередко появлялись около деревень: адские миражи нестерпимо жаркого лета. Остановятся — спрашивали себя люди, прячась по домам, — или поедут дальше искать, где бы нажиться? В большинстве случаев Коты решали проехать по деревне, хотя и знали, что продать ничего не удастся. Это была провокация: они медленно двигались по пустынным улицам, мимо захлопывающихся по мере их приближения окон. На площади они останавливались и обращались к народу с призывами.
Язвительный ум Нерео разыгрывал этот спектакль в знак протеста против общества, которое он презирал с такой же силой, с какой мечтал в него войти: он считал себя изгнанным из святилищ лицемерного духа и, тайно готовя триумфальное возвращение, пока посылал туда свои войска.
— Выходите из тьмы, в которой гнездитесь, словно мыши, — неслось из громкоговорителей. — Взгляните на ваших отвратительных женщин. Тот Бог, во имя которого вы прячетесь, обещает вам одно только счастье — смерть. Скоро тела ваши сожрут черви. А мы здесь. Мы — это молодость и любовь.
Тексты призывов Нерео сочинял лично.
За жалюзи кто-нибудь из тех, кто хотел бы посмотреть на свою подругу, которая неподвижно сидела рядом, стыдясь собственной безобразности, устремлял взор в землю и замечал, что ее руки, зажатые между колен, похожи на лапки зарезанной курицы. Она соглашалась: какие они старые, мои руки.
— Мы вас ждем, — издевательски настаивал громкоговоритель.
Мужчины расстегивали воротнички, им казалось, что они задыхаются, словно их заживо похоронили. А взгляд их устремлялся на Христа-лодочника на стене, освещенного светом лампадки, и они были вынуждены признать: в голубых одеяниях, развевающихся над водой, с руками, готовыми принять в объятия всякое живое существо, второе лицо Троицы не предлагало альтернатив хору «Блаженны мертвые». В этих домах, загроможденных ликами святых, они провели жизнь, общаясь с тенями. И разум их спрашивал: ради кого ты надрывался? Сколько лет ты уже не испытываешь счастья, которое ощутил в Ка Дзулиани или в Полезине Камерини, когда возил женские тела, посылая лодку вперед уверенным движением весла и, охваченный веселой удалью, проплывал прямо над сетями, почти касаясь их днищем, и тебе казалось, что молодость будет длиться вечно!
— Друзья! Мужчины, если вы ими остались…
И тогда, не в силах сопротивляться этому наваждению, они распахивали окна и вопили:
— Будьте вы прокляты, собаки! Карабинеры! Где же карабинеры?
И им вторили проникнутые тем же противоречивым чувством крики:
— Мы вызовем изгоняющих дьявола из Рима. А братьев Маньяни повесим в Рива делле Гацце.
Так они кричали до хрипоты. А в дома влетали песни, которые теперь звучали из громкоговорителей:
— Как ты прекрасна, моя Мариу… или пение невидимых женщин. Или их ведьминский смех.
Грузовики уезжали, и через мгновение появлялись карабинеры. В один прекрасный день приехал и изгоняющий дьявола.
Не давал себя запугать только приходский священник из Сермиде, Дон Деводьер. Он преследовал грузовики, без колебаний бросаясь за ними прямо через заболоченные участки, отчего стаи вальдшнепов и желтых цапель, безмятежно сидевших на яйцах, взмывали в небо и, в свою очередь, с ожесточением бросались в погоню за ним. Именно он пригласил в Сермиде на праздник святых Петра и Павла епископа, изгоняющего дьявола. Он отслужил такую мессу, что все признали ее источником спасения, и, действительно, благодаря своей внушительной внешности и голосу епископу удалось со своей кафедры установить контакт не только с Богом, но и с заполнившими церковь его верными слугами.
Он сравнил позорное несчастье, обрушившееся на них, с Мором Египетским, а появление женщин из colombare — с нашествием саранчи, сославшись на то, что истина — только в Ветхом Завете. Естественно, из Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова, он процитировал слова о злой жене:
— Можно перенести всякую злость, только не злость женскую. Соглашусь лучше жить со львом и драконом, нежели жить со злою женою. Всякая злость мала в сравнении со злостью жены.
Но когда он перешел к перечислению возможных санкций со стороны Рима, речь его заглушил страшный шум, который все прекрасно узнали, и содрогнулись, как содрогнулись и основы церкви. Все грузовики Маньяни выстроились в ряд перед храмом, двигатели ревели на полную мощность, а из громкоговорителей неслась разная музыка — от «Плегарии» до «Каминито» и «Танго Химер». Грохот стоял невыносимый; переходя от скамьи к скамье, чтобы его могли слышать, Дон Деводьер призывал верных:
— Ныне, когда мы ощущаем присутствие Господа в себе и можем смотреть его глазами, выйдем отсюда и бестрепетно разобьем сосуд греха!
Он сделал первый шаг, бок о бок с ним встал епископ, и все, кто был в церкви, последовали за ними.
Он думал, что обнаружит символические изображения пороков, фигуры с четырьмя грудями, сплошь покрытые вагинами, непристойные костюмы. Но, распахнув дверцы кузова первого грузовика, они увидели только кучу похоронных венков, и их обдало гнилостным запахом. Они ринулись ко второму грузовику, где обнаружили то же самое. И в третьем то же, и во всех остальных.
Плача от злости, Дон Деводьер колотил кулаками по бортам. И вдруг из грузовиков прямо на людей дождем посыпались венки, все стали разбегаться, а Нерео Маньяни, стоя на крыше кабины, подгонял их:
— Скажите в Риме, что я продаю не только мясо для борделя. Я продаю каждому то, что ему больше всего подходит. Вот это — для вас!
Впрочем, братья Маньяни успели привыкнуть к тому, что называли антипроповедями. Самая скандальная состоялась в сентябре 29-го, на собрании ассоциации содержателей государственных публичных домов, членами которой они были уже много лет. Они явились в ресторан Бондено, исполненные решимости спровоцировать раскол, который они с гордостью назвали Большой Щелью, и заявили о своем выходе из ассоциации; с этого момента они отказывались платить взятки правительственным чиновникам и подчиняться закону, по которому в стационарных домах терпимости запрещались азартные игры, танцы и любые праздники, а также продажа еды и напитков; теперь их не волновало, есть ли у девушки желтый билет, и наконец можно было забыть о медицинских осмотрах.
Маньяни очаровывал и нас, обладая качествами великих лицемеров, сложных и простых, лишенных тайны и чрезвычайно загадочных. Они — самые одинокие существа на земле, и их единственными спутниками являются их собственные выдумки; звери с тремя головами, как говорил Парменио: кажущейся, существующей и истинной. Прежде всего он обладал способностью менять их местами и вливать свою шутовскую логику в отчаяние других, получая в результате колдовскую настойку.
Таким образом он нас и удерживал.
И никто — до тех пор, пока он не перешел границы — не заявлял об унижениях из-за этой животной радости, которую он нам гарантировал, выводя нас на площади воздвигать виселицы для взбунтовавшихся ангелов и мстить преследователям, не прибегая к помощи властей. Мы называли мир тем, что он есть: огромным публичным домом — и распевали свободу скандала, как романс.
Дверцы colombare были сделаны с большим запасом прочности, чтобы защитить нас от тех свистоплясок, которые вызывали наши призывы и музыка, от существ с головами ящериц и козлов, которых я снова вижу через окошечко, от Ка Дзено до Ариано, от Адрии до Гриманы и Медзавиллы, особенно в темноте, высвеченных их собственными фонарями и факелами. Но чем больше они бросали зажженных веток, иногда доходя даже до стрельбы с колоколен, тем больше нам казалось, что мы видим их подвешенными к воздушным шарам насмешки и не имеющими сил коснуться земли, и мы бесстрашно продолжали те действия, которые в определенный момент переставали быть вызовом со стороны Маньяни и становились нашим.
Действительно, все наши обращения через громкоговоритель кончались тем, что мы говорили о себе и, может быть, только сами с собой.
Во всем остальном правила оставались практически неизменными.
Как и Маньяни, мы теперь двигались по земле, которая изменялась на глазах, и наша жизнь отражалась в желтых лампадах ночи, в рассветах над плотинами, с которых все было сметено ветром, или погруженных в низкий туман; казалось, что и времена года тоже приходят на смену друг другу с ошеломляющей быстротой, когда мы плыли через реки или шли вдоль их берегов, которые вели нас в леса, где ветви деревьев в Мезола или в Скардовари сплетались над крышами, окутанные облаками листьев. Мы добирались до полян и с удивлением обнаруживали человеческое жилье в местах, покинутых даже лягушками, в топях Сколо Венето или во внутренних районах Каматте, где крестьянки были на нашей стороне и извинялись за скудость пищи, которую могли нам предложить.
По сравнению с другими у меня было преимущество — я могла отключать свой мозг от действительности.
Я ложилась на спину и представляла, что жду мужа или верного спутника, а из-за стенки доносятся голоса детей, которых у меня не было; передо мной быстро мелькали образы и звуки той жизни, которой мне хотелось бы жить, и я думала, что если такие мечты мне помогают, значит до конца еще далеко. Я могла лежать так все утро, и только в последний момент замечала, что взгляд мой остановился на каком-нибудь пустом тазике или кресле с продавленным сиденьем.
Я смотрела на дупла окружавших меня деревьев, в которых были гнезда, и воображала, что там покоится некое неизвестное материнское начало, которое жизни не удалось растлить именно потому, что оно было неизвестным. И что это начало отвечает моим мечтам, как на зов родственников отвечают настоящие матери, которых я встречала, и у которых лица были цвета напрасно обрабатываемой земли в Крочероне или Томбине, я видела их из грузовика в процессиях, похоронных и свадебных, видела стоящими на носу нагруженных цветами шаланд, которые курсировали от одного берега к другому ради тех, кто на следующий день поженится или умрет.
Ни один из Маньяни никогда не показывался, за исключением того дня, который называется Знак, праздника в Боско делла Мезола, и некоторые даже сомневались в их существовании. Я была единственной, кто иногда встречался с Нерео, который относился ко мне с симпатией и никогда не забывал поговорить о том, что устроит для нас с ним великолепную свадебную церемонию в церкви Сан Петронио в Болонье, пригласит даже бродячих собак и кардиналов в пурпурных мантиях и власти из Рима, и знаменитых певцов из Оперы, танцовщиц и музыкантов, и одалисок из далеких стран Востока.
Это было его очередным упражнением в иронии, но тем не менее у меня создавалось впечатление, что мы давным-давно дружим. Точно так же он задавал мне вопросы, интересуясь, как можно использовать сексуальные пристрастия людей для того, чтобы приобрести над ними власть, как будто сам этим не занимался.
Но я чувствовала его искренность, когда он возил меня на машине по деревням Ариано; мы обгоняли другие машины, смеялись, шутили, но на подъезде к Форесте он замедлял ход перед Виллой Нани, окруженной рвом, с большими внутренними двориками и лоджиями. В этот вечерний час было еще достаточно светло, чтобы все разглядеть: граф Нани ждал нас, неподвижно застыв за решеткой ограды с ловчим соколом на правой руке; он направлял его на Нерео, который останавливал автомобиль совсем рядом, после чего они с ненавистью впивались друг в друга взглядом, и даже их ненависть была разной, как у двух мужчин, один из которых знает счастье, у которого нет ни прошлого, ни будущего, а другой с грустью понимает, что для него слишком многое уже в прошлом.
И тогда Нерео отваживался на высшее проявление доверия: они думают, говорил он мне, что мне нужна куча денег, и я позволяю им так думать, хотя на самом деле они могли бы купить меня довольно дешево, например, за эту виллу, тем более, что ее все равно конфискуют, потому что Нани не в ладах с режимом и вся Дельта знает, что он готовит покушение на руководство, так что его утопят в Сакка Скардовари.
За эту виллу, повторял он, поместье и все, что в нем имеется.
Я ему верила. Если бы они разгадали его неудержимое стремление менять кожу, чтобы в конце концов получить такую же, как у большинства, они бы и в самом деле держали его в руках, не давая ему при этом ничего взамен.
Это не исключает того, что Большой Сераль, как однажды выразился Маньяни, таким и оставался; временами — способный на безумства, временами — сущий младенец. Неизбывная невинность существует всегда и везде, даже в colombare. Тот, кто видел статуи Христа, высеченные руками убийц, понимает это: пусть, что Распятие кривое, а Спаситель похож на урода или дикаря, но в глазах его сияет свет далеких небес, который никогда не смогут изобразить священнослужители, или, например, ноги не пробиты гвоздем, а скрещены над ним и не кровоточат — это символ свободы, которую нельзя распять.
Итак, я говорила о подпольных кличках, которые мы носили.
Полярная Звезда просыпалась с началом сумерек и, пристально глядя на небо, оживала вместе с яркой звездой, возвещающей вечер, и каждая уходила в свою ночь под свое созвездие. Была еще и Зувнота, девушка из Монтеджаны, рослая и сильная, как солдат, у нее была привычка борца хрустеть суставами пальцев. Она заставляла вспоминать о песнях Лиги, и, хотя и по неведению, проявила себя самым лучшим подрывным элементом из всех, кого я знала, всегда выступая в первых рядах и во весь голос призывая смерть господству над телами и душами, ей не нужно было нести плакат, ибо она сама была живым плакатом против того, что она обвиняла.
Зувнота, готовая остаться в одиночестве на площади после того, как по ней пронеслась кавалерия, со свистом рассекая саблями воздух, но девку из colombare не рубят саблей, кому она нужна? И, стоя как монумент, единственный оставшийся среди поверженных, посиневшая от холода или обожженная бешенством, Зувнота не покидала своего поста между сломанными трибунами для митингов и разорванными знаменами, и ее молчание было знаком.
Этим она выступала не столько против Нерео, сколько против Пезанте, которая настаивала: если она хочет главную роль, мы ей ее дадим — повесим за ноги. Но Маньяни был непреклонен: того, кто меня не задевает, я не трогаю, а со мной она ведет себя, как надо, и правила, которые я установил, соблюдает безупречно.
Была и Слеза Христова, переполненная шутками и угрызениями совести, порхающий арлекин драм и счастливых капризов. И Крикунья, которая на отмелях или на равнинах, яростно топча целебную траву, злилась на свод небесный, особенно на облака, когда они опускались слишком низко: убери руки, кричала она, Бог беззубый! Кричала до тех пор, пока ее не охватывал страх перед загробным миром и она не прикрывала голову руками, тогда мы шли забрать ее: пошли, Крикунья, Бог тебя простил.
Поскольку этих моих подруг уже нет, а я испытывала к ним симпатию, чего не могу сказать о подругах в лагере Атоса, расскажу и о Восходящем Солнце, которая соглашалась на противоестественные акты, хотя я пыталась убедить ее, что это доведет ее до сумасшедшего дома, но только попусту тратила слова. В colombare часто приходили курсанты из военного училища, с которыми мы засиживались до рассвета, и Восходящее Солнце выступала с номером, который объявляла как «японский воин, или харакири» — она вытаскивала у кого-нибудь из них кортик из ножен, приседала, широко раздвинув ноги, и демонстрировала мизансцену, достойную театральной актрисы. У тех, кто стоял вокруг нее, должны были быть крепкие нервы и желудок, потому что она вводила в себя кортик, прося при этом: хлопайте, задавайте темп. Она вводила его по рукоятку, и то, как ей это удавалось, было тайной, причем она ни разу не поранилась, кроме одного случая, когда рассекла вход в матку, но, несмотря на то, что по рукоятке текла кровь, она продолжала вводить лезвие дальше. Я не могла на нее смотреть, хотя, сказать по правде, иногда аборты делались точно так же, а Джино Медзадри при этом крутил ручку граммофона, потому что она непременно требовала музыкального сопровождения. Он ставил «Ты, Луна» и, хотя в своем трудном ремесле насмотрелся всякого, тоже не поднимал глаз, а как-то раз швырнул граммофон прямо в лицо одному курсанту с криком: да что вы за звери? Ее пожалеть надо, вы что, не понимаете? Его грубо поставили на место: послушай, Кот — ты.
Медзадри спрыгнул с грузовика и сказал: пойду повешусь, потому что вы правы, и я сам себе отвратителен. Нам пришлось гоняться за ним всю ночь, пока мы не нашли его в районе плотин Ка Мерли, где он лежал, разбив голову о камень.
Медзадри назвал наш грузовик «Лао» и написал это краской печатными буквами на борту, а когда мы спросили, что это значит, сказал: это значит вещь, которую нельзя получить. А мы: на каком языке? А он: на моем.
Так мы и ездили, и по пути к нам кое-кто присоединялся. Как, например, Сорока-воровка, у которой были кудрявые волосы, и она извивалась всем телом при ходьбе, считая, что она — сама красота, и репетировала жесты, как лучше держать сигарету, а по ночам разглядывала то, что стащила.
И Бамбина, от которой были одни неприятности, потому что она совершенно ничего не соображала до такой степени, что публично заявляла, что еще несовершеннолетняя.
Мы прибывали на место.
Каждая из нас отделялась от группы, пожав плечами, и удалялась с тревогой на душе в слабенькое солнце над стоячей водой, на равнине оставался один Медзадри, и его можно было бы назвать опустошенным, как дерево, с которого внезапно срываются и улетают прочь напуганные выстрелом скворцы.
Ночь, которую запомнили как ночь Маньяни, выпала на двадцать восьмое июня 1935-го, но сложилась она из множества предшествовавших ей ночей и дней. В начале мая Нерео устроил торжественное вступление Котов в должность — праздник, который Лиджера каждый год отмечала на открытой танцплощадке Гран Боско делла Мезола. Неофиты танцевали. Сидя за столом вместе с братьями и представителями Пезанте, среди которых, кроме Негри и Паризи, были Армеллини и Паганелли, Маньяни обратил внимание на то, как его ребята, не допуская ни малейшей ошибки ни в одном из танцев, создавали атмосферу гармонии, достойной императорских драгун. И какой тщательный грим, какое кокетство со стороны женщин! Это мои создания, сказал он себе с иронической нежностью, воплощение моих ненасытных мыслей.
Хотя праздник был в полном разгаре, но не было ни одного неуместного слова, ни одного неуместного жеста. Чем бы все сегодня ни закончилось, решил он, и пусть мне суждено найти в этом лесу свою смерть, но поработал я, безусловно, на славу.
Рано утром прошел дождь, и сейчас, ясным днем, весь мир представлялся ему изящным, как женщина, его отрешенный взгляд был устремлен туда, где начинались дюны и прибрежные отмели; но, несмотря на столь глубокую отрешенность, его не оставляло беспокойство, постоянное, неизбежное в силу того, что Пезанте, прибывшая специально для этого, вот-вот должна была закрыть его дело. Как у прорицателя, у него было плохое предчувствие, хотя даже Армеллини и Паганелли изображали веселье, притворяясь, что они вовсе не такие, какими были на самом деле, терпеливыми и настороженными.
Он поднял руку и потребовал тишины. Оркестр перестал играть, Коты и девушки вернулись на свои места.
Согласно обычаю, он распорядился раздать подарки: серебряные пудреницы и портсигары, на которых были выгравированы имена всех трех братьев. Затем он завел приличествующий случаю разговор, призывая молодежь, которая на него работала, не считать это занятие чем-то позорным; он вспомнил, как сам был начинающим и честолюбивым Котом, и вот карьера блестяще завершена; он высказал мысль о том, что большинство людей, включая столпов морали, приходило в их colombare найти утешение своему отчаянию и тоске, и, следовательно, грузовик Маньяни представлял собой реальность, обладающую определенной ценностью, если ради него люди были готовы рискнуть многим.
Его властный и в то же время любезный голос, его грубоватое обаяние очаровывали. Даже Армеллини и Паганелли слушали с удовольствием, завидуя умению Маньяни вызывать аплодисменты и заставлять их умолкнуть.
— Вот некоторые истины, которые я хотел вам сообщить, — сказал он в заключение, — именно здесь, в волшебном лесу По, если вам явятся олень и лань, все невозможное возможно!
Усевшись на место, он перестал реагировать на шутки, на цветы, которые сыпались на его стол, и весеннее посвящение перестало его волновать. Откладывать было бесполезно. Он внимательно посмотрел на профиль Армеллини, более решительного, чем его коллега, на блестящую от пота руку Паганелли рядом с тарелкой: рука рассеянного палача. Он выбрал Армеллини:
— Итак?
Не поворачиваясь, тот ответил:
— Я во всяком случае остаюсь твоим другом. Я голосовал за тебя.
— Это уже ответ, — с горечью признал Маньяни.
— Да, — подтвердил Армеллини.
Никогда в жизни Маньяни не думал, что мир может ускользать с такой быстротой, превращая все планы господства над ним в пустой звук.
— Кто, — спросил он, — вместо меня?
— Танци из Корболе.
— Причина?
— Доверие.
— Танци — размазня.
— Нет, Нерео, ты ошибаешься. Он скромный.
— Я… Я был бы скромнейшим из скромных.
— Да, но на более высокой ступеньке. И своими руками поставить тебя на эту ступеньку…
— Мне сорок два, — выкрикнул Маньяни с бессильной яростью.
И с удивлением, словно это только сейчас пришло ему в голову, понял, что для такого грандиозного провала он слишком стар. Его белый с откидным верхом и кожаными сиденьями автомобиль ждал за оградой. Он прочел в нем одиночество, подобное его собственному, и приглашение убежать прочь, по крайней мере, спрятаться.
Он пересек танцплощадку, приговаривая:
— Танцуйте, я скоро вернусь.
Но на самом деле он весь был уже там, в Гран Боско делла Мезола, за рулем своего автомобиля, и гнал его на бешеной скорости, словно намеревался врезаться в дерево или налететь на одного из тех оленей, о которых он с гордостью говорил, что они и лани подобны сбывшимся снам. Дюны явили ему видение, истинный смысл которого он не сумел постичь. Как будто снова пошел дождь, дождь изо льда, следы которого оставались на лобовом стекле, несмотря на все усилия дворников.
Три дня спустя внимание людей, разгружавших суда с контрабандой, привлек лай собак, которые мчались вниз по склону холмика в форме пирамиды, из-за своей белизны получившего имя — Соляная Гора. Солнце вставало со стороны Лидо ди Волано, мешая смотреть вдаль, потом на вершине появилась какая-то фигура, гордо стоящая под развевающимся полковым знаменем. По очертаниям эта фигура была похожа на человеческую, но на таком расстоянии трудно было понять, откуда вылетали фиолетовые и желтые молнии. После того как собаки исчезли из виду, контрабандисты поднялись по лошадиной тропе, вдыхая молчание страха и отмечая, что таинственное явление застыло над обрывом в монументальной позе благодаря деревянной подпорке.
Кто-то сказал: похож на стрелка из аркебузы. Другой заметил: скорее — на наемника из свиты какого-нибудь феодала, хотя, насколько мне известно, маскарадов в округе никто не устраивает, а карнавал проходит где-то далеко. Как бы там ни было, перед ними стоял древний рыцарь, закованный в доспехи с узкими прорезями для шнуровки, наплечниками, украшенными орнаментом из цветов и листьев и застежками в форме бабочки. На грудной пластине были изображены два перекрещенных креста, черный и золотой, причем верхушка золотого заканчивалась уже на шлеме. Лицо было скрыто плюмажем; вожак контрабандистов откинул его в сторону и остолбенел:
— Это Танци из Корболе.
Кровь, вытекшая из ноздрей, уже запеклась. Уши были отрезаны.
— Над мертвым Танци надругались!
Известие об убийстве произвело сенсацию. Не потому, что в Лидо ди Волано стало одним трупом больше, а в силу некоего обстоятельства, с которым трудно было смириться и невозможно объяснить. В перчатке Танци обнаружили письмо, в котором он объявлял человечеству о намерении покончить жизнь самоубийством, поскольку он наконец осознал, что ничтожнее любой лягушки из придорожной канавы, и вследствие этого недостоин принять на себя требующие высочайшей ответственности обязанности, которые возложили на него его дорогие друзья и суть которых в письме не уточнялась; что касается этого маскарада, он признался, что, будучи посредственностью, в мечтах всегда видел себя предводителем крестоносцев. Все сочли, что письмо проникнуто благородной горечью. И никто бы ничего не заподозрил, если бы не было известно, что Рино Танци, барышник по рождению и невежда по призванию, не только понятия не имел о крестовых походах, но даже и расписывался с огромным трудом.
Пезанте потребовала встречи с Маньяни в Ка Дольфин. Нерео явился в сопровождении братьев. Когда его обвинили в убийстве Танци, он спокойно сказал:
— Счастье принадлежать к людям реки, дорогие друзья и коллеги, состоит в том, что правда всегда всплывает на поверхность.
— Ты всплывешь вместе с ней, — заметил Паганелли. — Тебе надо только выбрать место и сказать нам, где.
Витторио и Обердан испугались. Но Нерео совершенно хладнокровно ответил:
— Я выбираю Сакка Скардовари. Речь только обо мне. Братья здесь ни при чем.
— Сакка Скардовари, — согласился Паганелли. — А твоих братцев мы утопим у далматинских берегов.
— Сейчас, когда я выбрал себе место, — улыбнулся Маньяни, — ваша очередь. Потому что, кроме меня и правды, на поверхность всплывет еще кое-что.
— И кто же это из нас? — с иронией спросил Армеллини.
— Никто. Речь не о людях, хотя это очень человечно. Скажем, речь идет о предчувствии некоей хитрой души, сформировавшемся сразу же, как начались наши дела, поскольку память проходит, а душа остается. Вспомним пословицу: дал слово — держись.
— Трубящий Кит? — сыронизировал на этот раз Негри. — Ты это имеешь в виду?
— Я имею в виду расчет по моим обязательствам перед вами, которые, как вы прекрасно знаете, я никогда не нарушал.
— Это было бы таким грандиозным доносом, — рассмеялся Паганелли, — что тебе пришлось бы встать на караул, как Танци. На куполе собора Святого Петра, впрочем, а не на Соляной Горе. А вместо доспехов нацепить пиджаки всех членов правительства.
— Я это сделаю, — пообещал Маньяни.
Через неделю Джино Медзадри проснулся в пустой colombare. Наступающему дню он сказал: «Лао». Он поразмыслил над этим словом, пока умывался в родничке и пил кофе из термоса: крошечная рыбацкая гавань, в которой он остановился, смотрелась в зеркало вод По ди Маэстра и заставляла думать о легкости, с которой можно было иметь то, что нельзя, в покое мира, в милосердии вещей. Начинался даже не рассвет — это был голубой туман, в котором все — от лодок до сетей — плыло в счастливой дисгармонии, словно отражение воображения.
Лао, сказал он лягушкам. И Лао — дороге, по которой он направился в сторону Баркесса Раваньян; праздник там уже наверняка закончился, и пора было забирать девушек. Он так и сделал, и они поговорили о том, что дни идут, как всегда, спокойно, словно их грузовик между дюнами, и о Маньяни, который, против всех ожиданий, вроде бы сдался на милость Пезанте, и это означало, что он — человек конченый.
Но когда осталось забрать одну Зувноту, и они приехали в то место, где она должна была их ждать, то обнаружили там только ее стул под небом, усеянным дикими утками: похожий на дорожный столб, обозначавший неизвестно какой километр, он, казалось, поддерживал немой диалог с собеседником, в котором было ничто. Они вылезли и покричали, но ответа так и не дождались. Тогда они распределили между собой тропинки, и Медзадри с Дзелией отправились направо, в заросли ивняка. В пустоте заболоченной старицы эхом разносился какой-то шум, похожий на барабанную дробь, он казался обманчиво близким и звучал, как предзнаменование. Они попытались определить, откуда он исходит, но в конце концов заблудились в камышовых зарослях, и прошло довольно много времени, прежде чем они обнаружили Зувноту висящей вниз головой, в волосах у нее запутался гребень.
Было непонятно, каким образом ее подняли на такую высоту. Странно, но мертвая она не выглядела чем-то чужеродным среди покрывавшей отмель растительности и других признаков окружавшей ее жизни. Ветер раскачивал ее, как верхушки ив; и она впервые стремилась, словно желая обнять ее, к земле, а не ввысь, чтобы протестовать; глаза одновременно были пусты и полны смысла; рана напоминала трещину в коре, из которой текут слезы вековых деревьев.
Окутанная покоем и светом, в лучах солнца, пронизывающих заросли, она сливалась с красотой дня.
Это было демонстративное предупреждение со стороны Пезанте, напоминание о том, что — «собственность» братьев Маньяни отнюдь не была неприкосновенной.
Тело Зувноты поступило в распоряжение судебных властей. Вскрытие отложили; расследование, несмотря на все заверения, топталось на месте. Складывалось впечатление, что оставить тело не погребенным, выдвигая разного рода предложения, которые так и остались нереализованными, и сопровождая свои действия мало понятными намеками на какие-то трудности, было единственным средством симулировать активность. Одно преступление можно было с легкостью замолчать, но два, совершенные за короткий срок на одной территории, уже нет. Подруги провели много ночей во дворе судебного морга, а когда к ним присоединились женщины из других colombare, даже попытались штурмом взять окованную железом дверь.
Потом они разошлись по деревням, во весь голос призывая устроить похороны и предать земле тело Марты Пеллегрини по прозвищу Зувнота.
В тот день Нерео Маньяни решился.
— Я — это я, — сказал он себе, — и в этом — ответ на все вопросы. Я совершенен.
Из множества разных, в зависимости от назначения, бланков для писем, которые он еще раньше заказал в типографии Фогола в Сермиде, он выбрал один. Бланк был похож на страницу из молитвенника, потому что, в отличие от других, его украшали не павлины, львы и сцены вооруженных стычек, а миниатюры, изображающие Тайную Вечерю и души Чистилища.
Отбросив все колебания, он написал архиепископу Феррары. Передать письмо должен был один из надежных друзей. Кроме предложения и просьбы, он изложил свои взгляды на положение дел, напомнив об обстоятельствах, при которых они с прелатом уже встречались. Тогда, в приемной, украдкой разглядывая позолоту на потолках и ощущая под ногами мрамор пола, он сказал себе: для меня это — религия, драгоценная форма, которую священники, и только они, умеют придавать предметам. Когда его ввели в кабинет, он вообразил себя послом некоего очаровательного и непристойного суверена, а Вита Масенна — Дно — королевством.
— Я согласился принять вас, — начал архиепископ, — из отвращения. Поскольку таким образом могу выразить его вам лично. Вы — известный растлитель…
— Даже если бы я им был, — с улыбкой перебил его Маньяни, — я растлеваю души тех, кого уже растлили вы, запретившие им думать и свободно выражать свое мнение. Многие никогда и не слышали о Боге. В первую очередь от вас, потому что вы побоялись к ним отправиться, может, от того, что боитесь запачкаться.
Они нашли тогда общую точку — если не контакта, то компромисса — в двух французских креслах восемнадцатого века, которые нравились обоим. Они расположились в них, и архиепископ с видом фокусника изрек:
— Ты, Маньяни, однажды вернешься сюда смиренный, со словами Евангелия: признаю свои гнусные деяния и отрекаюсь от них, засохшая смоковница решила дать сладкие плоды. И тогда я отвечу тебе: вот слуга Божий, которого я выбрал, которым я удовлетворен… Я жду этого дня.
Следя глазами за бегом пера по бумаге и сияя комическим всемогуществом, Нерео воскликнул: вот и дождался, козел!
Он учел разные моменты: во-первых, склонность архиепископа к риторике, порок, который можно было весьма выгодно использовать; во-вторых, то, что общественные институты, чем более прочными себя считают, тем более смехотворно выглядят; и, в-третьих, то, что никогда еще он так глубоко, как сейчас, не верил во вселенскую насмешку, как в единственное политическое решение, способное принести успех в борьбе с этим ненормальным миром. Он пошел еще дальше и запечатал конверт особой печатью. Разглядеть, что на ней изображено, было почти невозможно; и только обладая орлиным взором, архиепископ мог увидеть в ней очертания фаллоса; но любители риторики, подумал он, обычно не отличаются остротой зрения и даже в самом фаллосе отказываются узнавать фаллос.
Когда он вручал письмо тому, кто должен был передать его архиепископу, он в глубине души знал, что вступление, предложение и просьба были ясными и убедительными. Вступление: есть только одно совершенное существо, Христос, и он озарил меня своим светом, когда явился мне в Гран Боско делла Мезола. Предложение: при поддержке со стороны прелата я готов признать — публично! — свои гнусные деяния и отречься от них. Просьба: погребальная служба по Марте Пеллегрини в Храме Божьем. Чтобы это выглядело уместным и достойным, Маньяни даже предложил день — двадцатое — и храм: Аббатство Пом-позы, который он лично украсит для церемонии.
Прежде чем Пезанте утопит его в Сакка Скардовари, заявил он, он хочет, чтобы его печальное существование завершилось не только торжественным отречением от Вита Масенна, но и актом христианского милосердия, который должен быть торжественно совершен в том же месте.
С содержателями государственных публичных домов он предпочел побеседовать лично, в ресторане «Каналь Бьянко» в Адрии. Кто лучше него мог оценить не только их жадность и жестокость, но и неизлечимое простодушие, часто служившее причиной поражений? Если в религиозных установлениях можно было быть хоть как-то уверенным, принимая идею духовного возвышения и бессмертия души, то эти люди были гораздо более непредсказуемы в силу того, что состояли из плоти, но вовсе не были убеждены в возможности ее воскресения. Спрятались в панцирь, как черепаха. Впрочем, достаточно было найти нужное слово, чтобы заставить их с детским любопытством высунуть наружу и голову, и лапы.
Он мчался в машине по направлению к Адрии, и то напевал одну из своих любимых арий: «Проснись, Лючия, повелительница сердец; на горы уже пал первый луч света…», то задавал себе вопрос: «А сумею ли я угадать это волшебное слово? Столько лет прошло. А свиньи, известное дело, жадны до новизны».
Как он и предполагал, приняли его с недоверием старых друзей и нынешних соперников. Поза блудного сына оказалась бесполезной. Положение несколько исправилось после подкрепленного конкретными доказательствами заявления о том, что он гарантирует прекращение конкурентной борьбы, поскольку братья Маньяни выходят из дела. Но окончательно их убедила готовность, с которой такой человек, как Нерео, — во времена их сотрудничества он от этого категорически отказывался — принял участие по окончании обеда в унизительных играх, позаимствованных у масонских лож и других тайных обществ и превратившихся в этой секте в жалкую пародию на самих себя.
— Дражайшие верные слуги любви, милейшие Сирены. Один из ваших прежних мастеров и казначеев…
Он согласился, чтобы ему завязали глаза, подражал позам животных; под смех и непристойные комментарии продекламировал список тайных наслаждений. И в довершение всего вместе с самой старой шлюхой самозабвенно исполнил вальс, испытав чистое наслаждение танцем.
Уходя на рассвете, они заверили его в том, что если Пезанте примет решение в пользу Сакка Скардовари, они будут в первых рядах зрителей на плотинах. Точно так же в первых рядах со своими женщинами они будут слушать мессу в Аббатстве Помпозы, помня, что Марта Пеллегрини, если не обращать внимания на некоторые отклонения, была жертвой того, кто нарушил один из законов общества. Маньяни еще долго наблюдал, как они уходят пьяные, опрокидывая столы и стулья, набрасываясь друг на друга с кулаками и тут же обнимаясь в знак вечной дружбы, и, оставшись один в ресторане, он спокойно извергнул из желудка и из мозга непереваренную пищу и, в первую очередь, невысказанные слова.
Развлечение другого рода началось, когда он послал большие букеты цветов тем дамам из женских комитетов, которые с наибольшим напором и самоотверженностью пытались наставить его на путь истинный. Но если последователи воздухоплавателя, архиепископ Феррары, содержатели государственных публичных домов, а также — в лагере противника — Пезанте точно знали, какими должны быть подходящее правосудие и пути небесные и земные, стратеги комитетов, движимые стремлениями столь же пылкими, сколь и туманными, полагались на импровизацию.
Добившись цели — Маньяни был в этом уверен — они бы прекратили возню с его призраком, испытывая скуку и разочарование, которые оставляют после себя добрые дела: здоровье общества, восклицал он, какая хреновина! Тем не менее, направляемый теми, кто первым начал с ним переговоры, он принял правила игры, на которых они настаивали. Зал был набит битком. Сколько штандартов, заметил он, слишком много: значит, армия слаба. Как знаток женщин он прекрасно понимал, что, когда и как произойдет. Сейчас, догадался он, они набросятся на меня, проклиная и меня, и всю мою родню до седьмого колена; в подобных случаях немногим животным удается проявить большую жестокость.
И действительно, они закричали, что его нужно повесить в Сканно дель Пало.
Предвидя, что за этим последуют и физические проявления их злобы, он посоветовал себе: не обращай внимания на эту истерику, просто смотри на них отсутствующим взглядом. Скоро они окажутся в замешательстве, переругаются между собой, возможно, обнаружат, что у меня добрые ясные глаза. Сумасшедшие — возмутился он про себя, и это было первое искреннее чувство с того момента, как начался спектакль — называющие безумной мою жизнь, неужели вы не видите, до чего смешны, когда гордитесь собственной непогрешимостью? Неужели не замечаете, что вашим умом и сердцем управляет, подобно какому-то жестокому чудовищу, ваша матка? Хотя меня и ждет смерть, я испытываю огромное счастье, здесь и сейчас, потому что торговал вами. Я презираю вас больше, чем воздухоплавателя, архиепископа, содержателей борделей. Я ненавижу вас сильнее, чем ненавижу Пезанте.
— Я заслужил аплодисменты, — потребовал он у зала.
Наступила тишина. Они не понимали.
— С ними будет покончено навсегда. Они исчезнут с лица земли!
Нагнетая напряжение, он выдержал паузу.
— Я сожгу передвижные бордели. Вы увидите, как они будут гореть на плотинах Скардовари или Ариано.
Многие бросились его обнимать. Некоторые целовали его в губы. Нерео Маньяни удалился, кланяясь, уверенный в том, что на похоронах Зувноты он увидит их, как и всех прочих, потому что так требовало милосердие и потому что Марта Пеллегрини была доказательством существования ада.
Мерзкой, но испытывающей удовлетворенную усталость марионетке, которой он позволил исполнить свои трюки, оставалось сделать всего четыре шага, тщательно продуманных, сразу же за границами Мезолы. И ими стали первые выводы из его истории, которые представлялись ему неопровержимыми. Неужели можно было всерьез подумать, что это он виноват в том, что ни одна эпоха не уничтожила смысл любой реальности столь безжалостно, как 1935-й год, который тем не менее щедро дарил миру этот майский день, такой ясный, что в нем можно было разглядеть то место, где за пределами рассветов и закатов Зувнота обрела покой наперекор его грязным планам?
Самые большие вещи заключены в самых маленьких, как Бог в облатке. Как Трубящий Кит в школьном портфельчике, который он нес под мышкой. Он оставил у себя за спиной замок Альфонсо дʼЭсте, пересек пустынные поля и вошел в сад, сознавая, что несет портфельчик с той же беззаботностью, с какой ангелы, призывающие на Страшный Суд, несли свои крылья.
Пожимая руку префекту Диего Алессандри, специальному представителю министерства внутренних дел, и позволяя ему заботливо закрыть дверь, он подумал именно об этих ангелах, извлекающих из своих труб звук вселенский и неслышный, как его Кит, обращенный к Богу ликующий гимн и одновременно сигнал сбора для мертвецов.
— Он… — таинственно намекнул префект Алессандри.
Воздухоплаватель? Начальник полиции? Сам Муссолини? Он, олицетворяющий собой государственное начало!
— Он, — Маньяни утвердительно кивнул, испытывая удовольствие от такого количества вопросов.
«Facere virorum est, loqui mulierum».
Он вздрогнул. Как всегда, когда невежество внезапно заставляло его почувствовать себя на краю пропасти.
— Одно дело — слова, другое — факты, — перевел префект. И добавил с иронией: — Подходящий момент, чтобы сказать об этом.
— Да, подходящий.
— Мы на вас рассчитывали.
В словах Маньяни тоже прозвучала ирония:
— А я, синьор префект, на что могу рассчитывать? Выражусь яснее: на виллу и поместье графа Нани, подрывного элемента, которого вы рано или поздно поставите к стенке, или на Сакка Сардовари?
— На будущее, которое влечет за собой эта вилла, — заявил префект. — И на будущее нашей нации.
Нерео увидел, как портфельчик переходит из его рук в руки собеседника, словно королевская шпага или золотой павлин. О, милые имена, милые юношеские воспоминания и места, даты: память сыграла свою шутку. Как в истории, так и в жизни человека, есть периоды, обреченные на полную завершенность.
Уверенным шагом он поднялся на амвон. Церемония пока шла великолепно.
Начав с Христа в абсиде, он обвел взглядом все аббатство; все сидели, объединенные перешептыванием, в той части, которая была, благодаря его усилиям, отделана заново. В задних рядах — агенты, выполняющие двойные обязанности: представлять и надзирать. Некоторые из них сдвигали на глаза шляпы или прикрывали лица платком, притворяясь, что вытирают пот, причем делали это скорее по привычке, чем из предосторожности. Содержатели борделей занимали центральные скамьи, в их поведении сквозило комичное стремление властвовать, и хотя они и сменили сардоническую усмешку на более приличествующее обстоятельствам выражение, выглядеть набожными им все равно не удавалось.
В первых рядах по обе стороны катафалка сидели женщины. Слева — подруги Зувноты, справа — девушки из государственных заведений, они с трудом помещались на бархатных подушках и глупо улыбались, сверкая под вуалями белоснежными зубами.
Представители женских комитетов размещались на хорах.
Гроб стоял на постаменте, накрытом траурным покрывалом и заваленном цветами. Марта Пеллегрини — с сарказмом подумал Маньяни — не могла даже мечтать о таких великолепных похоронах. В сущности, ей повезло, что ее повесили где-то на берегу.
Вглядываясь в выцветшие фрески, он задержал взгляд на Страшном Суде и сценах из Апокалипсиса: они напомнили ему о сделанном выборе. Та власть респектабельности, которой он решил сдаться без малейших сожалений, убежденный в том, что нет ничего хуже неопределенности, была похожа на идола, на едва различимый нимб, изображающий рай, высящийся над столпотворением Страшного Суда. В нем было требование примирить непримиримое; понять, что во Вселенной нет логики, а только гримасы, и эти гримасы есть хаос — отец порядка.
Разве то, что разразилось благодаря ему, не проявлялось в этих образах, вызывающих у него ощущение власти и подчинения? Смешивая свет и тени, они заполняли небеса с какой-то трагической иронией, которая была воплощением самой догмы. Из этого можно было сделать любые фантастические выводы. Головы избранных и нечестивых, растущие друг из друга. Толпа ведьм, производивших на свет вереницы голубок, а если посмотреть под другим углом, то ситуация менялась на противоположную. Матери рождались от детей, убийцы — от жертв, мертвые двигались, как жернова, живые замерли в неподвижности, словно башни.
И все присутствующие смотрели вместе с ним, обнаруживая, что и в царстве Божьем убивают с удивительным ощущением братства.
А может, это был его кошмар?
— Я сошел с ума! — закричал Маньяни. И удивился своему крику, который, эхом разнесясь по аббатству, показался ему исторгнутым из груди кого-то другого. Поэтому он тотчас же исправился: — Может, я сошел с ума?
Никто ему не ответил. Напротив, молчание стало еще более глубоким. Это означало безмолвное «нет». И тогда он с облегчением простился с собой, с этим нагромождением преступлений и любви, дерьма, крови и прекрасных тел. Прощай, Маньяни, удивительный знаток всего этого.
Он сделал последнее движение, чтобы извлечь звук из органа. И начал свое отречение от Вита Масенна.
Двадцать восьмого июня вечером Нерео Маньяни выглянул в окно, пытаясь различить признаки того, что вот-вот должно было случиться: на востоке он увидел дым. Прежде чем выйти из комнаты, он посмотрелся в зеркало. Одет он был скромно и выглядел — и внешне, и внутренне — совершенно обыкновенным; все в нем казалось сонным, серым, даже немного небрежным. Его правило быстро решать важные жизненные вопросы было соблюдено еще один раз, и вот прошлое уже тускнело; а если поверить в мечту, то оно, может быть, никогда и не существовало.
Он спустился по парадной лестнице, и слуги совершенно естественно поздоровались с ним, как будто вилла Нани называлась виллой Маньяни испокон веков. В ответ он улыбнулся. Серебро блестело в полутьме — на всех наиболее ценных предметах уже была выгравирована его монограмма — и точно так же сверкали подновленной краской рамы и старинные орнаменты. Он полюбовался маленькими лестницами, которые вели в лоджии и к розариям.
Выйдя в парк, он почувствовал желание обернуться и полюбоваться фасадом, но гордо вскинул голову и пошел по дорожке. Что это, спросил он себя, за дурацкое самодовольство? Не поддаваться тщеславию — лучший способ убедить самого себя в том, что он поселился здесь не недавно, вернее, не только что, а много лет тому назад. Он уже научился отличать самые величественные деревья, самые красивые фонтаны, предугадывать, когда начнут бить башенные часы. Подбежавшие собаки лизали ему руку и обнюхивали, как нового хозяина, а он в знак благодарности называл каждую по имени.
Только ловчий сокол продолжал упорно сидеть в своей клетке.
От Ариано он пошел по плотине, и сразу же, как только показались пойменные леса, заметил всеобщее оживление. Люди смотрели в сторону узеньких стариц; туда мчались конные дозоры, полицейские автомобили и военные грузовики. Маньяни тоже направился в ту сторону, но не спеша. В районе По ди Горо вода в реке имеет странный красноватый оттенок, поэтому он не сразу заметил отблески пламени вдали.
На берегу собралась толпа. Он протиснулся вперед, громко спрашивая:
— Вы что, не видите, что это я? — Чтобы доказать самому себе, что на него никто больше не обращает внимания, или притворяется, что не обращает.
Он мог бы спросить, как какой-нибудь любопытный прохожий:
— А что случилось?
И ему бы ответили, может быть, даже не удостоив взглядом:
— Бордели Маньяни горят!
Он увидел их, объятых пламенем, на равнине и на волоке. Снова огонь пожирал землю, и Дзелия вспомнила костры в лагере Ханси и в другом лагере — Идальго и Атоса, и перед ней опять возник вечный вопрос: откуда в человеке эта одержимость, заставляющая его уничтожать свое видение вещей, а не сами вещи?
Женщины из комитетов помогали солдатам и Котам, которым было приказано положить конец своей деятельности. Маньяни отметил быстроту, с которой они научились обливать грузовики бензином, бурно радуясь, когда вспыхивало пламя, и то, что они набрасывались на девушек из colombare и пытались над ними надругаться, чтобы таким образом избавиться от тяжкого груза подавленных желаний, супружеских измен и домашних скандалов. Так продолжалось до тех пор, пока каждому из этих живых существ, когда-то принадлежавших ему, не повесили на шею табличку с именем и не сбросили в воду.
Потом их развезут по тюрьмам в разные города и предложат так называемый — вольный «выбор»: или на африканский фронт — утешать солдат, или за решетку.
Кое-кто продолжил свой гнусный пикник и остался на плотинах до самого рассвета. Когда даже Нерео Маньяни вернулся на виллу Нани.
XI
Африку я уже знала, ее реки и пески, ее стариков, больных проказой девочек; центурионы показывали нам реки на возвышенностях: головы, которые вы там видите, говорили они, это головы прекрасных рабынь, в наказание их заставляют стоять по горло в воде, а многие из них беременны. Или обманывали нас: буря кончится, и придет поезд Абу Хамеда, поезд спасения. Но бури длились неделями, и не было никакого поезда, никакого спасения.
Я находила поддержку в узнавании примет моей земли, которую я обретала вновь: идущие между барханами караваны в знойном мареве казались старицами, Мареб был красным, как По ди Горо, а иногда я обнаруживала места, называющиеся Дауа Парма или Порто Дзеиля, что звучало почти так же, как мое имя.
Я любила смотреть, как с амба — абиссинских скал с плоской вершиной — поднимаются в черное бездонное небо влекомые могучим ветром таинственные языки пламени, такие же, как наша Гвардадура. И бросала в лицо пустыне их имена: амба Карналле, амба Тзеллере, амба Арадам, амба Аладжи, амба Дебра, амба Манамба. Если их долго повторять, они превращались в музыку, которую я называла своей песней амба.
У амба были пальмы — «дум», птицы с ярким опереньем, гиены, шакалы и газели; но все это было и у нас, даже еще лучше: пальмы, достающие до луны, птицы, чье оперение всегда было ярче на один оттенок, я имею в виду цвет, который человеку еще не известен, но который существует, и газели, летающие, как монгольфьеры. Потому что мы видим их взглядом Бога и Био одновременно, взглядом, которого нигде больше нет; и одним из сюрпризов Африки стало открытие рая, который Парменио в свое время украсил не только животными пустыни, но и образами изуродованной красоты, высшей правды Вселенной.
То же самое произошло и с речью.
Всех, от солдата до генерала, поражало, что если я встречалась с сомалийцем или представителем какой-нибудь другой народности, и он говорил «арку», то я, даже не зная, что это значит «друг», обнимала его; или я, в свою очередь, говорила «скрана», и он, не зная, что это значит «стул», приносил его, и я садилась, а все остальные оставались стоять; и он говорил «биллао», что значит «страшный боевой нож», но я терпеливо повторяла «бабла», и туземец забывал вытащить его из ножен и начинал разговаривать со мной или петь для меня.
Это невозможно, говорил майор Фаустино. Это возможно, отвечала я, потому что это тоже язык Бога и Био одновременно. Он раздражался и выражал свое непонимание тем, что вставал в стременах и стрелял в воздух.
И еще, точно так же, как тогда, когда я поднимала глаза от земли и смотрела на Порта Империале в Саббионете, я видела на горизонте святые города, думая, что, безусловно, существуют в мире места, где можно уединиться, подобно серебристой чайке, и раствориться в солнечном свете, и это и есть магия естественного порядка вещей.
А сейчас, как поется в песне ветеранов битвы при Адуа, которую мы слышали и в исполнении толпы абиссинцев:
Они двигались в другом пространстве, в котором еще продолжали ждать, впрочем, ни на что более не надеясь. И море множило видения этого иного ожидания, ибо воды подчинялись уже не законам тех, кто их пересекал, чтобы найти в них меру своей жизни, а совсем другому закону, и они обрели иное существование, иную глубину и границы. Мысль о бездне морской, как о похороненной луне, о времени, очарованном лишь самим собой, удерживала ее у иллюминатора; пристально глядя на зеленые гребни, она понимала, что ничто не заставляет вспоминать о земном опустошении с такой силой, как открытое море.
Люк над железным трапом постоянно то распахивался, то захлопывался; матросы и солдаты спускались вниз, делая вид, что им необходимо проверить ящики с продуктами и медикаментами, сидя между которыми девушки страдали от качки, и в полумраке цвета мундиров, особенно красный и золотой, превращали трюм в нечто похожее на склеп.
Дзелия вновь слышала крик прорицателей и прорицательниц, словно он доносился с верхней палубы:
— История безумна! Безумна история!
Она снова видела прорицателей, высоких, как башни, на площадях и на плотинах; перед церквами, где они оставляли следы ног, покрытых запекшейся кровью и грязью, или у ворот вилл, где они отбивались от яростно набрасывающихся собак; простых и сложных, древних и молодых, в Кантари и Буффах; рождающихся из инея или речных весен.
Ей казалось, что она видит, как они, там, внизу, проходят сквозь волны, охраняемые болотными соколами, чтобы облегчить ей завершение пути, которое было уже близко.
Среди девушек были Восходящее Солнце, Слеза Христова, Бамбина, Сорока-воровка, Полярная Звезда и Крикунья. Военный капеллан, дон Грациоли, которого Дзелия называла падре Лихорадка, потому что он был тощий, как скелет, с вечно воспаленными глазами, непринужденно спускался в трюм, хотя они разделись почти догола в этой парилке, где воздух настолько пропитался запахом пота и солярки, что дышать было почти невозможно. Он приносил бутылки пива и что-нибудь поесть, расхваливал Массауа как самый красивый порт на Красном море и сокрушался: жаль, что сейчас это Врата Империи.
Вместе с ним часто приходили капитан Мерли и майор Фаустино, которого Мерли представлял с насмешливо-покорным видом: «Quia sum lео». Майор рассказывал о дочке одного богатого эфиопа, которая набрала батальон смерти и фотографировалась в форме, с револьвером на поясе; и о таинственной девушке, возглавившей легион амазонок численностью в три тысячи человек; и о старушке Ферленек, которая в свое время уже била итальянцев при Адуа и тоже фотографировалась с пистолетом в руке.
— Все женщины! — восклицал он. И, глядя на девушек с видом подстрекателя, добавлял: — Все шлюхи!
Затем он удалялся в глубь трюма охотиться на крыс.
— Будем надеяться, — говорил дон Грациоли, — что они его сожрут.
— Будем, — соглашался капитан Мерли.
Но майор Фаустино никогда не промахивался: оттуда, куда он ушел, доносились звуки выстрелов, а потом — довольный смех.
Падре Лихорадка уже плавал по этому маршруту и знал Абиссинию:
— Я их видел, — вспоминал он, встав во весь рост, словно хотел получше разглядеть из некоей точки воображения сцену, свидетелем которой стал несколько лет тому назад в Аддис-Абебе. — Они шли и шли мимо хлеба, который мы им предлагали, босоногие, грязные, в лохмотьях, с раздувшимися от голода животами, женщины тащили за собой мулов. Он пристально смотрел на капитана: — Несчастные души.
— Четырнадцать миллионов каннибалов! — майор Фаустино появлялся из глубины трюма со связкой убитых крыс, которых он нес, держа за хвосты. — У них разрешено торговать человеческим мясом. Я буду очень смеяться, дон Грациоли, когда они вас поймают и сожрут ваши яйца. Если у вас под рясой они еще остались.
Крыс он швырял в девушек, и те в ужасе разбегались. С палубы доносились пронзительные звуки горна, солдат выводили на построение и включали прожекторы, которые потом направляли прямо на них: ослепительный свет заливал весь правый борт.
— Интересно, зачем этот невыносимый свет? — возмущался дон Грациоли.
— Никакого света нет, — отвечал майор Фаустино. — Сядьте.
Падре Лихорадка заламывал руки:
— Я хочу понять, зачем.
— Мы их приучаем.
— К чему, майор, к безумию?
— К наказанию. — И с сарказмом добавлял: — Как вы приучаете души к адскому пламени. В конечном счете вы поймете, что мы — братья.
— Это, — упорствовал дон Грациоли, — корабль сумасшедших.
— «Минерва» в полном порядке. Жемчужина нашего флота.
Они слышали, как генерал Серени обращался к солдатам с речью. В окружении целого леса знамен он, как опытный актер, старался стоять в лучах света так, чтобы быть похожим на некое видение и тем самым поддержать миф о себе как о легендарном полководце.
— Какой голос! — аплодировал совершенно очарованный майор Фаустино.
Капитан Мерли уходил. Прежде чем на судне наступала полная тишина, полковник Аммирата вызывал его в свою каюту, с элегантной медлительностью снимал форменную куртку колониальных войск, а затем отстегивал крышку длинного кожаного футляра, подвешенного к потолку.
— Смотрите, — приказывал он. — Можете подойти поближе.
Капитан Мерли заглядывал одним глазом в отверстие: внутренняя обивка из бархата отливала красным, и дуло смотрело ему прямо в лоб. У него возникало ощущение, что вот-вот кто-то невидимый нажмет на курок и вышибет ему мозги.
Опишите мне, только абсолютно точно, что вы видите, — просил Аммирата.
— Дуло, господин полковник. Направленное на меня.
— Я бы сказал: абсолютно точно.
— Совершенной формы дульное отверстие сверкающего дула великолепного ружья.
— Можете закрыть, — сухо говорил Аммирата. — Как вы сами можете заметить, вы — лишенный фантазии интеллигент. Ваша ментальная логика подобна крепкому сну без сновидений.
Он ложился на койку. Капитан Мерли давал понять, что уходит.
— Постойте, капитан… Скажите, вы за свою жизнь устроили хоть один бал?
— Бал? Я совершенно не умею танцевать, господин полковник.
Аммирата насмешливо смаковал смущение подчиненного.
— Научитесь. В определенный момент это вам понадобится. И еще как научитесь! Я лично готов давать вам уроки. Вас эта мысль забавляет, капитан?
— Я не понимаю.
— Поймете. Наслаждение… Бесконечное наслаждение от сознания того, что вы вдыхаете жизнь в великий праздник победы. Бал реализованной иллюзии. Это заставит вас забыть о своем марксистском упрямстве, с которым вы верите только в конкретные действия.
Он гасил свет. Оставался только отблеск сигнала впередсмотрящего.
— Мой отец был великолепным солдатом, — рассказывал Аммирата. — После каждого выигранного сражения он возвращался, словно после погружения в самую глубокую океанскую впадину. Он шел по дорожке, а я, еще ребенок, бежал ему навстречу. Вечером он устраивал бал, и я выступал в роли вестника. Разнося приглашения, я открывал для себя удивительный механизм победы: отец заслужил ее, но право насладиться ею передавал мне. Вилла из темной превращалась в ослепительную. На меня смотрели десятки глаз, и я уже тогда понимал, что бал моего отца означал воинскую славу. На него стремились попасть все, и ему с трудом удавалось пробиться через толпу. Отца поднимали на руки и несли прямо к оркестру. Он говорил мне: ты тоже будешь жить только ради этого, поэтому я и произвел тебя на свет. Именно со мной, а не с одной из приглашенных красавиц, он открывал бал, ведя меня по карте своего триумфа. И я точно знаю, капитан: по самым трудным и секретным переходам. Вы меня слушаете, капитан?
— Да, господин полковник.
— Это был, чтоб вы знали, бал беззаботный и в то же время жестокий, переполненный воспоминаниями. Людьми из великолепной плоти и тенями. И по мере того, как приближался рассвет, движения людей, их очарование, эта естественная живая сцена вырождались в архаическую завершенность поминок. Отец брал меня на руки, прижимал к своей могучей и увешанной наградами груди, и мы заключали друг друга в объятия. Мы были вместе, навсегда, охваченные ощущением единства, которое ничто не может нарушить, ибо оно вечно, как смерть.
Немного помолчав, капитан Мерли спрашивал:
— Но почему, господин полковник, вы рассказываете это именно мне?
— Я вам уже объяснил, — отвечал Аммирата. — Потому, что из всех наших людей вы — классический пример пораженца. И не вы, пораженцы, страдаете от этой войны, а она — от вашего затаенного стремления к проигрышу. И уж конечно…
Он приподнимался на локте, в голосе неожиданно звучала угроза.
— И уж, конечно, не вам мне мешать. А сейчас идите, капитан. Идите, колеблющийся мыслитель, жертва собственной извращенной логики!
Генерал Серени дал поручение майору Фаустино. Тот спустился в трюм и приказал девушкам:
— Встать! Смирно!
Они встали, опираясь на ящики.
— Я сказал: смирно! Руки по швам. Как положено солдату. Вы ведь солдаты, правда?
Он говорил без всякой иронии.
Девушки встали по стойке смирно, превозмогая морскую болезнь. Майор Фаустино произвел смотр: он пристально вглядывался в залитые потом лица, сгорбившиеся плечи, опавшие груди; эта изможденность неожиданно напомнила ему о смерти и в то же время — о собственном благородстве. Он умел демонстрировать его в нужный момент.
— Читайте, — сказал он, раздавая листовки. — Кто не умеет, пусть попросит, чтоб ей прочли. Каннибалы обвиняют нас в том, что мы воюем, пользуясь вами, и называют вас шлюхами. Но господин генерал выразился абсолютно справедливо: любая итальянская шлюха одна стоит больше, чем весь их народ!
— Какой вы красивый, — воскликнула Восходящее Солнце, которой майор Фаустино очень нравился.
Дзелия прочла оскорбления и насмешки, на которые режим не скупился. От этого призыв императрицы Менен звучал еще более отчаянно:
— И пусть все женщины мира поднимут голос, и решительно потребуют прекращения этой бессмысленной кровавой бойни!
— Как бы там ни было, — снова заговорил майор Фаустино, — пролетарской и фашистской Италии, Италии Витторио Венето и Революции не стыдно за вас. И это значит, что у вас — великая, свободная и демократическая Родина!
— Вы просто чудо! — восхитилась Восходящее Солнце.
— И ей не стыдно за вас, ибо вы несете молодость, здоровье и наслаждение нашим солдатам, которые, не будь вас, заражались бы дурными болезнями от черных потаскух. Вы помогаете победить страх, апатию, поднимаете боевой дух войск.
Он обнаружил, что у Восходящего Солнца умные, по-матерински ласковые глаза.
— И даже если бы… Даже если бы пролетарская и фашистская Италия вас стыдилась, помните, что на этом корабле подобному чувству нет места!
По-матерински ласковые, вот что самое главное.
— И, если предположить, что это было бы не так… Если бы «Минерва», как считает дон Грациоли, действительно была бы кораблем сумасшедших, знайте, что мне, майору Фаустино, за вас не стыдно.
Он сделал паузу, с сожалением подумав об увядшей красоте Восходящего Солнца, о которой она сама никогда не жалела.
— И если бы мне было стыдно за вас как майору, то как мужчине — никогда. Можете поверить, никогда и ни за что.
Они пристали к берегу, когда вокруг бушевали ливень и песчаная буря. Беспощадными очередями они накрывали рейд Массауа, забитый судами порт с его маленькими кафе, в которых яблоку было негде упасть, и огромными, выше пакгаузов, штабелями грузов. Ветер хлестал песком по стеклу иллюминаторов, но девушки ухитрялись разглядеть бурю и толпу на волнорезах, которая через равные промежутки времени то появлялась, то исчезала, а зазывные крики бродячих торговцев не умолкали даже тогда, когда сила дождя сравнивалась с силой грома, а тучи полностью поглощали рейд.
Сначала выгрузили большие холщовые мешки с оружием. Потом на берег сошли солдаты: каски, пилотки и ранцы образовали вместе со знаменами и ружьями сплошной поток, текущий наперерез ручьям жидкой грязи; в него вливались аскеры, в обмотках традиционного цвета и украшенных бантами тюрбанах.
— Сезон дождей, — сказал падре Лихорадка, — заканчивается праздником Маскаль. В последних числах сентября.
Взвыли сирены. Девушкам сообщили:
— Минута молчания в память неизвестного солдата, павшего в Восточной Африке.
Все замерло. Дзелия увидела, как словно окаменели мужчины и женщины за витринами кафе, докеры около контейнеров, солдаты на фоне линии горизонта. Затем жизнь возобновилась, но только не для них.
Эта минута молчания превратилась для обитательниц трюма в бесконечное ожидание; стоянка на рейде продлится много дней, но никто не позаботится о том, чтобы перевезти их на берег.
— Почему, — спрашивала Дзелия, — нас оставили гнить здесь?!
— Потому что, — отвечал дон Грациоли, — стыд — болезнь затяжная. В ожидании, пока прекратятся провокации, они делают вид, что вас здесь нет.
Даже по ночам туземцы молча собирались на волнорезах и пристально смотрели на корабль, казавшийся вымершим. Так они выражали свое презрение к нему. Здоровенные грузчики выставляли напоказ татуировки на груди, изображающие пронзенных кинжалом женщин, и кричали:
— Френги Бариа!
Это было, как объяснил дон Грациоли, самое страшное оскорбление у шоанцев и тиграев, и означали эти слова «раб европейцев».
Бродя по трюму, девушки теряли ориентацию в лабиринте узких проходов, напоминавших улочки разрушенного города, покинутого обитателями, спасавшимися от чумы; города, в котором, казалось, не осталось даже крыс и на который падал мрачный зеленый свет — загадочный сигнал, идущий неизвестно откуда. Мысли тонули в дремоте. Выход на палубу охраняли часовые; пленницы тысяч кубических метров пустоты, девушки перекликались между собой, чтобы не потеряться, и то тут, то там какая-нибудь из них неожиданно разражалась руганью или пением.
Впавшая в летаргический сон «Минерва» прекратила все контакты с берегом.
И именно Дзелия однажды ночью решила рискнуть еще раз и бросилась на палубу, готовая к тому, что ее застрелят; но никто не крикнул «стой!»: ее остановила безграничная тишина. На палубе не было ни души, даже часовые куда-то исчезли. Массауа показался ей вымершим городом, как и порт, о котором ей рассказывали, что это самый оживленный и красивый уголок на Красном море; в нем было то же отчаяние, что и в трюме, то же ощущение недавнего катаклизма, и над ним кружили чайки, грязные, как и все остальное, что можно было разглядеть: их привлекал свет мощных ламп, рассекающий облака отработанного пара, цепи и тали.
Приближались шаги других девушек, призраков во плоти, которые пытались вновь обрести ориентир, потерявшись под этим небом, еще одним навязчивым зеркалом абсолютного ничто. Потом сбежала Крикунья, выкрикивая свое проклятье, от которого у всех было тяжело на сердце: некоторое время она цеплялась за разные предметы, скорее для того, чтобы проверить конкретность их существования, чем для того, чтобы на них опереться, потом по штормтрапу она сумела спуститься вдоль борта и появилась на волнорезе, по которому бросилась бежать медленно и долго, как безумная, подавая знаки о своем прибытии кому-то несуществующему.
Восходящее Солнце рванулась за ней, но Дзелия ее остановила.
— Пусть идет навстречу судьбе.
Настал день праздника Маскаль.
Кончился сезон дождей и начался сев. Пока дон Грациоли рассказывал Дзелии, каким образом эфиопы в день праздника получали предзнаменования, на поле справа от рейда итальянские солдаты выстроились в круг, а коптский священник зажег дамер — священный костер, через который оракул должен был дать ответ. Сухие ветви эуфорбии, сложенные у подножия креста, сразу охватило пламя.
И тут же вокруг началась фантасмагория с дикими плясками и боевыми криками — реакция отчаяния на предчувствие, доминировавшее на сцене этого далекого театра под лиловым холодным светом, в повисшей в воздухе пыли. Когда языки пламени добрались до креста, пляски внезапно прекратились, толпа сжалась в благоговении, которое становилось земным, превращалось в защиту, все ощущения ирреального были забыты, словно это физическое объединение могло зачеркнуть их бытие людей, лишенных своей истории, уже приговоренных к смерти историей мира. Они ждали, впившись глазами в костер. Пророчество вот-вот должно было свершиться: если бы горящий крест наклонился к северу, это означало бы удачу для Италии, если к югу — для эфиопов.
Крест сгорел, наклонившись к северу.
Они ушли с поля колоннами, образовав кортеж, который решительно двинулся в направлении некоей точки на горизонте, где не видно было ни церкви, ни дома, ни даже дерева; безусловно, каждый из них ждал той минуты, когда они исчезнут из поля зрения, чтобы расстаться с другими, унося с собой свое поражение. Коптский священник остался в одиночестве на пророческом пепелище. Восходящее Солнце уверяла, что слышала выстрел, но Дзелии и всем остальным это показалось скорее неким спонтанным движением в тишине: священник сначала упал на колени, затем, рухнув на тлеющие угли, застыл в неподвижности, и очень быстро ветер засыпал его пеплом…
Девушек свезли на берег на следующий день.
Генерал Серени ехал на лошади, вздымая вихрь песка и пришпоривая животное так, словно направлялся куда-то очень далеко; но это был Икар уставший, то есть слишком мудрый или жалкий или неуверенный, повисший между реальностью и видимостью, между собой и Римом, и поэтому, оставляя амбам то, что он считал их безграничной бесполезностью, он предпочел, сделав пируэт, остановиться на границе лагеря; песок сыпался с него, как снег, и в этом облаке его фигура снова превращалась в некую таинственную и величественную гипотезу.
Я, думал он, генерал, чья тактика состоит в том, чтобы стыдиться разговаривать с солдатами без обиняков. Только с увертками, как эти шлюхи. Я — игрок, который любит не игру, а ее безумие.
Он указал направление голосом оперного баритона.
— На Нефасит!
Майор Фаустино распорядился, чтобы девушки достали из сундуков и надели нарядные платья. Их заставили накладывать косметику прямо между призрачными деревьями, требуя гротесковых эффектов, чтобы избавиться от усталости, разочарования, страха. Их гнали, как фигляров, на невидимый пир; они шли через рощи пальм «дум», пробирались по узким и глубоким ущельям, пересекали неожиданно обрывающиеся плоскогорья, и на нарумяненные лица слетались насекомые, а глаза в голубых ореолах начинали казаться стеклянными. Мучительные маски, которые забавляли, и они были нужны в том числе и по этой причине.
— Готовьте праздник победы! — приказал Аммирата.
Нефасит означало — Страна ветра. И действительно, там все время дул легкий бриз, как будто за дюнами скрывался берег моря, он высушил пот, сдул песок с волос и одежды. Девушки смогли свободно вздохнуть; а когда спал полуденный зной, воздух приобрел невиданную прозрачность. Но они не обнаружили ни одного знамени победы. Клочок истощенной и выжженной земли наводил на мысли о пересохшем русле, заросшем сикоморами. Посередине стоял шест с привязанным к нему белым плащом: из-за того, что он развевался на ветру, понять, скрывается ли под ним человеческое тело, было трудно.
Во всяком случае больше всего это напоминало повешенного. Аскеры замолчали.
Полковник Аммирата с беспокойством спросил:
— Что там случилось?
Дон Грациоли вышел из строя и подошел к шесту. Судя по тому, с каким трудом он снял плащ, тот был весьма тяжелым; никакого тела не обнаружилось, и падре Лихорадка понес этот плащ, держа его на вытянутых руках; он шел, не отрывая глаз от золотых застежек и узоров, и в его позе было что-то, заставляющее вспомнить Снятие с Креста.
— Так что это все-таки такое? — настаивал Аммирата.
— Судьба, — объяснил дон Грациоли, — скрыта в складках мантии Аллаха.
Полковник подошел и крепко сжал материю, а капеллан показал рукой на шест: — Вознесем хвалу Господу, и если он пожелает, он дарует нам время… Это слова одной из их молитв.
— Глупости.
— Нет, господин полковник.
— Что это значит, я спрашиваю? Провокация?
— Просто молитва. Подвешенная в воздухе посреди пустыни.
И тогда Аммирата объявил, что праздник победы переносится, и приказал, чтобы вместо плаща на шест повесили вымпел с надписью «Usque ad finem».
Но и на следующем переходе они не заметили никаких признаков триумфа. Кроме абиссинцев, которые стреляли из-за камней, причем стреляли плохо. Однажды ночью, освещая путь бензиновыми лампами, они пришли на развалины взорванных хижин; неожиданно началась пальба, из изрешеченных пулями стеблей эуфорбии хлынул сок, и Дзелия, которая, как и все, бросилась ничком на землю, перекатилась на спину, чтобы подставить лицо этому потоку. В нем была влага плодородной земли, которой, казалось, больше уже не существует.
Как только снова наступила тишина, на горизонте появилась какая-то фигура, она быстро приближалась, с ног до головы облепленная песком, что делало ее похожей на движущуюся статую.
— Ты кто? — спросил один из аскерских взводных.
Туземец не ответил. Они поняли, что это воин, по сабле, висящей у него за спиной, и по внимательно осматривающим все вокруг глазам, которые сверкали дикостью и болью. Ему задали еще много вопросов, но он молчал. Поэтому его отвели в палатку майора Фаустино, сорвали с него верхнюю одежду и сразу же обнаружили под ней голубую накидку офицера итальянской армии.
— Знатный эфиоп! — воскликнул Фаустино. — Вы прекрасно знаете, господа, как эфиопские сановники ценят эту часть нашей формы.
Но под накидкой оказался аскерский кушак, за который был заткнут тюрбан, украшенный желтым, не по уставу, бантом. Когда с петлиц стряхнули песок, выяснилось, что никто не знает, какой род войск они обозначают. Туземец не сопротивлялся, переводя взгляд с одного на другого. Казалось, они снимают повязки с мумии, постепенно обнаруживая детали различных мундиров: турецкой гвардии, чикки или деревенского старосты, охраны императорского Геби. Под шаммой — традиционной белой тогой — на животе были спрятаны хлыст из кожи бегемота и биллао.
Наконец он остался совершенно обнаженным.
— Ты бринз? Деджак?
Молчание.
— Барамбарас? Фитаурари?
— Он грязный шпион, — отрезал майор Фаустино. — А может, Негус затеял очередную провокацию.
— Но с какой целью? — спросил дон Грациоли.
— С целью посеять еще большее смятение в уже и так измученных душах солдат. С целью заставить нас поверить в призраки или, вернее, в то, что у этой страны есть тайна, которой на самом деле у нее нет. Мое предложение: повесить обоих, и этого парня, и тайну вместе с ним.
Дон Грациоли заставил туземца открыть рот и осмотрел его зубы, потом — руки и маленькую татуировку на правом боку.
— Это просто мародер, без роду и племени. По какой-то причине свои же приговорили его к смерти. Его прислали именно для того, чтобы мы его казнили. Все, что на нем надето, он снял с убитых и ограбленных им людей.
— Вы уверены в том, что говорите?
Дон Грациоли покачал головой:
— Сейчас, в такой момент и в таком месте, господин майор, ни в чем нельзя быть уверенным. Здесь мы сражаемся с самой неуверенностью человечества.
На следующее утро раздетого догола туземца бросили в пустыне. Когда отряд отправился в путь, Дзелия увидела, что он сидит на корточках на верхушке бархана. Она помахала ему рукой, он поднялся, медленно и величественно, и приложил правую руку к сердцу. Так он и стоял до тех пор, пока Дзелия не перестала оглядываться.
— В Хаманлее! — каждый день обещал полковник Аммирата. — Или в Макалле! Там-то уж обязательно.
Но по-прежнему они видели только горящие деревни в зеленых котловинах и вереницы верблюдов, застывших в каменистых долинах в ожидании своих убитых хозяев. Девушек сажали на мулов и ехали дальше через оливковые рощи, по тропинкам вдоль склонов оврагов, по участкам, покрытым красным песком, из которого торчали безымянные кресты.
— В следующей деревне… — уверяли их. — Так что готовьтесь!
Они надели шляпки с широкими полями, которые должны были скрыть улыбки, пышные газовые платья с бантами, сверкающие ожерелья и подвески.
Полковник Аммирата подъехал к капитану Мерли.
— Я вижу виллу, деревья, поля! — воскликнул он. Затем пришпорил коня, но через несколько метров остановился и подождал, пока его догонят: — Где-то вдалеке, в ясном прозрачном зимнем дне, в нежном свете сумерек, я вижу предвестие другого времени года. Для меня счастье — этот образ.
Капитан ничего не понял и, как всегда, задумался, не шутит ли полковник. Он вынужден был признать, что полковник Аммирата обладает поразительным даром заронять сомнения в душу человеческую.
— А насколько сильно счастье, насколько оно ослепительно, подтверждается тем, что его образ не покидает меня даже здесь, в этом аду, представляющем полную ему противоположность.
Он резко вырвался во главу колонны, смеясь во весь голос и яростно нахлестывая коня, отчего все изящество его слов немедленно пропало. Девушки слезли с мулов и обнаружили, что находятся на ничем не примечательном сторожевом посту. Их встречал только один солдат: прислонясь к высокому штабелю мешков, он задумчиво подпирал рукой впалую щеку.
Аммирата направил коня прямо на него.
— Нас должен был ждать торжественный прием.
Вместо ответа солдат показал рукой на лежащие у подножия выщербленной пулями стены букеты диких роз, которые ветер засыпал песком. Полковник непонимающе уставился на них. И тогда этот единственный оставшийся в живых объяснил, что солдаты, которые должны были эти букеты вручать, погибли в утреннем бою. Из всего взвода уцелел только он один.
— Это невозможно! — воскликнул Аммирата. — Где Геби?
— Примерно в километре отсюда, господин полковник.
— Вперед! — приказал Аммирата.
Все двинулись за ним; девушки несли букеты посеревших от песка роз. И опять безымянные кресты вперемешку с легионерами в больших солнцезащитных очках, завтракающими перед своими палатками.
— Они смотрят на нас, но не видят, — сказал Дзелии дон Грациоли. — От солнца зрение слабеет. В определенное время дня они становятся практически слепыми.
Они добрались до Геби после того, как пересекли море всевозможных останков, от скелетов мулов до машин, увязших в песке по самые ступицы. Во дворе стояла машина скорой помощи, и группа абиссинцев с озабоченным видом наблюдала за тем, как военный врач пытается вернуть к жизни цветную женщину, которая вся в крови лежала на носилках.
— Великолепный бордель, — заметил Аммирата и двинулся к зданию.
На фасаде он, к своему изумлению, обнаружил роспись, изображающую какой-то бал. Красные и золотые тона, босоногие женщины в коротких туниках. Он проехал вдоль фасада и увидел другие изображения женщин, в изумрудных тонах, и мужчин, полностью захваченным каким-то ритмом: это показалось ему неким предзнаменованием, подарком судьбы. Он увидел еще и группу музыкантов, которые, словно птицы, сидели на фризах.
— Говорите!
Майор Фаустино сообщил, что возникли трудности.
— Какого рода, майор?
— Все шлюхи черные и больные, господин полковник. Они забаррикадировались в Геби и отказываются выходить.
— Сколько их?
— Примерно двадцать.
— Наденьте на них наручники, свяжите, только уберите оттуда!
— Мы уже пробовали, войти невозможно.
— Так придумайте что-нибудь другое. Мы не можем терять время. Необходимо провести дезинфекцию и подготовить все для праздника. Сегодня ночью, пусть хоть все провалится в тартарары, мы повеселимся.
— Единственный выход, господин полковник, стрелять через окна.
— Сообщите им, — в отчаянии пригрозил Аммирата, — что я лично заставлю моего коня топтать их трупы.
— Они это знают, господин полковник.
Женщины в здании запели.
— Огонь! — приказал Аммирата.
Они стреляли через окна до тех пор, пока в промежутках между залпами еще можно было расслышать пение. Потом наступила тишина и первые, кто вошел внутрь, вернулись нагруженные вышитыми халатами, драгоценными чашками и вазами.
Полковник Аммирата тоже зашел. Но почти сразу же вышел. Сапоги у него были в крови, а лицо бледное, как у покойника. Он обвел взглядом солдат и девушек.
— Здесь ничего не выйдет… — признал он. — Нечего даже и думать.
Он с трудом забрался в седло.
— В Абби-Идди, может быть. Или в Тембьене.
В сумерках пламя абиссинских костров на возвышенностях дрожало, и приглушенный расстоянием бой барабанов казался Дзелии звуком, с которым тучи обрушиваются в океаны песка.
Как только они замечали эти огни, генерал Серени приказывал остановиться. Он вместе с денщиком размещался на ночлег в опустевшем Геби у какого-нибудь местного начальника, остальные офицеры находили приют в каменных хижинах или в палатках; затем генерал высылал дозорных, они в полной тишине уходили из лагеря и, углубившись в пустыню на расстояние, определить которое было невозможно, передавали сообщения с помощью разноцветных сигнальных фонарей.
Сообщения всегда были одни и те же: ничего, никого.
Иногда они не возвращались, и тогда это ничто, о котором они так настойчиво предупреждали товарищей, превращалось в загадку их невидимой смерти над барханами.
Все это были мелочи, на которые генерал Серени не обращал внимания: в ничто он не верил; не потому, что верил в какого-нибудь бога, а потому, что до сих пор ему сопутствовала удача, с великолепной наглостью воплощавшая в реальность все его ожидания. Он врывался в усадьбы, носившие на себе следы грабежей и пожаров, осматривал анфилады комнат в Геби, абсолютно уверенный, что обнаружит какого-нибудь фитаурари, деджака или, может быть, даже раса, повешенного на своей усыпанной наградами шамме; или комнату, в которой все будет из золота; или невообразимо роскошную кровать; или целую толпу рабынь.
В таких случаях он приказывал дать торжественный залп холостыми и просил полковника Аммирату выступить с краткой речью.
Дон Грациоли и капитан Мерли выходили из своих хижин, пытаясь понять, что означают горящие в ночи абиссинские костры. Но все попытки кончались тем, что взгляды их устремлялись выше, туда, где звезды в небе пустыни сияли ярче, чем где бы то ни было; и словно небесная истина нуждалась перед обсуждением в строгой геометрической проверке, они чертили на песке странные знаки, которые первый называл логическими символами веры, а второй — просто логическими символами.
Начинал дон Грациоли, он проводил устремляющуюся вверх прямую, которая заканчивалась головокружительной кривой, и объяснял этот чертеж с точки зрения теории туманностей:
— Я думаю о жизни, как о всеобъемлющем единстве, и в силу того простого факта, что способен представить ее величие, знаю, что Бог замечает меня и принимает. — Он втыкал трость в точку, из которой шла прямая. — Я чувствую, что он меня принимает, потому что жизнь неизбежна. Биологическая сила, масштабы коей безграничны, научилась создавать сознание, познала человеческое смирение. И я — ее творение.
Капитан Мерли пристально смотрел на него и, придвинувшись как можно ближе, словно собирался поделиться какой-то тайной, говорил:
— Вы знаете, что в Европе исчезают бабочки?
— Бабочки?
— Вот именно.
Капитан вытягивал руку в направлении гигантского скелета на горизонте.
— А там что вы, по-вашему, видите?
— Песок. Вовсе не то, чего бы вам хотелось. От этого у него только форма, слабое сияние.
— Это он, дон Грациоли, посмотрите, какие лапы, хвост, вы же не можете не замечать, что он посылает нам предупреждение… Тиранозавр! То, что мы его открыли, до сих пор остается нашей единственной победой в этой идиотской войне.
— Допустим. И что бы это могло значить?
— Полное опровержение ваших утверждений. Биологическая сила, о которой вы говорите, создала нас, не спорю, но не из прихоти и не ради красоты жизни. Совсем наоборот, друг мой. Она это сделала ради создания того, что обречено на небытие, на распад. Он опять показывал на скелет:
— Смотрите, вот эта цель, величественная, как трансатлантический лайнер!
Он уходил на несколько шагов вперед и тоже начинал чертить на песке кривые и прямые.
— Дело в том, что все мы — охваченные гордыней безумцы.
— Нет, капитан. Если честно, то всем нам хотелось бы стать ими, но этого никогда не будет. И именно в этом наша трагедия.
Капитана Мерли эта мысль глубоко поражала.
— Кто-то вышел мне навстречу, — продолжал падре Лихорадка, — хотя, наверное, это не Иисус Христос.
Капитан беспокойно кружил вокруг рисунков. Потом с отсутствующим видом добавлял к ним усеченную пирамиду.
— Что это значит? — спрашивал дон Грациоли.
— Что это значит — не знаю. Но знаю, что это то, что я себе представляю, когда думаю о Вселенной и о возможном смысле существования.
Падре Лихорадка улыбался.
— У вас воображение солдата. Это похоже на неприступную крепость.
— Прошу вас, следите за моей мыслью.
Дзелия, которая подглядывала за ними, замечала, как сверкающий в лунном свете серебряный набалдашник трости начинает двигаться все медленнее, и в конце концов оба собеседника полностью погружались в молчаливое созерцание. От знака к знаку карта их основных истин расстилалась все шире, и их уже не было видно в кромешной тьме, так как, сами того не замечая, они выходили за линию караульных постов.
Часовым приходилось окликать их и призывать вернуться.
Дзелия знала, что ничто не ускользает от глаз абиссинских дозорных, и на следующий день, когда итальянцы двинутся дальше, они набросятся на эти чертежи, чтобы разгадать зашифрованные в них стратегические уловки, которых на самом деле не существовало. Но сейчас не кто иной, а она кралась за Мерли и доном Грациоли, ступая по поверхности, на которой звездная тайна отражалась в земных знаниях.
Это было время бурных словесных дискуссий.
— Тише! — приказывал майор Фаустино, выглядывая из своей хижины. — Это вам ваш майор приказывает.
Капитан Мерли притворялся, что не слышит.
— Вы меня слышите, капитан?
Сидя на койке с воспаленными от бессонницы глазами, Мерли, впившись взглядом в орущий во всю мочь граммофон, размышлял о счастье смерти, позволяя музыке, особенно увертюрам Россини, которые по его мнению были воплощением иронии и красоты, улетать в ночь над пустыней.
— Хотите, чтобы нас засекла вражеская артиллерия? Вы что, с ума сошли?
— Это как Богу будет угодно, — говорил Мерли про себя и закрывал глаза. Веки его казались в два раза толще от осевшего на них песка. Надежда наполняла его восторгом, и он чуть не плакал: — Майор Фаустино, — кричал он. — Qui stultus exit… И обрывал цитату.
Высоко подняв руку, он размахивал ею в такт мелодии. Он представлял, как «Семирамида», или «Цирюльник», или «Итальянка в Алжире» достигают самых отдаленных уголков на плоскогорьях, а оттуда слабым контрапунктом им отвечают барабаны, как бы подтверждая, что арии донеслись до них. Усиленная бескрайним пространством, музыка была веселая и грустная, и такая причудливая, что все, от аскеров до противников, слушали ее с чувством стыда и непонятного просветления.
— Высоты Антало! — вмешивался полковник Аммирата. — Там у вас будет случай завести свою музыку!
Капитан подходил к двери. Пристально вглядываясь в темноту, он понимал, что дон Грациоли прав — они не безумцы и никогда ими не станут; у них не было даже этого смягчающего обстоятельства. Он признавал это скрепя сердце и, поскольку его вызов казался ему бессмысленным и излишне патетичным, возвращался и останавливал граммофон. Майор Фаустино скрывался в своей хижине. Его примеру следовал и полковник Аммирата, но его, впрочем, когда денщик стаскивал с него сапоги, охватывал смутный страх; он с трудом удерживался, чтобы не высунуться из окна и не заорать:
— Вы что, именно сегодня решили проявить дисциплинированность, капитан Мерли? Заводите ваш чертов граммофон. Я приказываю не подчиняться нашим приказам. Неужели вы сами не чувствуете, как невыносимо давит эта тишина?
В ожидании отправки в Аддис-Абебу Дзелию поместили в Геби, занятый полковником Аммиратой.
Он наблюдал за ней издали, лежа на койке или бродя по комнатам, и смотрел на нее так же, как смотрел на змей, которых приказывал немедленно расстреливать. Сидел он в старом губернаторском кресле, лицом к плоскогорью и окружавшим строение засохшим деревьям, за которыми мелькали огни шоанских костров. Поражаясь его сосредоточенности, Дзелия в конце концов терялась в мире тех же видений, и у нее возникало ощущение, что ее бросили, как вывешенную для просушки форменную куртку колониальных войск с металлическими пуговицами, с которых стекали коричневые струйки, и фиолетовым пятном над карманом, оставленным забытым в нем огрызком химического карандаша. Для чего ему понадобилось, чтобы она была рядом? Для того, чтобы и она стала одной из вещей, отложенных в сторонку на случай чего-то, что могло и не произойти!
От ветра заржавевшие штыки рассыпались в пыль. Обезьяны спускались с деревьев и набрасывались на котлы, в которых варилось мясо; их убивали, и рядом с дымящейся пищей возникали горы трупов. Скапливающаяся в зарослях кустарника влага усиливала характерный для эфиопских домов запах свинарника. Рядом с креслом — полевой телефон: полковник выслушивал редкие донесения и отдавал редкие приказы. Перед заходом солнца плоскогорье на несколько минут накрывала небесно-голубая тень и по нему проходили, оживленно переговариваясь, шумбаши.
Это был единственный момент, когда Аммирата и Дзелия чувствовали между собой какую-то близость. Он расслаблялся и произносил противоречивые фразы, в которых смешивались покорность, тоска и желание отомстить.
Он вспомнил день последней отцовской победы, наполненный счастливыми женщинами. Тогда к нему в комнату служанки, набранные из молоденьких крестьянок, принесли корзины со сластями. Девушки казались созданными из жадной и нетерпеливой плоти; они что-то весело болтали, но он не прислушивался, потому что прекрасно знал, что их прислал отец. Не вставая с постели, он позволил им, горящим желанием, начать обряд посвящения, сесть рядом с его юным телом. Одна из них обнажила грудь так, чтобы он видел, и все остальные засмеялись. Потом они принялись осыпать его ласками и восхищаться, какие у него глаза, какие широкие плечи, какие изящные руки.
Но юноша, бросив последний взгляд на эту стихию красоты, сбежал. Идя по дорожке между клумбами, он заметил отца, который улыбался ему из оранжереи. И улыбнулся в ответ, чтобы показать, что оценил шутку с девушками, и, может быть, поступил именно так, как хотел отец. Он прошел мимо оранжереи, хотя отец и звал его, и направился дальше, к холмам, и в нем росла та бессмысленная сила, которая направляла его поступки и которой он стыдился. Он оказался не способен понять и оценить высший дар, предложенный его робкой мужественности, и теперь ему хотелось провалиться сквозь землю.
Он ушел так далеко, что потом его пришлось искать при свете факелов.
— Это был последний раз, — закончил Аммирата, — когда я видел отца живым.
Колонна из двух тысяч автомобилей, направляющихся в Аддис-Абебу, вышла в путь на закате. Полковник Аммирата заглянул в палатку капитана Мерли и обнаружил, что тот лежит на койке без кителя и без сапог; с демонстративным презрением он давал понять, что происходящее в лагере его не касается.
— Наденьте китель, — приказал Аммирата, — и сапоги.
Капитан подчинился.
— А сейчас смотрите. Подойдите поближе и посмотрите внимательно. Это — императорская дорога на Аддис-Абебу, выйти на которую мы стремились с самого первого дня.
Капитан подошел, но смотреть туда, куда показывал полковник, не стал: он увидел ее отражающейся на лице своего начальника, всю эту массу машин с включенными фарами, гигантское облако, окрашенное последними лучами заходящего солнца в грязноватокрасный цвет.
— Qui satis expectat, prospera cuncta videt, — с иронией процитировал Аммирата. — Что с вами? Любимые латинские изречения больше не помогают? А ведь сейчас для них самое время.
Капитан молчал.
— Вы не ответили, капитан.
— Я перестал думать, господин полковник. И поэтому не могу ответить ни вам, ни кому бы то ни было. Даже самому себе.
Аммирата улыбнулся и застегнул ему пуговицу на кителе.
— Вы так считаете?
— Оставьте меня, господин полковник.
— Напротив, я вам приказываю ответить: да!
— Но с какой целью?
— Без всякой цели, капитан Мерли. По-военному. Как младший офицер старшему офицеру. Да. Да… Чувствуете разницу? Одно очень тихое, второе — почти крик!
— Да, господин полковник.
— Ну вот, вы поняли, что можете мне ответить? Поняли, что отвечаете именно так, как надо?
Полковник прошелся по палатке. Растоптал лежавшие на полу пластинки и обрывки фотографий.
— Победе вы противопоставляете свое личное поражение. Однако следовало подумать об этом раньше. Застрелиться в Массауа или в Тембьене. Вы с вашим трусливым реализмом опоздали. В сущности ваше поведение гораздо более бессмысленно, чем мое.
В лагере оставались только четыре абиссинских автомобиля, брошенных накануне. Один был личный «форд» Негуса, остальные принадлежали Красному Кресту.
— Следуйте за мной, капитан.
Они подошли к машинам, и Аммирата с торжественным видом забрался в открытый — «форд». Он представил, что рядом с ним — император Эфиопии со связанными за спиной руками, и они едут сквозь толпу его подданных, благодарных свидетелей разрушения этой земли; чтобы насладиться этим видением, он во весь рост встал на переднем сиденье и окинул взглядом пространство. И если на востоке сияло море света от включенных фар, то равнина и холмы были усеяны кострами. Воины Негуса подавали сигнал: выполнено! Прежде чем сдаться, абиссинцы сжигали все, что можно. Аммирата стянул с правой руки перчатку и жестом, подводящим итог одному из периодов его жизни, погладил кожаную обивку сиденья в том месте, где она слегка просела под тяжестью Негуса.
— Скажите, капитан Мерли, в жизни солдата может наступить момент, более замечательный, чем этот?
— Нет. В жизни солдата — нет.
Аммирата посмотрел на капитана с некоторым сомнением.
— Садитесь и заводите.
Капитан уселся на место шофера и спросил:
— Куда прикажете?
— Это на ваше усмотрение. Зрелище, надеюсь, вы со мной согласитесь, равно восхитительно повсюду. Зрелище нашей победы и их поражения. Главное, чтобы я смог им как следует насладиться. Поезжайте так, словно на нас смотрят тысячи глаз, а тысячи рук устроили овацию. И с сарказмом добавил: — Приказываю заставить меня почувствовать, что я — великий человек.
Капитан выполнил приказ и медленно повел автомобиль по равнине, признавшись самому себе, что чувство собственного бессилия было у него сильнее, чем сознание того, что он смешон; и если полковник с воинственной иронией доводил до предела последнее, ему не оставалось ничего иного, как поступать точно так же по отношению к первому: иного способа освободиться от него не было.
— Я знаю, о чем вы думаете, — сказал Аммирата. — О том, что мы в этот восхитительный миг представляем собой всего лишь двух жалких шутов. Правильно. Но какое это имеет значение, если я чувствую себя бесконечно счастливым!
Они помолчали, а потом полковник принялся фантазировать на тему императорского Геби, в котором состоится бал.
— Это огромное великолепное здание, создание эксцентричного вкуса государя. Будут приглашены танцоры, музыканты, импровизаторы. Я вижу один зал в голубом убранстве, с голубыми окнами. Второй — украшен пурпурными гобеленами, и окна тоже пурпурные. Третий — зеленый. В четвертом все выдержано в оранжевых тонах, в пятом — в белых, в шестом — в фиолетовых, в седьмом стены затянуты черным бархатом и стоит кроваво-красный трон, оставленный императором. Он сделал паузу и спросил:
— Это описание ничего вам не напоминает, капитан Мерли?
— Нет, господин полковник.
— Это образы, созданные гением в предвидении таких побед, как наша, и для таких людей, как мы, в большей степени, нежели кто-либо другой, способных постичь их смысл. И добавил: — Бал будет продолжаться до тех пор, пока по воле сильного и властного человека музыка не умолкнет.
Мерли не спросил, кто был этот гений. Он просто сказал:
— Да будет ваша смерть покрыта славой.
В Аддис-Абебе полковник получил свой бал. Об этой бойне напоминает памятник в виде группы повешенных; фигуры из грубого камня, окруженные другими, взметнувшими сабли в торжественном приветствии, висят на фоне пепельно-серого неба; головы склонены к плечу в знак покорности. В зависимости от времени суток эти фигуры приобретают разный цвет: вдохновенная идея полковника Аммираты, который знал, что каждый из этих цветов, согласно религиозным верованиям этого побежденного народа, обозначает определенное состояние души; так продолжается до заката, когда цвет переходит в мрачно-кровавый и последние фигуры тают в пустоте.
Кажется, что они остановились на привал после долгого пути по пространству, возраст которого невозможно определить, а Аммирата, застыв в седле, ждет их там, вдали, чтобы пригласить на этот загробный бал, который видит только он и восхищается своими танцорами и буффонами.
Дзелия ускользнула из группы эфиопских рабынь, ожидавших, пока их облачат в праздничные одежды. Пока она выбиралась на дорогу, она увидела, что происходит внутри Геби. Императорских львов, которых с приходом итальянцев выпустили из клеток, расстреливали прямо в залах. Аммирата сорвал штандарт избранника божьего и, держа его в высоко поднятых руках, увидел в знаменах Иудина племени все то, что капитан Мерли не сумел разглядеть в дуле ружья. Когда внутри здания шла резня, он заявил майору Фаустино, который лично принес ему парадный мундир:
— Я — новый Лев!
Дзелия прошла через Геби, когда он был уже усеян трупами. Гвардейского барабанщика, двухметрового гиганта, заставляли играть при каждой экзекуции; потом настала его очередь, и у него отобрали инструмент и знамя. Дзелия увидела дона Грациоли: он, пытаясь остановить расправу, вцепился в столб, к которому привязывали расстреливаемых, как тогда, когда он защищал пленных от генерала Серени у ворот священного города Леимбела и на горе Абуна Жозеф.
Его пришлось отрывать силой.
В нескольких шагах от здания начинались великолепные сады, и он, не обращая внимания на изгороди, поплелся туда, чтобы спрятаться и не слышать ружейных залпов — единственного звука, доносившегося из мира живых. Он начал рыть землю своими тощими и быстрыми руками, стремясь добраться до ада, если он существует, в надежде увидеть то умиротворенное вечностью истребление, о котором столько лет молился; он то замирал в изнеможении, то продолжал рыть с удвоенной энергией. Наконец он сдался, отступил и, обессиленный, прижался спиной к стене, чтобы не упасть.
И ему явилась его палатка, с крестами на боковых полотнищах, в пронизанной ветрами прозрачности Нефасита. Дзелии, попытавшейся помочь ему придти в себя, он сказал:
— Прикоснись ко мне.
Это было одновременно крещение и соборование.
Дзелия покинула Геби и бросилась в город, жителям которого Негус приказал:
— Разрушайте все. Ничего не оставляйте итальянцам.
Она вошла в пригородные районы, захваченные шифта, галла, гураге; принадлежащие европейцам магазины были сожжены; шифта дрались между собой из-за добычи, шоанцы стреляли в галла, люди деджака Игазу напали на раса Хайле и его свиту. Люди, смешавшись с отставшими от своих частей солдатами, безжалостно убивали друг друга в охваченной анархией столице.
Она прошла мимо ночного клуба «Новый Цветок»; все витрины в нем были разбиты, и танцевальная площадка выглядела чудовищно нелепо: искусственные цветы, горящие разноцветные лампочки, музыкальные инструменты, занявшие место исчезнувших музыкантов. Потом развалины стали попадаться все реже, и наконец их больше не осталось: она увидела нетронутые церкви и башни, каменные дома, обитатели которых, казалось, не знали о кровавой бойне. Долгое время она смотрела только на свои ноги, и то, что они двигались, давало ей ощущение спасения, и ей казалось, что мир рождается вокруг нее, здесь и сейчас, и она — первая, кто идет по этому миру, еще не изнуренному столетиями человеческой истории и наконец-то получившему возможность спокойно посмотреть на себя.
Эту фигуру она заметила к вечеру: она решительно шла сквозь пыль в белой фута. Несмотря на то, что она двигалась в одиночестве, держа направление на зарево пожаров в другой части города, она оживляла пространство и своим поведением уравновешивала гигантские масштабы сцены. Дзелию охватило необъяснимое возбуждение, и она увидела, что это был юноша.
Он обернулся на ходу, прекрасный, как те наивные портреты, которые на ее глазах выбрасывали из окон и сжигали на улицах Аддис-Абебы. Люди на них отличались красотой одновременно мистической и земной, у них были, по традиции, глаза старого ребенка и изящные руки, которые они с удовольствием демонстрировали. Юноша приветствовал ее, приложив ладонь ко лбу.
У нее возникло искушение присоединиться к нему, но она устояла. Пусть он продолжает свой путь в чуждую ему реальность, и пусть его босые ноги дадут ему то же ощущение счастья, которое она испытала совсем недавно.
Смотря ему вслед, она думала о том, что на По называют impruvis серебристой чайки: однажды ей становится трудно набирать высоту и она начинает парить в воздушном потоке, которого нет. Она поняла это по тени, по запаху земли, как гребец понимает это по усилию, с которым уходит в отрыв; для них обоих лето прошло.
Юноша подарил ей уверенность. И один из ее образов ушел вместе с ним.
Молодость Дзелии Гросси кончилась.