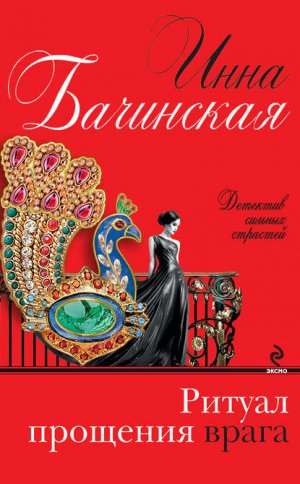
Андрей Макаревич. «Перекресток»
- …Там не найти людей, там нет машин,
- Есть только семь путей – и ты один.
- И как повернуть туда, где светит твоя звезда,
- Ты выбираешь раз и навсегда.
- Перекресток семи дорог, вот и я.
- Перекресток семи дорог, жизнь моя.
- Пусть загнал я судьбу свою,
- Но в каком бы ни пел краю,
- Все мне кажется, я опять на тебе стою…
Действующие лица и события вымышлены, и сходство их с реальными лицами и событиями абсолютно случайно.
Автор
Глава 1. Бегство. два года назад…
Татьяна выбралась из автобуса, тяжело спрыгнув с подножки в мягкую дорожную пыль, и едва удержалась на ногах. Постояла, пережидая «колючки» в икрах, одернула свитер. Шесть часов по разбитой дороге: дребезжащий допотопный автобус, тетки с обветренными лицами, в пестрых косынках, пахнущие терпким потом, их певучие голоса и слова, которые она едва понимала. Корзины и сумки, сваленные в конце салона. Открытые окна, пыльный, жаркий воздух, который к вечеру стал влажным и сырым. Последние две сошли около часа назад. На прощанье оглянулись на нее – та, что постарше, кивнула. Татьяна не сообразила ответить и тупо смотрела им вслед. Они привычно забросили корзины на плечи и неторопливо зашагали по тропинке через поле.
Шофер, хмурый небритый мужик без возраста, наблюдал, как она стоит у столба с ржавым железным указателем, на котором невозможно ничего прочитать. Он словно ждал, что она одумается и вернется в автобус. Не дождавшись, захлопнул дверь, развернулся и уехал, выпустив клуб черного удушливого дыма. А она осталась. Одна посреди бескрайнего поля.
Вечерело. Закат еще полыхал, а над головой разливалась уже темная густая синева. Она пошла вперед по дороге, удивляясь, почему автобус не поехал дальше. Там что, ничего нет? Конец света? Ответ Татьяна вскоре получила – через полкилометра примерно убитый в разломах асфальт закончился, и потянулась кривая проселочная дорога, по которой проехать было впору лишь трактору.
Дорога в колдобинах и ямах была тем не менее «обитаема» – Таня заметила свежую колею от тележных колес, в которых стояла вода, красная от заката. Колея тянулась в обозримом пространстве посреди плоской равнины, упираясь в малиновую стену горизонта. Купы деревьев, разбросанные на лугу беспорядочно, высокие сочно-зеленые заросли, отмечающие воду – бочажки и родники, – далекий черный лес – вот и все, что было вокруг. Ни звука человека, ни вида жилья, ни светящегося окна – ничего. Лишь едва слышный посвист слабого ветра, который налетал вдруг, писк сонной птицы да шорох желтой травы.
Татьяна уселась на обочине, сбросила кроссовки. Достала из дорожной сумки пирожок с капустой, купленный днем на вокзале, и стала есть. Пирожок оказался неожиданно вкусным. Она доела, стряхнула крошки с груди, вытерла руки о джинсы и задумалась. Мысли ворочались вяло. Дергало в висках, боль отдавалась в затылке. Тане хотелось лечь и вытянуть ноги. «Не знаю, – сказала она себе. – Не знаю! Что будет, что делать… понятия не имею! Да и все равно теперь…»
Главное, ей удалось сбежать. В никуда. Пока хватит, спасибо и на этом. Даст Бог день, даст и пищу.
Она была так измучена, что перспектива остаться ночью одной в безлюдном месте ее не пугала. Ее уже ничем не испугаешь. Она положила в головах сумку, легла, подобрав под себя ноги, и закрыла глаза. Последней внятной мыслью была мысль о том, что ей удалось… Удалось! И уже сквозь сон она подумала, что если не проснется или… дикие животные, волки, то… пусть!
Ночь меж тем опустилась на остывающую землю. Высыпали звезды, неправдоподобно яркие – таких не бывает в городе. А Татьяна все спала. Снилось ей, что она маленькая и мама… Мама зовет ее, протягивает руки, она спешит, тянет руки навстречу… Пресловутый бег на месте из сна! Вот-вот, еще чуть-чуть, самую малость… «Мама!» – кричит она и не слышит собственного голоса. А мама вдруг начинает таять, истончаться, бледнеть, и через миг уже никого, как будто и не было! Она вглядывается в пространство, пытаясь уловить тень, намек, зыбь, но там ничего нет. Она одна, вокруг бесконечное сизо-голубое поле, в природе не то утро, не то вечер, стылая неподвижность и ожидание.
Ее гладили по лицу, и ей стало мокро и горячо. «Теплый дождь…» – подумала она, и сразу появился сон про дождь: косые струи, пузыри на лужах, она бежит по мокрой, скользкой траве… Убегает? Сзади шаги, тяжелые, торопливые… Страх!
Тот, кто догонял, хватает ее за плечо. Она вскрикивает.
– Проснись, бедолашная, простудишься! – слышит Таня чей-то голос и открывает глаза. Вокруг темно. В лицо ей тычется холодный нос, горячий шершавый язык облизывает щеки, зверь поскуливает. Она рывком садится, прижав к груди руки. Отводит голову от пса, напряженно всматривается в темноту.
– Не бойся, – говорит женщина. – Серый, пошел вон! Ты что, хворая? Можешь встать?
– Могу.
Она пытается подняться. Женщина помогает, придерживая ее за локоть. Пес тычется головой ей в колени.
– Помалу, помалу, – приговаривает женщина. Лица ее не видно. Похоже, не очень молодая – голос глуховатый, неторопливый. – Пойдем, тут недалеко. Километров пять будет, не боле.
– Куда?
– Ко мне, в Городище. Я из Терновки иду, там Катя Дуб рожала, все никак не могла разродиться. Первый ребенок. Я и сидела.
– Вы врач?
– Фельдшер. Пошли?
– Пошли. Почему у вас нет дороги?
– Была чуток в стороне. По ней давно никто не ездит. Да и некому, заросла. По проселку ближе. Городище на обочине, у нас тыквы хорошо родят, когда-то большое хозяйство было, японцы покупали.
– Японцы? Зачем им тыквы?
Женщина рассмеялась.
– От старения. Это знаешь какой овощ! От всех бед. Сейчас уже не то, так, ро́стим немножко для себя. Медпункт закрыли, клуба и то нет. Молодых почти не осталось. А у нас места хорошие, и климат. Говорят, скоро закон про землю примут, вот новый хозяин нас и погонит… поганой метлой. Зажились, скажет. Ну да посмотрим. Даст бог, и не вспомнят про нас. Глаза им отвести – и, почитай, нас и нет вовсе. Тут и старый лес рядом, такие есть чащи заповедные – страх! Не приведи господь заплутать.
Татьяна не все понимала, но послушно кивала. Они шли и неторопливо беседовали. Таня все ожидала, что женщина спросит, что она тут делает в неурочный час и одна, и придумывала, что ответить. Но та все не спрашивала.
– Меня зовут Марина, – сказала женщина. – Меня тут все знают. Марина Дробут из Городища. Тетка Марина.
– А я – Татьяна.
– Таня? – Женщина вдруг тихо рассмеялась. – Вот и познакомились. Очень приятно, Таня.
И снова ни о чем не спросила, что удивило Татьяну. Она чувствовала неловкость и попыталась объяснить, зачем она здесь.
– Я ехала к родственнице, тут недалеко, уснула и проехала. – Ей было стыдно врать, но куда денешься? Не объяснять же все чужому человеку. – А завтра…
– Переночуешь у меня, – мягко перебила Марина. – Не говори ничего, потом. И ничего не бойся.
Чего не бояться? Татьяне вдруг стало страшно. Куда она ее ведет? В затерянное село, о котором все забыли? И людей нигде не видно. Вымерли? А вдруг эта баба… не живая! Татьяна почувствовала ужас. Пустота вокруг, далекое небо, полное равнодушных звезд, вспомнившийся некстати американский ужастик про какую-то деревню, населенную нежитями, – все это подстегнуло воображение. Тем более после известных событий…
Она замедлила шаг. Тут же в руку ей ткнулся холодный собачий нос. Как его? Серый! Она почувствовала, что ее отпустило. Если собака, то все в порядке! Каким образом присутствие собаки доказывало, что все в порядке, Таня затруднилась бы объяснить. Ну, что-то вроде того, что пес всегда реагирует на… них. В смысле, которые с той стороны.
– Господи, что за чушь лезет в голову! – простонала она мысленно.
– Места у нас чистые, – вдруг сказала Марина. – Тут когда-то было городище, тыщу лет назад, а может, и поболе. В старые времена люди знали, где селиться.
Она дотронулась до плеча Тани и тут же убрала руку. Татьяне стало стыдно. Она потрепала собаку за уши. Серый радостно взвыл, подпрыгнул и уперся лапами ей в грудь. Жарко задышал в лицо.
– А ну, пошел вон! Моду взял! – закричала Марина. – А вот я тебя!
Серый отскочил, взлаял и помчался вперед.
– Дурной, как ступа, малой еще, – сказала Марина. – Даром что ярчук. Приблудился, маленький был. Выгнать жалко, с ним вроде как веселее.
«Ярчук? Это что – порода такая?» – озадачилась Татьяна про себя и спросила:
– А вы одна живете?
– Одна. Муж умер, десять лет на Купалу будет, и с тех пор одна. Я и Серый. Вместе хозяйнуем.
Они все шли и шли. Ночь была светлая, хотя и без луны. В небе до горизонта стояли звезды, и светлая туманность Млечного Пути брошена была небрежно наискось. Сыро, одуряюще пахли травы. От земли поднимался теплый пар.
Село сидело в низинке в легкой пелене. Видны были неясно-белые стены, торчали высокие тополя. Не светилось ни одно окно. Они шли мимо плетней, где-то взлаяла собака. Серый тут же откликнулся дурным голосом. Эхо прокатилось по спящему селу.
– Цыц! Людей побудишь! – шикнула Марина, и Серый послушно замолчал.
Они прошли через все село, вышли на околицу. Впереди был луг, а дальше лес. Маринина хата стояла на отшибе.
– Пришли, слава богу, – сказала Марина, открывая заскрипевшую калитку. – Заходи, не стесняйся!
Двор утопал в зелени. По обеим сторонам дорожки густо росли желтые цветы, головки их цепляли Татьянины колени. Дальше у дома стояли пышные мальвы, высокие, как деревья, отчетливо видные против белых стен. Под тыном клубились заросли кустов.
Марина отворила дверь – она была не заперта. Тепло и запахи незнакомого жилья обрушились на Татьяну. Пахло удушливо сеном, грибами, мешковиной, сухим деревом, топящейся печкой.
Марина, сбросив сумку, уже возилась у стола. Неяркий огонь керосиновой лампы высветил низкую комнату с тремя маленькими оконцами, цветами в глиняных горшках на подоконнике – обильной геранью и китайским лимонником; с печью сложного устройства, которая показалась Татьяне громадной, – от нее шло слабое тепло; образами в углу – темные лики с белыми глазами, над ними домиком – вышитые красно-черным льняные рушники; а также с полсотни тусклых фотографий на противоположной стене – все в одной рамке; стол, клеенку в синий горошек, венские стулья с гнутыми спинками; приземистый комод; домотканые пестрые половики; низкую скособоченную дверь в другую комнату.
Татьяна никогда не выезжала из города и в деревенском доме была впервые. Она нерешительно стояла на пороге, рассматривая Марину и ее дом. Тут даже нет электричества – вот уж конец света! Тем лучше, подумала она.
Марина оказалась женщиной без возраста. Ей можно было дать сорок и все шестьдесят. Невысокая, смуглая, черноглазая, с быстрыми движениями – в ней было что-то птичье. Она стянула с головы косынку, пригладила черные волосы, сняла вязаную кофту, бросила на спинку стула. Посмотрела с улыбкой на Татьяну. Улыбка у нее была хорошая. Татьяна вдруг поняла, что Марина красавица. Чувство это мелькнуло и пропало – перед ней снова стояла немолодая уставшая женщина.
– Утомилась! Ты не стой, проходи. Сейчас вечерять будем.
– Спасибо, не нужно.
– Ты не стесняйся, я тоже голодная. Целый день маковой росинки во рту не было. Они звали за стол, да не до того мне было. А потом – поздно, домой торопилась. Мы сейчас примем за знакомство, у меня настойка есть на травах, от нее спишь как дитя. Сало, хлеб, зелень своя, с грядки.
– Мне бы умыться… – сказала Татьяна.
– Конечно! Умывальник во дворе. Сейчас я тебе утиральник достану.
Она с трудом вытащила ящик комода, достала длинное льняное полотенце.
– На! Там и мыло есть. Не заблудишься одна?
– Ну что вы!
– Ну, давай. Потом – я. А пока на стол соберу.
Полотенце пахло сухой травой и чуть тленом – так пахла бабушкина одежда, вдруг вспомнила Татьяна, и оказалось холодным и скользким на ощупь. По краям его шла вышитая черным и красным кайма из роз и птиц. Бабушки нет уже пятнадцать лет, Татьяна и не вспоминает ее никогда, а тут вдруг увидела отчетливо – сидит она на диване в своей широкой кофте, от которой пахнет сухой травой, тленом и старостью, рядом очки и книга. Она так и умерла на диване – уснула и ушла во сне. Татьяна замерла с полотенцем в руках.
Удивительная тишина стояла вокруг. Ни ветерка, ни шороха не доносилось ниоткуда. Неподвижные цветы и листья, черные тени, голубовато-белая неровная стена дома. Татьяне казалось, что она попала в позапрошлый век.
Умывальник – на столбе, под ним на табурете – таз. Татьяна подтолкнула кверху стержень – полилась вода, гулко забарабанила в дно таза. Она умылась, вдохнула резкий сырой воздух – внутри стало холодно, даже зубы заболели. Зябко повела плечами. Лицо пощипывало. Она стояла, прислушиваясь к тишине. Уходить не хотелось. Скрипнула дверь, и на пороге появилась Марина.
– Ну что, нашла?
– Спасибо, нашла. Удивительно светлая ночь!
– Дак полнолуние ж!
– Как полнолуние? А где луна?
– Дак вон же, за тополями. Поднимается!
И только тут Татьяна увидела неправдоподобно большой лунный диск за тополиными верхушками. Сделалось ощутимо светлее. Двор стал отчетливо виден, каждый цветок, каждый лист был как на ладони.
– Раздевайся! – вдруг приказала Марина.
– Что?!
– Раздевайся! Оболью тебя водой из колодца!
– Зачем?
– Для души! Вода из колодца в полнолуние имеет силу. Раздевайся!
– Совсем? – Татьяне стало не по себе.
– Совсем!
Она покорно стащила с себя джинсы, потом свитер. Помедлила и сняла остальное. Обхватила себя руками, ежась от ночной свежести. Марина рвала ветки с кустов, какие-то травы. Принесла, бросила ей под ноги. Тяжелый неприятный запах шибанул в нос, Татьяна уловила также слабый запах мяты.
– Становись!
– Что это?
– Всякая трава и любисток! Готова?
Завизжала, разматываясь, цепь колодца. Ухнуло-плеснуло глубоко внизу ведро, откликнулось и прокатилось эхо по верхушкам тополей. Татьяну била дрожь, хотя ночь была нехолодная. Ситуация сложилась странная – она стояла нагая посреди чужого двора на охапке остро пахнущей зелени, в полнолуние, в ожидании холодной купели.
Вода была не просто холодная – ледяная. Татьяна пошатнулась, как от удара, вскрикнула, захлебнулась воздухом, стала хватать его широко раскрытым ртом, как птенец. Прикрыв голову руками.
– Правда, хорошо? – спросила Марина. – Еще?
– Нет!!
– Ну и ладно, – сказала хозяйка дома. – Теперь спать будешь крепче. На!
Она протянула ей неизвестно откуда взявшуюся простыню. Татьяна закуталась в нее.
– Пошли вечерять. Все уже на столе, ждет.
Диск луны поднялся над верхушками тополей и засиял победно, и тут же вспыхнуло все вокруг. Засветились голубым беленые стены хаты, выступили неровные половицы крыльца, мягко засеребрилась соломенная крыша, такая низкая, что рукой можно дотянуться до края, заблестели таинственно маленькие неровные оконца. Проявилась ясно дорожка, выложенная светлыми деревянными кругляшами, облитые ртутным светом, подступили ближе чеканные ветки кустов и столбы мальв – словно вырезанные из жести. И по-прежнему ни шороха, ни движения, ни ветерка вокруг…
И вдруг над зачарованным миром взлетел тоскливый собачий вой. Татьяна вскрикнула, шип страха уколол прямо в сердце.
– Пошел вон! – закричала Марина, поднимая с земли камень и швыряя его куда-то в кусты. – Ну, дурак уродился, прости господи! А ну, цыц!
Вой прекратился, в кустах зашелестело, и на дорожку, молотя хвостом, выкатился Серый. Подбежал к Тане, ткнулся холодным носом в колени. Морда у него была радостная – ей показалось, пес улыбается. Магия рассеялась.
– Молодой еще, в силу не вошел, – пояснила Марина. – Играет. Напугал? Ты уж извини. Иди в хату.
На столе – нехитрый ужин… вечеря, сказала Марина. Черный хлеб, сало, зеленый лук, куски вареного мяса с картошкой. Толстые фаянсовые тарелки, зеленоватого стекла щербатые стопки и литровая бутылка сизо-зеленой жидкости. Татьяна почувствовала, как голодна. От густого запаха хлеба голова пошла кругом.
– Садись!
Татьяна послушно опустилась на заскрипевший стул. После колодезной купели тело стало невесомым и хотелось спать.
Марина открыла бутылку, разлила в стопки питье – Татьяне показалось, что жидкость дымится.
– За встречу! – сказала Марина, опрокидывая стопку. – Хороша! Аж слезу вышибает!
Татьяна отхлебнула и задохнулась. Она хватала воздух широко раскрытым ртом, едва не теряя сознание от жгучей боли в горле, вцепившись пальцами в край стола.
– Ох ты ж горе мое! – закричала Марина. – Запей! – Она ткнула ей стакан с водой.
Татьяна поспешно отпила и закашлялась.
– Што ж ты такая нежная, – покачала головой Марина, не то сожалея, не то упрекая. – Бери хлеб, мясо, кушай!
Дальнейшее Татьяна видела словно в тумане. Она не помнила, как добралась до постели. Помнила только холод жестких простыней и затрещавший сенник, а дальше – словно провалилась…
Глава 2. Одиночество. Наше время
День не задался с самого утра. Оказалось, нет кофе. Пита зачерствела, молоко не скисло, но от него несло тухлятиной. Интересно, из чего в наши дни делают молоко, имеет ли оно отношение к корове? Мелкий дождь скучно молотил в окно. Еще один холодный беспросветный день, когда не хочется подниматься с кровати, чистить зубы, одеваться, жить. Ничего не хочется.
Из зеркала на нее смотрела незнакомая хмурая личность из тех, что обычно не запоминаются, не умеют ладить с окружающими, на лицах которых написан мучительный вопрос: господи, за что? За что скука, одиночество, бессонница, морщинки под глазами, складки на животе, черствая пита и пустая кофейная банка?
Жанна улыбнулась уголками рта – когда-то это у нее получалось мило, сейчас никак. До такой степени никак, что слезы навернулись. Пошлепала пальцами под глазами, растянула кожу на висках – представила, что сделала подтяжку. Надула губы, приподняла бровь. Резким движением отбросила назад волосы. Тьфу!
И это первый день отпуска? И это лето? Это жизнь? Да что ж с ней такое, черт подери!
Но есть лекарство, есть! Главное – не зацикливаться. Взять себя за шиворот, дать пинка, выпихнуть из дома на люди. Для чего необходимо накраситься и одеться. Дорогая косметика, дорогие тряпки, все у нас есть, всего навалом. Хорошо бы гимнастику и холодный душ. Но это уже высший пилотаж. Обойдемся без гимнастики, а душ – горячий, и так в доме собачий холод!
Кофе! Полцарства за кофе! Может, сварить яйцо? Или… что? А что есть в наличии? В холодильнике сиротливо белеет пакет с молоком, а вот банка маринованных огурцов, три яйца, остатки масла и засохший букетик укропа. Жанна застывает у открытой дверцы, тупо глядя перед собой. Вредная память подсунула картинку – забитый до отказа чертов холодильный шкаф: ананас, маринованный перец, золотая блямба шампанского, копченая рыба и… и… бесчисленные пакеты вощеной бумаги и бутылки. И запахи – голова кругом! И гости потоком. Она вздохнула. Было. Было, да сплыло. Ушел, бросил, влюбился в другую на всю оставшуюся жизнь, помахал ручкой. Шампанское выпили на прощание, демонстрируя высокие отношения, расставаясь друзьями. Киношной дружбы не получилось – она сунулась было раз со своими проблемами, но он дал понять… Все! И новая мадам ждет ребенка. Она в свое время делала карьеру, да и ему ребенок был без надобности, оставляли его рождение на потом, а потом не вышло. Новая красится, как девочка по вызову, – и ничего! А ей он как-то сказал – смой краску, а то похожа на шлюху. Любимым все можно. Зато теперь она может краситься до упаду. До полного вампиризма, как говорит любительница фильмов ужасов тетя Соня, подруга мамы. Или до полной отключки. Никто не скажет, что похожа на шлюху, но вполне могут это подумать. Кто? Кто-нибудь. Пусть. Кого это теперь волнует?
Жанна захлопывает дверцу. Та сочно чмокает.
Горячей воды по случаю лета нет. Профилактика. Она с воплем выскакивает из-под холодной струи. Растирается махровым полотенцем. Обнаженная, стоит перед зеркалом. Берет малиновую помаду и разрисовывает щеки. Мажет губы. Отвратительная помада! А стоит целое состояние. Финальный штрих – малиновая клякса на носу, теперь возьмут в цирк без экзамена. Надо было соглашаться на Эмираты. Хотя бы Эмираты. Дура! Ну и что, что одна? Ирочка… Ирка, чучело, у нее десять пятниц на неделе. То она едет, то не едет. Если в ссоре с Толиком, то да, если помирились, то нет. Толик… Отдельная песня. Лучше так, чем никак, говорит Ирка со значением. Лучше никак, чем так, думает Жанна. Глазам вдруг делается больно, нос краснеет, хотя под малиной не видно. Этого еще не хватало! После тридцати – плакать можно только по делу, а не для удовольствия. Да что же это за день такой?
Дождь все идет. Зато можно обновить шикарный белый плащ. И позавтракать в кафе. Тем более в холодильнике пусто. Не торопясь, глядя в окно на мокрый человеческий поток. Как в Европе. Взять хороший кофе, неторопливо намазать маслом круассан, а сверху – клубничным джемом. От запаха кофе голова идет кругом. Старые французские шлягеры для понимающих – Дассен, Азнавур, Брель, Адамо. Париж! Или Адамо и Брель – это Бельгия? Без разницы! Ностальгия, ностальгия… по тому, чего не было. И в Париж они не успели. А теперь не с кем, да и желания нет, если честно. Рана затянулась, но еще болит. Хорошо, хоть тусовка свалила по новому адресу, унеся с собой дохлые соболезнования и сочувствие. Засуньте себе это сочувствие… знаете куда? «Ситуативные» подруги, жены общих друзей, иногда звонят, иногда заглядывают на огонек – им интересно, как она: в соплях или оклемалась уже, а также хочется доложить, как складывается у него. И посмотреть, как у нее поменяется выражение лица. «Физии» – как говорил бывший. И злорадно посочувствовать, мягко кладя свою ручку поверх ее ладони.
Жизнь продолжается, говорит себе Жанна. Жизнь продолжается, говорят мама и тетя Соня. Продолжатся, черт подери! Молодая, прекрасный возраст, мне бы твои годы! Самостоятельная, независимая! Мы в свое время разве такие были? А вы… у вас все есть! Какого рожна?
Никакого. А кому, спрашивается, хорошо? Вон Ирка вечно в соплях и слезах!
В кафе удобно ожидать, поглядывая на часы. Вот сейчас! Сейчас… Тик-так, тик-так. Отпивать мелкими глотками из фирменной чашки цвета шоколада с красивой надписью «Coffee. Macchiato. Cappuccino. Café creme», делая вид, что тебя страшно интересует что-то за окном, а не проклятая дверь. Наконец! Появился герой, обводит взглядом зал, полон нетерпения, горит! Соскучился. И это было! Как он летел к ней, на ходу крича – извини, я опоздал! Конечно, опоздал! На две минуты. Это она пришла раньше, ей нравится ожидание, страшный драйв до дрожи в коленках. И увидеть первой любимое лицо, нетерпеливый взгляд, вспышку радости в глазах…
Ладно, не конец света. Кофе все равно хорош. И круассан просто фантастика. И джем – апельсиновый, с горчинкой. И мокрая толпа за окном – мелочь, но приятно, добавляет уюта. И спешить некуда. Сиди хоть весь день до полного опупения. Напиши письмо другу. Задумываясь в поисках одного-единственного подходящего заветного слова, поднимая глаза к потолку, с хрустом разгрызая кончик гусиного пера. А емелю не хочешь? Кто сейчас пишет письма? И кому? У кого хватит терпения читать? Все бегом, все на ходу, все хип-хап, как говорил их преподаватель экономики, старый зануда… как им тогда казалось. Молодым, нахальным, беспардонным. Она вздыхает…
Три чашки – полный абзац. Увлеклась, что называется. Иди уже восвояси, горе мое. Обеспечила себе бессонные ночи на месяц вперед. Дождь продолжает сеять с серого потолка. Разве это небо? Это потолок! Потолок природы и потолок жизни. Той, которая не храм, а неизвестно что. Сарай или барак. Беспросветно, беспросветно, беспросветно. Сердце колотится как на пожар. Капли просто ледяные, колются иголками. Надо было взять маленький зонт, а не этот… парашют – того и гляди унесет в космос. Домой, в горячую ванну. Ха! А профилактика? Горячей нет. Тогда купить кофе… Нет! Только не кофе! Хорошего чая! Да! И чего-нибудь пожевать. Копченого, соленого, наперченного – как раз по погоде. И свежего хлеба! Мягкого, с коричневой корочкой. М-м-м-м…
Рядом с гастрономом – остановка троллейбуса. Как всегда, толпа. Жанна стоит, раздумывая: а не пойти ли пешком? Спешить все равно некуда. Рабочая карьерная лошадь – в смысле, делающая карьеру, а не из песчаного или каменного карьера, – уже соскучилась по работе. Может, позвонить и сказать… Нет! Только попробуй! Будешь отдыхать как миленькая. Поедешь в Эмираты или в Египет… увы, в Египет вряд ли, говорят, политическая обстановка не располагает. Можно в Испанию, на Канары, к черту на кулички. Купишь, наконец, бирюзу. Тебе идет бирюза. Подчеркивает цвет глаз. Бирюза в золоте, на длинной цепочке. Просто «ах»! С белым. Или черным. Решено, берем бирюзу. Украшаемся, учимся любить себя заново и смотреть на мир новыми глазами. И повторять по сто раз на дню – все хорошо! Ох, до чего же все хорошо! Все хорошо! Хорошо! Черт подери!!
Кажется, в небе наметился просвет. Жанна задирает голову – ангельская голубизна и неземное золотистое свечение! Окно в высшие сферы. Чудо. Знамение. Жизнь продолжается, шарик крутится, конец света, говорят, еще не скоро.
Черный джип, тупорылый, с бело-синим значком на капоте, взревев, вывернул на тротуар, народ подался назад, женщины вскрикнули. Два синих треугольника, два белых, седая голова мужчины за рулем, красный блестящий шарик, как вспышка – последнее, что она запомнила…
Она почувствовала удар, но не ощутила падения, как и боли. Белый плащ взметнулся и плавно опустился на грязный тротуар. Небесная голубая промоина затянулась, и дождь полил с новой силой. «Скорую!» – кричал кто-то. «Ездят по тротуарам, сволочи!» «Им все можно!» «Достали уже!» Из джипа выскочил седоголовый мужчина средних лет, растолкал толпу. Все смотрели молча, враждебно. «Помоги!» – деловито бросил он какому-то парню. Вдвоем они втащили Жанну в джип. «Хоть совесть есть, – вынесла приговор толпа. – Не бросил! Жива ли, нет?»
Глава 3. Частнодетективные будни
Дождь лил всю ночь. Капли били в подоконник, и задремавшему адвокату по бракоразводным делам Алику Дрючину привиделся праздничный парад – трибуна, колонны с тамбур-мажоретками во главе и барабанщики, изо всех сил колотящие в свои барабаны. Он проснулся от холода – дверь балкона была распахнута настежь, и на пол натекла большая лужа. Чертыхаясь, Алик сполз с ненавистного бугристого дивана и потащился в ванную за тряпкой. Он вытер пол, закрыл балконную дверь, уселся за стол и задумался. Ночь испорчена, теперь не уснуть. Самое гадкое то, что из спальни доносится молодецкий шибаевский храп. Обидно. Частный детектив Александр Шибаев, однокашник адвоката, человек с крепкой нервной системой, может спать даже в подвешенном вниз головой состоянии да еще и после трех-четырех чашек кофе. Это, правда, недоказуемо ввиду невозможности проверить, но Алик нисколько в этом не сомневался. Они не дружили в школе по причине полярных интеллектуальных, физических и психических данных – Ши-Бон был здоровым лбом, гонявшим в футбол и терявшим учебники, а Алик – заморышем-отличником с вечной книжкой под мышкой, и орбиты вращения у них были разные. Потом Шибаев пошел работать в милицию, а Алик стал адвокатом. И в один прекрасный момент они пересеклись. Причем у Шибаева был тогда не самый удачный период его биографии. Он так и сказал Алику: я, мол, коррумпированный мент, и меня вычистили из конторы за взятку. Хотя какая там взятка! Мелочовка. И сколько угодно можно жаловаться на судьбу в виде черномазого лоточника, который сунул ему, а он сначала даже не понял, и потом сидел и тупо смотрел на конверт. А было уже поздно. Слава богу, комиссовали по состоянию здоровья, а не выперли с позором… И добро бы хоть продался за приличную сумму, а то, как дешевая шлюха…
Алик, слушая откровения нетрезвого Шибаева, испытывал странное чувство, сродни… сродни гордости: сильный и удачливый Ши-Бон, которым он всегда восхищался издали, откровенно выложил ему историю своего падения, то, о чем даже близкому человеку просто так не расскажешь. А значит, не было у Ши-Бона в жизни на тот момент никого роднее и ближе адвоката Алика Дрючина, и он с готовностью подставил ему свое костлявое плечо. Помог с лицензией частного предпринимателя, с разрешением на ношение оружия и стал подкидывать клиентов «по разводным делам». Они даже сняли офис на двоих, и Шибаев постепенно оклемался и пришел в себя, хотя новую свою работу от души ненавидит, считая ее такой же мелочовкой, как взятка, на которой он споткнулся.
У Алика своя квартира, но иногда он, не желая оставаться один, «подночевывает» у Шибаева и даже держит кое-что из гардероба в его шкафу. Чаще всего это происходит между разводами – Алик, будучи человеком влюбчивым и романтичным, был женат четыре раза. Он вспыхивал, как спичка, и так же быстро прогорал. Опыт предыдущих женитьб ничему его не научил, в итоге надежда всегда побеждала опыт, и Алик снова и снова с готовностью подставлял шею под новый хомут, как называл этот процесс неромантичный реалист Шибаев. Он сам был женат единожды, в данный момент пребывал в разводе, и постоянных подруг у него нет. А кроме того, он перманентно недоволен жизнью и работой. Недовольный жизнью и неромантичный человек если и привлечет женщину, то будет эта женщина с мощным материнским инстинктом или вообще мазохистка. Кроме того, его единственная любовь из тех, что на всю жизнь, закончилась плачевно, разбив ему сердце[1]. Алик Дрючин сгорал от любопытства и пытался и так и этак вызнать детали и подробности, но Шибаев был неприступен как скала. Алику непонятен этот стоицизм, так как о своих любовных неудачах он трубил на весь мир. Психологи сходятся в том, что боль нужно выкричать, и он с ними полностью согласен.
Так они и жили – такие разные во всех отношениях, но тем не менее находящие общий язык и доверявшие друг другу.
Дождь продолжал глухо барабанить в подоконник, из спальни доносился молодецкий храп, а бедный Алик сидел за столом в своем шикарном шелковом темно-синем в бордовые ромбики халате и прикидывал: вернуться ли на диван или сварить кофе – все равно ночь коту под хвост. Сварить, налить в любимую кружку, добавить сливок и сахара – много! – и достать из портфеля купленные вчера вечером ванильные сухарики с изюмом. Он так явственно представил себе полную литровую керамическую кружку, запах ванили и кофе, что даже сглотнул невольно.
Спустя пятнадцать минут он сибаритствовал за кофе, делая пометки в статье, начатой накануне по просьбе популярного юридического интернет-издания. Темой статьи были всякие нелепые и идиотские законы в анналах мировой истории юриспруденции. Кофе, статья, глубокая ночь – обстановка вполне академическая…
Алик увлекся и только хмыкал, находя все новые и новые доказательства странных, мягко выражаясь, взлетов или взбрыков юридической мысли, понимая в то же время, что они обусловлены жизненными реалиями. Он пискнул испуганно, когда на его плечо легла тяжелая шибаевская ладонь и хриплый голос произнес:
– Втихаря, ночью… не ожидал!
– Я на твоем раздолбанном диване не могу уснуть, – пожаловался адвокат. – И ты храпишь как не знаю кто! Как динозавр! Как вампир!
– А мне кофе можно? А чем это ты занят? Мемуарами?
– Можно! Ага, пишу мемуары. Ты, например, знаешь, когда появился самый первый закон?
Шибаев задумался, стоя посреди комнаты.
– Десять заповедей?
– До заповедей!
– Первобытный человек? Шаман сказал, что кушать другого человека плохо.
– Первый кодекс появился больше четырех тысяч лет назад, написал его царь Вавилона Хаммурапи. Этот текст высекли на каменной глыбе высотой в два с половиной метра, поэтому он сохранился. Между прочим, мы позаимствовали из того кодекса принцип презумпции невиновности. Там еще был закон о наказании судьи за подкуп, смерть за похищение детей, сожжение за воровство на пожаре, смерть за кражу и ряд статей, защищающих рабовладение. Главный принцип – глаз за глаз. Абсолютно четко и сжато изложенные законы, и это чуть ли не пять тысяч лет тому назад!
– На камне особенно мыслью не растечешься, – заметил Шибаев.
– Ага. Там еще предусматривалась ответственность арендатора за землю и штраф за нерадивость. А если имело место стихийное бедствие, то аренду не взимали. Просто удивительно! Страшная древность, рабство, войны, эпидемии, и вдруг – закон! Представляешь, Ши-Бон, совершенный с точки зрения логики закон! Этот Хаммурапи был гением. Знаешь, Сашка, как подумаешь, сколько потрясающих людей жило до нас, с ума сойти можно!
– Вавилон – это где сейчас?
– На территории современного Ирана.
– Интересно, что-то из старых законов осталось?
– Хороший вопрос, – покивал Алик. – Вообще-то, когда законы устаревают, ими просто перестают пользоваться, и рано или поздно кодексы переписывают, а пока не переписали, устаревшие висят мертвым грузом. В данном случае исчезла страна. А вот, например, смотри… Кофе сделать? – перебил он себя.
– Сиди, я сам, – ответил Шибаев и отправился на кухню. Его кот по имени Шпана спрыгнул со стула и побежал за ним. – Мясо будешь? – крикнул Ши-Бон из кухни.
– Ночью? Не знаю… – задумался Алик. – Вредно, говорят.
– Так будешь?
– Буду. Только потом не уснешь.
– Уже утро, – заметил Шибаев, появляясь в комнате с чашкой и тарелкой с нарезанным большими кусками копченым мясом. – Прошу!
– А вот тебе современный вполне идиотский закон – в Канаде во время дождя нельзя поливать газон, – встретил его Алик.
– А есть желающие?
– Раз приняли закон, наверное, были. Но непонятно, зачем запрещать – пусть себе поливают! А отели у них должны бесплатно кормить лошадь клиента. Тоже интересно. Представляешь, если бы гостиницы бесплатно заправляли машину клиента? А вот еще! В Монтане женщине грозит тюрьма, если она вскроет почту мужа.
– Хороший закон, – заметил Шибаев.
– В Коннектикуте велосипедистам запрещено ездить со скоростью больше ста километров в час. В штате Нью-Йорк можно влететь на двадцать пять баксов, если пялиться на женщин. Знаешь, Ши-Бон, даже рассказанный в присутствии коллеги-дамы полуприличный анекдот расценивается у них как сексуальное домогательство. А в Небраске парикмахерам запрещено есть лук с семи утра до семи вечера.
Шибанов рассмеялся.
– И чеснок!
– Взрыв ядерного заряда в Лос-Анджелесе карается штрафом в пятьсот долларов! Нельзя лизать жаб, и тут же комментарий: жабы вырабатывают ядовитое вещество, эффект от которого сходен с эффектом от наркотика.
– Насчет жаб – это забавно, – заметил Шибаев. – Слушай, а если их разводить? Построить жабьи фермы, а налоговой впаривать, что для ресторанов?
– У нас холодно, во-первых, а во-вторых, я бы лично не стал лизать жабу. Меня бы сразу стошнило. Холодная, живая, б-р-р-р!
– Резонно, жаба – это экзотика. Насчет ядерного заряда тоже нехило, а то мало ли….
– Ага. Вот еще закон. В Милане, например, закон требует от людей улыбаться постоянно и везде, за исключением похорон или визитов к врачу. А у нас – наоборот. Моя бабка говорила: смех без причины – признак дурачины.
– Мы вообще суровая нация. Тебе за статьи хоть платят? – спросил Шибаев.
– Когда как. Знаешь, мне самому интересно, такое выкапываешь – в дурном сне не привидится… Кстати, ты храпишь. Кроме того, статьи – это бесплатная реклама. А рекламы, как ты понимаешь, лишней не бывает.
– С клиентами последнее время негусто.
– Как это негусто? – удивился адвокат. – Одна половина города женится, а другая разводится, тут без адвоката как без рук.
Шибаев только вздохнул. Внимание обоих привлекли странные гортанные и фыркающие звуки – оказалось, Шпана подавился украденным мясом.
– Удивительно невоспитанный кот, – заметил адвокат, морщась и рассматривая кота. – Сейчас его вырвет.
– Проглотит, – успокоил его Шибаев.
Они пили кофе и обсуждали нелепые законы еще около часа, после чего Шибаев ушел к себе досыпать, а Алик углубился в Сеть, так как ночь была уже на исходе и уснуть не было ни малейшей надежды. Но наркотическая жаба все не шла у него из головы, и вдруг он понял! Алик понял, что сказка о Царевне-лягушке на самом деле сказка о наркотической жабе, которую поцеловал, а на самом деле полизал принц! А под кайфом чего только не привидится!
Глава 4. Печаль. наше время
Женщина в черном, сгорбившись, неподвижно сидела на низкой скамеечке за узорной чугунной оградой. Черный мраморный памятник, черная плита, черная мраморная ваза, полная белых роз.
Женщина задумалась, ушла в себя. Молодое бледное лицо, тонкие сжатые руки на коленях. Черный платок до бровей.
Она думала о своей безрадостной жизни, о последнем разговоре с мужем… и все в ней восставало – лучше смерть, ни за что! Ее ноша, ее крест, она не жалуется… никогда не жаловалась, и тогда тоже… Она смотрит на черный памятник, на белые розы… глаза ее наполняются слезами.
– Маленький мой, – шепчет она, – ангел мой, прости, что не уберегла. Мученик мой, кровинушка моя, никогда тебя не забуду… отмучился. Не суждено было… все помню! Как увидела, как взяла на руки… как сердце замерло, глазки, ручки… Смотришь на нас оттуда… бережешь… помоги нам! Пожалей!
Она услышала шаги, кто-то неторопливо шел по дорожке. Наклонилась ниже, вытерла слезы. Человек остановился, мужской голос сказал:
– Не плачьте, им тяжелее, когда мы плачем. Вспоминайте, но не плачьте. Можно?
Она кивает, и он усаживается рядом. Они молчат, потом он говорит:
– Что случилось?
– Сердце. Хотели оперировать, да не успели. Так и умер у меня на руках.
– У меня жена умерла, шесть месяцев сегодня… Ребенок – это тяжелее, не дай бог.
Он рассматривает памятник. Четыре месяца и шесть дней от роду. Три года назад, в этот самый день. Годовщина.
– Я хотела следом за ним, да побоялась греха, – говорит женщина глухо. – Думаю все: кто виноват? Может, мои грехи… может, проклятие на мне…
– Есть вещи, которые просто случаются, и нет виновных. Поверьте, не нужно себя мучить. Вы молодая… вся жизнь впереди. У вас еще будут дети.
Она внимательно смотрит на мужчину. У него приятное открытое лицо, спокойный неторопливый голос, крупные надежные руки. Он сидит, упираясь локтями в колени, сцепив пальцы.
– У меня есть сын, – говорит она. – Братик Севочки. Ему два годика. Хороший мальчик…
– Вот видите… Как зовут?
– Володя. Он любит рисовать. Я рассказываю ему про братика… я с ним все время разговариваю. Он слушает, все понимает.
В голосе ее странный надрыв. Мужчина скользит взглядом по сжатым кулакам женщины, по черной одежде, по заплаканному ненакрашенному лицу.
– Поверьте, все будет хорошо.
– Я приходила к Севочке каждый день, сейчас реже. Сегодня три года… а как будто только вчера… – Она помолчала, потом спросила: – Отчего умерла ваша жена?
– Рак, – сказал он коротко. И, словно отвечая на незаданный вопрос, добавил: – Детей у нас, к сожалению, не было.
Женщина кивнула. Они еще немного посидели молча, и она поднялась.
– Я могу отвезти вас в город. – Мужчина тоже встал.
– Спасибо. Я на машине.
Она кивает ему и уходит, он смотрит ей вслед. Солнце скрывается в тучах, и мелкий неуверенный дождь шуршит в траве. Из щелей асфальта выкуривается легкий парок…
На кладбищенской стоянке всего несколько машин. Женщина направляется к своей – серебристому «Лексусу»…
Глава 5. Зеленое утро. Два года назад
Татьяна проснулась от тишины. Тишина стояла неправдоподобная – ни соседей за стеной, ни чиханья воздуха в старых трубах, ни хлопанья дверей, ни звуков города – визга тормозов и топанья тысяч ног по асфальту. Ничего. Тихо.
Из открытого окна – ледяная воздушная струя и непривычные запахи земли и мокрой травы. Легкая короткая занавеска чуть подрагивает. Чужая незнакомая комната. Высокая кровать, неровный деревянный пол, дерево фикус в углу с темно-зелеными глянцевыми листьями, тусклое голубоватое зеркало на стене – как озерцо, в углу – образа в фольговой вырезанной зубчиками ризе и вышитое льняное полотенце – красное и черное по серому. Кривоватый потолок и стены, запашок тления и сена – дух старого дома…
Она села в кровати, потянулась и подумала, что впервые за последний месяц выспалась. Город отодвинулся куда-то за горизонт, и появилось чувство, что можно остановиться, перевести дух и осмотреться. И еще – ощущение покоя. Она прислушалась к себе – не было привычного тоскливого страха. Она засмеялась громко и сказала: «Конец пути». Прислушалась к эху и повторила громче: «Конец пути! Эй, ты! Слышишь?»
В тишине стали проявляться маленькие звучки́ – потрескивание дерева, шорох раздуваемой ветерком занавески, шуршание листьев. И голоса птиц. Она натянула майку и джинсы и вышла в «залу». Скрип половиц сопровождал ее. В солнечном свете все выглядело по-другому: обыденно и бедно. Огненная герань на подоконнике, старый буфет с тусклыми стеклами, старые выцветшие красновато-коричневые фотографии на стене, печь на полкомнаты с полосатым рядном наверху. Татьяна подумала, что Марина спала на печи, уступив ей свою кровать. Вчера комната была чужой и враждебной, с темными глухими углами, а сегодня в свете солнца – обычной, патриархальной, наивной, и была в ней честная бедность и крестьянская незатейливость. И ни телефона, ни света, ни радио… ничего! Никаких плодов цивилизации. Татьяна вспомнила, как швырнула в урну свой мобильник, отсекая себя от прежней жизни, и подумала, что выброшенный телефон, бег куда глаза глядят, раздолбанный пузатый автобус с удушливым запахом выхлопов, в который она вскочила в последнюю минуту, и дорога, закончившаяся внезапно посреди чистого поля – между пустым небом и пустой землей, – все это звенья одной цепи, и она прошла по ним, как по кочкам, через топь. Кто-то взял ее за руку и привел сюда, на добро ли, на зло…
Хуже не будет, подумала она.
На столе стояли кружка с молоком, банка меда с крошками сот, и лежал кусок хлеба. Она налила мед на хлеб, взяла кружку и вышла на крыльцо. Молоко было теплым. «Парное!» – вспомнила она слово, за которым раньше ничего не стояло. Молоко было густым, желтоватым, со странным привкусом…
Она села на ступеньку. Откусила от хлеба, слизнула с руки капнувший мед. Двор утопал в зелени и, казалось, светился густым зеленым светом. На траве и листьях посверкивала роса. У колодца лежала охапка привялых зеленых веток… Любисток!
Откуда-то неторопливо вышел громадный петух – желто-красный, с блестящей зеленой головой, с пышным султаном хвоста, когтисто-большеногий, с гусарскими шпорами – и стал перед ней, наклонив голову, рассматривая ее круглым строгим глазом. Второго глаза у него почему-то не было. Она отломила кусочек хлеба, бросила петуху. Он с достоинством клюнул. От сарая к ним уже неслись с заполошным квохтанием три пестрые курицы. А из кустов выступили две большие птицы, серебристо-серые, с крошечными изящными головками.
Щебетали птахи в деревьях. Тишина, оказывается, полна звуков, которые ухо начинает постепенно улавливать. Далекий лай собаки. Пошумливание ветра в верхушках деревьев. Протяжное мычание коровы. Квохтание кур. Неожиданный резкий вскрик какой-то птицы… небольшой, с ярко-голубыми боками. Она уселась на плетень и раз за разом пронзительно вскрикивала. Холстом, на который гармонично накладывались все эти звуки, было басовое тихое гудение леса в полукилометре отсюда.
Необычным было чувство покоя и несуетности. Голые ноги пригревало солнце. Татьяна поставила кружку на перила, положила сверху хлеб и поднялась. Оглянувшись, сбросила джинсы и осталась в одной майке. Допила молоко и пошла к колодцу. Босые ноги покалывало с непривычки. Она подумала, что никогда еще не ходила босиком по земле…
Заскрипела, разворачиваясь, цепь, ведро тяжело ударилось о воду. Из колодца дохнуло студеным. Она, изо всех сил налегая на ворот, тащила полное ведро. Вытащила рывком, поставила на край колодца. Снова оглянулась. Вокруг не было ни души. Она встала на листья любистка, подняла ведро и, вскрикнув, опрокинула воду на себя. И рассмеялась, подставляя лицо солнцу. Подумала, что исполняет древний ритуал причащения землей, водой и зеленью. Стояла мокрая, холодная, дышала глубоко до всхлипа…
…Спустя час Татьяна яростно терла тряпкой пол веранды. На ней был старый сарафан Марины, который она нашла в сенцах. Выстиранные джинсы и майка сохли на перилах.
– Здравствуйте! – услышала она и вздрогнула. Разогнулась с тряпкой в руке, рассматривая женщину у калитки. Была та молодой, в косынке, в голубом платье. Прикрывалась ладонью от солнца.
– Здравствуйте, – ответила Татьяна.
– А тетка Марина дома?
– Нет…
– Уже ушла? А ты Татьяна будешь?
– Да, откуда вы знаете?
– Дак Марина ж говорила, что ждет гостей. Слава богу, что ты приехала, она очень скучала. Ничего не говорит, а только все видать. Ты надолго?
– Не знаю пока, – ответила озадаченная Татьяна. – Вы проходите, – пригласила она.
Женщина с готовностью открыла калитку. Пробежала по деревянным кругляшам дорожки, поставила пластиковую сумку на ступеньку, оперлась локтями о перила крыльца. Улыбалась, откровенно рассматривая ее.
– А ты сразу за уборку? Молодец. А то у тетки Марины совсем нет времени, так и рвут – то одно, то другое. Вот и вчера целый день… Как там Катя Дуб: разродилась, не знаешь?
– Хорошо… по-моему.
– Ага, добро. Я тут принесла картошки с мясом, – она кивнула на сумку, – а то ей и сготовить некогда, и куска проглотить. А когда ж ты приехала?
– Вчера.
– Ага, вчера. – Женщина задумалась. – А тут как раз старая Оришка померла. Слабая стала и померла. Тетка Марина ее травами пользовала. Значит, теперь останешься.
– Кто умер?
– Орина, не помнишь разве? Должна помнить, ей девяносто два было, говорила, что уже давно собралась, а ворота все никак не открываются.
– Ворота?
– Ну! Открылись теперь, видать, дак и отошла с миром. А ярчук с теткой Мариной? Он всюду за ней следом, бережет. Хоть молодой, а понимает. Мало ли что… злых людей сейчас много, и сглаз, и зависть. А тетка Марина чужим помогает, а себе не может. Такой закон.
Татьяна с удивлением вслушивалась в странные слова женщины, мало что понимая. Слова знакомые, а смысл ускользает.
– Ой, да что ж это я! – спохватилась та. – Я – Катя Огей, соседка. Ты ж посмотри, чтобы мама поела, ладно? А я побежала, робить надо. И с девочками сговорилась в лес по ягоды. А то хочешь с нами?
Татьяна не успела ответить, как Катя сказала:
– Я ж понимаю, ты ж только приехала, я в другой раз забегу!
И побежала по деревянной дорожке на выход. Дробно простучали шаги, хлопнула калитка, звякнула щеколда. Тятьяна смотрела ей вслед, недоумевая – она сказала, посмотри, чтобы мама поела… Она сказала: мама?
…Мамы нет уже три года. Она болела, почти не выходила из дома, пыталась наставить на путь ее, Татьяну, надоедала, воспитывала, а она только отмахивалась, а потом и вовсе ушла – сняла квартиру с подружкой Зойкой, и зажили они в свое удовольствие. Все было, даже вспоминать не хочется. Когда мама умерла, соседи разыскали ее только через неделю. Она почувствовала оторопь и попыталась вспомнить, когда видела мать в последний раз – получалось около трех месяцев назад. Все говорила себе, что нужно забежать, проведать, но, вспомнив занудные наставления, откладывала. Теперь можно не бояться – не осталось ни одного человека на земле, который будет указывать, как ей жить. Мать была неудачницей – озлобленной, безмужней рабочей текстильной фабрики, рано состарившейся, и меньше всего Татьяна хотела повторить ее судьбу. Ничему путному научить дочку она не могла. Татьяна только морщилась на ее причитания, что надо учиться, блюсти себя, не путаться с кем попало. «А сама?» – хотелось закричать Татьяне. Нагуляла ребенка, замуж не вышла, не училась, всю жизнь копейки считала. Мать вызывала у нее раздражение, смешанное с брезгливой жалостью, и, окунувшись в новую забубенную жизнь с отвязной Зойкой, Татьяна начисто о ней забыла.
Мать оказалась права – закончилось все очень плохо. А может, ее правота была ни при чем, просто загулы часто заканчиваются плачевно. И побежала Татьяна куда глаза глядят, спасаясь, боясь оглянуться, ног под собой не чуя…
Она домыла пол, распахнула окна и двери – пусть дом проветрится. Достала воды из колодца, полила цветы. Разыскала среди книг на полке старый потрепанный сонник и уселась на верхней ступеньке крыльца. Пролистала, нашла толкование сна про бег. Почти каждую ночь ей снится, как она бежит. Убегает.
Оказывается, бег в одиночестве означает погоню за удачей и богатством. Бег с друзьями – веселье и радость. Хорошо бы…
Каждую ночь она убегает, полная страха и тоски. Страх во сне – разочарование и несчастная любовь.
Убийство… Татьяна оглянулась – ей почудился чужой взгляд. Никого! Тишина, безмятежность, ни ветерка… Сон, в котором убивают невинного человека, предвещает отчаяние и бегство. Убийство врага – к удаче. Если убивают вас – будьте осторожны, отступите, постарайтесь избежать сетей, расставленных врагами.
Татьяна захлопывает книжку. Радужного настроения как не бывало.
Она задремала, опершись спиной о балку крыльца. И снилось ей, что на участок входит человек. Аккуратно прикрывает калитку и смотрит на Татьяну светлыми, почти белыми глазами. Стоит и смотрит. А она, полная тоскливого ужаса, понимает, что убежать не получится. Рука нащупывает металлический стержень, сжимает. Мужчина неторопливо идет к ней, на ходу доставая из кармана… рука его застревает, он дергает ее, пытаясь вытащить нечто… и тут Татьяна, вскочив, бьет его железным стержнем – раз, другой… Она видит черную кровь на своем платье, на руках, деревянной дорожке… и кричит пронзительно и тонко…
– Таня! Танечка! Ты чего? Проснись!
Она чувствует, что ее трясут, и закрывается рукой. Ее заливает мгновенная волна ужаса.
– Успокойся, родная! Это ж я, Марина! Да что ж с тобой такое, господи помилуй! Или сглазил кто?
Татьяна пришла в себя и увидела перед собой лицо Марины. Та держала ее за плечи и легонько трясла. В ее глазах было столько участия, что Татьяна расплакалась. И тут же завыл Серый, задрав вверх острую морду.
– Цыц, несчастье! – прикрикнула Марина.
Пес перестал выть и клацнул зубами на пролетавшую муху.
– Поплачь, поплачь, пусть горечь выйдет, – приговаривала Марина, гладя ее по голове.
– Тетка Марина, Зойку, мою подружку, убили! И меня хотели, но я убежала. Они ждали под домом… я, как была, бросилась на вокзал… не видела ничего! Как будто кто-то в спину толкал!
– Все недаром, – сказала Марина. – Не бойся ничего, раз добралась сюда, значит, так надо. Не выдал Господь.
– Он меня все равно найдет, я про него знаю, он не успокоится!
– Здесь не найдет, – заявила Марина твердо. – Не твоя забота. Поняла? Вставай, будем вечерять.
– Приходила Катя, принесла картошку с мясом, – вспомнила Татьяна.
Марина мелко рассмеялась.
– Приходила? Ну, любопытная гуска! Ничего не пропустит!
– Она думает, что я ваша дочка. Вашу дочку тоже зовут Татьяной?
– Татьяной, – ответила Марина не глядя. Она споро крутилась, накрывая на стол.
– Я на нее похожа?
Марина скользнула взглядом, покачала головой. Сказала:
– Катя ее не знала. Таня уехала, восемь лет уже. Насовсем.
– Катя сказала, что вы ждали гостей, сказали, что Татьяна приедет.
– Сказала, – ответила Марина, усмехнувшись, глядя ей в глаза. – Ты ж приехала! Разве нет? Садись кушать. Я тебе сейчас наливки вишневой для аппетиту дам.
– Дочь уехала в город, да там и осталась, – сказала Марина, когда они уже пили чай.
– Почему?
– Испугалась, – ответила Марина после паузы. – Придумала себе… и сбежала.
– Испугалась? – Татьяна опьянела, в ней проснулось любопытство. Все здесь было не так, все было странно – и отсутствие электричества и телефона, даже телевизора… хотя какой телевизор без электричества! Даже радио – и того не было! И вода из колодца… Наверное, так жили сто, двести, триста лет назад, и единственная связь с миром – толстопузый раздолбанный вонючий автобус.
– Ага. Тут у нас работала историческая экспедиция, услышали про Городище и приехали. Ходили, расспрашивали, кто что помнит. Оришка им сказки и слухи всякие рассказывала. Копать хотели, да только определиться не могли, где лучше, где самое место. Там же ничего не осталось. Да и опасно, нельзя трогать. Оришка предупреждала, ну, да они люди ученые, все сами знают, а мы – дремучие, с забобонами. Спрашивать спрашивают, записывают в тетрадку, а уважения нету. А тут чувствовать надо, не головой, а сердцем. Беречь, что осталось, и не нарушать. И стали они старый колодец раскапывать, а их главный профессор возьми да заболей. Под вечер занемог, а наутро его не стало. Помер. Куда только их уверенность делась! Знаешь, пока ничего – и забобоны, и бабские выдумки, и насмешки строят, а как грянуло – тут-то она и слетела, вся наука, а под ней пусто – ни веры, ни уважения к заветам. Они собрались в одночасье, и Татьяна с ними. Был там один, бойкий такой, глаз на нее положил. С тех пор ее и не было. Она все время хотела уехать в город, вот и уехала.
– А вы с ней встречаетесь?
– Я была у них два раза. Зять меня не очень жалует, не может забыть, как испугался тогда, заметался, да все на моих глазах. Стесняется, что вроде как поверил в проклятие Городища. Он теперь профессор, даром что молодой, двое детей у них. Татьяна сидит дома, а он со студентами ездит. Я спросила ее – это то, что ты хотела? Замужем дома сидеть? Пошла бы учиться! А она говорит – вы, мама, ничего не понимаете. Дура, мол, деревенская. А только не все у них гладко – зачем ему неученая жена? Я и перестала там бывать.
– Что такое Городище?
– Тут когда-то поселение было. Тыщу лет назад или даже больше. Еще говорят, силу это место имеет, порчу снимает.
– А проклятие? Вы сказали, проклятие Городища?
– Насчет проклятия не знаю – думаю, Оришка все выдумала, чтобы не лезли куда не надо. Тыщу лет простояло, и не нужно лезть, не нами сделано, не нам нарушать. А они… – Она махнула рукой. – А ты поживи сколь хочешь, я тебя в дочкину комнату определю.
– Я недолго, мне бы только оглядеться и… – Татьяна вздохнула.
– Я не гоню, живи.
– А как же вы без света и телефона? А если в больницу?
– У нас есть три машины, никто не откажет. А насчет электричества – было, а в позапрошлом году вырубило из-за града и молнии, да так и не приехал никто починить. Знаешь, оказалось, можно жить и так.
– А продукты?
– Приезжает лавка до самой зимы, раз в месяц привозит чего надо. Забирает грибы, мед, ягоды, молоко. У нас своя пасека, огороды, кузня, конюшня. Нам хватает. Так и живем. Человек ко всему привыкает.
– Не представляю, как можно так жить! И телевизора нет, и радио! Вы же не знаете, что в мире делается, а вдруг война?
Марина рассмеялась и махнула рукой:
– Мы-то чем поможем? И бежать нам некуда. Да и не докатится сюда. Ты вот нашла, думаешь, просто так?
– А как?
– Сюда просто так не попадешь, поверь. Да и ты бы не попала, если бы ярчук не вынюхал.
– А как называется ваша деревня?
– Городище.
– Тоже Городище?
– Городище одно. То, что в лесу, – старое, наше – теперешнее.
– А у вас много людей живет?
– Тридцать шесть человек.
– Всего тридцать шесть? – не поверила Татьяна. – Столько земли, лес, поле – и всего-навсего тридцать шесть человек?
– У нас воля, – сказала Марина. – Кто хочет, может уйти в город. А другие приходят и остаются. Катя привезла сестру больную несколько лет назад, да так и остались обе.
– Так у вас вроде секты? – догадалась Татьяна. – А школа?
– Какая секта! – рассмеялась Марина. – Ну ты и выдумала! Просто живем, никого не трогаем. Не все могут жить на земле и при земле, избаловались городом. А школы нет, да и детей тоже нет. А будут – придумаем что-нибудь. Пошли, покажу твою комнату.
Она отворила низкую дверь около печи, вошла первой, неся керосиновую лампу. Татьяна вошла следом. Неверный свет осветил маленькую светелку с закрытым занавеской окном, кровать в углу под синим с белыми узорами покрывалом, тумбочку, этажерку с книгами и журналами, пестрый половичок на полу.
– Живи, – сказала Марина, посторонившись, пропуская Татьяну.
…Ночью ей снился сон про Зойку – большой человек бил Зойку, та сначала кричала, потом затихла. Она, Татьяна, едва живая от ужаса, ломая пальцы, пыталась провернуть ключ и открыть дверь. Дверь распахнулась наконец, и она, слетев кубарем по лестнице, выбежала в холодную ночь босая, в одном платье…
Следующая картинка черно-белая: Рудик и клиент во дворе, Рудик показывает рукой на ее окно. Она ныряет за занавеску, подыхая со страху, тот смотрит, и его взгляд прожигает насквозь стену дома. Очень светлые глаза, жестокие, беспощадные. Они смотрят друг другу в глаза, и Татьяна понимает, что это приговор – она свидетель…
Она кричит и бьется, ночная рубашка влажна от пота; Марина прижимает ее к себе, уговаривает, шепчет…
– Он убил Зойку, а я боялась сказать, – всхлипывает Татьяна. – Я думала, может, она живая. И Рудик пропал – говорили, попал под машину. И тогда я убежала…
Марина укачивает ее, как ребенка, крестит, напевает тихо.
Глава 6. Взрыв
Жанне снилось, что мама умывает ее, сильно проводя шершавой рукой по лицу. Разве у мамы шершавые руки? Потом она почувствовала холод и открыла глаза. Стоял вечер. Небо было дымчатым, с городской розоватой подсветкой, и уже посверкивали остро две-три звезды. Она лежала на холодном и нетвердом, кажется, влажном, а рядом кто-то был. Она скосила глаза и вскрикнула – затылок пронзила резкая боль. Рядом стоял щенок-подросток неопределенного цвета, грязный, со свалявшейся шерстью, и смотрел прямо ей в глаза. Долгую минуту она рассматривала щенка, думая, что сон продолжается. Но это был не сон. Песик неуверенно подошел ближе, ему было страшно. Она по-прежнему не шевелилась. Он придвинулся еще и лизнул ее в лицо. Она удивилась, подумав: какой, к черту, щенок? Откуда здесь собака? И вообще…
Она попыталась встать, и тут же земля ринулась ей навстречу. Она застонала, оперлась руками о какие-то мокрые доски, и ее стошнило. Пока ее выворачивало наизнанку, пес стоял рядом, повизгивая от сочувствия. После рвоты ей стало легче. Она вытерла рукой рот и огляделась. Можно было рассмотреть какие-то сараи, горы мусора, засохшую траву и кусты. И все. Ни дома, ни человека. Рядом валялся разорванный пакет с продуктами. Еще дальше – ее сумочка, испачканная, белая с золотом, под плащ. Дождь, кажется, прекратился. Мысли ворочались вяло и глухо. Она перевела взгляд на плащ, одернула его на груди. Отметила с сожалением, что он безнадежно испачкан, а правый карман вырван с мясом. Жанна потерла лоб рукой, ощутила содранную кожу и запекшуюся кровь. Поднесла к глазам другую руку – сломанные ногти, рана на ладони. И только сейчас почувствовала боль. Во всем теле – в руках, в грудной клетке – дышать было трудно, – в коленях. В затылке пульсировало, и ее снова затошнило.
– Что случилось? – спросила она не то у себя, не то у собаки. Уперлась руками в доски и встала на колени, вскрикнув от боли. Медленно-медленно, стараясь не двинуть головой, поднялась на ноги. Покачнулась. Закрыла глаза, пережидая новый приступ тошноты. Провела рукой по лицу – почувствовала шершавое под пальцами. И поняла, что это засохшая кровь. Что же случилось? Около двенадцати она стояла на остановке в своем белом плаще, какая-то женщина внимательно ее рассматривала. Стайка девочек-студенток щебетала рядом. Кажется, шел дождь. Или перестал? Она увидела в небе голубую промоину – на сером фоне голубой радостный глаз. А потом появилась черная машина с треугольниками, синими и белыми… И больше ничего не осталось в памяти… Нет, был еще седой человек без лица. За стеклом. И светящийся красный… фонарик? И… что дальше? Машина ее сбила? А как она попала сюда?
Она стояла, покачиваясь, сжимая руками затылок, чтобы унять пульсирующую боль, морща от усилия лоб. Пес стоял неподалеку, не решаясь подойти.
Что случилось? Машина сбила ее, и седой человек привез ее сюда? Увез с остановки, потому что там были люди, которые могли запомнить номер. Так?
Он привез ее на пустошь, на свалку за город, и бросил умирать?! Думал, она не выживет, и уехал?
Она стояла, ошеломленная пониманием случившегося, все еще не веря, не желая принимать и соглашаться, и вдруг вскинула руки вверх и, потрясая разбитыми кулаками, пронзительно закричала. Ее вопль – жалкий, тонкий, отчаянный, как крик умирающего зайца, – далеко разнесся в пространстве. А-а-а! И еще раз, через боль в ребрах, в горле, в затылке – а-а-а-а!! Собака отскочила на безопасное расстояние, задрала голову и гнусаво завыла. Тогда Жанна опомнилась и перестала кричать.
Осторожно нагнулась, опасаясь нового приступа тошноты, подняла сумочку. Раскрыла: деньги, ключи – все на месте. Она не помнила, был ли в сумке мобильник. Сейчас его нет. Седоголовый забрал? Зачем? На всякий случай?
Она отряхнула плащ, застегнулась и побрела на городские огни, не имея ни малейшего представления, где находится. Идти было больно, правое колено перестало сгибаться. И каблук сломан, левый. Вспомнив о собаке, она оглянулась. Щенок шел следом. «Брысь! – сказала она. – Пошел вон!»
Жанна шла и думала короткими рублеными фразами в такт шагам: «Не может быть. Так не бывает. Это не со мной. Это не я. Не я… Не я… Не я…»
Она не знала, сколько прошло времени. Оно остановилось. Посмотреть на часы… Поднести руку к глазам ей было не по силам, а определять время по звездам она не умела. Кожу на лице стянуло, Жанна поминутно облизывала сухие губы. Пустырь закончился. Она вышла на шоссе. Каблук действительно был сломан. Левый. Она сняла правую туфлю и стала колотить каблуком об асфальт. Каждый удар отзывался в затылке, но боль стала глуше. Наконец каблук отвалился – теперь можно и домой. Удивительное ощущение – ноги как чужие. Щенок шел следом, и она больше не гнала его. Ее поразила мысль, что он видел. Он видел, как тот выбросил ее из машины. Выбросил живого человека умирать в мирное время. Просто так, взял и оставил, не проверив, жива ли. Не всякий выкинет собаку… а седой выбросил человека! Может, думал, что она умерла? Испугался? А если бы она не пришла в себя и действительно умерла? Возможно, на это он и рассчитывал? Не хотел возиться? Не хотел сесть в тюрьму?
Господи, сколько же стоит ее жизнь? Ничего не стоит! Ровным счетом ничего. Средь бела дня сбить человека, вывезти его за город и хладнокровно оставить умирать… И это человек? Гомо сапиенс? А потом он вернулся домой к жене и детям, сел за стол, выпил водки, чтобы снять стресс? Рассказал жене ночью в постели? Сказал, что сбил одну… у гастронома, увез на свалку и там оставил? А она сказала, правильно сделал – ей уже не поможешь, а тебе что же – в тюрьму? И они заговорили о другом…
…Жанна добралась домой глубокой ночью. К счастью, дорога до города ей была знакома. По ней ездят в дачный поселок, и она бывала там не раз. Спасибо, что не вывез в лес – оттуда ночью не выбраться.
Город был безлюден. Часы показывали два – ей удалось поднести руку к глазам. На остановке она стояла в двенадцать дня. Часы он с нее не снял, а мог бы – часы дорогие. Честный человек, не какая-нибудь шантрапа. Не разменивается на мелочи. Серьезный. Приговорил – привел в исполнение. А она, дрянь живучая, сбежала. Сбежала! Да если бы он предполагал такое, он бы… Он бы?! Мысль так поразила ее, что Жанна остановилась. Он бы… что? Контрольный выстрел? Бросил бы в реку? Глазам стало больно, и она расплакалась. Слезы были соленые, от них защипало кожу. Одернула себя – прекрати реветь! Но остановиться не могла.
Она вошла в гулкий подъезд, негромко подвывая и шмыгая носом. Вспомнила о собаке, снова вышла. Щенок был тут! Всю дорогу он плелся следом.
– Иди сюда! – позвала она. – Заходи!
Он не двинулся с места, только настороженно смотрел ей в глаза. А еще говорят, что животные не выдерживают человеческого взгляда. А этот… Жанна присела на корточки, охнув от боли. Колено взорвалось колючками. Протянула руки, позвала:
– Ну же, иди!
Щен нерешительно подошел, и она схватила его, покачнувшись, едва не шлепнувшись на землю. Он задергался у нее в руках, пытаясь вырваться, но она держала крепко. Зачем? Она не знала. В руках у нее билось живое, испуганное существо, с мягкими детскими косточками. Так они и пришли домой. В прихожей она отпустила его, и щенок тут же спрятался под вешалку. А она пошла в ванную. Из зеркала на нее взглянула… Господи! Да что же это такое? Страшное, черное от запекшейся крови, распухшее лицо, спутанные волосы, в которых застрял мелкий мусор. Смутная мысль – хорошо, что ночь! Никто не видел.
Она стала раздеваться, охая от боли. Ныло все тело. Колено раздулось и стало как колода. Сбитые локти, исцарапанные руки. Она ощупала ребра – говорят, они легко ломаются. Было больно, но терпимо. Может, обойдется. Пришла мысль – что же делать? Бежать в полицию? Звонить маме? Только не это! Кому? Ирке? Тете Соне? Нет! Стыдно! Ее почти убили, а ей стыдно! Да орать на весь мир надо! Стыдно! Бросили на свалке, как падаль. Стыдно.
А что седой – спит или наливается водкой? Отходит от стресса? Ему не страшно? Не стыдно? Он не боится? Почему не боится? Ведь есть же что-то! Не может не быть! Есть кто-то, кто видит и… ставит на счетчик! Нельзя же так просто отнять жизнь! Почему нельзя? Можно. Все можно. Все! Гром не грянет, никого не призовут к ответу. Седой неспроста так быстро сообразил, что делать – похоже, схема отработана. Любого, кто ему мешает, – в расход. Любого, кто опасен, – в расход. Свободен!
Страшно. Господи, как страшно! Ее затрясло. Зубы выбивали дробь. Она достала из шкафчика перекись водорода. Зашипела от боли, наблюдая, как пузырится, вздуваясь, белая пена. Подула на руки, помахала ими в воздухе. Открыла кран и застонала от облегчения – включили горячую воду. Профилактика закончилась, или взяли тайм-аут. Она погрузилась в ванну, закричав от боли.
Она лежала в воде закрыв глаза, впитывая тепло. И снова плакала, не зная, как жить дальше. Что делать?
Завернувшись в мужской махровый халат, синий в зеленые полоски, – осколок супружества, босая, она пошла на кухню. Достала из ящика нож. Подержала в руке, взвешивая. И представила, как бьет седого… в живот! В грудь! Снова в живот! Й-а-а-а!
Полиция? Кто докажет? Кто будет искать? Осталась жива – ну и радуйся. Скажи спасибо. Спасибо скажи, дура! Кому?
Она внимательно рассматривает нож с твердым зазубренным лезвием и агатово-латунной рукояткой – для мяса, производство «Fabrique a Thiers France». На рукоятке у самого лезвия фирменный знак – металлическая муха в натуральную величину. Подарок бывшего на день рождения. Женщине – ножи, такой вот оригинал! Не забыть потом стереть отпечатки пальцев. Чтобы не нашли. Посмотреть седому в глаза. Она не помнит лица, только белые волосы, но он-то ее помнит! Он вспомнит, когда придет время, не может не вспомнить…
Она кладет нож на стол, достает из буфета бутылку коньяку, наливает в чашку. Пьет залпом, содрогаясь от отвращения. Хмель ударяет в голову мгновенно. Часы бьют четыре. Чашка падает на пол и разбивается. Жанна, покачиваясь, бредет в спальню, падает на кровать и проваливается в никуда.
…Жанна проснулась от пронзительного телефонного звонка. За окном солнце и день-деньской. Она нашаривает мобильник – оказывается, он дома, вчера она забыла сунуть его в сумку. С седого можно снять обвинение. Оправдан. Не вор, честный человек. Честный убийца.
Мама. Спрашивает, как прошел первый день отпуска, голос нарочито радостный – моральная поддержка. Сначала мать пыталась объяснить, что развод – не конец света, жизнь продолжается, все еще будет, какие твои годы! Потом прикрикнула, потом испугалась, и в голосе ее появилась эта нарочитая жизнеутверждающая радость. Она просто не знала, что делать. Бедная мамочка! «А ты – свинья! – подумала Жанна о себе. – Ты можешь сделать ей приятно и не взваливать на нее свои проблемы? Не корчить кислой физиономии в ответ на вопрос «как дела»? А наоборот, бодро ответить: «Отлично!» И не сидеть каменным истуканом на родительском диване, подпихнув под себя подушку, отмахиваясь от вопросов, как от назойливой мухи, а похлопотать на кухне, выкладывая в вазочку принесенное печенье? Приготовить чай?
Почему мы не кричим о своей любви? Ведь так легко опоздать.
Как прошел первый день отпуска? Хорошо! Просто отлично! А сегодня будет еще лучше – дождь наконец прекратился! Не хочешь в кино, спрашивает мама осторожно, напуганная ее энтузиазмом. Только не сегодня, отвечает Жанна, на сегодня она договорилась с Иркой…
Мать довольна – у дочки веселый голос. Маме хочется сказать – еще не вечер, все будет хорошо, но она только вздыхает, и Жанне вдруг кажется, что мама ее побаивается. Мама, всю жизнь проработавшая участковым врачом, с ее скромной пенсией, робеет и побаивается удачливой, самостоятельной, богатой дочки. От жалости у Жанны сжимается сердце, щекочет в носу, и она говорит: «Мамочка, я тебя очень люблю». Та замирает на миг, а потом говорит: «Я тебя тоже очень люблю, Жанночка, девочка…»
Кажется, она снова собирается заплакать. Лицо болит, ноет разбитое тело. Услышав шорох, Жанна испуганно поворачивает голову и видит на кровати рядом с собой давешнюю собаку, щенка со свалки, ее нового знакомого. Он делает вид, что спит, скрутившись в клубок, подглядывает одним глазом, готовый вскочить и убежать при малейшей опасности. Неимоверно грязный – настоящий пес со свалки – на золотистом атласном покрывале. Ты была вчера не лучше, говорит она себе. А ты, чучело, мог бы и на коврике поспать, не велик барин! Она встает, охнув, сгребает щенка и тащится в ванную. Пес не вырывается, только его бьет крупная дрожь. Тоже боится? Но смирился, похоже. Признал ее за старшего. Колено болит меньше и, кажется, сгибается. И ребра вроде отпустило. Свет мой, зеркальце, скажи… Из зеркала на нее смотрит отвратительная распухшая синяя физиономия. Руки в синяках и царапинах прижимают к груди грязную собаку.
Ирония-то какова! Бывший муж всегда хотел завести собаку, он не хотел ребенка и мечтал о песике. А она не желала ни ребенка, ни собаку. Какая-нибудь болонка – несерьезно, а большая – воняет псиной! Теперь у него есть здоровенный дорогущий кобель, и новая мадам ждет ребенка. Ей сказали. А у нее, у Жанны… У нее теперь тоже есть собака, не болонка и не здоровенный дорогущий кобель, а экономных размеров неизвестно кто. Со свалки. Каков поп, таков и приход.
В носу щиплет, глаза наливаются слезами. Они льются сами по себе, как вода из крана. Стекают по щекам и капают с подбородка. Щен вдруг изворачивается и лижет ей лицо шершавым языком. Она с воплем отшатывается: «Брысь!» И ей приходит в голову, что он ее жалеет… Дожила!
Жанна садится на край ванны, не выпуская щенка из рук. Она чувствует, как колотится его сердце. Живое существо. Совсем как человек.
Она купает щенка, а он, перепуганный, терпит, не пытается удрать. Жанна чистит щеткой его когти, поднимая одну за другой лапы. Она заворачивает его в полотенце, протирает уголком глаза. Как же тебя назвать, бормочет она. Какое имя подходит дворянину со свалки? Шарик? Бобик? Цезарь? А может, это вообще девочка? Она разворачивает полотенце – нет, кажется, мальчик. У него жалкий, розовый, беззащитный живот, почти без шерсти, и крошечный перчик. Мужик, однако!
– Будешь Максом! – решает она. Почему Макс? Из каких глубин памяти всплыло странное, совсем не собачье имя? Кто поймет… Максимилиан! Как этот актер… как его? Шелл! Максимилиан Шелл! Незатейливо, но со вкусом.
– Пошли, Макс! – зовет она, и он бежит за ней на кухню. – Яйцо будешь? – спрашивает Жанна.
Пес кивает. Он голоден как собака. Он готов съесть все, даже кухонное полотенце!
Холодильник пуст по-прежнему, ничего не изменилось со вчерашнего дня. Жанна с сожалением вспоминает рассыпанные продукты – там, на свалке. Нужно было подобрать! Хотя… Она смотрит на Макса, который отвечает ей преданным взглядом. Хотя вряд ли там что-нибудь осталось. Спаситель! А ведь если бы не он, она вполне могла не проснуться, приходит ей в голову. Так ли это, нет ли – кто теперь может сказать? Собака святого Бернара, хмыкает она. Макс, мелкий и невыразительный, отрывисто вздыхает, напоминая о себе впавшей в транс хозяйке.
Она варит ему два яйца, он проглатывает их горячими. Пошарив, она находит голубцы в жестянке, неизвестно каким чином оказавшейся в буфете. Голод не тетка, сойдут и они. Она с отвращением ест голубец, отдающий хлоркой, и рассматривает большой нож с зазубренным лезвием, лежащий перед ней. Берет его в руки, пробует пальцем острие. Со стуком вонзает нож в стол, смотрит на неглубокую ямку в пластике.
Посидев, бредет в прихожую, комкает белый испорченный плащ, сует в полиэтиленовый пакет и прислоняет его к двери. Выбросить и забыть…
Глава 7. Ненависть
Я убью его! Этим ножом с зазубренным лезвием и мухой в натуральную величину рано или поздно, под старость или в расцвете сил. Найду и убью. Я не убийца, я гуманный человек, не брошу его умирать. Я просто его убью. Сразу.
Я найду его рано или поздно, под старость или в расцвете сил. Я помню три буквы на капоте его большой черной машины. Черная машина, три буквы, седая голова. Чего еще? Более чем достаточно. Еще красный шарик-фонарик на нитке, болтается на стекле туда-сюда.
Я встречу его на улице, в подъезде, в лифте, пойду следом и убью. И рука не дрогнет! Око за око, зуб за зуб. Не буду ждать до Страшного суда, когда каждому воздастся. Божья мельница мелет медленно, человеческий суд рядится быстрее. Я буду судьей и палачом. Он – вчера, я – завтра. Хочу увидеть его лицо и глаза. Хочу упиться его испугом, пониманием того, что сейчас произойдет.
У него в том районе офис, дом, гараж. Или, или, или. Он попал туда неслучайно. Оттуда и начнем. Торопиться некуда, сначала нужно все обдумать, я это умею – думать и планировать, недаром ведущий менеджер. Я его вычислю и закажу. Поставлю на счетчик. До конца отпуска полно времени. А если не хватит, тоже не беда, добавим.
Жанна не заметила, как доела голубцы. Ну и гадость! Гастроном внизу работает до часу ночи. Когда стемнеет, нужно будет выйти. Намазаться и не забыть черные очки. Хлеб, масло, молоко, сыр. Мясо. Побольше – раз в доме появился мужик. А когда сойдут синяки – на охоту за зверем. Побежит он на ловца, никуда не денется. Ни-ку-да.
Стемнело. Она уселась перед зеркалом, разложила рядом кисточки и тюбики, внимательно рассмотрела изувеченное лицо. И стала наносить краску. Синюю, серую, беж, малину – пока не скрылись царапины и синяки. На руки – перчатки. Брюки и свитер с длинными рукавами. Черные очки. Маскировка готова.
Она шла в супермаркет, но ноги сами понесли ее туда, на остановку. Сейчас там было пусто. Кто-то одинокий сидел на скамейке. Она поискала глазами место, где стояла вчера. Никаких следов происшествия – ни поломанных кустов, ни разбитого киоска. Она упала, наверное, собрались люди, кто-то закричал, чтобы вызвали «Скорую». А он растолкал всех, кивнул парню рядом – помоги, мол, мужик, и увез ее на глазах всего честного народа. Собирался в больницу, а потом передумал, или с самого начала знал, что сделает?
Пронзительное чувство унижения, протест и возмущение притупились. Жанна смотрит на место, где упала вчера, шарит взглядом по асфальту, словно надеется увидеть нечто, что прояснит… объяснит хоть что-нибудь. Ничего. Пусто. Может, расспросить людей? Там были девочки-студентки, они не могли не запомнить… Колледж рядом. По недолгом раздумье она отметает эту мысль. Не стоит оставлять следов. Никаких свидетелей, никаких вопросов. Ничего, что навело бы на мысль о ней… потом, когда она убьет его. Она хмыкнула – если Бог позволит ей убить седого… значит, он не против. Позволил, выдал.
А если у седого семья, дети… воззвал смиренно голос разума. Замолчи! Ничего не хочу знать! Нас только двое – он и я. Даже не хочу знать, как его зовут. Если его не убью, я не смогу жить дальше.
Оглушив себя стаканом коньяка, Жанна беспокойно спит. Ей снится тоскливый бесконечный сон…
…И началась охота. Жанна неспешно гуляет по городу, высматривая черную машину с логотипом: синие и белые треугольники и буквы «BMW». Черных джипов «BMW» в городе, оказывается, совсем мало. За три дня ей не попался ни один. Через плечо висит нарядная бирюзовая сумка, в ней – твердый мясницкий нож. Время от времени Жанна опускает в сумку руку, нащупывает нож, холодные его зазубрины и муху в натуральную величину.
Проходит неделя, вторая. Она как заведенная кружит по городу. В шесть утра выводит Макса, кормит, варит себе кофе. И уходит как на дежурство. Макс уже вполне освоился, привык к ошейнику и поводку. Ждет ее возвращения в прихожей – заслышав, начинает скулить. Радуется, облизывает руки, хвост – ходуном. Бежит на кухню к своей миске. Она падает на табурет. Колено словно налито свинцом. Еще один пустой день.
Жанна похудела – диет не нужно, осунулась, щеки ввалились. Она подолгу смотрит на себя в зеркало – и не узнает. Чужая женщина глядит на нее из зеркала. Он меня убил, думает она. Он убил, но я не умерла. Или все-таки умерла? Кто я теперь? Звонит мама, звонит рыдающая Ирка, даже тетя Соня. Звонят с работы. Маме она отвечает, она из той жизни, где Жанна была еще жива. Мама тянет ее на выставку, в парк, в кино, она всегда была непоседой. Жанна испытывает пронзительное чувство любви к маме, любовь, сожаление и как бы удаленность – мать осталась здесь, а она, Жанна, – ушла за грань и бредет теперь в никуда. К светлой цели. Не смогу жить, думает она, стискивая кулаки. Жить, высматривая его в толпе…
Ирке, тете Соне и коллегам с работы она попросту не отвечает. Жанна слушает Иркины вопли на автоответчике, и ничто в ней не вздрагивает. «Ты была права, – рыдает Ирка по десять раз на дню, – он подонок! Он свалил в Непал, а ведь обещал в Эмираты! Жанка, ты где? Жанночка! И мобильник не отвечает! Обиделась? Мне хреново! Если бы ты только знала, как мне хреново! Жить не хочется! Нажрусь таблеток, пусть знает, засранец! Эй, ты где?»
С работы просят перезвонить, не могут найти файл. Они никогда не могут. Жанна и не думает перезванивать – все это так далеко, так мелко, не нужно! На что тратится жизнь…
Еще неделя. Пусто. Через пять дней заканчивается отпуск. Жанна полна решимости, ненависть клокочет в ней, в мозгу крутится навязчивая картинка – он оглядывается по сторонам и выбрасывает ее из машины. Она в своем белом плаще падает в грязь и мусор. С разбитым, окровавленным лицом, с изувеченными руками. Следом он выбрасывает пакет с продуктами и белую с золотым ключиком на цепочке сумочку. Осматривает сиденье – нет ли крови. Достает тряпку…
Снова внимательно оглядывается и уезжает. А она остается подыхать… Картинка крутится с назойливостью рекламного клипа. И все время новые подробности – вот он нагнулся, заглянул ей в лицо… Вот он оглянулся – острый взгляд, сжатые губы… Страшные глаза… Серые. Или желтые. Или черные. Пригладил седые волосы… Посмотрел на руки… Достал носовой платок, вытер лицо и руки. Взглянул на нее? Подумал… что? Или ни разу не взглянул? И ни о чем не подумал? Ей хочется кричать…
…Вечером – привычный уже коньяк. Наркотик, болеутояющее, отупляющее. Заканчивается отпуск. Миссия невыполнима.
Гора реклам и газет из почтового ящика. Вон! Выбросить завтра же. Почистить, помыть, выкинуть ненужное, начать новую жизнь. И продолжать искать. Без фанатизма. Жизнь длинная, успеется. Еще не вечер! Еще не вечер, черт подери!
Реклама, дешевый серый листок, купить – продать, опт – розница. Стоп! А это что? Услуги по розыску людей, установлению личности, поискам должников, утечке бизнес-информации… супружеской неверности… конфиденциальность гарантируется. Частный детектив!
Розыск людей!
Она тянется за мобильным телефоном. Водя пальцем по объявлению, набирает номер. Замирает, дойдя до последней цифры. Нужно подумать.
Макс смотрит внимательно, склонив голову. Все понимает, только сказать не может.
– Макс, что нам делать?
Он, шумно вздохнув, вскакивает и снова садится. Весь в сомнениях.
«А ты не могла бы наплевать? Меня тоже обижали, – написано на его морде школьника-отличника. – Все проходит, поверь, все проходит. Надо жить дальше».
Надо, кто ж спорит? Вопрос – как?
Жанна смеется – теперь их двое в лодке. Она и бывший беспризорный щен. Его обижали, ее – обидели. Она треплет его по голове, тянет за уши. Он радуется, прихватывает мелкими острыми зубами ее руку.
– Звоним?
Макс поднимает уши и задумывается.
– Выбрасываем на пальцах! Хватай!
Она подставляет ему растопыренную пятерню, и Макс кусает ее за указательный палец. А что это значит?
Указательный палец набирает номер. Там сразу откликаются…
Глава 8. Шибаев и Алик
– С чего бы ты начал розыск человека? – спросил Шибаев Алика, когда они уселись ужинать. – В большом городе.
Сегодня дежурным по камбузу был Дрючин – адвокат по бракоразводным делам, как мы уже знаем, друг и сожитель частного детектива Александра Шибаева. Сожитель в том смысле, что, пребывая временно в статусе холостяка, он оставался ночевать у Ши-Бона – ленился ехать домой, да и веселее вдвоем. С этой точки зрения Алик приветствовал развод друга, хотя не одобрял. Кроме того, он побаивался экс-половины Шибаева Веры, которая его не жаловала и не скрывала этого. Хотя и уважал. «Уж очень она у тебя… правильная, аж страшно!» – говорил он Шибаеву, выбирая самые нейтральные выражения, щадя его чувства. Он так и не поверил до конца, что Александр переступил через развод, ни о чем не жалеет, и с чистой совестью… насколько это возможно в его ситуации… гм… не обремененный грузом воспоминаний и сожалений, устремился в новую жизнь и окунулся с головой в работу частного сыщика, ненавидимую от всей души за мелочность и неглобальность задач. В свое время они даже поссорились, когда Алик, литературно и ораторски одаренный, как все адвокаты, составляя объявление об услугах частного детектива, упомянул в их числе «установление супружеской неверности». Шибаев тогда схватил хлипкого Алика за грудки и прошипел:
– Никогда, слышишь, никогда! Шестерить, шпионить – ни-ког-да! Понял?
Алик хладнокровно стряхнул с себя руки друга и процедил:
– Таковы правила игры, Сэм. – Валяя дурака, притворяясь крутыми ковбоями, они называли друг друга Сэм и Билл, или Эл и Джек, или еще как-нибудь в масть, хотя Шибаев и считал, что с фамилией «Дрючин» кличка без надобности. – Бабки не пахнут! Установление супружеской неверности такой же бизнес, как и всякий другой. Так что попрошу!
Шибаев смирился – а куда денешься? Не каждый день обламываются командировки в Америку[2], не каждый день человеку фартит. После его нью-йоркской поездки прошло полтора года, и надежда, что его услуги серьезного сыскаря понадобятся снова, растаяли без следа. Почти растаяли – известно, что надежда умирает последней. Он был как волк, которому приходится питаться падалью или травой, чтобы не помереть с голоду. Он сам, своими руками, поставил крест на собственной карьере, проколовшись на… не хочется и вспоминать! И теперь до конца жизни пробираться ему сомнительными кривыми дорожками мелкого соглядатая и шестерки. Права была бывшая, упрекавшая его за никчемность…
– Розыск человека? – переспросил Алик. – Какого человека?
– Любого. В данном случае мужчины. Меня попросили найти мужика. Дано: внешность и машина. Причем машину описывала женщина. Правда, она принесла картинку из Интернета, но я очень сомневаюсь.
– Молодая?
– Молодая.
– Зачем она его ищет?
– Говорит, забыла в салоне рукопись романа. Он ее подвозил, а она оставила на сиденье пластиковую сумку с рукописью. Видела его впервые, номер тачки не запомнила.
– Она писатель?
– Вряд ли. Она соврала про рукопись.
– Откуда ты знаешь? – удивился Алик.
– Сначала она сказала – бумаги. Ни один автор не назовет свой роман бумагами. Так я понимаю. Бумаги – это отчет. Вначале она имела в виду «отчет», а потом решила, что он может стать опознавательным знаком, перестраховалась и сказала «роман».
– Не факт.
– Имя она тоже назвала вымышленное, адрес фальшивый. Все вместе – факт.
– Ну, то, что скрыла имя, ни о чем не говорит. Народ сейчас осторожный и пуганый. А зачем этот тип ей нужен?
– Зачем-то нужен. Она могла попросить меня найти его и забрать… у него рукопись. Но ей нужна только информация, разбираться она будет сама. И я почему-то думаю, что рукописи не было. Ничего не было.
– Может, она хочет познакомиться с ним поближе? Он ее подвез, понравился…
– Если бы так, то она сразу спросила б у него номер телефона. Это делается проще. Поставь себя на место молодой женщины, которую подвез домой не очень молодой мужчина…
– Он не очень молодой?
– Она сказала, лет сорока пяти примерно. Седой, крупный. И еще. Женщины обычно наблюдательнее мужиков, сам знаешь. Они видят даже то, чего нет, и обращают внимание на всякие мелочи. Форма носа, цвет глаз, руки, подбородок, обручальное кольцо, галстук и так далее. А тут только седые волосы, примерный возраст и черная машина. И красный светящийся шарик на зеркале раскачивается. Все. И распечатка из Интернета с машиной. Сказала, у него такая же, как на картинке, «BMW».
– И о чем это говорит, по-твоему?
– О том, что она видела его издали. Не думаю, чтобы он ее подвозил.
– А зачем он ей тогда?
– Черт ее знает. Возможно, она свидетель, видела его в… нестандартной ситуации.
– Думаешь, шантаж?
– А ты что думаешь?
Алик пожал плечами.
– И что ты собираешься делать?
– Искать. Я же сыщик. Мне заплатили, я нашел. Точка.
– Красивая?
– Ничего. Самоуверенная, держится высокомерно. Очень серьезная, ни разу не улыбнулась. Сильно накрашена, без маникюра. В затемненных очках. Без украшений, одета дорого.
– И о чем это говорит? – Алик настороженно уставился на Шибаева. – Что она без украшений? Что ты хочешь этим сказать?
– Повторяю: сильно намазана, без украшений, без маникюра.
– И что? – недоумевает Алик.
– Это может говорить о серьезности намерений. Откуда я знаю, что хочу сказать. Но чувствую… как бы тебе это… – Он положил вилку на стол и задумался.
– Цельная натура, не до украшений, что-то случилось, потеряла к ним интерес. Да?
– Видишь, ты и сам все понимаешь. Примерно. И она сильно намазана.
– Да при чем тут «намазана»? – вскричал Алик, всплескивая руками. – При чем?
– Похоже на маскировку.
– На маскировку? Какую маскировку?
– Мне показалось, у нее синяк под глазом и царапины. Сколько нужно времени, чтобы исчез синяк, как по-твоему?
– Ну… зависит от его размера и силы удара. Недели две, я думаю. Или больше.
– Я тоже так думаю.
– Ты считаешь, это он ее?
– Откуда я знаю? Может, и он.
– И она хочет его… заказать?
Шибаев промолчал.
– А как ты его найдешь?
– Уже нашел. Элементарно. Пробил по базе данных ГАИ, таких машин в городе восемь. Черных – две. Просмотрел данные владельцев. Подходящий один. Его зовут Николай Степанович Плотников, владелец фирмы «Электроника-импорт».
– Ты ей уже звонил? – Алик сделал вид, что не услышал про базу данных ГАИ.
– Пока нет. Позвоню… сегодня.
– Ши-Бон, а может… – Алик замялся. – Может, не надо спешить, а? Потяни время, прислушайся к интуиции, у тебя же нюх. Ты сам говоришь, здесь что-то не так.
– Алик, успокойся. Не нужно быть таким пессимистом. Ты еще скажи, чтоб я сдал ее в ментовку. Это не моя задача. Картошка несоленая, между прочим.
– Много соли вредно, – ответил Алик. – Я бы на твоем месте подумал.
– Когда будешь на моем месте, тогда и подумаешь. За что пьем? Давай за погоду! А то этот дождь уже достал. Лето, блин!
Шибаев не сказал Алику, что вычислил также и заказчицу, не хотел ставить трепетного адвоката перед роковым выбором – убедить его, Шибаева, ввязаться, проследить, выяснить… или закрыть глаза. Что делать с добытой информацией, он пока не решил. Да и пошел за клиенткой скорее по привычке ищейки не оставлять ничего недосказанным, а когда увидел машину, запаркованную за два квартала от его офиса, понял, что поступил правильно, и от всей на первый взгляд невинной истории смердит жареным. Он вычислил ее по номеру машины. Имя, адрес, место работы. Аккуратно записал, положил в ящик письменного стола. Что делать дальше – покажет время. По обстоятельствам. Он допускал, что может опоздать, но считал, что время для маневра у него пока есть.
А с другой стороны, он занимается частным сыском, и в его задачи не входит выяснять, что именно клиент собирается сделать с оплаченной информацией. Формула «заказ – товар – деньги» не предусматривает глубокого бурения и моральной составляющей. Другими словами: не лезь куда не просят! Доложился – и свободен.
Он накладывал себе жареной картошки, пил водку и беседовал с Аликом о международной обстановке, а в сознании крутились большие и маленькие шестеренки мыслительного процесса, итог которого можно выразить единственной фразой: что делать?
Глава 9. Возвращение
Татьяна шла по городу, испытывая волнение и радость. Два года, целых два года – и столько перемен. Новые магазины, шикарные витрины, роскошно одетые манекены. Жизнь в городе продолжалась, а ее жизнь стояла на месте. Она останавливалась у каждой витрины, рассматривала с удовольствием одежду, сознавая, что сама одета плохо и бедно. Цены… конечно! Но если найти работу… Она вдруг с особенной остротой поняла, как соскучилась по всему этому! Как хотелось ей вернуться, как она скучала… Марина сказала, иди поживи, теперь ты можешь выбирать. Татьяна чувствовала, что уже выбрала. Небогатая Маринина хата, Городище… старое, в лесу, жизнь без магазинов и электричества, без кино, кафешек, красивых шмоток – все это отодвинулось, казалось временным и чужим.
…Марина повела ее в лес. Не в Городище, а «на Городище» – тоже странность. Татьяна ожидала увидеть руины, остатки крепостных стен, но ничего этого не было и в помине. Были поляна и лес вокруг. И несколько замшелых валунов по периметру. А вокруг – белые березы и осины, лещина с молодыми, еще зелеными, гроздьями орехов, благоухающие соцветия бузины. И колодец посередине, едва заметный, сложенный из дикого камня, «придавленный» временем, мелкий, без видимого дна – оттуда поднимались мощные стрелы дудника. От него пахнуло на Татьяну такой седой стариной, что захлебнулось сердце, и она остановилась, переводя дыхание.
В колодце не было воды, и Марина объяснила, что он высох – источник ушел. А может, и не было его вовсе. Чуток в стороне есть еще один, и там могла быть вода. Только в одном. А второй… сухой. Зачем, не поняла Татьяна. Зачем нужен сухой колодец?
– Колодец – ход в другой мир, – объяснила Марина.
– Куда? – не поняла она.
– Колодец – это связь, вход, понимаешь? И жертвы ему приносят – бросают мак, деньги, соль. Обмывают младенцев водой из него, особенно на праздники – от судорог, кланяются, просят здоровья, удачи и защиты от нечистой силы. На Троицу обкладывают татарским зельем и обливаются водой в полнолуние. Вода в полнолуние имеет большую силу.
– Как я… тогда?
– Как ты.
– А сухой?
– Сухой тоже.
– Но зачем?
– А где, по-твоему, копают колодец? – спросила Марина.
– Ну… где источник.
– Да, где источник. А сухой – для дождевой воды. Чтобы собирать ее. В ней своя сила.
– Так колодец – это магия? Если вокруг него совершают обряды…
Марина пожимает плечами:
– Все, что человек не понимает, магия. Травы – магия. Полнолуние – тоже магия. А ты знаешь, что если собрать травы на Ивана Купалу, то они крепче действуют? Чем не магия? Да и старые обжитые места, вроде нашего Городища, тоже магия. Ты спрашивала, если заболеет кто, куда бежать? Так вот, скажу тебе, что не болеют здесь, поняла? Катя сестру привезла, эпилепсия у нее, припадки были частые, разбивала в кровь голову, а у нас не было ни одного. Оришка старая ни разу не посещала врача, все на травах да на воде местной. До девяноста двух дожила в трезвой памяти и крепости духа. Знаешь, я иногда думаю, что время у нас стоит… как стало тыщи лет назад, так и не продолжается больше. Вроде шара или пузыря. Или кармана. Ученые, что приезжали, говорили, тут карстовые карманы под землей. У нас гора есть невысокая, из громадных валунов составлена – сходим потом, покажу, – их ледником пригнало, пещеры там и, говорят, еще бездонные шахты – карманы. Еще говорят, что люди там прятались от татар. Правда ли, нет ли… никому то не ведомо. Если бы спуститься и посмотреть, но лучше ничего не трогать, да и некому.
У нас течение жизни другое. Электричество провели лет пятьдесят назад, да все перебои были, все выбивало, пока совсем не пропало. Не нужно оно тут. Природа протестует, не хочет насилия – в городе ее обуздали, а здесь она хозяйка. Часы вот тоже останавливаются.
Ты говорила, а что, если война… как мы? Так было ж воен немерено, орды приходили, да и гинули, а Городище оставалось нетронутым. Тут и курорт хотел строить один богатей, привозил ученых, якобы источники у нас целебные и вода в речке тоже – родники со дна бьют, анализы брали, жили чуть не месяц – каждый день гулянки, водка, блуд.
– И что?
– Плохо кончилось. Самый главный исчез без следа, а остальные собрались в одночасье и съехали. И с тех пор никого не было. Шесть лет уже. Да и с профессором беда случилась, я тебе говорила.
– Как он исчез?
– Кто ж знает как. Тут топи есть, кто не знает, лучше не соваться. Не дай бог, провалишься. А может, кто из своих прибил – женщину не поделили, или еще чего. Лес все скроет.
Марина смолкла. Наступила пауза. Тишина стояла удивительная, только лес негромко шумел…
– Положи руку на камень, – сказала вдруг Марина. – Вот сюда. – Она показала на край замшелого грубо обработанного камня в стене колодца. – И закрой глаза. Слушай!
Татьяна послушно положила руку на теплый шершавый булыжник, закрыла глаза.
Негромкое пошумливание леса стало чуть громче, словно проявилось. Жужжали насекомые. Оглушительно пахли цветы бузины. Татьяне казалось, что камень под ее ладонью слегка пульсирует. Как живой.
– Повторяй за мной, – говорит Марина. – Прошу покоя. Говори!
– Прошу покоя, – покорно повторяет Татьяна.
– Каюсь в грехах вольных и невольных…
– Каюсь в грехах вольных и невольных…
Она повторяет, испытывая странное чувство оторопи, игры, действа «понарошку». Камень под ладонью бьется, как живой. «Язычество какое-то!» – думает она и послушно повторяет.
– Защити и спаси… – негромко, нараспев выговаривает Марина.
– Защити и спаси… – нараспев, невольно следуя ее интонациям, повторяет Татьяна.
– Теперь брось что-нибудь, – говорит Марина. – Вроде как подарок.
– Бросить? У меня ничего нет!
– Подумай.
Татьяна нерешительно расстегивает золотую цепочку с голубым камешком, медлит секунду-другую – жалко, – и бросает в колодец. Цепочка с легким шелестом проваливается сквозь толстые стебли и листья дудника…
Марина смеется дробно.
– Теперь связана цепью и золотом, причастилась! Не жалей, не убудет.
…Они собирают травы. Марина рассказывает о каждой. Потом ведет Татьяну на земляничную поляну, красную от ягод и белую от мелких цветов. Татьяна замирает от невиданной красоты.
В эту ночь и последующие ночи она спит спокойно, ей ничего не снится…
…Она поднимается на свой пятый этаж по заплеванной лестнице, звонит соседке Лизе Евдокимовне. За дверью движение, ее рассматривают в глазок. Голос Евдокимовны неуверенно спрашивает:
– Танюша, ты?
– Я, теть Лиза, – отвечает она, чувствуя, как перехватывает горло. – Откройте!
Дверь немедленно распахивается, и Евдокимовна, постаревшая и растолстевшая, обнимает ее.
– Танечка! Приехала! Да где ж ты была, родная? И соседи спрашивают, а я не знаю! Боялась, не случилось ли чего. – Соседка даже заплакала от потрясения.
– Не случилось. Вот, вернулась. Не плачьте, тетя Лиза. А Лена все еще живет у меня?
Лена – дочка Евдокимовны. Когда Татьяна сказала, что уезжает, та попросилась пожить, а то от матери житья нет, совсем задолбала.
– Ленка вышла замуж, да они уехали, дом купили в деревне. Сад, огород… Год уже, почитай.
– А как вы?
– Я? Ну как… здоровье сама знаешь какое в мои годы. Ты насовсем?
– Да, тетя Лиза. Насовсем. Найду работу, и заживем.
– Ты не голодная? А то пошли, накормлю! Я борщ сварила.
– Город очень изменился, – говорит Татьяна, когда они сидят за столом. – Я шла пешком с вокзала.
– Разве? Не заметила, – отвечает Евдокимовна. – Да я и не выхожу почти. Только разве в магазин. Да и куда идти? Кино – дома по телевизору, девочки иногда зайдут, посидим, маму твою помянем. Рано ушла… – вздыхает соседка. – А ты как? Замуж не вышла?
– Не вышла.
– Трудно сейчас найти человека, мужик нынче балованный, до денег жадный. Ленкин, ничего плохого не скажу, работящий. А работа на селе – не приведи господь! Пока молодые – хорошо, а потом? Я у них гостевала, огород обихаживала… Я тебе так скажу, Татьяна: не нужны мне ихние ранние огурцы и редиска, чтоб так корячиться!
Татьяна вспоминает обильный огород Марины и непроизвольно вздыхает.
– По мне город, хоть какой, а лучше. Свое отработала – и отдыхай, а на селе – без продыху! И ночью и днем, с утра до вечера! Ленка дурная, любовь у них, и еще эта… эко-ло-гия! Все без нитратов. А по мне – пускай нитраты, не помер Гаврила, так болячка задавила. Зато в окно гляну, а там – двор, люди ходят. Участковая врачиха придет, давление померяет, аптека рядом. Мы городские, нам тут и помирать. Не приживаемся мы там.
«Вот и я не прижилась, – думает Татьяна. – Вернулась».
– Ты уже надумала, куда на работу?
– Нет пока. Посмотрю объявления.
– Хочешь, позвоню Ленкиной подружке? Хорошая девка и с головой. Может, им люди нужны.
– Позвоните, тетя Лиза, конечно.
– А где ж была почитай два года? – спрашивает Евдокимовна, сгорая от любопытства.
– Жила в деревне.
– В деревне? – Соседка смеется. – Видать, несладко жилось, раз прилетела назад. Не люблю деревню – грязь непролазная, горячей воды нету, дорог нету… пойти некуда, клубы и те, говорят, позакрывали. Народ темный…
Татьяна краснеет, вспомнив Марину. Она чувствует невольную вину за то, что теперь вроде как с Евдокимовной заодно, и досаду против соседки – подумаешь, барыня городская! Всю жизнь проработала на ткацкой фабрике вместе с мамой, копейки считала, всю жизнь в спальной хрущобе, а туда же… Но и права соседка, нельзя не признать. Ей, Татьяне, тоже не хватало города с магазинами, чистыми тротуарами и телевизором…
Глава 10. Результат
Жанна шла на разведку, сжимая в руке бумажку с адресом. Сыскарь не подвел, справился на удивление быстро и ни о чем не спросил. Протянул листок с адресом, сунул какой-то квиток, где она расписалась – изобразила нечитаемую закорючку. Ее трясло, она держалась из последних сил – сыскарь хоть и не производил впечатления мощного интеллекта, тем не менее мог что-то заподозрить. Спокойно, спокойно… прощаемся, благодарим и – вон! Теперь к машине, запаркованной за два квартала для конспирации. Усевшись за руль, она закрывает глаза. Ей хочется броситься на пол, забиться в истерике, колотя пятками в резиновый коврик, и закричать от злобной радости…
…Она идет по его адресу, он живет на противоположном конце города в парковой зоне. Идет пешком, растягивая удовольствие – последние минуты перед… штурмом. Улыбается. С трудом сдерживает смех. Чувствует себя счастливой впервые за последнее время.
И вдруг… за два квартала до нужной улицы она натыкается на черный джип с синими и белыми треугольниками на капоте! Несмотря на страстное ожидание – неожиданно. Машина стоит на светофоре, а за рулем – седой убийца. Лица не рассмотреть, но это неважно. Она знает, что это он. Она провожает взглядом черный «BMW», отмечает переулок, куда он свернул. Номер врезался в память навсегда. Жанна громко смеется. Сует руку в сумку, нащупывает нож – зазубрины колют пальцы. От радости начинает кружиться голова, и она присаживается на первую попавшуюся скамейку. Закрывает глаза. Облегчение, усталость – ей страшно хочется спать. Ей хочется улечься прямо здесь и уснуть. Зверь попал в капкан. Почти попал. Все!
…Она уже знает, где он живет. Знает дом, подъезд, этаж. Она проехала с ним в лифте, он вышел на четвертом. Крупный, холеный, с седыми волосами, лет пятидесяти. Козырный, с запахом приятного парфюма. Она стоит рядом с ним, нагнув голову – нельзя, чтобы он ее узнал. Не время. Она с трудом сдерживает дрожь, сцепляет зубы. Сует руку в сумку и нащупывает нож. Сжимает так, что больно пальцам, едва не вскрикивает. Скользит взглядом по его груди, животу – примеривается. Она уже решила, что ударит в живот. Потом в грудь и снова в живот. После чего – нож в полиэтиленовый мешок и… Нож она выбросит с моста прямо в пакете. Или нет, не так – нужно вытряхнуть его из мешка… пусть вода смоет отпечатки! В квартире она осмотрит одежду, а лучше – выбросит, причем подальше от дома. В тот же день. Или ночью.
И тут он выходит из кабины, приветливо кивнув, а она остается.
…Она лежит в теплой воде, думает. Макс сидит на коврике рядом. Он как императорский пес, которому позволено присутствовать на церемонии царственного омовения. Он поправился, шерсть лоснится. Солидный ошейник придает ему шарма. В нем уже не узнать бродяжку со свалки. И манеры изменились – он перестал бояться. Не скулит больше, привык оставаться один в пустой квартире. На морде – интеллект, ясность в рыжих глазах. И ни разу ничего себе не позволил! Терпит, мучается, но ни-ни! Не всякий человек выдержит. В собаке больше благородства, чем в людях, думает она.
Говорят, врагов нужно прощать. И ставить за них свечку. Она идет в церковь поставить свечку за своего врага. Одну теперь, другую потом. Одну за живого, другую за мертвого. Надо прощать. Она покупает тонкую коричневую свечу, затепляет ее от горящей и втыкает в мелкий белый песок. Ритуал прощения врага, часть первая. Некоторые свечи горят, огоньки трепещут на легком сквозняке. Другие погасли. В храме прохладно, тихо и сумрачно. Мягко мерцают серебряные оклады, везде цветы. Пахнет увядшей зеленью и ладаном. Она садится на скамейку около церкви. Ей кажется, она подключила к своей охоте какие-то силы, спросила разрешения, получила «добро». Все путем.
Это произойдет в предпоследний день. Последний она отведет на отдых, потом – на работу. Или через неделю. Или через месяц. Неважно. А потом можно будет смотаться в Испанию. Снять стресс.
Она изучила график его