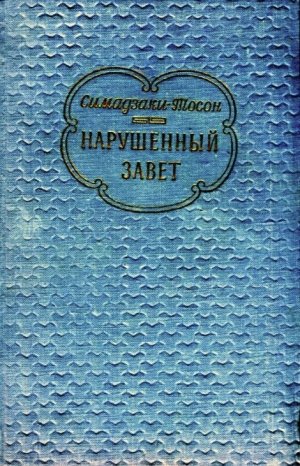
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ
Когда я узнал, что мой роман «Нарушенный завет» переводят на русский язык и русский читатель получит возможность с ним познакомиться, я почувствовал большую радость.
В течение долгого времени все мы, японские писатели, занимали обособленное положение. За редкими исключениями японская поэзия, драма, роман оставались неизвестными и в России и в западноевропейских странах. Нам казалось, что в силу своеобразия японского языка и письменности у нашей литературы пет перспектив проникнуть в другие страны. Понятно, эта обособленность ни в коей мере не была для пас желательной. Мы так хотим знать вашу страну, знать Западную Европу, но без путей для взаимного обмена чувствами и мыслями что же из одного этого желания может выйти? Мы хотим, чтобы то, о чем мы думаем, то, что мы чувствуем, стало более известно людям других стран, чтобы наша литература подвергалась более вдумчивой критике.
«Нарушенный завет» — мое раннее произведение. Этот роман я написал в 1904–1905 годы. Тысяча девятьсот четвертый год, год начала японо-русской войны, наверно, связан у русских читателей со многими воспоминаниями. В то время я жил — в горной провинции Синано. Здесь я и начал писать роман.
«Нарушенный завет» рисует картины жизни касты «эта» — японских париев, которые с падением феодализма подлежали уравнению в правах с остальным населением. Теперь эта именуются «новым народом» — синхэнмин. Однако, хотя по названию они «новый народ», по существу эти люди и по нынешний день остаются среди нас па положения древних париев.
Я хочу обратить внимание также и на то, что наша новая литература уже имеет за собой сорокалетнюю историю. Мне хотелось бы, чтобы мои русские читатели не упустили из виду следующее. Новая японская литература зародилась еще до движения за объединение разговорного и книжного языков. До той поры она была настолько скована стеснительными законами и правилами, что писать литературные произведения тем же языком, которым пользуются в обыденной жизни, не допускалось. Это движение за объединение разговорного и книжного языков освободило нашу литературу от архаических пут. Я считаю, что знакомство с этим фактом — одно из самых важных условий для понимания возникновения и развития нашей новой литературы.
Мне еще очень многое хотелось бы сказать, но всего ведь не скажешь! В заключение, представляя себе те трудности, с которыми пришлось столкнуться при переводе моего романа, я приношу свою глубокую благодарность переводчице.
20 февраля 1930 года,
Токио.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава I
При храме Рэнгэдзи имелись жилые помещения, которые сдавались внаём. Сэгава Усимацу, внезапно задумав переменить жильё, решил снять там комнатку — угловую, в мезонине боковой пристройки. Рэнгэдзи — один из двадцати храмов города Иияма, что в уезде Симо-Миноти провинции Синано. Это старинный храм, принадлежащий к буддийской секте Синею. Из окна мезонина, слегка скрытого листвой большого дерева гинкго, открывается вид на часть города Иияма. Как и подобает главному в этой провинции местонахождению буддийских святынь, этот маленький городок — живая старина, ведь весь он — от непривычной, характерной лишь для севера постройки домов с их дощатыми крышами и навесами, защищающими зимой от снега, до виднеющихся там и сям вышек храмов и верхушек деревьев, — кажется окутанным дымом курений. Особенно ясно из окна было видно белое здание начальной школы, где теперь служил Усимацу.
Усимацу решил переменить квартиру из-за того, что в пансионе, где он жил последнее время, произошла весьма неприятная история. В самом деле, если бы не дешёвый стол, никого не прельстила бы такая комната, как эта. Стены её, оклеенные обоями, потемнели от копоти. Ниша с простенькими полочками, дешёвое бумажное какэмоно[1] да старая жаровня — вот и всё, что составляло убранство комнаты: всего лишь тихая, уединённая келья. Зато она вполне гармонировала с душевным состоянием Усимацу и действовала на него как-то успокаивающе.
А в пансионе произошло вот что. Около полумесяца назад из уезда Симо-Такаи в Иияму прибыл в сопровождении слуги некий Охината; по всему видно было, что это человек богатый. Он приехал лечиться и остановился у них в пансионе. Его сразу же поместили в клинику. Так как он был человек со средствами, палату ему отвели первоклассную, и когда он, опираясь на плечо сиделки, прохаживался взад и вперёд по длинному коридору больницы, его состоятельность ни у кого не вызывала сомнений. И вот однажды кто-то, видно из зависти, сболтнул: «Он — «этa». Сразу же слух об этом разнёсся по всем палатам; больные забегали, заволновались, в больнице поднялся переполох. «Вон его! Сейчас же пусть убирается, немедленно!» — требовали больные и грозились немедленно покинуть клинику. Главному врачу стало ясно, что никакими доводами этот расовый предрассудок не сломить. И вот как-то вечером, под покровом темноты, Охинату вынесли на носилках из больницы и доставили обратно в пансион. Главный врач стал каждый день навещать больного. Но тут запротестовали в пансионе. На днях Усимацу, придя после службы усталый домой, застал в пансионе суматоху. Отовсюду неслись крики: «Позвать хозяйку! Он нечистый, он нечистый!» Постояльцы безо всякого стеснения изливали потоки бранных слов. «Как они смеют! Почему нечистый?» — внутренне возмущался Усимацу; втайне он глубоко сочувствовал Охинате, он негодовал, видя, как обращаются с этим больным, как не признают его за человека; он думал о несчастной судьбе «этa», — Усимацу сам был «этa»…
Внешне Усимацу мог вполне сойти за чистокровного северянина, уроженца Синано, одного из тех, кто вырос среди скал Саку или Тиисагаты. Он с отличием кончил учительскую семинарию в Нагано и получил диплом учителя, когда ему исполнилось двадцать два года. В самый расцвет молодости окунувшийся в жизнь, он и попал прямо в этот городок. За прошедшие с тех пор три года Усимацу приобрёл здесь репутацию старательного молодого учителя, а что он «этa», что он «синхэймин» — никому и на ум не приходило.
— Когда же вы переберётесь? — прервал размышления Усимацу голос жены настоятеля храма, неслышно вошедшей в комнату. Она стояла перед Усимацу, облачённая в светло-коричневое хаори с вытканными на нём гербами и перебирала тонкими белыми пальцами чётки. Ей было лет под пятьдесят; по манере разговаривать чувствовалось, что эта непостриженная монахиня, которую все здесь почтительно называли «окусама»,[2] в прежние времена получила кое-какое образование; была она, видно, немного знакома и со столичной жизнью. Она стояла в ожидании ответа, всем своим видом показывая готовность услужить постояльцу, и по привычке тихо бормотала молитву.
Усимацу раздумывал. Ему хотелось сказать: «завтра», даже «сегодня вечером», но, чтобы переехать, требовались деньги, а их у него не было. В самом деле, нельзя же было принимать в расчёт те жалкие сорок сэн, которые лежали у него в кармане. На сорок сэн не переедешь. Ведь надо ещё и расплатиться в пансионе, а жалованье будут давать не раньше, чем послезавтра. Так что волей-неволей переезд пришлось отложить.
— Вот что, я перееду послезавтра, к вечеру. Хорошо? — решился наконец он.
— Послезавтра? — протянула жена настоятеля и с удивлением посмотрела на Усимацу.
У него в глазах вдруг отразилось беспокойство.
— Что же странного в том, что я перееду послезавтра?
— Ведь послезавтра двадцать восьмое. Не то чтобы странно, но я думала, что вы поселитесь у нас уже с начала будущего месяца.
— Да, вы совершенно правы. А всё оттого, знаете, что я так внезапно решил переехать, — с равнодушным видом бросил Усимацу и поспешил переменить тему разговора. Происшествие в пансионе глубоко взволновало его. Он стал бояться отвечать на расспросы и рассказывать о случившемся. И вообще, если речь заходила об «этa», Усимацу всегда старался уклониться от разговора.
— Наму амида…[3] — прошептала про себя женщина и не стала больше ни о чём расспрашивать.
Когда Усимацу вышел из храма, было уже пять часов. Усимацу пришёл сюда сразу же после окончания уроков, не успев переодеться. Поношенный европейский костюм, изрядно перепачканный мелом, под мышкой завёрнутые в цветной платок тетрадки и книги, на ногах гэта, у пояса пустая коробка для завтрака — он был явно смущён своим видом; такое же чувство испытывают на людях и многие рабочие. Когда он возвращался к себе в пансион на улице Такадзё-мати, крыши домов, мокрые от осеннего дождя, ярко блестели в лучах вечернего солнца; улицы были полны людей. Одни останавливались и глядели вслед Усимацу, другие тихо шептались, указывая на него глазами. Были и такие, кто смотрел на него с нескрываемым презрением. «Кто это там бредёт? А, учитель!» — можно было прочесть на их лицах. При мысли, что среди этих людей есть отцы и братья вверенных ему учеников, Усимацу испытывал чувство унижения и гнева; внезапно ему стало не по себе, и он ускорил шаги.
Книжная лавка на главной улице открылась недавно. Снаружи, чтобы привлечь внимание прохожих, были вывешены написанные жирным шрифтом объявления о новых поступлениях. Усимацу бросилось в глаза название книги, о выходе в свет которой он уже знал из газет и с нетерпением ждал, когда она появится в продаже. Это была «Исповедь». В объявлении было указано имя автора — Иноко Рэнтаро и даже цена. При виде этого имени у Усимацу часто забилось сердце, он остановился. В лавке толпились несколько подростков, видимо, искавших какие-то новые журналы. Усимацу несколько раз прошёлся мимо лавки, засунув руку в карман своих потёртых брюк и тихонько позвякивая монетами. Раз в кармане есть сорок сэн, книгу, во всяком случае, можно приобрести. Но если он купит сейчас книгу, то останется совсем без денег. А ведь ему надо подготовиться к переезду. Эти соображения на короткий миг удержали Усимацу у входа в магазин, он повернул было обратно, но потом вдруг быстро проскользнул за шторку, взял книгу и стал её рассматривать. Книга была напечатана на грубой европейской бумаге, на жёлтой обложке надпись: «Исповедь». То, что у книги такой простой, незатейливый вид, не случайность: ведь она должна попасть в руки бедняков, а, кроме того, это в какой-то степени говорит и о её содержании. О, в наш век, когда молодёжь обо всём узнаёт из книг, возможно ли не прочесть такой книги, не познакомиться с ней молодому человеку в возрасте Усимацу, — в возрасте, которому неведомо чувство насыщения! А познание — это своего рода голод. В конце концов Усимацу выложил свои сорок сэн и стал обладателем желанной книги. Хотя это были его последние деньги, но жажда души оказалась сильней разумного расчёта.
С «Исповедью» в руках, полный душевного томления, Усимацу быстро зашагал к дому. Погруженный в свои мысли, он не заметил шедших ему навстречу школьных коллег. Один из них — Цутия Гинноскэ, с которым Усимацу дружил ещё в учительской семинарии; другой, совсем молодой человек, был только что назначен младшим учителем в их школу. Уже по тому, как не спеша они брели по улице, было видно, что они просто гуляют.
— Сэгава-кун,[4] ты только возвращаешься домой? — воскликнул Гинноскэ. — Что так поздно?
Гинноскэ, всегда прямодушный и дружески расположенный к Усимацу, сразу же заметил необычное выражение его лица: глубокие, всегда такие живые глаза Усимацу сейчас были полны грусти и затаённой тревоги. «Он, видно, нездоров», — думал про себя Гинноскэ, слушая рассказ Усимацу о том, что он ходил искать комнату.
— Опять ищешь? Ну и часто же ты меняешь квартиру! Ведь совсем недавно ты переехал в пансион, — искренне удивился Гинноскэ и добродушно рассмеялся. Но тут он заметил книгу в руках Усимацу. — Что это у тебя? Покажи!
Сунув тросточку под мышку, Гинноскэ протянул руку.
— А это… — со смущённой улыбкой подал ему книгу Усимацу.
— «Исповедь», — сказал младший учитель и, подойдя ближе, тоже взглянул на книгу.
— Ты по-прежнему увлекаешься писаниями Иноко, — заметил Гинноскэ, то рассматривая жёлтую обложку, то приоткрывая книгу и перелистывая страницы. — Да, да, я в газетах недавно читал объявление… Так вот она какая! Совсем невзрачная книжонка!.. Право, можно подумать, что Иноко для тебя куда больше, чем просто любимый писатель. Ты прямо-таки кумира из него сделал! Очень уж часто ты о нём говоришь, — рассмеялся Гинноскэ.
— Что за чепуха, — натянуто улыбаясь, возразил Усимацу и взял у него книгу.
Всё вокруг постепенно заволакивал вечерний туман, он всё больше и больше сгущался. Над домами стлался дым вечерних очагов. Там и сям зажигались огни. Сообщив, что послезавтра он перебирается в Рэнгэдзи, Усимацу простился с приятелями. Пройдя немного, он обернулся: Гинноскэ стоял на углу и смотрел ему вслед. Усимацу прошёл ещё полквартала и снова оглянулся: ему показалось, что оба товарища всё ещё стоят на том же месте, хотя всё вокруг утонуло в сумеречной дымке.
Когда Усимацу вышел из Такадзёо-мати, где находился его пансион, окрестности огласились звоном колоколов: в храмах началась вечерняя служба. Возле самого дома он вдруг услышал предостерегающие крики носильщиков, которые, освещая себе фонарями дорогу в сгустившейся темноте, выносили из дома носилки. «А, это, наверно, тайком уносят того богача!» — с горечью подумал Усимацу. Он остановился и молча стал присматриваться, пока не убедился в этом окончательно, узнав сопровождавшего носилки слугу. Хотя они жили под одной крышей, Усимацу ни разу не случалось видеть самого Охинату; он встречал только его слугу — человека огромного роста и притом неизменно с лекарствами в руках. Теперь этот великан, чуть ли не подпиравший своей головой небо, подоткнув полы кимоно, деловито распоряжался носильщиками, переносившими его господина, и всячески оберегал его покой. Презираемый всеми, возможно, даже и своими соплеменниками, не подозревая, что стоящий рядом Усимацу одного с ним происхождения, Охината с боязливым видом слегка поклонился ему и проследовал мимо. У ворот послышался смущённый голос хозяйки:
— Будьте здоровы! Выздоравливайте!
Из пансиона доносился шум. Постояльцы дружно возмущались, негодовали, нарочито громко бранились.
— Благодарю вас. Будьте осторожны! — повторила хозяйка, подбегая к носилкам.
Охината ничего не ответил. Носилки тронулись. Усимацу провожал их глазами.
— Что, получил!
Это был заключительный победный клич жильцов.
Когда Усимацу, бледный от волнения, вошёл в пансион, постояльцы всё ещё толпились в длинном коридоре. Словно не в состоянии справиться с возбуждением, одни шагали, потрясая кулаками, другие топали ногами по дощатому полу, а кто-то спешил посыпать порог дома солью. Хозяйка принесла кремень и со звоном высекла искры, — вот, мол, очистительный огонь.
Жалость, страх, тысячи других чувств вспыхивали и гасли в душе Усимацу. Он размышлял об участи этого богатого человека, изгнанного из клиники, выброшенного из пансиона, терпящего жестокое обращение, опозоренного и теперь безропотно удалившегося неизвестно куда… Как, должно быть, страдал сейчас от душевной боли и горьких слёз этот человек! Судьба Охинаты была судьбой всех «этa». А значит — и Усимацу. Годы учёбы в учительской семинарии в Нагано, а потом службы в этом городке прошли для Усимацу безмятежно, он жил как все обыкновенные люди, не ведая никаких опасностей и страхов…
Ему вспомнился отец. Он обитал у подножия горы Эбосигадакэ, пас скот и вёл одинокую, почти отшельническую жизнь. Перед глазами Усимацу встало горное пастбище, маленькая пастушеская сторожка.
— Отец, отец! — тихо воскликнул он, шагая взад и вперёд по своей комнате. На память ему пришли слова отца.
Когда Усимацу немного подрос, отец, серьёзно обеспокоенный будущим своего единственного сына, частенько и подолгу беседовал с ним, рассказывал разные истории. Именно тогда он поведал мальчику об их происхождении. Он объяснил ему, что в противоположность большинству «этa», обитающих на побережье Токайдо, их семья происходила не от иноземцев — корейцев, китайцев, русских и других пришельцев, прибитых морем с каких-то неведомых островов, — а от беглых самураев, и что бедность, а не преступление превратила их в «этa». Отец всячески внушал ему, что единственная надежда, единственный путь выбиться в люди и сносно жить — скрывать своё происхождение. «Что бы тебе ни пришлось вытерпеть, с какими бы людьми ни довелось иметь дело, ни в коем случае не открывай, кто ты. Помни: если ты в гневе или отчаянии забудешь это предостережение, ты тотчас же будешь выброшен из общества». Так наставлял его отец.
Таким образом, секрет благополучия был прост. Он заключался в двух словах: «Храни тайну». Однако в те времена Усимацу пропускал слова отца мимо ушей. «Вот ещё! Придумает же отец!» — говорил он себе и, радуясь возможности учиться, выпорхнул из дому. Счастливая мечтательная пора отрочества миновала, избавив его от необходимости вспоминать отцовский завет. Но потом к Усимацу пришла зрелость, и он начал сознавать всю тягость своего положения. У него было такое чувство, будто он, прожив долгое время в уютном доме соседа, переселился вдруг в свой собственный, неуютный и мрачный дом. Теперь Усимацу уже и сам твёрдо решил скрывать своё происхождение.
Повалившись на циновку, Усимацу некоторое время лежал неподвижно на спине и размышлял, но скоро усталость взяла своё, и он заснул. Когда через некоторое время, внезапно проснувшись, Усимацу оглядел комнату, он увидел, что возле него уныло горит лампа, которую он как будто не зажигал, а в углу стоит столик с ужином. Он, оказывается, даже не переоделся. Слышно было, как на дворе накрапывает дождь. Ему казалось, что он проспал не менее часа. Он приподнялся. Взгляд его упал на жёлтую обложку купленной им книжки. Усимацу решил поужинать и придвинул столик, но, сняв крышку с кадушечки с рисом, он едва лишь дотронулся до еды и, вздохнув, отодвинул всё в сторону. Усимацу развернул «Исповедь», прежде чем приступить к чтению, закурил последнюю оставшуюся папиросу.
Об авторе этой книги — Иноко Рэнтаро — говорили, что он открывает «новые страдания» низов современного общества. Многие относились к нему неприязненно, считая, что он увлекается саморекламой. Действительно, во всём, что писал Рэнтаро, всегда ощущалась какая-то особая нервозность, взволнованность: Рэнтаро совершенно не умел отделять себя от того, о чём он говорил. Но у него смелые мысли сочетались с острой наблюдательностью, и поэтому его произведения обладали большой притягательной силой, что не мог не чувствовать всякий, кто прочитал хоть одно его произведение. Рэнтаро хорошо знал жизнь бедняков, рабочих, а также «синхэйминов»; он не только пытался доискаться до первопричины их бедственного положения, но и обнажал эти причины перед читателем, стараясь всесторонне осветить затронутые им вопросы, снова и снова повторял то, что ему казалось трудным для восприятия, и не успокаивался до тех пор, пока не проникал читателю в самую душу. Впрочем, он не увлекался философской или экономической стороной вопроса, он сосредоточивался на психологическом анализе. В его книгах идеи громоздились друг на друга, как скалы, но это только увеличивало силу их воздействия.
Однако Усимацу зачитывался книгами Рэнтаро не только по одной этой причине. Больше всего его привлекало то, что Иноко Рэнтаро — мыслитель и боец — сам был «этa». Усимацу считал его своим учителем и втайне преклонялся перед ним. Страстное убеждение, что «этa» — такие же люди, как и все остальные, а, значит, нет никаких оснований презирать их, возникло у него именно под влиянием Рэнтаро. Поэтому, как только появлялось какое-нибудь новое произведение этого писателя, Усимацу сразу приобретал его и тут же прочитывал. Он непременно просматривал свежие номера журналов в надежде увидеть там и дорогое ему имя. И чем больше он узнавал Рэнтаро, тем отчётливее сознавал, что Рэнтаро открывает ему доселе неведомый мир. И временами горькое сознание того, что он — «этa», заставляло его не опускать голову, а наоборот — держать высоко.
Новая книга Рэнтаро начиналась фразой: «Я — этa». Он ярко живописал невежество и нищету этой касты. Рэнтаро рассказывал о том, какое множество честных мужчин и женщин отторгнуто обществом только потому, что они принадлежат к «этa». Автор «Исповеди» делился и своими душевными страданиями и своими радостными и грустными воспоминаниями о прошлом: о далёких годах мучительных сомнений, порождённых дисгармонией общественной жизни, когда он стремился к духовной свободе и не находил её; о той поре, когда он вступил в новую жизнь, открывшуюся ему, словно утреннее небо. И, читая книгу, словно слышишь глухие рыдания мужчины со страстной душой.
Новая жизнь, она началась для Рэнтаро совершенно случайно, из-за обычной житейской неудачи. Он родился в провинции Синано, в Такато. То, что он происходит из старинной семьи «этa», стало известно нескоро, только когда он получил место преподавателя психологии в учительской семинарии в Нагано — ещё до поступления туда Усимацу. Об этом поведал кто-то из учащихся, тоже родом с юга Синано. По семинарии пронёсся слух: «Среди преподавателей есть парий!» Возникло всеобщее волнение: одни были ошеломлены этой новостью, другие недоумевали. Многие не хотели верить, что Рэнтаро — «этa»; и характер, и внешность, и образованность — всё свидетельствовало в пользу его благородного происхождения. Однако среди тех его коллег, кто завидовал Рэнтаро, раздались голоса: «Гнать его, гнать!» Увы, если бы людям не были присущи расовые предрассудки, не было бы убитых в Кишинёве евреев, не было бы и распространённой на Западе теории жёлтой опасности. В этом мире, где несправедливость легко берёт верх над справедливостью, кто захочет возвысить голос в защиту «этa»? И когда Рэнтаро признался в своём происхождении и, распрощавшись с товарищами, покинул семинарию, не нашлось ни одного человека, выразившего ему сочувствие. Выйдя за ворота семинарии, Рэнтаро решил бросить «науку ради науки».
Всё это он подробно описал в «Исповеди». Сколько раз Усимацу, потрясённый, прерывал чтение и, закрыв глаза, погружался в размышления! Читать было трудно. Сострадание — странная вещь, оно не облегчает сердца. К тому же Рэнтаро побуждал читателя не столько читать им написанное, сколько размышлять над этим. В конце концов Усимацу продолжал читать, соотнося написанное с перипетиями собственной жизни.
С отроческих лет и до сих пор жизнь Усимацу протекала, в общем, ровно и благополучно. Родился он в Коморо, в посёлке «этa». Он происходил из семьи, которая считалась старшей в роду из сорока семей, живших в уезде Кита-Саку. До переворота Мэйдзи его предки подвизались на поприще тюремных смотрителей и полицейских. Отец его но этой причине был освобождён от налогов и, кроме того, получал особый рисовый паёк. А поскольку он занимал видное положение среди людей его касты, то даже и потом, когда, обеднев и разорившись, переселился в уезд Тиисагата, он всё же сумел определить своего восьмилетнего сына в школу. Усимацу учился в соседнем селении Нэцу наравне с другими детьми, и там никто не подозревал, что новый ученик, такой славный мальчуган — «этa». Потом отец переселился в Химэкодзаву, а с ним вместе переехал и дядя Усимацу с женой. Здесь, в чужом краю, их никто не знал, а самим признаваться в том, что они «этa», тоже не было никакой надобности, так что понемногу они обжились, и мальчик раньше всех забыл о своей родословной. И вот когда после окончания школы его определили в Нагано, где он мог на казённый счёт получить образование, всё прежнее казалось ему старыми дедовскими россказнями.
Сейчас воспоминания ожили в душе Усимацу. В нём проснулся страх, который он испытывал в детстве, когда его сверстники всячески издевались над ним, кидали в него камнями. Он стал смутно припоминать то время, когда они жили в посёлке «этa» в Коморо. Вспомнил мать, умершую ещё до их переезда. «Я — этa». Как волновала сердце Усимацу эта фраза! Читая «Исповедь», Усимацу испытывал только мучительную боль…
Глава II
Двадцать восьмого числа каждого месяца учителям выплачивали жалованье: в этот день они были особенно оживлены. На этот раз, когда раздался звонок, возвещавший об окончании занятий, учителя и учительницы, торопливо прибрав книги и тетради, поспешили из классов. Кругом стоял невероятный гам, шаловливые ученики, казалось, разом заполонили всё здание. С парусиновыми ранцами или с узелками, размахивая коробками для завтрака и соломенными сандалиями, они с весёлым гомоном расходились по домам. Усимацу после окончания занятий — он вёл четвёртый класс старшего отделения — пробирался сквозь толпу мальчуганов, направляясь в учительскую.
Директор школы находился в приёмной. Он был назначен в Иияму относительно недавно, одновременно с новым уездным инспектором, но Усимацу и Гинноскэ к тому времени уже работали в школе. В этот день инспектор в сопровождении нескольких чинов городского управления явился в школу, и директор водил их по классам. Инспектор при этом интересовался преимущественно внешней стороной школьной жизни: расписанием уроков, ремонтом классных досок, столов, скамеек, лечением распространённой среди учеников трахомы и так далее. Обойдя все классы, инспектор и сопровождавшие его лица вернулись в приёмную; завязалась беседа; табачный дым заполнил комнату белыми клубами. Служитель сновал взад-вперёд по комнате, обнося присутствующих чаем.
Директор делился с гостями своими взглядами на воспитание, в основе которого было строгое выполнение правил. Всякое распоряжение инспектора для него — приказ. Воспитывать детей по-военному — вот кредо всей его деятельности, на этом строится распорядок жизни школы. «Точно как часы» — этим девизом он руководствуется сам, это правило он внушает ученикам, в этом же духе он наставляет преподавателей. Разговоры же, которые ведут молодые учителя, не знающие жизни, — пустая, бесполезная болтовня. Он всегда держался таких принципов и убедился в их правильности, ибо немало преуспел в своей жизни, — по крайней мере, лично он полон такого ощущения — ведь недаром же он удостоен знака отличия — золотой медали, на которой выгравированы слова, свидетельствующие о его заслугах.
Этот памятный знак был выставлен для всеобщего обозрения в приёмной. Взоры присутствующих притягивал блеск золота. Все с восхищением и любопытством разглядывали медаль, мысленно прикидывая её стоимость, размер, вес. В конце концов, высказав вслух свои предложения, все сошлись на том, что она из золота 56-й пробы, диаметр её 3 сантиметра, вес — 18,75 грамма, стоимость около 30 иен. В специальном свидетельстве, приложенном к медали, говорилось, что обладатель её сумел отлично поставить школьное дело и немало способствовал делу просвещения. «За сие, на основании параграфа 8 Уложения о наградах, он удостаивается настоящей медали, что и удостоверяется».
— Да, такой наградой может гордиться не только господин директор, но и все учителя у нас в Синано! — воскликнул седобородый член городского управления. Другой, в очках с золотой оправой, подхватил:
— Это событие необходимо отметить. Мы хотим устроить в вашу честь скромный ужин. Разрешите просить вас пожаловать сегодня вечерком в «Миурая»! И вас, господин инспектор, и вас непременно…
— Право, я смущён, не стоит беспокоиться! — поднявшись со стула, стал благодарить членов городского управления директор. — Такая награда — самая высокая честь для учителя, я чрезмерно счастлив… Но заслуги мои скромны. Право, награда лишь заставляет меня краснеть, я недостоин…
— Господин директор, такими словами вы нас просто смущаете, — сказал, потирая руки, сидевший справа худощавый член городского управления.
— Угощение очень скромное, прошу вас, не отказывайтесь! — упрашивал его сидевший слева.
Глаза директора искрились нескрываемой гордостью и радостью. Выпячивая грудь и пожимая плечами с таким видом, словно он не может не уступить столь настойчивым просьбам, директор обратился к инспектору:
— А как вы?
— Раз нас так просят!.. Пренебречь радушием городского управления было бы просто невежливо, — сказал инспектор, великодушно улыбаясь.
— Вы правы… Разрешите поблагодарить вас ещё раз потом, когда мы снова встретимся. Прошу передать всем мой поклон, — сказал он на прощание.
Пожалуй, тем, кто не знаком с провинциальной жизнью, трудно представить себе действительное положение директора школы в маленьком городке. Первое условие для того, кто едет учительствовать в провинцию, — это иметь такие же заурядные интересы, как у директора этой школы. Тому, кто постоянно забивает себе голову разными возвышенными материями, обычно будоражащими воображение в школьные годы, и чуждается окружающей его обыденности, не прослужить директором и одного дня. Директору подобает наносить визиты разным влиятельным лицам городка, дабы выразить сочувствие или радость по поводу тех или иных событий их жизни, общаться с бонзами и синтоистскими жрецами, постепенно приучиться пить местную водку, говорить на местном наречии, невольно войти в отношения с тупыми, невежественными людьми. Тогда уже сама собой забывается всякая наука. Давно уже стало привычным делом, когда учителя, считающиеся умными, укрепляют своё положение при помощи связей с членами городского управления.
Директор проводил членов городского управления до выхода. Прощаясь, гости ещё раз напомнили ему:
— Значит, просим вас вместе с господином инспектором прямо из школы…
— Покорно благодарю…
— Служитель! — позвал директор, и голос его гулко разнёсся по длинному коридору.
Школьники давно разошлись по домам. Окна в классах были закрыты, на теннисной площадке тоже не было ни души. Кругом воцарилась тишина, лишь изредка нарушаемая всплесками смеха в учительской да грустными звуками фисгармонии, доносившимися со второго этажа.
Шаркая сандалиями, прибежал служитель.
— Что угодно?
— Придётся ещё раз сходить в городское управление, поторопить насчёт денег. Если они уже получены, принеси их сейчас же — там уже заждались, — распорядился директор и вышел в приёмную, где, покуривая папиросу, просматривал газету инспектор.
— Разрешите, — сказал директор и пододвинул к нему свой стул.
— Вот, погляди-ка, — фамильярно улыбаясь, сказал инспектор. — Тут всё расписано: и что ты получил медаль, и какой ты образцовый преподаватель. Текст свидетельства приведён полностью. Даже фотография…
— Да… всюду только и разговоров про медаль! — радостно подхватил директор. — Куда ни повернёшься, сейчас же заходит разговор о ней. Даже те, от кого не ожидаешь, и те поздравляют.
— Прекрасно.
— И всё благодаря вам…
— Полно, полно… — перебил инспектор. — Как говорят, услуга за услугу. Очень лестно, что в нашем кругу есть награждённый медалью. Я вполне разделяю твою радость.
— Кацуно-кун тоже был очень рад.
— Мой племянник? Да, да. Он даже прислал мне по этому поводу большое письмо. Читая его, я видел перед собой его сияющее лицо. Он близко к сердцу принимает твои интересы.
Тот, кого инспектор называл своим племянником, был молодой человек по имени Кацуно Бумпэй, недавно выдержавший государственные экзамены и по получении диплома назначенный сюда учителем. Сам сравнительно новый человек в этой школе, директор всячески протежировал Бумпэю, рассчитывая тем самым привлечь его в число своих сторонников. Несомненно, первое место среди учителей школы по праву занимал Усимацу. Он пользовался гораздо большим уважением и любовью учеников, нежели директор. За Усимацу следовал Гинноскэ, который тоже окончил учительскую семинарию. При всём желании директор не мог поколебать положение этих двух учителей в пользу Бумпэя. Поэтому Бумпэй занимал лишь третье место.
— Зато Сэгава-кун что-то уж очень безучастен, — заметил, слегка понизив голос, директор.
— Сэгава-кун? — Инспектор нахмурился.
— Вы, конечно, полагаете, что раз медали удостоен отнюдь не сторонний для школы человек, Сэгава-кун, несомненно, тоже придёт поздравить меня. Но вы очень ошибаетесь! Конечно, сам я не слышал этого, но… и, конечно, мне так не скажут в лицо, но… одним словом, он заявил, что учителю незачем так гордиться получением медали. Это, мол, только официальное признание заслуг, которое, по мнению Сэгавы-куна и ещё кой-кого, не имеет ровно никакого значения. Медаль сама по себе, видите ли, — это только внешний знак, ценность же его — в том, что кроется за ним… Сомневаюсь, чтобы это было так…
— Откуда у Сэгавы-куна такие мысли? — вздохнув, заметил инспектор.
— По-видимому, по нынешним временам мы немного отстали. Но новое — это не обязательно всегда хорошее, не так ли? — сострил директор и засмеялся. — Однако из-за таких настроений Сэгавы-куна и Цутии-куна мне временами приходится очень трудно. Если преподавание ведётся в школе не по единой системе и вообще есть инакомыслящие, дело на лад не пойдёт. Если бы вы разрешили назначить Кацуно-куна старшим учителем, мне было бы гораздо спокойнее…
— Если ты так недоволен, то ведь всегда можно найти способ… — Инспектор многозначительно взглянул на директора.
— Какой?
— Ну, скажем, перевести в другую школу… Тогда на его место ты можешь назначить того, кто тебе по душе.
— Это, конечно, верно… но если для перевода нет подходящего повода, тогда так поступать не совсем удобно… К тому же ученики любят Сэгаву-куна.
— Да-a, безупречному работнику не скажешь — уходи! К тому же неприятно, если создастся впечатление, что всё это подстроено. Я вовсе не хочу хвалить племянника, но думаю, что он бы подошёл тебе, как никто другой. Не стану говорить — лучше или хуже он Сэгавы-куна. А чем, собственно, хорош этот Сэгава-кун? Отчего вообще ученикам нравятся такие учителя? Не понимаю. Высмеивает то, чем другие гордятся, — что же в таком случае он ценит?
— Мне кажется, ему по душе идеи такого рода, как у этого Иноко Рэнтаро.
— Иноко Рэнтаро? Этого «синхэймина»?! — Инспектор брезгливо поморщился.
— Да, — сокрушённо вздохнув, подтвердил директор. — Жутко подумать, что писания таких субъектов, как этот Иноко, попадают в руки молодёжи. Нехорошо, нехорошо. Всё эти теперешние новые книги — источник заблуждений для юношества. Из-за них-то и появляются нравственные калеки да полусумасшедшие. Да, да… нам никак не понять, чем живёт теперешняя молодёжь…
Послышался стук в дверь. Собеседники умолкли. Стук повторился.
— Войдите! — сказал директор и встал, чтобы открыть дверь. Он думал, что пришёл посыльный из городской управы, но, увидев в дверях одного из учителей, а за его спиной Усимацу Сэгаву, невольно переглянулся с инспектором.
— Господин директор, вы не заняты? — спросил Усимацу.
Директор слегка улыбнулся.
— Нет, ничего… просто беседовали.
— Кадзаме-сану необходимо повидать господина инспектора. Он хочет обратиться к нему лично с просьбой, — сказал Усимацу, слегка подталкивая вперёд учителя, с которым пришёл.
Кадзама Кэйносин — старый, отслуживший свой срок школьный учитель. Усимацу, Гинноскэ и другим молодым учителям он мог бы по возрасту быть дедом. В своём чёрном хаори с вытканными на нём гербами, накинутом поверх грязного кимоно, и в грубых парусиновых хакама, старый Кадзама сделал несколько неуверенных шагов к инспектору. Опустившиеся люди робки: стоило инспектору холодно взглянуть на него, как старый учитель весь съёжился, поник и не мог произнести ни слова.
— Слушаю вас. У вас ко мне дело? Да говорите же вы! — понукал его инспектор, принимая всё более неприступный вид. Старик продолжал молчать. Инспектор в нетерпении стал посматривать на часы, постукивать каблуком об пол.
— Так в чём же дело? Коль скоро вы молчите, я ничего не могу понять!.. — нетерпеливо сказал он и поднялся со стула.
Кэйносин, окончательно смутившись, пролепетал:
— Вот… я хотел обратиться к вам с просьбой…
— Ну…
В комнате опять воцарилась тишина, длившаяся несколько минут. Глядя на понурого, дрожащего всем телом Кэйносина, Усимацу невольно почувствовал к нему жалость.
— Я занят и тороплюсь, — раздражённо бросил инспектор. — Если вам нужно что-нибудь сказать мне, говорите поскорей.
Усимацу не выдержал.
— Кадзама-сан, не надо так волноваться! Вы, кажется, хотели сказать господину инспектору о тяжких последствиях вашего ухода со службы. Разрешите мне спросить вас, — обратился он к инспектору. — Разве Кадзаме-сану не полагается пенсия?
— Разумеется, нет, — холодно произнёс инспектор. — Посмотрите Устав начальных школ.
— Устав уставом…
— А разве можно действовать вопреки Уставу? Уволиться по состоянию здоровья или по старости может каждый, — этого никто не запрещает, но право на получение пенсии распространяется только на лиц, прослуживших полных пятнадцать лет. А у Кадзамы-сана всего четырнадцать с половиной…
— Это так, но разве вы не могли бы помочь старому учителю. Ведь речь идёт о каких-то шести месяцах…
— Да, но если следовать вашему совету, то послаблениям не будет конца. Кадзама-сан твердит: «семейное положение, семейное положение». А у кого нет «семейного положения»? Нет, уж примиритесь с тем, что пенсии не будет, и успокойте Кадзаму-сана. Ему нужно отдохнуть…
Поняв, что дальше вести разговор бесполезно, Усимацу бросил полный сочувствия взгляд на старого Кэйносина и шепнул ему:
— Кадзама-сан, может быть, вы сами попросите…
— Нет, после того, что сказал господин инспектор… просить больше не о чем. Действительно, мне только остаётся примириться, как вы изволили сказать…
В это время в приёмную вошёл служитель, принёсший пакет с деньгами из управления. Воспользовавшись этим предлогом, инспектор взял шляпу и в сопровождении директора быстро удалился.
Все школьные преподаватели и преподавательницы собрались в большой учительской. Была суббота, но тем, кто живёт на жалованье, сегодняшний день казался приятнее завтрашнего воскресенья. Эти люди, утомлённые ежедневными занятиями, вознёй со множеством учеников, в большинстве своём не питали искреннего интереса к своей профессии. Среди них были и такие, кто почти не выносил детей. Молодые учителя, лишь недавно окончившие краткосрочные курсы и едва научившиеся курить, выглядели повеселее: у них всё ещё было впереди, но учителя постарше, успевшие отрастить бороды, предавались воспоминаниям о прошлом, завидовали всем и каждому и вызывали у других только чувство жалости. Были и такие, кто собирался спустить месячное жалование в первом попавшемся кабаке.
Когда после неудавшегося разговора с инспектором Усимацу и Кэйносин направлялись в учительскую, в коридоре их нагнал служитель.
— Кадзама-сан, вас хочет видеть хозяин «Сасая», он уже давно ждёт…
— Что? Хозяин «Сасая»? — растерянно переспросил Кэйносин и горько рассмеялся.
«Сасая» назывался трактир на окраине Ииямы, где приезжие крестьяне могли выпить подогретое сакэ. Усимацу давно знал, что для старого Кэйносина этот домик был убежищем, где он забывал о всех своих горестях. По горькой усмешке Кэйносина можно было догадаться, что хозяин «Сасая», услыхав о выдаче жалованья, пришёл требовать с него плату за выпивку.
— И зачем только он пришёл в школу? — с тоской пробормотал про себя Кэйносин. — Ладно, пусть подождёт, — сказал он служителю и поспешно зашагал с Усимацу к учительской.
Открыв дверь в учительскую, Усимацу остановился на пороге и осмотрелся. В окна лились лучи октябрьского солнца, пронизывая облака табачного дыма. Преподаватели, стоя группками, кто у доски, кто у расписания, оживлённо беседовали. В углу, прислонившись к серой стене, о чём-то разговаривал с Гинноскэ племянник инспектора — Кацуно Бумпэй. В его новом элегантном европейском костюме, со вкусом подобранном галстуке, обходительных манерах, — во всём его облике было нечто яркое, невольно привлекавшее внимание. Чёрные, тщательно причёсанные волосы, свежее лицо, острый сверлящий взгляд… Разве можно сравнить с ним Гинноскэ? У того — коротко остриженная голова, круглое розовощёкое лицо, он непринуждённо смеётся и разговаривает, свободно жестикулируя, — какая между ними разница! Взгляды многих учительниц с любопытством останавливались на Бумпэе.
Элегантный вид Бумпэя не внушал Усимацу зависти. Его тревожило только одно: этот новый преподаватель прибыл из его родных мест. Если хорошо знать Коморо, то нельзя хотя бы случайно не услышать о семье Сэгава. При всей своей широте мир, увы, тесен! И вдруг он от кого-нибудь слыхал, что этот «старшина этa» теперь то-то и то-то… Правда, вряд ли кто может знать об этом… ну, а если вдруг, всё же… Кацуно, конечно, не пропустит такое мимо ушей. Мучимый опасениями, Усимацу решил быть настороже. Его взгляд выдавал затаённую тревогу.
Директор проверил деньги, принесённые из городского управления, и приступил к раздаче. Усимацу помогал ему, раскладывая на столах учителей конверты с причитавшимся им жалованьем.
— Цутия-кун, вот тебе подарок! — сказал он Гинноскэ и положил перед ним несколько столбиков медных монет по пятидесяти сэн в каждом, а затем и конверт с серебром и ассигнациями.
— Ого, сколько меди! Просто не поднять, — засмеялся Гинноскэ. — Ну как, Сэгава-кун, сегодня сможешь переехать?
Усимацу улыбнулся, но ничего не ответил. Стоявший рядом Бумпэй спросил:
— А куда вы собираетесь переезжать?
— Сэгава-кун с сегодняшнего вечера начинает строго соблюдать все посты! — улыбаясь, сказал Гинноскэ.
— Ха-ха-ха! — закатился Бумпэй. Провожаемый смехом, Усимацу направился к своему столу.
Хотя выдача жалованья происходила из месяца в месяц, однако каждый раз в этот день у всех было какое-то особенное выражение лица. Школьные учителя никогда не испытывали такой радости, как в те минуты, когда они получали заработанные нелёгким трудом деньги. Одни позвякивали серебром, запечатанным в конверте, другие завязывали его в узелок и пробовали на вес; одна учительница поглаживала шнурок от коричневых хакама и тихонько улыбалась.
Раздав жалованье, директор вдруг изобразил на лице озабоченность и решительно поднялся со стула. Все насторожились, ожидая, что за этим последует. Директор откашлялся и официальным тоном сообщил об уходе из школы Кэйносина. Затем он сказал, что хотел бы третьего ноября, после окончания церемонии в честь дня рождения императора, устроить по случаю ухода старого заслуженного учителя чай. Раздались возгласы одобрения. Кэйносин привстал, выпрямился, поблагодарил и растерянно сел на место.
Пока учителя и учительницы, обступив Кэйносина, всячески выражали ему своё сочувствие, Усимацу незаметно покинул учительскую. Гинноскэ, тут же заметив его отсутствие, поспешно вышел за ним в коридор, из коридора в приёмную, оттуда в вестибюль, но уже нигде не нашёл Усимацу.
Усимацу торопился к себе в пансион. С деньгами в кармане он чувствовал себя как-то уверенней. Вчерашний день прошёл для него мучительно; он не мог ни выкупаться, ни купить папирос: мозг его жгла одна-единственная мысль — скорее в Рэнгэдзи! А кому, в самом деле, может быть весело без гроша в кармане? Рассчитавшись с хозяйкой пансиона, он быстро собрал свои пожитки, чтобы сразу лее их увезти, как только придёт рикша, потом закурил папиросу и только тогда вздохнул с облегчением. «Нужно уехать как можно незаметней», — думал он. Усимацу беспокоило, как относится к его внезапному переезду хозяйка. А что, если ей придёт в голову, что есть какая-то связь между ним и изгнанным богачом, что именно из-за этого он и переезжает? Если вдруг она начнёт у него выпытывать и доискиваться причин его переезда, как ей ответить? Именно то, что он переезжает без каких-либо видимых причин, когда в этом нет никакой необходимости, больше всего тревожило Усимацу. Если его объяснения покажутся неубедительными, это её только раззадорит. Скажу лучше: «Переезжаю, потому что мне там будет удобнее», — вот и всё. Думал, сомневался, опасался. А хозяйка, которая имела дело не с одним постояльцем, не проявила розно никакого интереса к его переезду. Но вот подкатил рикша. Весь его багаж — ящик с книгами, столик, корзина да узел с постелью — вполне уместился в одной тележке. Усимацу взял в руки лампу и, провожаемый прощальным приветствием хозяйки, вышел.
Когда шагавшего за рикшей Усимацу отделяло от пансиона уже несколько кварталов, он оглянулся и невольно вздохнул с облегчением. Дорога к храму Рэнгэдзи была плохая, рикша двигался медленно, и Усимацу брёл за ним следом, размышляя о превратностях жизни и сокрушаясь о своей собственной судьбе. Ему было и грустно и радостно. Нахлынувшие воспоминания будили в нём самые разнообразные чувства. День выдался унылый, всё напоминало о приближении зимы; сырой осенний воздух окутывал улицы тонкой дымкой. Росшие по обеим сторонам улиц ивы роняли на землю жёлтые листья.
Навстречу высыпала ватага мальчуганов. Они дружно шагали в ногу под звуки флейты и барабана с высоко поднятыми бумажными флажками и, изображая оркестр, распевали весёлую песню. «Что это за дети? — удивился было Усимацу. — А, это ученики младшего отделения!» За ними, горланя во всю мощь, не обращая внимания на прохожих, тащился какой-то пьяный. Подойдя ближе, Усимацу узнал в нём старого учителя Кэйносина, уволенного сегодня из школы.
— Сэгава-кун, как тебе нравится мой оркестр! — весело воскликнул он, обдавая Усимацу запахом перезрелой хурмы. Судя по всему, он уже успел основательно напиться. Мальчики, на которых он указал, громко расхохотались над своим жалким учителем. — Ну-с, начали! — шутливо скомандовал Кэйносин. — Внимание! До сегодняшнего дня я был вашим учителем. С завтрашнего дня я уже больше не буду вашим учителем, я буду вашим капельмейстером. Поняли? — Старик хотел было засмеяться, но по лицу у него покатились слёзы.
Простодушные музыканты разразились восхищёнными возгласами и замаршировали дальше. Будто припоминая что-то, Кэйносин долго смотрел им вслед, потом встрепенулся и заковылял по дороге, догоняя Усимацу.
— Я провожу тебя немного, Сэгава-кун, — сказал он, дрожа от холода. — Ведь ещё не так темно, почему ты с лампой?
— С лампой? — засмеялся Усимацу. — Ведь я перебираюсь на новую квартиру.
— Куда же ты перебираешься?
— В Рэнгэдзи.
Услыхав «Рэнгэдзи», Кэйносин сразу замолк, И некоторое время оба шли, думая каждый о своём.
— Да… — первым нарушил молчание Кэйносин. — Завидую тебе, Сэгава-кун! Ты да и все вы ещё молоды. Всё у вас впереди. До чего ж хочется снова хоть ненадолго стать молодым! Плохо человеку, когда он стар и слаб, как я теперь, — грустно заключил Кэйносин.
Рикша с поклажей двигался медленно. Усимацу и Кэйносин, следуя за ним, тихонько беседовали между собой. Вдруг рикша остановился и, глубоко вдохнув холодный воздух, стал утирать струившийся по лицу пот. Всё вокруг погрузилось в серые сумерки, только на западе ещё желтело слабое сияние. Казалось, что вечер наступил раньше обычного. Ещё рано было зажигать свет, но один дом был ярко освещён, на вывеске у входа отчётливо значилось: «Миурая».
Со второго этажа доносились звуки шумного веселья, и это навеяло на Усимацу и Кадзаму ещё большую тоску и уныние. Пир там, видно, был в самом разгаре. Через сёдзи струились вкрадчивые звуки сямисэнов. Вдруг решительно загрохотал барабан. Потом послышались женские голоса, вероятно гейш, певших какую-то песню. Одна из приглашённых гейш, видимо, запоздала и сейчас торопливо вошла в ресторан, сопровождаемая слугой с сямисэном в руках. Смех и голос гостей звучали так отчётливо, что Усимацу без труда различил голоса инспектора и директора школы. По-видимому, за угощением и выпивкой они позабыли обо всём на свете.
— Да, там весело! — тихо сказал Кэйносин. — И собралось немало народу. По какому же случаю?
— Разве Кадзама-сан не знает? — спросил Усимацу?
— Нет. Я всегда всё узнаю последним…
— Это чествуют господина директора.
— Вот как!
Пение стихло, и раздались громкие аплодисменты. Видимо, опять пошли в ход чарки. «Принесите сакэ!» — послышался звонкий женский голос. Усимацу и Кэйносин тем временем миновали ресторан и двинулись дальше. Они и не заметили, как рикша ушёл вперёд, и теперь им приходилось его нагонять. Они всё дальше уходили от этого места увеселения, и вот уже больше не были слышны доносившиеся оттуда звуки барабана. Кэйносин то вздыхал, то ни с того ни с сего разражался вдруг горьким смехом, в котором звучало отчаяние. «Наша жизнь быстротечна, как сон», — тихо запел он, и от его пения Усимацу сделалось ещё грустнее и тоскливее.
— Нет, не поётся… Эх, пил я, пил, а всё не пьян!.. — вздохнул Кэйносин и застонал, как раненое животное. Усимацу стало мучительно жаль старика.
— Кадзама-сан, куда вы идёте? — спросил он.
— Я? Я провожу тебя до ворот храма.
— Только до ворот?
— Отчего только до ворот, это ты вряд ли поймёшь. И я не стану теперь тебе ничего объяснять. Хоть мы не первый день с тобой знакомы, но подружились совсем недавно. Да… хочется мне хоть разок поговорить с тобой по душам!
Проводив Усимацу до ворот Рэнгэдзи, Кэйносин простился с ним и ушёл. Жена настоятеля радушно встретила Усимацу у ограды храма. Работник при храме, Сёта, перенёс вещи Усимацу в мезонин. Запах рыбы, жарившейся на кухне, проник в жилые помещения храма и, смешавшись с дымом курений, вызвал у Усимацу какое-то странное, непривычное ощущение. К главному зданию храма направлялся служка, вероятно, с приношениями статуе Будды. Усимацу поднялся в мезонин и огляделся: стены его комнаты и Сёдзи были оклеены новой бумагой и казались приветливее, чем в первый раз. Ему даже приготовили ванну с сухими листьями редьки — «лечебную ванну», как её здесь называли. И когда, усевшись за новый столик, Усимацу вдохнул аппетитный запах супа из мисо,[5] он вдруг почувствовал себя в этих старых стенах унылой обители удивительно уютно.
Глава III
Гинноскэ, разумеется, ничего не знал о происхождении Усимацу. Они подружились ещё в Нагано, когда учились в семинарии: у них было много общего в характере. Стоило Усимацу начать описывать милые сердцу серенькие пейзажи Саку и Тиисагаты, как Гинноскэ принимался живописать красоты озера Сува, возле которого он рос. Когда Усимацу заводил разговор об истории, которой особенно увлекался, Гинноскэ расписывал ему, как интересно собирать растения, и стены общежития, где проходили их постоянные беседы, стали для них одинаково родными. Дружба в школьные годы оставляет много светлых воспоминаний, никогда не меркнущих и всегда свежих. Поэтому, когда Гинноскэ теперь думал об Усимацу, он неизменно видел его таким, каким он был в семинарские годы, и ему было тягостно замечать происходящие в нём перемены: разве можно сравнить нынешнего Усимацу с тем, прежним, когда они весело уплетали в семинарской столовой варёный рис, смешанный с ячменём… Нет, он уже не тот! Какой-то угрюмый… Не осталось и следа от прежней жизнерадостности. Взгляд, походка, голос — всё переменилось. Он сделался замкнутым. Отчего? Гинноскэ никак не мог понять. «Что-то произошло… Несомненно, какая-то причина есть», — думал он, ожидая удобного случая, чтобы откровенно поговорить с другом.
На следующий день, в воскресенье после обеда, Гинноскэ решил навестить Усимацу на новом месте. По дороге он встретил Бумпэя, и они вдвоём поднялись по поросшим мхом каменным ступеням. Дорожка, по краям которой цвели последние осенние цветы, вела к главному зданию храма, налево от него была колокольня, направо — жилые помещения. Шестиугольный храмовый флигель с покатыми черепичными крышами, с колоннами в китайском стиле — всё, казалось, свидетельствовало о величии и упадке далёкого прошлого. Под пожелтевшим деревом гинкго Гинноскэ увидел босоногого работника, который, согнувшись, усердно сгребал опавшие листья. На вопрос: «Дома ли Сэгава-кун?» — Сёта почтительно поклонился и, бросив метлу, как был босиком, пошёл узнать.
И сразу же сверху донёсся голос Усимацу. Подняв голову, они увидели его в окне мезонина, скрытого ветвями дерева.
— Прошу наверх! — пригласил Усимацу гостей.
Гинноскэ и Бумпэй вслед за Усимацу, указывавшим им дорогу, поднялись по тёмной лестнице и вошли в комнату. Лучи осеннего солнца, проникавшие сквозь ветви дерева, окрашивали стены, картину, расставленные в нише книги и журналы в золотистые тона. В открытое окно вливался прохладный воздух, приносивший свежесть в скромную келью. Усимацу вдруг заметил на столике оставшуюся раскрытой «Исповедь» и незаметно спрятал её, затем, положив на пол сложенное светлое шерстяное одеяло, пригласил гостей садиться.[6]
— Ты, я вижу, любитель переезжать с места на место! — заметил Гинноскэ, осматривая комнату. — Уж если у человека есть такая привычка, он так и будет кочевать без конца. Да, но комната в твоём прежнем пансионе, пожалуй, была лучше.
— А отчего вы съехали оттуда? — поинтересовался Бумпэй.
— Там было уж очень шумно, — как можно равнодушнее ответил Усимацу, но невольная тревога всё же отразилась у него на лице.
— Тихо-то в храме, тихо, — согласился Гинноскэ и продолжал как ни в чём не бывало: — А там в твоём пансионе недавно, говорят, выгнали какого-то «этa»?
— Да, да! Я тоже слышал об этом, — вставил Бумпэй.
— Я и подумал, что на тебя, возможно, — продолжал Гинноскэ, — подействовало это ерундовское происшествие и тебе стало там неприятно жить.
— Нет, почему же? — спросил Усимацу.
— Видишь ли, мы с тобой разные люди, — улыбаясь, ответил Гинноскэ. — Недавно я прочитал в одном журнале такую историю: какой-то человек, — впоследствии оказалось, что он душевнобольной, — обнаружил возле своего дома подкинутую кем-то кошку. И вот это так на него подействовало, что он немедленно, далее не посоветовавшись с женой, съехал из этого дома. Как видишь, для душевнобольного человека поводом для переезда может явиться даже кошка, — рассмеялся Гинноскэ. — Я вовсе не хочу сказать, что Сэгава-кун душевнобольной. Но, право, я замечаю в последнее время, что с тобой не всё в порядке. А ты сам-то ничего не замечаешь? Поэтому, когда я услышал об истории с «этa», я сразу же вспомнил об этой кошке и подумал: не потому ли тебе захотелось переехать?
— Не говори глупостей, — засмеялся Усимацу. Однако смех его был отнюдь не весёлым.
— Нет, нет, я серьёзно, — Гинноскэ пристально посмотрел на друга. — У тебя действительно неважный вид… ты бы сходил к врачу.
— Да я вовсе не так болен, как ты думаешь, — возразил Усимацу с улыбкой.
— И всё же ты должен обратиться к врачу, — серьёзно повторил Гинноскэ. — Сколько есть людей, не догадывающихся о своей болезни! У тебя, несомненно, пошатнулось здоровье. Ты же сам говорил, что плохо спишь по ночам. Значит, в организме что-то неблагополучно. Во всяком случае, так мне кажется…
— Разве? Неужели тебе действительно так кажется?
— Несомненно. Всё, что лишает сна, всякие там фантазии… Покинутая кем-то кошка, изгнанный из пансиона «этa» — всё это способно расстроить нервы. Выбросили кошку. Ну и что? Ерунда! Выгнали «этa» — ну и что? Самая обычная история, не так ли?
— Ох, беда с тобой, Цутия-кун, — прервал его Усимацу. — Ты всегда делаешь поспешные выводы и к тому же никогда их не меняешь…
— Да, такое за тобой водится, Цутия-кун, — мягко заметил Бумпэй.
— А всё оттого, что ты чересчур неожиданно перебрался сюда. — Гинноскэ переменил тему. — Но я согласен, что здесь тебе будет удобнее заниматься.
— Меня давно привлекала жизнь в храме, — начал было Усимацу, но тут вошла служанка с чаем.
Вряд ли где ещё так любят чай, как в Синано. Пристрастие к чаю — чуть ли не врождённое свойство жителей холодных горных областей. Здесь во многих селеньях наслаждаются общим чаепитием по четыре-пять раз в день. Усимацу не составлял исключения — он тоже принадлежал к числу любителей чая. Пододвинув к себе чайный прибор, он разлил по чашкам крепкий горячий чай. Поднеся чашку ко рту и вдохнув аромат распаренных чаинок, Усимацу сразу же ощутил прилив бодрости, словно заново родился. Потом отставил чашку и продолжал прерванный разговор:
— …Вчера вечером я принимал ванну. За целый день так устал, что выкупаться было особенно приятно. Я раздвинул сёдзи, увидел сад, цветущие астры… И мне подумалось: сидеть в ванне и слушать стрёкот сверчков — вот в чём истинная прелесть монастырской жизни. В пансионах, где я жил прежде, всё было совсем по-другому. У меня такое чувство, словно я вернулся в родной дом.
— Это верно, — заметил Гинноскэ, закуривая папиросу. — Нет ничего более серого и скучного, чем все эти дешёвые пансионы.
— Правда, здесь меня поразило ещё кое-что, — продолжал Усимацу. — Уйма мышей!
— Мышей! — воскликнул Бумпэй, придвинувшись поближе к хозяину.
— Да, да, мышей. Этой ночью они добрались до самой моей подушки. С непривычки мне было очень неприятно. Утром я сказал об этом жене настоятеля. Ответ её прозвучал довольно забавно: «Вместо того чтобы кормить кошку, которая будет ловить их, лучше дать мышам возможность самим кормиться. В этом будет больше милосердия и очень мало вреда. Сытая мышь вовсе не такое уж беспокойное животное, вы сами увидите, какие у нас жирные мыши!» И действительно, смотрю, они нисколько не боятся людей. Среди бела дня вылезают из своих нор и бегают всюду…. В храме всё но-особому…
— Забавно, — засмеялся Гинноскэ, — по-видимому, супруга вашего настоятеля оригинальная особа.
— Ну, особой оригинальности я в ней не приметил, просто она богобоязненная женщина. Окусама держится так, словно она не только жена настоятеля храма, но ещё и монахиня или послушница. Просто удивительная женщина. О себе и своём муже она сказала: «Мы с ним как чета Такасаго».[7]
— А кто здесь ещё живёт? — спросил Гинноскэ.
— Служка, девушка-служанка. И ещё работник Сёта. Это он подметал сад, когда вы пришли. Его все называют здесь просто «Сё-дурак». В его обязанности входит пять раз в день звонить в колокол: на рассвете, в восемь часов утра, в полдень, при заходе солнца и вечером, в десять…
— А где же настоятель? — поинтересовался Гинноскэ.
— Он в отъезде.
Усимацу рассказал гостям всё, что он узнал о жизни в храме, и под конец заметил, что здесь, оказывается, живёт дочь старого Кэйносина — Осио.
— Дочь Кадзамы-сана? — удивился Бумпэй. — Какая же? Неужели та, которая недавно была у нас на вечере бывших воспитанников школы?
— Наверное, она. Да, да, правильно! Я припоминаю, — сказал Усимацу. — Она окончила школу за год до моего приезда. Не так ли, Цутия-кун?
— Совершенно верно.
В тот воскресный день на кухне храма Рэнгэдзи готовились поминальные блюда по случаю тридцать третьей годовщины со дня смерти прежнего настоятеля. Пришла помогать даже жена молодого бонзы. По обычаю, в этот день читались сутры[8] и подносились угощения духу покойного и всем живущим под крышей храма. Аппетитный запах варёного риса с каштанами заполнил помещение храма. Когда все приготовления на кухне были закончены, жена настоятеля поднялась в мезонин. В представлении этой словоохотливой женщины и Усимацу, и Гинноскэ, и Бумпэй были ещё детьми. Хотя окусама считала себя отсталой, но она хорошо разбиралась в спорах образованной молодёжи и вообще знала много кое-чего другого. Особенно любила она рассуждать о вере и обрядах. Вот и теперь она стала рассказывать, как отмечают в народе эту годовщину — 27 декабря. Оказывается, существует такой обычай: в этот зимний день все прихожане, мужчины и женщины, после захода солнца собираются перед изображением Будды и слушают проповедь, потом чтение сутр и жития, а в двенадцать часов все приступают к ужину.
По привычке, окусама чуть ли не после каждой фразы шептала про себя: «Наму амида Буцу…»
Поговорив об обычаях, жена настоятеля поинтересовалась, почему Кэйносин ушёл со службы. По словам окусамы, муж её проявлял большую заботу о старом учителе. «Когда ты бросишь пить?» — частенько корил его настоятель. Кэйносин каялся и обещал впредь этого не делать, но потом опять потихоньку принимался за старое. Хотя он и понимает, как это плохо, но не может совладать с собой. Это у него болезнь. А теперь ему так стыдно, что он не решается переступить порог храма. Сколько бедная Осио выплакала слёз из-за своего несчастного отца!
— Что же будет теперь, когда он ушёл с работы? — вздохнула окусама.
— А ведь верно, — заметил Усимацу. — Вчера, когда я перевозил сюда свои вещи, Кадзама-сан проводил меня до самых ворот, но войти отказался и не стал объяснять почему. Сразу же простился и ушёл. И он был очень пьян.
— Проводил до ворот храма? Он и пьяный не забывает о дочери. Вот что значит отцовское чувство! — Окусама снова глубоко вздохнула.
Несмотря на то, что посторонние разговоры всё время отвлекали Гинноскэ, он не отказался от намерения по душам поговорить со старым другом, ведь он ради этого и пришёл сюда. Если ужин затянется, всё равно сегодня побеседую с ним, пусть хоть ночью, — решил он.
Общий ужин, против обыкновения, был устроен внизу, в самой большой комнате жилой части храма. Вечерняя служба, видимо, окончилась — служка в белом одеянии подавал кушания. Свет пятилинейной лампы ярко освещал высокую комнату, полную благовонного дыма курений, и придавал ей уютный вид. На одной из стен висело жёлтое облачение, принадлежавшее, по-видимому, настоятелю. Необычная обстановка заинтересовала Усимацу и его гостей. Гинноскэ был как-то особенно оживлён, его смех и громкий говор доносился до самой кухни. Жена настоятеля внимательно слушала беседу молодых людей. Под конец пришла даже Осио и, присев возле окусамы, тоже стала слушать.
При виде девушки Бумпэй сразу оживился. Присутствие женщин его всегда воодушевляло. Когда, в присущей ему изящной манере, весело поблёскивая глазами, он начинал рассказывать какую-нибудь историю, всем становилось ясно, какой это интересный человек. По временам он как бы невзначай взглядывал на Осио. Девушка спокойно слушала, и только время от времени поправляла полы кимоно или приглаживала выбившуюся прядь волос.
Гинноскэ, рассеянно слушавший Бумпэя, словно припомнив что-то, вдруг обратился к Осио:
— А ведь действительно, ваш выпуск был за год до нашего приезда, правда?
При этих словах жена настоятеля тоже обернулась к девушке. Щёки Осио залил лёгкий румянец.
— Да, — робко сказала она. Это девическое смущение ещё больше подчёркивало её юность.
— В школе я видел снимок вашего выпуска, — улыбаясь, сказал Гинноскэ. — Теперь вы настоящая барышня, а тогда вы все были ещё желторотые птенцы.
Все засмеялись, а Осио смутилась ещё больше. Один только Усимацу не смеялся. Он сидел, погруженный в свои думы.
— Посмотрите, Окусама, — заговорил Гинноскэ. — Сэгава-кун что-то очень задумался.
— В самом деле? — Окусама склонила голову набок.
Гинноскэ повернулся к Усимацу.
— Позавчера, когда я встретил тебя, ты тоже был задумчив. У тебя в руках была «Исповедь» Иноко Рэнтаро. Мне стало как-то не по себе, и я подумал: «Опять Усимацу читает книги этого писателя!» Нет, от таких книг не будет добра! Не делай этого, дружище, не трепли себе нервы.
— Но отчего же? — встрепенулся Усимацу.
— Да оттого, что не следует подпадать под чьё-либо влияние.
— Хорошо, допустим, что я подпал под влияние. Что же тут плохого?
— Если чужое влияние приносит пользу — хорошо. Но в данном случае влияние отрицательное, и это плохо. Ты же сам видишь, что ты неузнаваемо изменился с тех пор, как стал читать эти книги. Иноко-сэнсэй — «этa», и нет ничего странного в том, что у него такие идеи. Но тем, кто родился обыкновенным человеком, незачем ставить себя на его место и так убиваться.
— Значит, по-твоему, не следует выражать сочувствие беднякам или рабочим?
— Я этого не говорю. Более того, я считаю, что выражать сочувствие благородно. Но не до такой же степени, как это делаешь ты. И отчего ты стал читать только такие книги, отчего ты всё время задумчив… о чём ты вообще всё время теперь думаешь?
— Я? Да я вовсе не так уж часто задумываюсь. И думаю о том же, о чём думаете и вы с Бумпэем.
— Нет, что-то тревожит твою душу…
— Что же?
Без причины ты бы не мог так измениться.
— Разве я изменился?
— Очень. Ты совсем не тот, каким я знал тебя в учительской семинарии… Тогда ты был куда более жизнерадостным. Ты от природы совсем не мрачный человек, каким стал в последнее время. Ты постоянно о чём-то думаешь. Брось эти мысли, займись чем-нибудь другим, дай волю своей натуре. Я давно собирался с тобой поговорить. Право, я очень за тебя беспокоюсь. Если же ты плохо себя чувствуешь, обратись к врачу… Ты должен сам себе помочь.
Пока они разговаривали, все присутствовавшие в комнате смолкли. Усимацу задумался: бледность залила его лицо.
— Что с тобой? — испуганно спросил Гинноскэ. Вместо ответа Усимацу громко и неестественно рассмеялся. Потом засмеялся и Гинноскэ. Окусама и Осио прислушивались к разговору друзей, поочерёдно переводя взгляд с одного на другого. И тут в их разговор вмешался Бумпэй:
— Цутия-кун читал «Исповедь»?
— Нет, ещё не читал, — ответил Гинноскэ.
— Ас какими книгами Иноко Рэнтаро вы знакомы? Я пока ничего из его книг не читал.
— Я читал «Труд», и ещё Сэгава-кун давал мне его «Современные идеи и общественные низы». Иноко Рэнтаро пишет сильно, взволнованно. У него встречаются интересные, глубокие мысли…
— Откуда он?
— Кажется, окончил учительский институт.
— Я слышал про него такую историю: когда он преподавал и учительской семинарии в Нагано, у него на родине очень гордились тем, что из их среды вышел такой человек, и пригласили его выступить с лекцией. Он поехал. И что лее: там его не пустили в гостиницу. Ему сделалось противно, и он ушёл из семинарии и вскоре покинул Нагано… Да… После этого он, видно, много и упорно работал. Удивительно, такой одарённый человек и вышел из «синхэйминов»!
— Да, удивительно…
— Никак не могу понять, как люди такой низкой породы могут стать мыслителями.
— Говорят, он тяжело болен: у него чахотка. Может быть, болезнь и помогла ему стать таким…
— Чахотка? — удивлённо протянул Бумпэй.
— Видишь ли, болезнь — дело серьёзное: когда у человека эта самая штука — смерть постоянно стоит перед глазами, он много размышляет. Читая книги Иноко Рэнтаро, ощущаешь надвигающуюся на человека беду. Это, по-видимому, особенность чахоточных. Знаешь, сколько среди них знаменитостей?..
Бумпэй рассмеялся.
— Ты рассуждаешь как заправский физиолог…
— Смеяться нечего. Видишь ли, болезнь делает человека философом…
— Значит, все эти книги написал не сам «этa», а его рукой водила болезнь? Ты это хочешь сказать?
— А что же ещё? Не станешь же ты утверждать, что простой «синхэймин» способен своим умом дойти до таких прекрасных идей? — рассмеялся в свою очередь Гинноскэ.
Пока Гинноскэ и Бумпэй вот так спорили, Усимацу молча смотрел на пламя лампы. Как ни старался молодой человек скрыть свои душевные страдания, они невольно отражались на его мужественном лице — оно было печально.
Когда подали чай, снова завязалась оживлённая беседа. Окусама стала рассказывать о настоятеле, находившемся в отъезде. В соседней комнате уже подрёмывал служка, прислонившись к стене. Кругом стояла тишина, только со стороны двора за кухней доносился неясный шум — это Сёта толок рис. Была поздняя ночь.
Распростившись с приятелями, Усимацу долго не мог успокоиться от пережитого волнения. Расхаживая но комнате, он припоминал все события этого дня, и каждое слово товарищей, каждое проявление чувств, отражавшееся на их лицах, приводило его в содрогание. Всего тяжелей ему было видеть презрительное отношение к человеку, которого он считал своим учителем. Выходит, если ты парий, значит, не человек! Сама мысль об этой вопиющей несправедливости приводила его в ярость. Враждебность к людям низкого происхождения не могут сломить ни горячие слёзы, ни страстные слова, ни могучие идеи. Сколько одарённых людей из «этa» сошли безвестными в могилу…
Взволнованный этими мыслями, Усимацу долго не мог заснуть. Он лежал с открытыми глазами и думал о своей жизни. Опять появились мыши. Их шорох не давал ему заснуть. Усимацу зажёг потушенную было лампу и посветил на постель. Проворные маленькие зверьки сначала разбежались по углам, но потом, нисколько не боясь человека, принялись рыскать взад и вперёд, волоча за собой длинные хвосты. Они были и противны и забавны одновременно; в этих старых стенах их писк: «ки… ки…» усугублял тоску осенней ночи.
Мысли Усимацу перебегали от одного предмета к другому. Не давал покоя вопрос: как ему следует себя вести? Соблюдать настороженность? Нет, это же вызовет подозрительность. Чем больше он думал, тем больше ему казалось, что он перестарался. Отчего, когда изгнали из пансиона Охинату, он не сидел тихо? Отчего так растерялся, что сразу же перебрался в Рэнгэдзи? Отчего каждый раз, когда появлялась новая книга Иноко Рэнтаро, он с такой гордостью раззванивал всем об этом? Отчего он всегда так открыто защищал учителя и этим давал повод думать, что между ним и Иноко Рэнтаро существует какая-то связь? Отчего так часто упоминал его имя при других? Отчего не покупал его книги тайком? И отчего у него до сих пор не хватало ума читать их украдкой, наедине, у себя в комнате?
Почти всю ночь он метался без сна на своём тюфяке, терзаясь и дрожа от страха. Он обессилел от мучивших его сомнений.
Наутро Усимацу принял решение впредь быть более осмотрительным. Прошлого уже не вернёшь, но теперь он будет осторожней и ни о книгах Рэнтаро, ни о нём самом, решительно ни о чём, что связано с его именем, он ни с кем не обмолвится и словом. Вот до чего он будет осторожен!
«Храни тайну!» Да, завет отца дошёл до его сознания. Это поистине был вопрос жизни и смерти. Запреты, иссушавшие плоть буддийских послушников, прикрытую чёрной одеждой, по сравнению с этим заветом были ничто. Когда послушник не следует поучениям своего наставника, говорят, что он пал; когда же «этa» нарушает завет своего отца, он теряет всё. «Никогда не признавайся!» — твердил ему отец. Теперь он понял, что тот, кто вкусил настоящую жизнь и хочет в ней утвердиться, сам никогда не пожелает признаться.
Усимацу минуло двадцать четыре года. Наступила лучшая пора жизни человека. Он уже кое-чего достиг, и ему хотелось, по крайней мере, сохранить достигнутое. Но чем больше он этого желал, тем сильнее и неотступнее его преследовало сознание, что он — «этa». А жизнь казалась Усимацу такой прекрасной! И он говорил себе, что теперь ни при каких обстоятельствах не нарушит завет отца — завет жизни.
Глава IV
Наступила пора уборки осеннего урожая. Крестьяне в пригородах Ииямы от зари до зари работали в поле. Рис повсюду был убран, и на его месте уже кое-где посеяли ячмень. Пришло наконец время получить воздаяние за целый год труда. Скорей, пока не выпал снег! Поля на берегах Тикумы превратились буквально в поле битвы.
В тот день, вернувшись из школы, Усимацу вышел из храма прогуляться. Аллея поблёкших тутовых деревьев незаметно вывела его за город. Он присел в тени скирды, прислонившись к ней и вытянув ноги на увядшей от заморозков траве, глубоко вдохнул живительный воздух полей, и ему показалось, что он воскрес. Вокруг, в клубах желтоватой пыли, трудились крестьяне — где мать с детьми, где муле с женой. И тут и там слышался отдающийся в земле весёлый стук цепов; а когда он затихал, доносился шелест — это прочёсывали рис. Кое-где вздымались столбы белого дыма. По временам в небо шумно взлетали стайки воробьёв и, звонко прочирикав, снова рассыпались по полю.
Стоял на редкость жаркий, безветренный день. Осеннее солнце палило нещадно, работать было трудно. Мужчины повязали головы полотенцами, женщины надели большие плоские шляпы; спины крестьян взмокли от пота. Сквозь сияние, заливавшее поле, Усимацу взирал на эту картину крестьянского труда. Вдруг его внимание привлекла фигура проходившего мимо мальчика лет пятнадцати. Усимацу сразу узнал в нём сына Кэйносина. Мальчика звали Сёго, он учился в четвёртом классе старшего отделения, который вёл Усимацу. Каждый раз при виде мальчика Усимацу невольно вспоминал старого Кэйносина.
— Кадзама-сан, куда ты? — окликнул он мальчика.
— А… а, это вы, — смущённо протянул Сёго и запнулся. — Мама в поле…
— Мама?
— Да, вон она! — показал рукой Сёго и слегка покраснел.
Усимацу приходилось слышать о жене своего коллеги, но он никак не подозревал, что она и есть та женщина, которая работает здесь неподалёку. В широкополой шляпе, в поношенной одежде, перетянутой широким коричневым поясом, в синих полотняных рукавицах, она усердно прочёсывала рис, поминутно наклоняясь то вправо, то влево. Женщины с севера Синано все — крепкие, сильные. Работают они не хуже мужчин. Но чтобы жена учителя работала в поле да ещё в такую жару! Такое случается не часто. Усимацу подумал о ней с сочувствием, видно, не сладко живётся женщине. Рядом с нею какой-то мужчина молотил зерно. Сёго сказал, что это крестьянин Отосаку, давнишний их знакомый, пришедший помочь. Жена его тут же веяла зерно, держа высоко над головой совок. Каждый раз, когда она подбрасывала зерно, в воздух поднимались клубы пыли и шелухи, и оттого казалось, что женщину обволакивает жёлтым дымом. Рядом с матерью Сёго Усимацу увидел девочку. Сёго объяснил, что это его сестра Осаку.
— А сколько же вас всех, братьев и сестёр? — поинтересовался Усимацу.
— Семеро.
— Целых семеро! Значит, ты, старшая сестра, потом Сусуму-сан, который учится в начальной школе, затем эта сестрёнка… А кто же ещё?
— Ещё одна младшая сестра и младший брат. Самый старший брат ушёл в солдаты и умер.
— Вот как!
— Покойный брат, сестра Осио, которая живёт в храме Рэнгэдзи, и я — мы трое от одной матери.
— А где лее ваша родная мать?
— Она умерла.
Тут послышался голос мачехи:
— Когда же, наконец, я дождусь твоей помощи? — и Сёго побежал к ней.
Сёго с понурым видом стоял перед мачехой; видимо, он её побаивался.
— Подумай, тебе уже пятнадцать лет, — сердито отчитывала пасынка женщина. — Ты же видишь, что нам пришлось сегодня даже позвать на помощь Отосаку-сана. Работаем здесь с раннего утра, все в пыли… Неужели ты сам не мог догадаться прийти сюда сразу после школы и помочь нам? Дорос до четвёртого класса, а только и знаешь, что гоняться за саранчой. Ну где это видано? Бездельник ты, вот и всё!
Жена Отосаку обернулась и, сочувственно глядя на Сёго, отряхнула передник и утёрла им струившийся по лицу пот. Намолоченное жёлтое зерно высилось горкой на циновке. Отосаку опёрся на длинную рукоятку цепа, потянулся всем своим натруженным телом и глубоко вдохнул густой синий воздух.
— Перестань, Осаку! — теперь уже мачеха Сёго бранила дочку. — Что ты вечно балуешься? Ты девочка и веди себя прилично. Ну что мне с вами делать! Никакой пользы от вас нет. Собственная дочь, и та опостылела! Посмотри-ка на Сусуму! От него помощи гораздо больше, чем от тебя и от Сёго вместе взятых.
— А что делает Сусуму — ничего! — робко возразил Сёго.
— Это он-то ничего не делает? — Женщина повысила голос — А кто нянчит маленьких? Вот от тебя действительно никакого толку не добьёшься. Ишь ты какой! Что ни скажешь — он сейчас же в спор. Отец вас избаловал, вот вы матери и не слушаетесь. Только и слышишь от вас дерзости. Особенно отличается в этом Сёго. Чуть с тобой станешь помягче, так ты уж до того распускаешься… Наверно, опять бегал в Рэнгэдзи языки чесать с сестрой. То-то ты так поздно пришёл. Только попробуй ещё раз отлучиться без разрешения…
Отосаку, видимо, тяготила эта сцена.
— Простите его сегодня, прошу вас, госпожа, — попросил он жену Кэйносина. — Знаешь, Сёго-сан, — обратился он к мальчику, — так не годится. Если ты не будешь слушаться матери, я больше никогда не заступлюсь за тебя.
Жена Отосаку подошла к Сёго и, потрепав его по плечу, тихо что-то сказала. Потом она вложила в руку мальчика цеп и подвела к мужу. — Ну, помогай!
— Что ж, начнём! — И Отосаку с Сёго принялись молотить. — Ой, ой! — слышались поочерёдно возгласы то одного, то другого. Женщины продолжили свою работу.
Так совершенно неожиданно Усимацу познакомился с семьёй Кэйносина. До той поры он не знал, что и этот славный мальчик, и Осио уже давно лишились родной матери. Понял он теперь и то, что жене Кэйносина приходится тяжело трудиться, чтобы хоть как-нибудь сводить концы с концами. Понял, что неудачи мужа и вечные заботы о пятерых детях сделали её суровой и раздражительной. И он от всего сердца посочувствовал бедняге Кэйносину.
Понемногу к Усимацу стало возвращаться мужество. Он снова стал яснее видеть и яснее мыслить. Зрелище расстилавшихся перед ним полей будило в его душе воспоминания. Он вспомнил детство, когда вот точно так же любовался картинами жатвы. Вспомнил горы Эбоси, лепившиеся по склонам поля и каменные ограды. Вспомнил, как иней покрывал листья тростника и полевых хризантем, росших вдоль меж. Осенний ветер проносился над полями, вздымая жёлтые волны, а он ловил саранчу, гонял полевых мышей, по вечерам слушал у очага рассказы о лисицах и барсуках, наводящих чары на людей, легенды о злых и добрых духах, бесхитростные рассказы крестьян — и беззаботно смеялся. О золотое время, когда ему ещё не была знакома горечь от сознания, что он «этa»! Подумать только, как давно это было! Казалось, что то время и нынешнее — две разных жизни, в двух разных мирах. Потом Усимацу вспомнил годы, проведённые в учительской семинарии в Нагано. Тогда он ещё мало знал жизнь и потому не мучился сомнениями, считал себя таким же, как все другие, смеялся и веселился. Вспомнил рыжие усы и бородку инспектора семинарии. Вспомнил запах ячменной каши в столовой. Вспомнил старушку из соседней лавки, где он покупал дешёвые лакомства. Вспомнил, как звонил колокол, возвещавший отход ко сну, как инспектор обходил общежитие и как его шаги удалялись, а затихшая было студенческая братия снова поднималась с постелей, и в тёмной спальне возобновлялись бесконечные разговоры. Вспомнил, как он взбирался на гору к храму Одзёдзи и, стоя у заросших камышом могил, громко кричал… Поистине всё в его жизни изменилось. Радостные воспоминания прошлого удваивали печаль настоящего. Отчего он теперь такой мнительный? Усимацу вздохнул, заглядевшись на небо. Набежало откуда-то лёгкое облачко. Следя за ним, Усимацу погрузился в свои мысли, а тут подкралась усталость, и он, прислонившись к скирде, незаметно задремал.
Когда он очнулся и огляделся вокруг, уже смеркалось. По полевым тропкам в разных направлениях тянулись цепочки людей. У одних были мотыги на плечах, у других — мешки зерна за спиной; некоторые женщины несли на руках младенцев. Трудный осенний день кончился.
Однако кое-кто ещё продолжал работать. Спешила покончить с уборкой и семья Кэйносина. Отосаку, согнувшись под тяжестью мешка, медленно шёл по направлению к дому. Две женщины и Сёго продолжали работать. Они домолачивали рис и ссыпали его в мешки. Вдруг раздался детский крик:
— Мама, мама!
С младшей сестрёнкой и младшим братишкой за спиной, ревевшим во всё горло, к матери подбежал Сусуму. Мать взяла ребёнка и стала кормить его грудью.
— Сусуму, ты не знаешь, что делает отец?
— Не знаю.
— Эх! — Мать с досадой утёрла рукавом глаза. — Как подумаю об отце — ни работать, ничего не хочется! Просто руки опускаются…
— Мама, Осаку-тян! — вдруг закричал Сусуму, показывая на сестрёнку.
Мать оглянулась.
— Кто развязал мешок? Кто это без спросу трогал мешок?
— Это Осаку-тян взяла и съела, — сказал Сусуму.
— Просто сладу нет с этой девчонкой, — рассердилась мать. — Дай сюда мешок! Кому говорят! Сейчас же дай сюда мешок!
Восьмилетняя Осаку растерянно держала полотняный мешочек и не решалась подойти, напуганная сердитым видом матери.
— Мама, дай поесть! — принялись просить дети. Сёго тоже подбежал к матери. Она вырвала мешочек из рук Осаку.
— Ну-ка, покажи! Всё съела! Ну, вы подумайте, что за скверная девчонка! То-то, смотрю, она присмирела. Только отвернёшься на минутку — она тут как тут. А ты знаешь, что тот, кто не спросившись берёт и ест, вор, воришка! Убирайся прочь! Такая девчонка мне не дочь!
С этими словами она вынула из мешочка оставшиеся холодные лепёшки и стала раздавать остальным детям.
— И мне, — протянула руку Осаку.
— А ты куда? Ты уже свою долю съела!
— Мама, дай мне ещё! — жалобно протянул Сёго. — Сусуму ты дала две, а мне только одну.
— Как тебе не стыдно, ты ведь старший…
— Ты дала Сусуму самые большие…
— Не нравится — отдавай обратно. Хоть бы раз ты был чем-нибудь доволен…
Набив полный рот, Сусуму держал в руке вторую лепёшку и приговаривал:
— Сёго дурак! Ну что, получил, получил?
Сёго рассердился и, подбежав к братишке, ударил его кулаком по голове. Сусуму не растерялся и дал ему в ухо. Обозлившись, оба мальчугана забыли обо всём на свете, сцепились, как петухи, и стали тузить друг друга. Когда жене Отосаку удалось наконец их разнять, оба они громко ревели.
— Разве можно братьям так ссориться! — накинулась на них мать. — Вы так безобразничаете, что с ума сойти можно.
Усимацу, оказавшись невольным свидетелем этой сцены, почувствовал ещё большую жалость к несчастной семье Кэйносина. Вечерний звон колокола, заставивший Усимацу вздрогнуть, вывел его из печальных раздумий. Он быстро поднялся и зашагал домой.
Грустную тишину осеннего вечера снова нарушил звон колокола Рэнгэдзи. Для усталых, натрудившихся за день крестьян он звучал радостным призывом к отдыху. Те, кто ещё задержались на поле, стали торопиться домой. Вечерний туман окутал противоположный берег реки Тикума и почти скрыл очертания гор Косядзан. На западе небо окрасилось багрянцем, заходящее осеннее солнце кинуло на поля свой последний луч. Видневшиеся вдали рощи и деревушки подёрнулись сиреневой дымкой. О, как радостна пора юности, когда можно наслаждаться таким чудесным вечером, не испытывая никаких тревог и горестей. Томимый душевными страданиями, Усимацу ещё глубже воспринимал красоту окружающей его природы. На юге блеснула первая звезда. Её чистое сияние придало вечеру какую-то торжественность. Устремив взгляд на звезду, Усимацу брёл вдоль полей, думая о своей жизни.
«Что же это происходит? Почему я должен жить в вечном страхе? — подбадривал он сам себя, — Ведь я такой же член общества, как и другие. Я имею такое же право на жизнь…»
Эта мысль влила в него бодрость и успокоение. Усимацу оглянулся. Вдали в сумерках белели платки двух женщин, значит — семья Кэйносина всё ещё продолжала работать. В посвежевшем воздухе слышался мерный стук цепа, до него донеслись отголоски слов: «Собирай солому». Кто-то стоит, обернувшись к нему лицом, — не Сёго ли? Стемнело настолько, что уже нельзя было разобрать ни лиц, ни фигур — видны были лишь движущиеся тени.
У жителей гор принято при встрече с кем-нибудь после захода солнца говорить вместо «Добрый вечер» — «Устали?». Пока Усимацу добирался до городка, он непрерывно обменивался этим приветствием со встречными крестьянами. И когда он уже вышел к дешёвой харчевне на окраине — месту отдыха крестьян, — он опять услышал: «Устали?» Это оказался Кэйносин.
— А, это ты, Сэгава-кун! — остановил его старик. — Вот кстати встретились. Мне давно хотелось поговорить с тобой по душам. Не торопись, посиди вечерок со мной. Здесь самое подходящее местечко для беседы. Зайдём, мне нужно тебе кое-что рассказать.
Поддавшись уговорам Кэйносина, Усимацу вошёл следом за ним в харчевню. Здесь бродячие торговцы — днём, а вечером — крестьяне забывали свою усталость. В большом очаге ярко пылал хворост. У стены, выстроившись в ряд, стояли старинные кувшины с сакэ. У крестьян сейчас горячая пора, засиживаться здесь им было недосуг, поэтому харчевня большую часть времени пустовала. Заскочит какой-нибудь крестьянин, прямо не снимая сандалий, хлебнёт кружку сакэ и тут же исчезает. Место у очага оказалось в их полном распоряжении.
Подошла хозяйка и, вешая над очагом котёл, спросила:
— Вам чего подать? Может, хотите похлёбку или скумбрию — сегодня наловили… Подать скумбрию?
— Скумбрию? — Кэйносин облизнулся. — Скумбрию — это хорошо. А если ещё и похлёбку — так будет просто замечательно. В такой вечер нужно что-нибудь горячее.
Кэйносин весь дрожал от желания выпить. В трезвом состоянии он был довольно угрюмым и молчаливым, казался даже болезненно замкнутым. Хотя ему уже минуло пятьдесят, он выглядел моложе своих лет, и его чёрные волосы ещё не тронула седина. Перед глазами Усимацу снова возникла случайно увиденная им сцена на поле, и его охватила горячая волна сочувствия к этому неудачнику.
В очаге пылало яркое пламя. Над котлом поднялся густой пар, разнося вокруг аппетитный аромат. Хозяйка налила полный горшок похлёбки, согрела сакэ и поставила каждому на столик по бутылочке старинной формы.
— Сэгава-кун, ты когда приехал в Иияму? — спросил Кэйносин, то и дело понемногу подливая себе водки.
— Я? Да вот уже три года, как я живу здесь.
— Неужто? А мне казалось, что совсем недавно. Как бежит время! Да-а, у нашего брата осталась одна дорога — старость, а вот вам шагать и шагать вперёд. А ведь и я был когда-то такой, как ты. Всё думаешь, завтра, завтра; глядь, а тебе уже полсотни стукнуло, и ничего ты не достиг. А ведь я, знаешь, из самурайского рода — из клана Иияма, в молодости служил самому князю, а потом в Эдо как раз перед переворотом.[9] Как быстро меняются времена — перемена за переменой. Вот посмотри… Видишь, на берегу Тикумы развалины замка? Сейчас осталась одна каменная ограда. Она тебе ничего не говорит. А когда я гляжу на неё, вижу, как всё там заросло плющом и травой… Нет, мне не выразить словами, что творится у меня на душе. Теперь всюду на месте старых замков тутовые сады. Самурайство выродилось, гибнет. А если кто и уцелел, то перебивается кое-как, тянет лямку бедного чиновника или учительствует в школе, только и всего… Самые непригодные люди — это самураи, а ведь я один из них…
Кэйносин горько усмехнулся. Он осушил чашечку сакэ, прищёлкнул языком и протянул её Усимацу.
— Поменяемся!
— Давайте я налью вам, — предложил Усимацу, берясь за бутылочку.
— Э, нет, так не годится. Если уж подносить — так подносить, а если пить — так пить. Я думал, что ты совсем не пьёшь, а ты, оказывается, умеешь выпить! Первый раз вижу, что ты пьёшь.
— Да разве это называется уметь выпить! Ведь я на третьей чашечке готов…
— Во всяком случае, эту чашечку выпей до дна. А потом налей мне. Я вот только с тобой впервые за долгие годы говорю по душам, откровенно. Вот уже двадцать лет… да, с тех пор, как я получил звание учителя, прошло уже пятнадцать лет, и всё это время я твердил изо дня в день одно и то же, одно и то же. Ты, может, будешь надо мной смеяться… но, поверишь ли, дошло до того, что я сам перестал понимать, чему я учу своих учеников! Тот, кто долго прослужил учителем, хорошо это знает. Откровенно говоря, я никогда и не считал, что занимаюсь воспитанием детей. Школа была для меня только службой, где я, наряженный в форму, мог получать жалованье. Учитель младших классов начальной школы — то же, что и рабочий, разве что образованный… За грошовое жалованье изо дня в день наводить порядок в шумном классе, следить за учениками, работать столько часов, что сам даже диву даёшься, как ещё на ногах держишься…
Может быть, тебе кажется, что мой уход со службы — безумие. Нет. Хотя я знаю — протяни я эту лямку ещё шесть месяцев, у меня была бы хоть и маленькая, но всё же пенсия. Знаю это и не могу ничего с собой поделать. Вот это плохо. Работать в школе или умереть — для меня теперь всё одно! Жена, как и полагается жене, волнуется: на что мы будем теперь жить? Если не хочешь быть учителем, иди служить в банк, садись за конторку. Но разве я сумею так сделать? Раз уж я не в состоянии заниматься делом, к которому привык за двадцать лет, как же я возьмусь за новое? Вся сила, вся моя бодрость — всё ушло. Выдохся я, выдохся, как старая ломовая лошадь, которую как ни погоняй, всё равно работать она уже не может…
Со двора вошёл какой-то мальчик, и Кэйносин замолчал. Хозяйка, которая при тусклом свете лампы гремела посудой у кухонного стола, подбежала к нему.
— Никак, это Сёго-сан?
У Сёго был озабоченный вид.
— Отец здесь?
— Как же, здесь, — ответила хозяйка. Кэйносин нахмурился. Он подвёл Сёго, стоявшего в полутьме у самой двери, к очагу и, пытливо всматриваясь в личико сына, спросил:
— В чём дело? Что тебе нужно?
— Вот… Мама прислала… сказать, чтобы отец поскорей приходил домой, — запинаясь, проговорил Сёго.
— Посылает на розыски… Опять взялась за старое, — пробормотал про себя Кэйносин.
— Значит, отец не пойдёт домой? — робко спросил Сёго.
— Приду, кончу беседу и приду. Так и скажи матери: отец беседует с учителем. Когда кончит, придёт, — проговорил Кэйносин, потом, понизив голос, спросил мальчика: — А что мама делает?
— Убирает зерно.
— Вот что! Она ещё работает?.. А… мама не сердилась, как всегда?
Сёго молчал. Он грустно смотрел на отца, видно, его детское сердце было исполнено жалости к нему.
Кэйносин взял сына за руку.
— Почему у тебя такие холодные руки? — воскликнул он. — Вот, возьми деньги. Купи себе хурмы. Только потихоньку, чтоб ни мама, ни Сусуму не знали. Хорошо? Иди скорей… и передай, как сказал отец. Ладно? Понял?
Сёго кивнул и вышел с поникшей головой. А старик снова предался воспоминаниям.
Помнишь, когда ты перебирался в Рэнгэдзи? И я тогда проводил тебя только до ворот? А знаешь почему? Право, я только тебе это рассказываю: я провинился, и настоятель очень на меня сердит. Сказал, что, пока я пью, он видеть меня не хочет. Жестоко это. Выходит, что я теперь с дочерью не могу повидаться. Осио, которая живёт в Рэнгэдзи, Сёго и покойный старший сын, эти трое — дети от моей первой жены. Она тоже была дочерью самурая. Я женился на ней в хорошее для нашей семьи время. Она скончалась ещё до того, как я опустился. Оттого каждый раз, как я о ней думаю, у меня перед глазами встают лучшие дни моей жизни. Выпью чашечку сакэ и непременно вспомню это время. Знаешь, с годами только и радости что воспоминания о прошлых днях.
Да, моя первая жена умерла в хорошее время. Человек — странное существо: самое доброе для него то, что он пережил в молодости. Только нет, она и действительно была хорошей женой. И нравом была покладистей теперешней моей жены. Всей душой мне верила, как в старину, когда жена во всём полагалась на мужа. Осио очень похожа на мать, особенно глазами. Как взгляну на неё, сразу так и вижу перед собой жену. Не я один, все так говорят, а теперешней жене моей это, видно, не по нутру. По правде говоря, не хотелось мне отдавать дочку в Рэнгэдзи. Но дома ей было бы хуже. Пожалел я её. Ну, а настоятель Рэнгэдзи очень этого добивался — у них своих-то детей нет. А ведь в Иияме не так, как в других местах, — здесь священнослужителей чтят… Вот я и отдал свою Осио…
Чем дальше Усимацу слушал, тем больше он жалел старика.
— А было ей тогда тринадцать, — добавил Кэйносин. — Эх, бестолковая у меня жизнь! — сказал он со вздохом. — Подумай, как горько это звучит — «бестолковая»! Говорят, что я беден оттого, что пью. А я скажу: пью я оттого, что беден. Ни одного дня не могу, чтоб не выпить. Сначала я пил, чтобы забыть горе. Теперь не то. Теперь, наоборот, я пью, чтобы почувствовать своё горе. Может, это смешно, но, если я хоть один вечер не выпью, на меня наваливается такая тоска, такая тоска, что я весь дрожу. Спать не могу. Сам не свой делаюсь. А как выпью, начинаю мучить себя разными мыслями; вот тогда я чувствую, что живу.
Если начать тебе рассказывать о всех моих бедах и унижениях, этому конца не будет. До того, как я стал работать в нашей школе, я долго служил в Симо-Такаи. На нынешней моей жене я женился как раз там. Она оттуда родом и работать умеет. Жать рис в мороз я так и не научился. Стоит мне только попробовать, как тотчас же заболеваю. А ей нипочём. Она выносливее меня. Когда нас одолела нужда и стало уже не до стыда, она и говорит: «Я сама буду крестьянствовать!» И что же? Своими женскими руками стала обрабатывать землю. Крестьянин Отосаку, который с давних пор связан с моей семьёй,[10] предложил в благодарность за прошлое помогать нам. Но я всё равно был против. А жена и слышать не хочет. Ведь я-то самурай, я даже не знаю, сколько цубо[11] в одном тане,[12] не знаю, сколько налога берётся за каждый сноп, сколько зерна даёт один сё[13] семян, сколько удобрений требуется в год — ровно ничего в этом не смыслю. Я далее не знаю, сколько земли жена арендует. Она считает, что и детей надо приучать работать в поле… видно, ей хочется, чтобы они стали простыми крестьянами.
Насчёт этого мы с ней постоянно препираемся. Необразованной женщине нельзя доверять воспитание детей! Уж если искать причины наших постоянных стычек, то они всегда из-за детей. Как ни странно: из-за того, что есть дети, супруги ссорятся, а из-за того, что супруги ссорятся, снова появляются дети. Ну, думаю, с нас хватит! Ведь, когда прибавляется ребёнок, прибавляется и нужда. Когда жена родила третью девочку, я сказал: «Назовём её Осуэ».[14] Я думал: может быть, если назовём её Осуэ, будет конец. Что лее ты думаешь? Сразу же за ней появился четвёртый! Что было делать? Назвали его Томэкити.[15] Представь, каково мне, когда вокруг ревут пятеро детей. Мука мученическая… Теперь, когда я вижу бедную семью, в которой много детей, я очень хорошо представляю себе её страдания. И с пятью детьми трудно прокормиться, а если будет больше, просто не знаю, что тогда делать…
Кэйносин рассмеялся, хотя глаза его наполнились слезами. Горячие струйки текли по щекам и падали на рукава его жалкой одежды. Кэйносин обеими руками потёр себе лоб, щёки, подбородок.
— Послушай, Сэгава-сан, — заговорил он опять. — Сёго теперь на твоём попечении. Скажи, выйдет что-нибудь путное из него? Ведь он такой робкий, нет в нём никакой живости. Он словно девочка: чуть что, сейчас же в слёзы. Вечно его младший брат обижает. Говорят, что для родителей все дети одинаковы, а всё же Сёго я как-то больше люблю. Может, жалею его за то, что он такой слабый. А жена стоит за младшего — Сусуму. Сёго для неё обуза, ругает она его ни за что ни про что. А если я заступлюсь, сейчас лее ссора — ты, мол, любишь только детей первой жены, а Сусуму не хочешь и знать. Оттого я и молчу. Забьюсь куда-нибудь в угол подальше или же потихоньку убегу из дома и пью один — для меня теперь это первое удовольствие. Сказать жене хоть слово — ни-ни… Она сейчас лее: «Я не такой голой за тебя выходила!» А что мне ей ответить? Нечего. Ведь всё её приданое я пропил… Глупой кажется моя жизнь, правда? — горько усмехнулся Кэйносин.
Когда старик излил всё накопившееся в душе, ему стало легче. Он быстро хмелел, язык у него стал заплетаться и наконец совсем перестал его слушаться.
Они встали. По счёту уплатил Усимацу, и они вышли из трактира. Было уже далеко за восемь. Город погрузился в темноту, на улице почти не встречалось прохожих. Навстречу им попалась какая-то помешанная женщина, разговаривавшая сама с собой, потом какой-то пьяный, который, видно, забыл дорогу домой. Кэйносин едва держался на ногах. Глаза его помутнели, в них далее как будто не отражался блеск звёзд. Усимацу решил довести его до дома. Он то поддерживал его под руку, то подставлял ему плечо и чуть ли не тащил старика на себе, то, обхватив его, балансировал вместе с ним.
Когда наконец он довёл Кэйносина до дома, они застали жену Кэйносина и крестьянина Отосаку с женой, вымокших от ночной росы, за работой во дворе. Увидев Усимацу» приведшего её пьяного мужа, жена Кэйносина смутилась.
— Ах, это вы! Сколько хлопот вам причинил мой муж!
Глава V
Третьего ноября вдруг ударил мороз. Вот что даёт почувствовать приближение долгой-долгой зимы в горах. Когда, проснувшись утром, Усимацу глянул в окно своей комнаты, всё вокруг точно было окутано белым дымом. Так как в этот день в школе отмечалось двадцатичетырёхлетие императора, Усимацу надел вынутые по этому случаю из корзины хаори и хакама и облачился в прошлогоднее пальто.
Когда он спустился по тёмной лестнице и вышел в коридор, в окно, обращённое на север, проникал яркий свет утреннего солнца. Под его лучами на дворе таял иней и осыпались листья. На ветвях гинкго уже не осталось ни одного листочка. Вдруг Усимацу заметил тоненькую женскую фигурку: это была Осио. Прижавшись к стене, она глядела, как кружатся и падают тронутые морозом листья. Усимацу вспомнил Кэйносина, его вчерашний рассказ о семье и детях; ему опять стало жаль этого беднягу и захотелось оказать внимание его дочери.
— Осио-сан, — обернулся он к ней, — не передадите ли вы окусаме, что сегодня у меня ночное дежурство. Пусть она оставит для меня ужин, а я попозже пришлю из школы мальчика.
Осио пугливо отделилась от стены. При виде Усимацу она всегда робела. Похожа она чем-нибудь на Кэйносина? Волосы, выражение лица — нет. Сёго — тот похож на отца, а она, видимо, на покойную мать. «Глаза её точь-в-точь материнские, — сказал Кэйносин», — думал Усимацу, невольно разглядывая девушку.
Осио слегка покраснела и, запинаясь, сказала:
— Вчера вечером отец доставил вам беспокойство! Извините, пожалуйста!
— Что вы! Нисколько! Это я должен извиняться! — искренне воскликнул Усимацу.
— Вчера сюда приходил брат. Он рассказал мне…
— Вот как!
— Наверно, отец причинил вам много хлопот… Уж он такой у нас, он всем причиняет беспокойство.
Видимо, тревога об отце ни на минуту не покидала бедную девушку. Во взгляде её ласковых чёрных глаз сквозила печаль, а щёки слегка покраснели и припухли от недавних слёз.
Кивнув на прощание Осио, Усимацу поднял воротник пальто, надел шляпу и вышел и храма.
На углу одной из улиц Усимацу сунул руку в карман и вдруг обнаружил забытые там смятые чёрные перчатки. Расправив, он натянул их на руки, и хоть они были тесноваты, в них было тепло — грела вязаная подкладка. Поднеся руку к носу, Усимацу вдохнул слабый, давно забытый запах, и перед ним сразу всплыли воспоминания о празднике. Как радостно он ощущал себя в былые годы! В прошлом, позапрошлом году… и три года тому назад… То было время, когда он ещё не знал жизни и не задумывался над нею… Перчатки были всё те же, лишь выцвели слегка. А как всё изменилось у него в душе! И что будет с ним в будущем? Не только в следующую годовщину, на будущий год, а например завтра? От этих мыслей у него защемило сердце.
А кругом всё было, как и полагается в большой праздник: улицы украшены флагами, дух торжественности и праздничности витает над домами. Дети, оживлённо болтая, гурьбой шагают по влажному от растаявшего инея тротуару к школе. Даже самые отчаянные сорванцы-школьники в этот день ведут себя необычайно солидно. Мальчуганы сегодня вырядились в хаори и хакама, а на девочках хакама были новые — коричневые и лиловые.
В школе церемония празднования дня рождения императора происходила в актовом зале. Ученики и ученицы стройными рядами поднялись по лестнице, ведущей в актовый зал. Каждый учитель шёл впереди своего класса. Школьников старшего отделения вели: Гинноскэ — второй класс, Бумпэй — первый, Усимацу — четвёртый. На празднике, уже в качестве гостя, присутствовал и Кэйносин. С грустным видом этот уволенный учитель поднимался по лестнице вслед за своими бывшими учениками.
Общее праздничное настроение развеяло было грустные раздумья Усимацу. Но, заглянув случайно перед самым началом церемонии в одну из токийских газет, он прочитал о том, что состояние здоровья Иноко Рэнтаро ухудшилось. Это известие глубоко взволновало Усимацу; не имея времени прочесть сообщение внимательно, он сунул газету за пазуху. Есть люди, которые рождаются как бы затем, чтобы стремительно пройти свой путь по земле, прожить в короткий срок большую жизнь. Может быть, Рэнтаро один из таких людей. В газете говорилось, что состояние его тяжёлое. Ах, прежде чем зажечь мир, горящее в груди учителя пламя сожжёт его самого! Эти мысли не покидали Усимацу ни на минуту. Его обуревало желание перечитать сообщение ещё и ещё раз, но сейчас он не мог этого сделать.
День рождения императора совпал с праздником Общества Красного Креста. На груди у собравшихся в зале алели красные ленточки и поблёскивали серебряные значки. Вдоль восточной стены зала стояли более двадцати священнослужителей. Среди них не было только настоятеля храма Рэнгэдзи, и всё же, как ни странно, отсутствие его было заметно. Среди гостей всеобщее внимание привлекал местный деятель Такаянаги Тосисабуро, который уже зарекомендовал себя как восходящая звезда на политическом горизонте. В этом году он снова баллотировался в депутаты парламента.
Гинноскэ, Бумпэй и другие учителя и учительницы теснились в том конце зала, где находилась фисгармония.
— Внимание! — раздался торжественный призыв старшего учителя Усимацу, и в зале воцарилась тишина. Усимацу пользовался гораздо большей симпатией и уважением учеников, нежели директор.
Церемония началась. Когда все запели национальный гимн, директор отдёрнул занавес с портретов императорской четы, а потом прочёл манифест,[16] последние слова которого утонули в дружных возгласах: «Банзай, банзай!» Затем выступил с речью директор. На этот раз его речь была посвящена верноподданности и сыновнему долгу. На груди его внушительно поблёскивала медаль. Потом все вместе спели песню о дне рождения императора. Потом с приветствием от имени гостей выступил Такаянаги; он был опытный оратор, и его речь пришлась всем по душе, ибо жители Синано всегда питали пристрастие к красноречию.
После окончания торжественной церемонии ученики четвёртого класса обступили Усимацу плотным кольцом. Он делал вид, будто хочет ускользнуть от них, а они не отпускали его, теребили рукава платья, цеплялись за руки. Вдруг Усимацу заметил жавшуюся в стороне одинокую фигурку. Это был третьеклассник «синхэймин» Сэнта. Он всегда держался особняком, в стороне от всех. И сегодня Сэнта стоял чуть поодаль, с грустью наблюдая, как веселятся и радуются его соученики. Бедняжка, даже в этот праздник он не веселится вместе со всеми. Усимацу закусил губу. Ему хотелось подбодрить бедного ребёнка, сказать ему: «Держись крепче, не бойся!» Но на него был устремлён взгляд другого учителя, и он, чтобы скрыть собственное смущение, выбрался из толпы учеников и вышел во двор.
Утренний мороз оголил почти все деревья в школьном саду. Уцелела только на одной вишне осенняя листва. Усимацу остановился возле деревца, вздрагивая при каждом лёгком порыве ветра, пробегавшего по ветвям вишни, словно нашёптывая им что-то. Он вынул газету, развернул её. И прочитал, что состояние здоровья Рэнтаро критическое, что хотя корреспондент сам отнюдь не разделяет идеи Рэнтаро, он не может не отдать должного человеку, который, выйдя из среды «синхэйминов», ведёт неустанную борьбу за их права. Он считает также, что Рэнтаро принадлежит к числу тех, так много обещавших, но безвременно угасших молодых людей, которые страдали той же болезнью, что и он. Далее корреспондент высказывал предположение, что глубина и серьёзность работ Рэнтаро, снискавшие ему признание читателей, объясняется его страданиями, и заканчивал признанием, что он сам тоже — один из друзей Рэнтаро.
Читая, Усимацу не раз тревожно вздрагивал — его пугали пробегавшие по земле тени. Ярко алели на солнце тронутые морозом листья вишни. Увядшая листва невольно наводила на размышления о несчастной судьбе Рэнтаро.
Прощальный чай в честь Кэйносина состоялся в одиннадцать часов. Когда утром Усимацу встретил в коридоре храма Рэнгэдзи дочь Кэйносина Осио, он снова стал думать о её несчастном отце. Теперь же, при виде Кэйносина, восседавшего на почётном месте, он вспомнил Осио, перед его мысленным взором возникла хрупкая фигурка, прижавшаяся к стене старинного храма. Речь Кэйносина свелась к долгим воспоминаниям о своей жизни. Усимацу, кажется, только один и слушал его с состраданием; ни у кого больше эти старческие воспоминания не нашли отклика в сердце.
После чаепития все разбрелись по своим делам. Директор подозвал Бумпэя, собравшегося было играть в теннис, и вместе с ним удалился в другую комнату. Они уселись друг против друга возле окна, выходящего на теннисную площадку, оттуда доносились шумные возгласы играющих — Гинноскэ и других.
— Стоит ли так увлекаться спортом, Кацуно-кун? Давай-ка лучше поговорим! — дружески сказал директор. — Ну, как сегодняшние речи?
— Вашу речь я прослушал с величайшим интересом.
— Правда?
— Без всяких комплементов. Это лучшая из ваших речей, которые мне приходилось слышать.
— Приятно слышать такие слова. — Директор расплылся в довольной улыбке. — По правде говоря, я к этой речи готовился вчера весь вечер. Как тебе понравилось моё толкование верноподданности и сыновнего долга? Мне пришлось немало поломать себе голову над этим. Рылся в словарях…
— Что ж, зато успех полный!
— Да, но, кажется, по-настоящему слушал только ты. У наших гостей довольно пустые головы… Кое-кто восхищался речью Такаянаги. Думаешь, мне доставляет удовольствие то, что меня ставят на одну доску с этим болтуном? — с обидой в голосе сказал директор.
— Что ж, кому не дано понимать, тот и не поймёт.
При этих словах недовольное лицо директора несколько смягчилось. Он, видимо, хотел говорить с Бумпэем не столько о своей речи, сколько о чём-то другом, более существенном, но как-то не решался начать вот так сразу. Теперь он приступил к делу. Он нарочно повёл Бумпэя сюда, в эту комнату, чтобы посоветоваться, нет ли какого-нибудь способа избавиться от Усимацу.
— Дело вот к чем, — он понизил голос, — у нас в школе довольно сложная обстановка. Я имею в виду наличие среди преподавателей таких чуждых элементов, как Сэгава-кун и Цутия-кун. С такими людьми единодушной работы в школе не наладишь. Говорят, что Цутия-кун собирается в недалёком будущем стать ассистентом сельскохозяйственного института. Так что он сам нас покинет. Труднее будет избавиться от Сэгавы-куна. Если бы только школа освободилась от него, тогда всё было бы в наших руках. Я во что бы то ни стало хочу убрать отсюда Сэгаву-куна и поставить тебя на его место. Со мной говорил об этом твой дядя. Он такого же мнения. Ну, что ты можешь предложить?..
— Я-я? — Бумпэй не знал, что ответить.
— Ты посмотри, как льнут к нему ученики. Вокруг только и слышишь: «Сэгава-сэнсэй,[17] Сэгава-сэнсэй». Может быть, всё это происходит потому, что Сэгава-кун к ним подлаживается? А подлаживается он к ним потому, что на это есть причины? Как ты думаешь, Кацуно-кун?
— Я вас не вполне понимаю…
— Гм… видишь ли… это сугубо между нами… Несомненно, Сэгава-кун мечтает полностью захватить руководство школой.
— Ну, нет, об этом он вряд ли думает! — рассмеялся Бумпэй.
— Ты говоришь, вряд ли? — недоверчиво заметил директор. — Почему ты уверен, что он об этом не думает?
— Да потому, что он ещё не в таком возрасте, когда думают о подобных вещах. И Сэгава-кун, и Цутия-кун ещё слишком молоды!
Это слово «молоды» вызвало у директора сокрушённый вздох.
С площадки через закрытое окно доносился глухой стук теннисных мячей. Игра была в разгаре. Бумпэй невольно прислушался. Директор взглянул в лицо молодого человека и снова вздохнул.
— Что у него на уме, у этого Сэгавы-куна?..
— Что у него на уме? — удивлённо переспросил Бумпэй.
— В последнее время, когда бы я ни встретил его, он всегда задумчив, о чём-то размышляет. Что же, по-твоему, заставляет его так задумываться? Не веяние же это нового времени?
— Нет, если Сэгава-кун о чём-то и задумывается, то совсем о другом. Вы, право, ошибаетесь…
— Тогда тем более непонятно. Значит, он думает совсем не о том, о чём в своё время думали мы. То, что нас занимало, для него не представляет никакого интереса. А чрезвычайно занимает Сэгаву-куна именно то, что было нам совершенно чуждо. Видимо, потому мы и не можем работать вместе. Неужели у всей молодёжи нового времени мысли так разнятся от наших?
— Не думаю.
— Ну, в тебе-то я уверен. Пожалуйста, не поддавайся этому дурному влиянию. Я готов сделать для тебя всё, что в моих скромных силах. В жизни надо помогать друг другу. Ведь так, Кацуно-кун? Да… Но с этими чуждыми элементами не так легко совладать. Нужно хорошенько пошевелить мозгами… Подумай и ты. Может, мы сумеем что-нибудь придумать… Всё, что тебе удастся узнать о Сэгаве-куне, непременно сообщи мне.
За окном опять послышались громкие возгласы играющих. Бумпэй взял ракетку и вышел. Директор открыл окно и стал наблюдать за игрой. Он был в том возрасте, когда человек ещё не настолько стар, чтобы ощущать собственную слабость, но уже утратил вкус к спорту, и любимая игра молодёжи — теннис — вызывала у него присущее его старым соотечественникам презрение. Он смотрел на увлечённых игрой молодых учителей и учеников с выражением, говорившим: «Ну, что за глупое времяпрепровождение!»
Ярко сияло осеннее солнце. Под его лучами подсыхала влажная земля. Лица играющих разгорелись. Бумпэй присоединился к играющим. Против него и молодого учителя играл Гинноскэ с учеником. И вскоре Гинноскэ — этот лучший игрок школы — был разбит наголову и вместе со своим партнёром сложил ракетки. Последовали звонкие хлопки и весёлые возгласы игроков: «Гейм!» Из окна учительской выглянули две молодые учительницы и захлопали вместе со всеми. Воспользовавшись минутным перерывом, ученики, которые, разбившись на группы, следили за игрой, наперебой кинулись к ракеткам; одной из ракеток завладел Сэнта. Другие бросились отнимать у него. Но Сэнта крепко сжимал ракетку, и им пришлось отступить. На лице у мальчугана было написано недоумение: как, отнимать силой? Теперь уже больше никто не пытался отнять у него ракетку, но никто и не выражал желание играть с ним в паре.
— Ну, идите же кто-нибудь! — рассердившись, понукали наблюдавших за игрой Бумпэй и его партнёр. Мальчики переглядывались и насмехались над смущённым Сэнтой. Никто не хотел играть с «этa».
Вдруг Усимацу, стоявший всё время в стороне, скинул хаори и взял ракетку. Все почему-то рассмеялись. Учительницы, наблюдавшие за игрой, тоже улыбнулись. Расположенный к Бумпэю директор стал следить за начавшейся игрой с интересом, явно не желая, чтобы победу одержал Усимацу со своим партнёром. Положение Бумпэя было более выгодным, потому что солнце было у него за спиной.
— Ноль — один! — послышался голос судьи Гинноскэ, стоявшего у сетки. Усимацу и Сэнта проиграли первый мяч. На губах у зрителей появились усмешки, казалось, они радуются неудаче Сэнты.
— Ноль — два! — громко крикнул Гинноскэ. Усимацу и Сэнта проиграли второй мяч.
— Ноль — два! — повторили некоторые зрители, чтобы всем было слышно.
Против Усимацу и Сэнты играли Бумпэй и один молодой учитель. Оба они были сильными игроками и хорошо сыгрались, партнёру же Усимацу — маленькому Сэнте — недоставало тренировки.
— Ноль — три! — снова возвестил голос судьи. Усимацу весь горел от возбуждения. Игра была для него сейчас не просто состязанием в ловкости, а борьбой рас, борьбой человека с человеком, и он боялся потерпеть в ней поражение.
— Не сдавайся, не сдавайся! — подбадривал он слабенького Сэнту.
Была их подача. Усимацу должен был подавать последний мяч. Он стал в самом углу площадки, примерился и ударил. Мяч стремительно полетел в сторону насторожившегося Бумпэя, но чуть-чуть задел за сетку.
— Сетка! — закричал Гинноскэ. Усимацу подал второй мяч. Теперь он ударил слишком сильно, и мяч, не удержавшись, перелетел за линию площадки.
— Аут!
Усимацу был раздражён. Он как будто перекачал всю свою силу в одну правую руку и с такой яростью отбил мяч, словно один этот удар должен был решить исход игры. Как часто бывает в молодости, ему казалось, что судьба всей его жизни зависит от исхода этой игры.
— Райт!
Бумпэй ловко отбил мяч и умышленно направил его в сторону растерявшегося от неудачи Сэнты. Солнце слепило глаза мальчика, и он не мог даже разглядеть летящий на него мяч.
— Гейм! — в один голос воскликнули все. Мальчики, которые пытались отнять у Сэнты ракетку, хлопали в ладоши; и; прыгали от радости. Даже директор невольно вскрикнул, мысленно поздравляя Бумпэя с победой.
— Сэгава-кун проиграл всухую… Как лее так? — сочувственно сказал Гинноскэ. Не слушая его, Усимацу набросил на плечи хаори и, подавленный, быстро покинул площадку. Он пересёк двор и, дойдя до места, где его никто не мог видеть, остановился. Он был недоволен собой. Рэнтаро… Охината… теперь Сэнта… Перебирая в уме одно имя за другим, он содрогнулся. Ах, благоразумие всегда приходит слишком поздно!
Глава VI
В ночь после праздника Гинноскэ и Усимацу остались в школе — была их очередь дежурить. Старый Кэйносин, опечаленный расставанием со школой, долго не хотел уходить. И после ужина, сидя в дежурной комнате, он продолжал свои скучные жалобы, пока его молодые собеседники не стали уже посмеиваться над ним. Стенные часы пробили восемь, потом девять. Вечер был холодный, чувствовалось, что завтра будет большой мороз. Усимацу отправился в обход, а Кэйносин, усевшись возле жаровни, продолжал изливать свои горести Гинноскэ.
Минут через двадцать Усимацу вернулся. Задув фонарь, он подошёл к жаровне и стал отогревать руки.
— Ну и стужа! В нынешнем году такого холода ещё не было. Потрогай, — Усимацу протянул руку и коснулся руки Гинноскэ.
— Как лёд! — Гинноскэ отдёрнул руку и удивлённо взглянул в лицо Усимацу. — Что с тобой? Ты так бледен! Что-нибудь случилось? — испуганно спросил? он.
— В самом деле, что с тобой? — забеспокоился и Кэйносин.
Усимацу вздрогнул, словно припомнив что-то. Некоторое время он как будто колебался: сказать или нет? Но так как Кэйносин и Гинноскэ не сводили с него глаз, он в конце концов решился.
— Со мной сейчас случилось нечто странное…
— Нечто странное? — переспросил, нахмурившись, Гинноскэ.
— Когда я с фонарём обходил здание школы, и дошёл до спортивной площадки, мне показалось, что кто-то зовёт меня. Посмотрел вокруг — никого нет. Мне этот голос показался очень знакомым. И я вспомнил, что это был голос моего отца…
— Да, странные вещи бывают на свете, — заметил Кэйносин и недоверчиво прибавил: — А что же произнёс этот голос?
— «Усимацу, Усимацу», несколько раз.
— Неужели так и звал по имени? — У Кэйносина глаза стали совсем круглыми.
Гинноскэ рассмеялся.
— Ну, это какая-то чепуха! Сэгаве-куну просто почудилось.
— Нет, правда же, звал по имени! — взволнованно подтвердил Усимацу.
— Этого не может быть. Это плод твоей беспокойной фантазии.
— Не смейся, Цутия-кун, меня действительно звали по имени. Это был не шум ветра, не голос птиц. Это, безусловно, был голос отца. Мог ли я ошибиться в этом?
— Нет, ты это серьёзно говоришь? Не шутишь? Не дурачишь нас?..
— Мне очень грустно, Цутия-кун, что ты не веришь мне… Я говорю совершенно серьёзно. Я слышал, как меня звал отец, слышал вот этими самыми ушами…
— Значит, твои уши тебя обманывают. Твой отец далеко, на горных пастбищах Нисиноири. Он не может звать тебя здесь. Какая чепуха!
— Это не чепуха. Это удивительно.
— Удивительно! Такие чудеса совершаются только в старых сказках. В наш просвещённый век никто этому не поверит.
— Нет, Цутия-кун, ты не прав, — вмешался Кэйносин. — Так утверждать нельзя…
— Ну, что мне с вами делать?.. Отсталые вы люди! — насмешливо воскликнул Гинноскэ.
Вдруг Усимацу насторожился. Он весь изменился в лице — неподдельный страх исказил его черты. Достаточно было взглянуть на выражение его лица, чтобы убедиться, что он не шутит.
— Опять кто-то зовёт. Слышите? За окном, — прошептал Уоимацу, прислушиваясь. — Нет, всё это слишком странно… Извините, я пойду посмотрю.
Усимацу выбежал из комнаты.
Гинноскэ не на шутку обеспокоило странное поведение друга. А вконец перепуганный Кэйносин был уверен, что это какое-то предзнаменование. «Невероятно слышать здесь голос отца!» — думал он.
— Как бы то ни было, — сказал он Гинноскэ, — сидеть тут у жаровни тоже невесело. Не пойти ли и нам посмотреть?
— Пожалуй, — согласился Гинноскэ. — С Сэгавой-куном творится что-то неладное. По-моему, всё это — нервы… Подождите, я зажгу фонарь.
В ушах Усимацу всё время звучал призывный голос отца, и он шёл на этот голос. Свет, проникавший из окна дежурной комнаты, освещал только узкую полоску школьного сада. Очертания здания и деревьев были скрыты тьмой. Казалось, что всё кругом затаилось под покровом ночи. Хотя ветра не было, холод пронизывал насквозь. Кто но испытал на себе сурового горного климата Синано, тот вряд ли может себе представить такую ночь.
Голос отца слышался всё явственней. Усимацу остановился, глаза его свыклись с темнотой, и он при свете звёзд стал вглядываться в ночную тьму. Нигде никого не было. Стояла полная тишина. Даже собаки в эту холодную ночь не лаяли. Нет, никакой другой звук не мог обмануть его слуха.
— Усимацу, Усимацу! — услышал он опять. Ледяные мурашки поползли по его дрожащему от страха телу. Он был потрясён до глубины души. Сомнений быть не могло — это был голос отца, как всегда, немного хриплый и строгий. Неужели он из далёкой долины Эбосигадакэ зовёт его к себе? Усимацу взглянул вверх: небо над Ииямой, как и весь уснувший городок, было беззвучно, безмолвно. Ветер стих, птицы попрятались. Только ярко сияли звёзды, да лёгкой дымкой простирался по торжественному небу Млечный Путь. Всё это вызывало в душе смутное волнение. Чем больше Усимацу всматривался в небо, тем больше оно казалось ему бездонным, тёмно-синим морем, за которым угадывались другие миры… А голос отца продолжал звучать, пронизывая холодный воздух ночи; он проникал в самую глубину мозга Усимацу. Что могло это значить? Теряясь в догадках, Усимацу бродил по школьному саду. Зачем отец зовёт его? Может быть, он напоминает ему о своём завете? Может быть, любящее сердце отца чувствует страдания сына? Может быть, он ещё раз хочет напомнить ему: «Во что бы то ни стало скрывай своё происхождение. Помни, как страдал всю свою жизнь твой отец!» Усимацу представил себе отца: вот сейчас он вышел из сторожки на безмолвное пастбище, он думает о своём сыне, он зовёт: «Усимацу, Усимацу!» — И голос его понёсся над долинами Синано и достиг слуха Усимацу… А может быть, всё это только плод его собственного воспалённого сознания? Вне себя от сомнений и страха, Усимацу, сам не понимая зачем, стал звать:
— Отец! Отец!
— Ты здесь? — послышался голос Гинноскэ.
Затем блеснул свет фонаря, и он подошёл к Усимацу, а следом за ним и Кэйносин. Гинноскэ поднял фонарь и осветил лицо Усимацу, потом огляделся но сторонам, всматриваясь в темноту. И тут Усимацу сообщил, что опять слышал голос отца.
— Вот видишь, Цутия-кун, — сказал Кэйносин, лязгая зубами от холода и страха. Гинноскэ засмеялся.
— И всё же это невозможно! Расшатались нервы, Сэгава-кун в последнее время стал очень мнителен, поэтому ему и чудится всякий вздор.
— Расшатались нервы? — как будто в раздумье переспросил Усимацу.
— Видеть что-то там, где ничего нет, слышать голоса при абсолютной тишине вокруг, — разве это не следствие расстроенных нервов? Всё это, друг мой, тебе померещилось, всё это призраки, рождённые твоей мнительностью.
— Призраки?
— Да, да. Так называемые галлюцинации. Призраки, которые чудятся слуху. Это звучит немного странно, но если бы можно было так сказать, то это как раз то, что сегодня с тобой происходит.
— Возможно…
Некоторое время все трое молчали. В небе и на земле царила мёртвая тишина, не было слышно ни звука. И вдруг, нарушая безмолвие этой звёздной ночи, Усимацу снова услышал:
— Усимацу, Усимацу!..
Голос всё слабел, удалялся и, как крик птицы, пролетающей по небу, затих и замер вдали.
Гинноскэ, всё время светивший фонарём, увидел, как снова исказилось лицо Усимацу.
— Что с тобой? — воскликнул он.
— Я сейчас опять слышал голос отца.
— Сейчас? Нет, сейчас не было ни звука.
— Я слышал, — повторил Усимацу.
— Ты ничего не слышал и не мог слышать. Кадзама-сан, вы что-нибудь слышали?
— Нет, — подтвердил Кэйносин.
— Вот видишь, и Кадзама-сан не слышал, и я не слышал. Выходит, слышал только ты один. Нервы это, нервы и ничего другого…
Гинноскэ повёл фонарём, и свет его прорезал окружавшую их темноту. Нет, никто и ничто не могло издавать какие-либо звуки. Небо было точно зеркало, отражающее звёзды, земля — точно огромная тень.
Гинноскэ засмеялся.
— Ну, убедился ты наконец, что никого нет? Я никогда не верю ни своим ушам, ни своим глазам, пока не возьму в руки и не пощупаю. Все эти голоса — суть физиология.
Однако здорово холодно. Я больше не могу так стоять. Идём!
Всю ночь Усимацу не мог сомкнуть глаз. Лёжа в постели, он всё время думал об отце и о Рэнтаро. Гинноскэ же сразу захрапел. Как завидовал Усимацу, глядя на спокойное лицо товарища, его безмятежному сну! Среди ночи он вдруг тихонько встал с постели, засветил поярче слабо горевшую лампу и принялся писать письмо Рэнтаро. Он решил соблюдать осторожность и даже такое обычное письмо, выражавшее лишь сочувствие по поводу болезни, хотел написать втайне от всех. По временам Усимацу прерывал письмо и поглядывал на Гинноскэ. Тот спал крепко, его большой рот был открыт, как у рыбы, вытащенной из воды.
Усимацу был немного знаком с Рэнтаро. Он несколько раз встречался с ним, а в этом году два или три раза обменялся письмами. Но Рэнтаро считал Усимацу просто расположенным к нему знакомым, ему и в голову не приходило, что Усимацу такого же происхождения, как и он сам. А Усимацу не решался открыть свою тайну. Поэтому он чувствовал себя скованным, и многое из того, что переполняло его душу, в письме осталось невысказанным. Отчего он так преклоняется перед Рэнтаро? Если б только он мог объяснить одно это, писать об остальном и не понадобилось бы. Если б можно было это сделать! Но он не мог, и в этом была его слабость. Письмо получилось самое обыкновенное. Когда он написал в конце: «Иноко Рэнтаро от Сэгавы Усимацу», — ему показалось, что он обманул свою совесть. Усимацу швырнул кисточку, спрятал письмо и опять забрался в холодную постель. Но стоило ему смежить глаза, как сразу же начинались страшные видения, и он просыпался.
Утром в школу прибежал Сё-дурак из Рэнгэдзи; ему нужно было непременно видеть Усимацу. На вопрос школьного служителя: «Зачем?» — Сёта твердил: «Мне нужно передать ему лично». Когда Усимацу спустился в вестибюль, Сёта протянул ему телеграмму. Усимацу поспешно развернул её. В ней кратко сообщалось, что скончался отец. Усимацу, потрясённый, не веря своим глазам, прочитал телеграмму снова. Сомнений не было, это было сообщение о смерти отца. И стояла подпись дяди из Нэцу. Дядя просил: «Приезжай немедленно».
— Вот горе-то какое! Как вы будете убиваться… Побегу поскорей домой, расскажу окусаме, — пробормотал Сёта. В его тупом взгляде отражался детский страх перед смертью.
Отец Усимацу был крепким, здоровым человеком. Суровый климат гор как будто закалил его; он никогда не знал простуды и был выносливее молодых. Жизнь пастуха многим кажется романтичной, на самом же деле это трудная жизнь, и не каждому она может быть по силам. Особенно нелегка она для пастухов на пастбищах Нисиноири. Об отце же говорили: «Только этому старику и по душе такая работа». Одного знания пастушеского дела было недостаточно: здесь, в глубокой долине Эбосигадакэ, трудно было переносить не столько суровые холода и непогоду, сколько одиночество.
Жителям юга, родившимся под тёплым солнцем, недостаёт выносливости, и они совершенно не приспособлены к горной местности. Другое дело уроженцы севера Синано. А отец Усимацу не только был родом из Синано, простой и работящий человек, для которого труд не в тягость, у него имелись ещё и свои, не известные другим причины скрываться от людей. Наставляя сына, внушая ему свой завет, он и сам старался всегда соблюдать осторожность и как можно реже попадаться кому-либо на глаза; у него не было другой мечты, не было другой радости; как успехи единственного сына. «Ради Усимацу», ради этого он ушёл в глубь гор и проводил свои дни в полном одиночестве: пас скот коротал время у дымных костров. Единственным удовольствием для него было — купить на деньги, которые ежемесячно присылал Усимацу, немного сакэ. Сакэ помогало ему забывать и тяжесть труда и тоску одиночества. И вот пришло известие, что отец — крепкий, как железо, никогда не болевший отец, — внезапно умер!
Телеграмма была краткой, и обстоятельства смерти оставались неизвестными. Усимацу знал, что каждый год, когда начиналось весеннее таяние снегов, отец поднимался в горы в свою сторожку на горном пастбище, а с началом зимы, когда долины снова затягивались белым покровом снега, он спускался в село Нэцу. Теперь как раз пора было ему собираться на зимовку. Но из телеграммы нельзя было даже понять, где он умер — в Нисиноири или в Нэцу?.. Бедный отец! И тут Усимацу вспомнил, что вчера вечером он слышал его голос. Вспомнил, как этот голос постепенно отдалялся и затихал, точно отец с ним прощался.
Усимацу показал телеграмму Гинноскэ, и тот был так потрясён этим неожиданным сообщением, что долго не мог произнести ни слова. Он то смотрел на Усимацу, то перечитывал телеграмму. Потом, как будто что-то соображая, сказал:
— Ты говорил, что в Нэцу у тебя есть дядя. Он, конечно, обо всём позаботится. Всё это очень печально. Ты поскорей собирайся и поезжай. В школе я всё улажу.
Лицо Гинноскэ светилось искренним сочувствием. Он только ни словом не обмолвился о вчерашнем случае. «Смерть — факт естественный, в ней нет ничего удивительного», — говорили глаза молодого естествоиспытателя.
Директор пришёл в школу, как всегда, вовремя. Усимацу сообщил ему скорбную новость и попросил разрешения уехать. Сообщил также, что на время его отсутствия Гинноскэ согласен его заменить в школе.
— Представляю, как ты потрясён, — сочувственно сказал директор. — О школьных делах не беспокойся — тут есть и Цутия-кун и Кацуно-кун. Ну, кто мог ожидать, что твой отец умрёт так внезапно. Прошу тебя, когда управишься с похоронами и кончится траур, возьмись опять с присущей тебе энергией за школьные дела. Ведь и благодаря твоим стараниям дела у нас в школе идут успешно. Когда ты здесь, я совершенно спокоен. Недавно о тебе хорошо отзывались в одном месте, и у меня было такое чувство, будто это хвалят меня самого. Ты же знаешь, как я на тебя полагаюсь… — И уже другим тоном добавил: — Тебе предстоят непредвиденные расходы. Я могу выдать тебе аванс. Если нужно, говори, не стесняйся. Хуже, если тебе не хватит денег.
Хотя директор держался в высшей степени приветливо, Усимацу всё же чувствовал в его словах какую-то фальшь.
— Только не забудь оставить заявление; так уж полагается по правилам, — добавил директор.
Усимацу поспешил домой, в Рэнгэдзи. Жена настоятеля и Осио выбежали ему навстречу и стали расспрашивать про телеграмму.
— Да, но как всё это ни грустно, вам следует поесть. Ведь вы ещё не завтракали, — сказала вдруг окусама.
— Да, да, — подхватила Осио.
— Сэгава-сан, прошу вас, идите собирайтесь, а завтрак я мигом приготовлю. Жаль, что нам нечего дать вам в дорогу… Может, лососину зажарить?
Обливаясь слезами, окусама суетливо забегала по комнате. Долгая затворническая жизнь сделала её чувствительной к чужому горю.
— Наму амида Буцу, — шептала про себя эта непостриженная монахиня.
Усимацу поднялся к себе в комнату и стал поспешно собираться в дорогу. Ехать приходилось налегке, без всякого багажа, без подарков — было не до этого. Он облачился в тёплый костюм из грубой ткани, вытканной для него тёткой, и не успел ещё завязать тесёмки на гетрах, как в комнату вошла служанка Кэсадзи, неся столик с едой, а следом за ней — Осио. Усимацу подсел к столику, а Осио старательно накладывала еду ему на тарелку. Его и радовало и в то же время смущало такое внимание со стороны девушек. Обычно служанки приносили еду и уходили. Сегодня Осио была не так робка, как обычно, и ему показалось, что она перестала его бояться. Видно, она убедилась в том, что он искренне расположен к её отцу Кэйносину, и её робость сама собой прошла. Теперь, прислуживая Усимацу, она расспрашивала его о семье, осведомилась, есть ли у него мать.
— У меня нет матери, — просто, по-мужски сказал Усимацу. — Она скончалась, когда мне было восемь лет. Я даже почти её не помню. В сущности, я и не знаю по-настоящему, что такое мать. Да и с отцом мне тоже пришлось быть мало — последние шесть-семь лет жили всё больше врозь. Он был уже в летах — немного старше вашего отца, но очень крепкий. Может быть, такие здоровые люди легче поддаются болезни… Так что, видите, я всегда был вдали от родителей. Так что, Осио-сан, мы с вами, пожалуй, в этом товарищи…
На глазах Осио заблестели слёзы. Тринадцати лет отец отдал её в храм, и с тех пор она жила с ним врозь. Мать умерла, когда Осио была ещё совсем маленькой. «Вдали от родителей» — это можно было сказать и про неё. При мысли о том, в каком бедственном положении пребывает её семья, Осио слегка покраснела и молча потупилась.
Усимацу глядел на Осио и пытался представить себе её покойную мать. Он вспомнил, как сказал Кэйносин: «Как взгляну на неё, сразу так и вижу перед собой жену». И ещё: «Всей душой мне верила, как в старину, когда жена во всём полагалась на мужа». Наверно, и та была застенчивой, как Осио, в любую минуту готовой заплакать и так же, как Осио, каждый раз выглядела по-иному, — то казалась дурнушкой, то красавицей; порой лицо у неё было бледное до желтизны, ни кровинки, а в другой раз в нём соединялась белизна цветка с ярким природным румянцем, и оно казалось свежим, нежным, исполненным жизненных соков. Так, глядя на Осио, он пытался представить себе облик её матери. Северянину Усимацу очень нравились простота и живость, свойственные местным женщинам.
Закончив сборы, Усимацу спустился в большую комнату и выпил вместе со всеми чаю. Окусама вручила ему новые деревянные чётки — это был её прощальный подарок. Усимацу надел соломенные сандалии, сплетённые Сётой, и, напутствуемый сочувственными фразами, вышел из ворот Рэнгэдзи.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава VII
Это было незабываемо грустное путешествие. Когда Усимацу, шагая по берегу Тикумы, вспоминал свою последнюю поездку домой летом позапрошлого года, ему казалось, что тот Усимацу и этот, который теперь возвращается в родные места, во многом уже разные люди. Неполные три года — как будто не такой долгий срок, но для Усимацу это было время, когда его жизнь претерпела значительные перемены. Есть люди, которые легко и плавно переходят из одной полосы жизни в другую: у Усимацу же произошёл подлинный духовный переворот; он наступил неожиданно, сразу, и Усимацу глубоко его переживал. Вдыхая полной грудью свежий сухой воздух, он шёл, погруженный в размышления. Им овладел страх за свою судьбу, его обуревали горькие мысли о превратностях судьбы. А река Тикума, жёлто-зелёная, мутная, спокойно несла свои воды к далёкому морю. Засохшие заросли ивняка вдоль речных берегов, весь окружающий пейзаж — всё было прежним — таким же, как в те далёкие времена. И это с особенной болью отмечал взгляд Усимацу. Порой ему хотелось дать волю слезам, бросившись на сухую траву у края дороги. Ему казалось, что слёзы уймут невыносимую боль, сжимавшую ему грудь. Увы, его душу поглотил такой гнетущий мрак, что при всём желании плакать он не мог.
Немало путников попалось навстречу Усимацу. Одни брели, подобно бездомным, голодным собакам, на всём их облике лежала печать крайней нищеты; других, хотя они и шли босиком, в запылённой одежде, молено было принять за людей, скитающихся в поисках работы. Довелось Усимацу повстречать и паломников, замаливавших в святых местах свои грехи; их лица были обожжены солнцем, они распевали жалобные песни и позванивали колокольчиками, превращая тяготы своего долгого пути в подвижничество. Мимо прошла труппа жалких бродячих комедиантов в больших соломенных шляпах: разыгрывая маленькие любовные сценки, они клянчат у случайных зрителей мелкие монеты. Усимацу приглядывался ко всем этим людям, мысленно сравнивал их нелёгкую долю со своей и завидовал им: как ни трудна их жизнь, она всё-таки легче его безотрадной судьбы.
Чем больше Усимацу удалялся от Ииямы, тем больше он ощущал вольный простор родного края. В лучах сверкающего солнца он шагал по серому шоссе Хоккоку, то подымаясь в гору, то спускаясь мимо Тутовых садов в долину, то пересекая протянувшиеся вдоль дороги селения, и когда по телу у него заструился пот, во рту пересохло, штаны посерели от пыли, только тогда он почувствовал, что немного воспрянул духом. По обеим сторонам дороги росла хурма, ветки деревьев сгибались под тяжестью оранжевых плодов; стебли проса клонили к земле свои пышные метёлки; сквозь вьющуюся зелень проглядывали плотные стручки бобов; на убранных полях кое-где зеленели редкие ростки пшеницы. Там и сям слышались песни крестьян и перекрывавшее их многоголосое пение птиц. Наступил, как говорят горные жители, «малый июнь». Прекрасной казалась в этот яркий солнечный день горная цепь Косядзан; в глубоких долинах поднимались столбики синего дыма — это крестьяне жгли уголь.
Возле посёлка Канадзава Усимацу нагнал рикша, который вёз какого-то элегантного господина. Присмотревшись, Усимацу узнал в нём Такаянаги, того самого кандидата в депутаты парламента, который выступал в их школе с речью в день рождения императора. Приближались выборы, и кандидаты были заняты пропагандой своей программы. Вероятно, Такаянаги объезжал свой округ с этой целью. Он величественно проследовал мимо Усимацу, искоса взглянув на него, но не поклонился. Проехав немного, Такаянаги оглянулся, однако не выказал никакого внимания к Усимацу.
Солнце подымалось всё выше и выше. Теперь перед Усимацу простиралась долина Миноти. Дорога шла вдоль поймы широко разливавшейся летом реки Тикума; при виде огромных наносов ила, громоздившихся по обоим берегам реки, Усимацу представилась вся грозная картина разлива. Далеко, насколько хватало взгляда, тянулись поля; кое-где темнели рощи. И поля и горы, казалось, вдыхали густой синий ноябрьский воздух, и, несмотря на общую картину увядания природы, явственно ощущались её могучие жизненные силы. «Скорее к верховьям реки, в долину Тиисагата, домой в Нэцу!» — мысленно подгонял себя Усимацу; душа его рвалась к родным местам, точно к свету.
До Тойоно, где Усимацу предстояло сесть в поезд, он добрался в два часа дня; Такаянаги, приехавший на рикше, уже был на вокзале. Незадолго до отхода поезда Такаянаги вышел из ресторанчика на платформу. «Куда едет этот человек?» — подумал Усимацу, рассматривая Такаянаги; тот в свою очередь тоже, по-видимому, заинтересовался им, но, странное дело, старался не встречаться с ним взглядом. Оба они знали друг друга в лицо, но у них не было случая познакомиться, и теперь они не хотели завязывать разговор.
Раздался звонок, возвещавший о прибытии поезда. Пассажиры поспешили на перрон. Выпуская клубы чёрного дыма, поезд, шедший из Наоэцу на юг, остановился на станции Тойоно. Такаянаги быстро пробрался сквозь толпу и вошёл в один из вагонов. Усимацу облюбовал вагон поближе к паровозу и, когда, найдя свободное место в одном из купе, осматриваясь, бросил случайный взгляд на сидевшего с ним рядом пассажира, сердце его забилось от неожиданности: это был Иноко Рэнтаро.
— Иноко-сэнсэй!
Сняв шляпу, он почтительно поздоровался с ним. Рэнтаро, видимо, тоже был обрадован этой неожиданной встречей.
— А, Сэгава-кун! Куда это вы направляетесь?
Так волей случая Усимацу оказался рядом с человеком, о котором не забывал никогда, даже во сне. И вот Рэнтаро, словно удивляясь тому, как возмужал Усимацу, приветливо смотрит на него. А Усимацу с сияющим лицом, переполненный чувством преданности своему учителю, рассказывает ему о причине своей поездки. Встреча их была внезапной и удивительной; редко среди мужчин можно видеть такое искреннее, ничем не омрачённое проявление чувства взаимной симпатии, какое испытывали они друг к другу.
Сидевшая рядом справа от Рэнтаро высокая, немного бледная женщина отложила газету, которую она было принялась читать, и посмотрела на Усимацу.
Тучный пожилой господин, любовавшийся из окна на горы, тоже обернулся и принялся рассматривать Усимацу и Рэнтаро, переводя взгляд с одного на другого. Усимацу, знавший из газетной заметки о болезни Рэнтаро и даже пославший ему сочувственное письмо, был и обрадован и удивлён, увидев своего учителя вполне здоровым. В его облике не было и следа того тяжёлого состояния, которого Усимацу опасался и которое так живо себе представлял. Однако в скорбных морщинах высокого лба Рэнтаро, свидетельствовавшего об уме и сильной воле, в контуре скул, в нервном блеске глаз отражалась трагедия его души. Больных чахоткой временами отличает великолепный цвет лица и эмоциональный подъём, может быть, именно поэтому Рэнтаро нельзя было принять за тяжелобольного человека, харкающего кровью. Усимацу выразил удовлетворение по поводу вида Рэнтаро, начав с того, что «я прочёл в газете…» и кончив тем, что «я написал вам в Токио». И по всему было видно, что Усимацу искренен.
— Неужели об этом писали в газете? — Рэнтаро улыбнулся. — Это ошибка. Я действительно хворал, но только гораздо раньше, а написали, что я болен теперь. В газетах часто случаются такие ошибки. Видишь, я могу даже путешествовать. Не тревожься. Кто ж это так расписал?
Оказалось, что Рэнтаро возвращается с горячих источников Акагура, где он лечился. Рэнтаро представил Усимацу своим спутникам. Изящная бледная женщина, сидевшая справа, была его жена. Тучный пожилой господин оказался видным политическим деятелем провинции Синано, о котором Усимацу приходилось не раз слышать; это был известный своим красноречием и порядочностью адвокат, один из кандидатов на предстоящих выборах в парламент.
— Очень рад познакомиться с Сэгавой-куном! — оживлённо заговорил адвокат, приветливо улыбаясь. — Позвольте представиться: Итимура, в настоящее время живу в Нагано.
— Нас с Итимурой-куном свёл и сделал друзьями один случай, — сказал Рэнтаро, взглянув на Усимацу. — Я очень ему обязан. Итимура-кун проявляет много забот о моих литературных делах…
— Ну, что вы… — попытался всем своим грузным телом выразить протест адвокат, — наоборот, это я многим обязан Иноко-куну. Хотя Иноко-кун годами гораздо моложе меня, я почитаю его своим учителем. — Итимура вздохнул. — Смотрю на нынешнюю молодёжь и удивляюсь, всюду она впереди, всюду успевает… А мы вот до седых волос дожили, а ничего не достигли. Стыдно, да и только.
В словах Итимуры скорее проступала грусть от сознания своей старости, нежели зависть или недоброжелательство по отношению к нынешней энергичной молодёжи.
Уже десять лет, как Итимура, уроженец Садо, поселился в горах Синано. Этот человек незаурядного ума и характера, «сильный в добре, сильный и во зле», изведал в жизни многое: хорошо знал людские беды, имел немалый опыт политической деятельности, пережил борьбу за власть, расцвет и падение политических партий, испытал страдания политического заключённого, вёл дела множества ответчиков и истцов, словом, вкусил всю сладость и горечь жизни современного общества и стал человеком глубоко отзывчивым, сочувствующим всем слабым и обездоленным.
И вот этого политического деятеля на склоне лет судьба свела с образованным и талантливым «этa», и он стал его преданным другом.
Итимура совершил агитационную поездку по районам Уэда, Коморо, Ивамурада, Усуда, а сейчас намеревался посетить влиятельных лиц в Саку и Тиисагате и вообще вести предвыборную борьбу «способом посещения».[18] Отчасти, чтобы помочь своему другу, отчасти из-за собственных дел, Рэнтаро также решил остановиться на некоторое время в Синано; эту ночь он собирался провести в Уэде, а последующие два-три дня сопровождать Итимуру в его поездках, а потом заглянуть в Нэцу, на родину Усимацу. Когда Усимацу услышал «в Нэцу», он очень обрадовался.
— Сэгава-кун служит сейчас в Иияме? — спросил адвокат.
— Да, в Иияме… У нас там тоже выставлен кандидат. Вы его знаете? Такаянаги Тосисабуро.
Усимацу рассказал, как он встретил Такаянаги на станции Тойоно и что тот теперь едет в этом же поезде.
— Куда же это он едет? — удивлённо пробормотал адвокат и добавил, рассмеявшись: — Забавное путешествие: едем в одном поезде и не знаем об этом!
Никто так остро не чувствует подлинную искренность и притворство, как больной. Рэнтаро был рад, что его окружают настоящие друзья, непохожие на тех, обладающих завидным здоровьем счастливцев, которые пытаются утешить его выражением чувств, вовсе ими не испытываемых. Особенно трогало его неподдельное сочувствие Усимацу, проступавшее в каждом его слове, в каждом взгляде. Жена Рэнтаро достала из корзинки хурму, которую купила через окно вагона, и, выбрав самые красные, красивые и спелые плоды, предложила их Усимацу и адвокату. Рэнтаро тоже взял хурму и, вдыхая аромат этих осенних фруктов, стал рассказывать о курорте Кагура и о своей поездке на побережье Этиго. Он восхищался свежестью и сочностью местной хурмы, с которой никак не могли сравниться фрукты токийских рынков.
На каждой остановке в вагон входили крестьяне. Вокруг стоял смех, весёлый гомон, лилась непринуждённая беседа. Здесь, на линии Синано, в противоположность железнодорожным линиям побережья Токайдо, вагоны были старые. Когда поезд подымался в гору, стёкла в вагонах так дребезжали, что порой трудно было разобрать, о чём говорит сосед. Тикума, которая в окрестностях Ииямы текла меж берегов плавно, словно масло, превратилась теперь в горную реку, стремительно несущую вспененные воды по дну глубокой долины. В открытое окно вагона вливался густой и чистый, синий-синий воздух предгорий. Поезд прибыл на станцию Уэда. Сошло много пассажиров. Попрощавшись с Усимацу и условившись с ним о встрече, вышли из вагона Рэнтаро, его жена и адвокат.
— Значит, увидимся в Нэцу. До свиданья, Сэгава-кун!
Усимацу, обрадованный обещанием новой встречи, проводил учителя взглядом, полным любви.
В вагоне сразу сделалось тихо. Прислонившись к холодному железному столбу, Усимацу закрыл глаза и стал перебирать в памяти всё, что в короткие часы этой неожиданной встречи говорил учитель. И он ощутил какую-то неудовлетворённость. Ему показалось, что расположение Рэнтаро было чисто внешним, что в душе он остаётся равнодушным к нему. Почему же, с грустью и досадой думал Усимацу, его такое большое и горячее чувство не находит ответа в сердце учителя. Усимацу не то что ревновал Рэнтаро, но всё же не без зависти думал о его дружбе с пожилым адвокатом.
Наконец Усимацу разобрался в своих чувствах. Он понял, что и его преклонение перед Рэнтаро, и пылкая привязанность к нему, и какая-то безутешность, которую вызывала неразделённость чувств, — всё это происходит из-за мучительного сознания того, что он, Усимацу, тоже — «этa». До тех пор, пока он будет таиться, его чувства не найдут отклика в сердце учителя. И это вполне понятно. О, если бы он мог признаться ему в этом, какой тяжёлый груз свалился бы с его души! Как изумился бы учитель! Нет, как бы он обрадовался и, взяв его за руку, воскликнул: «И ты тоже!» Как слились бы их сердца и какой глубокой стала бы их дружба — дружба, полная скорби об общей судьбе!
Да, он откроется ему, он должен открыться! Усимацу представил себе радостный день их следующей встречи.
Поезд прибыл на станцию Танака, когда уже вечерело. Тем, кто направлялся в Нэцу, предстояло подняться больше мили вверх по склону Тиисагата.
Вместе с Усимацу с поезда сошёл и Такаянаги. Как и подобает кандидату в депутаты парламента, у него была величественная осанка. Во всём его облике ощущалась жажда власти и богатства, и в то же время в нём чувствовалась какая-то насторожённость. Время от времени он украдкой поглядывал на Усимацу и вместе с тем старался не встречаться с ним взглядом. «Куда направляется этот человек?» — мысленно спрашивал себя Усимацу. Такаянаги смешался с толпой пассажиров и быстро покинул перрон, как будто желая скрыться. Окружённый встречавшими его людьми, он шествовал по той же дороге, что и Усимацу, закутавшись в пальто и стараясь не привлекать к себе внимания.
Шоссе Хоккоку свернуло влево. Когда Усимацу вышел на тропинку среди тутовых садов, Такаянаги и его спутников уже не было видно. Усимацу карабкался по тропинке, круто поднимавшейся в гору. Вокруг него, по бокам, на уступах с насыпями из щебня чернели убранные поля, а впереди высились склоны гор Эбоси. Вершины Хироно, Маруною, Кагоното, Митогэ, Асама, небольшие деревушки и сосновые рощи, встречавшиеся на его пути, — всё было связано здесь с воспоминаниями. Тикума текла теперь далеко внизу, в долине, поблёскивая в лучах заходящего солнца.
На западе тянулось серо-лиловое облако, и горы Хида не были видны. Эти девственные горы, куда не ступала ещё нога человека!.. Можно было легко вообразить, как Удивительна и величественна была бы картина природы — ослепительная белизна снегов, сверкающих под лучами заходящего солнца, — если бы не это вечернее облако! Усимацу всегда любил горы. И сейчас, когда он взбирался по неровной каменистой тропе, любуясь красотой горных склонов и раздумывая о простых обычаях и неприхотливой жизни горцев Синано, он ощущал, как поднимаются к его сердцу горячие токи крови. Теперь Иияма далеко позади. Усимацу с жадностью вдыхал горный воздух и радовался тому, что может хоть ненадолго забыть свои тревоги. Он смотрел, как садилось солнце в горах. В последних его лучах горы меняли свой облик: сначала они были красные, потом лиловые, потом лиловато-серые. Наконец долины и холмы постепенно покрыла тень, но на самых высоких вершинах ещё горел последний луч заката. Потом угас и он, и только на одном краю неба серое облако пронизывал жёлтый свет — это курился огнедышащий вулкан Асама.
Однако радостное настроение Усимацу длилось недолго. Ущелье кончилось, и его глазам открылся вид на большое селение, раскинувшееся на склоне горы. Он увидел окутанные сумерками деревянные и глиняные стены горных хижин, что-то тёмное под сенью их крыш — не низкорослая ли это хурма? Вот и Нэцу. Он услышал пение возвращающихся с ноля крестьян, и сердце его больно сжалось. Усимацу подумал об отце, нашедшем прибежище здесь после переезда из Коморо, и красота родных мест перестала его радовать… чувство любви к отцу окрасилось горечью и болью. О, и природа оказалась для него только минутным утешением! И чем ближе он подходил к Нэцу, тем сильнее терзала его мысль о том, что он — «этa».
Усимацу добрался до родного дома, когда уже совсем стемнело. В своё время отец перебрался с семьёй в эту глухую горную деревню не только из-за того, что она была расположена близко к пастбищам, но и потому, что здесь можно было дёшево арендовать клочок земли. Теперь арендованную им землю обрабатывал дядя. Предусмотрительный отец выбрал для своего жилища малолюдную окраину селения и построил домик у подножия небольшого холма, на расстоянии девяти тё к западу от главной улицы Нэцу. По существу это был отдельный посёлок в пятнадцать домов. Префектура Нагано, уезд Тиисагата, село Нэцу, посёлок Химэкодзава — вот где была вторая родина Усимацу.
Дядя дожидался приезда Усимацу, собираясь отправиться на пастбище уже с ним. Он усадил Усимацу возле очага, чтобы тот хоть немного отдохнул с дороги, и своим, как всегда, мягким, добродушным тоном повёл рассказ о случившемся. В очаге ярко пылал огонь. Тётка, прислушиваясь к рассказу, всхлипывала. Оказалось, что отец умер не в Нэцу, а в сторожке на пастбище Нисиноири. Только теперь Усимацу узнал, что кончина отца была вызвана не старостью и не болезнью. Внезапная смерть настигла его на пастбище. Он с детства любил возиться со скотом, поэтому был умелым пастухом, и владельцы пастбищ охотно доверяли ему свои стада. Он прекрасно знал повадки коров. Вероятно, этому умудрённому опытом человеку и в голову не могло прийти, что он может допустить такую оплошность. Поистине неисповедима судьба человека!
Виной всему оказался племенной бык на редкость свирепого нрава. Впрочем, если пустить в стадо коров одного быка, то будь он даже самым спокойным, бык становится буйным, весь нрав его меняется. Тем более трудно справиться с животным, свирепым по своей природе. Оказавшись на пастбище, в условиях полной свободы, и услышав призывное мычание коров, бык совершенно обезумел. Он утратил вконец все повадки домашнего животного и однажды вдруг исчез неизвестно куда. Прошло три дня, бык не появлялся. Прошёл ещё день, и ещё, а быка всё не было. Отец забеспокоился, он каждое утро отправлялся на поиски и бродил до темноты по болотам и зарослям, то спускаясь в ущелья, то взбираясь на кручи, но тщетно — бык будто сквозь землю провалился.
Как-то утром отец снова отправился на поиски быка. Всегда, когда он уходил далеко, он непременно прихватывал с собой еду и инструменты: пилу, топорик, серп. На этот раз отец почему-то не взял с собой ничего. Прошёл день, пора было отцу возвращаться, но его всё не было. Помощник отца забеспокоился. Когда же, отправившись в загон, чтобы дать коровам соль, он увидел там быка с окровавленными рогами, то перепугался и стал сзывать на помощь крестьян. Сообща удалось поймать и привязать быка; животное, вероятно от усталости, почти не сопротивлялось. Помощник кинулся искать отца и в конце концов набрёл на него: отец лежал без сознания в зарослях тростника у подножия холма и тихо стонал. Взвалив отца на плечи, он отнёс его в сторожку. Рана была так глубока, что спасти его уже ничто не могло. Когда дали знать о случившемся дяде и он прибежал в сторожку, отец был ещё жив. Он испустил последний вздох вчера, в десять часов вечера. Сегодня соседи собрались в сторожке на пастбище, чтобы провести ночь около покойного. Все ждали приезда Усимацу.
— Вот оно как… — сказал с печальным вздохом дядя и посмотрел на Усимацу. — Я спрашивал брата, не хочет ли он что-нибудь тебе передать. Он хоть очень страдал, но был в памяти. «Я пастух, и мне суждено было принять смерть от быка. Что я могу сказать? Одна у меня забота на сердце — Усимацу. Я жил и трудился ради него. Когда-то я твёрдо ему кое-что наказал. Прошу, когда Усимацу приедет, скажи ему только одно: «Не забывай!..»
Усимацу, поникнув головой, молча слушал последнюю волю отца. Дядя продолжал:
— «…Я хочу превратиться в прах здесь, на пастбище, не хорони меня при храме Нэцу, лучше здесь, в горах. О моей смерти в Коморо не сообщай… прошу тебя». Я выслушал всё это и говорю: «Понял, понял». Брат, видно, обрадовался, улыбнулся, глядит на меня, а слёзы так и текут по щекам. Больше уже я от него ничего не слышал.
Рассказ о последних минутах жизни отца взволновал и растрогал Усимацу. «Хочу превратиться в прах на пастбище… похорони в горах, не сообщай в Коморо…» — вот что занимало в последнюю предсмертную минуту ум отца. И всё это только из-за любви к нему, к Усимацу. В этом сказались его предусмотрительность и настойчивость, которые никогда не позволяли ему оставить задуманное. Отец всегда был строг к Усимацу, он был почти даже жесток в своей любви к сыну. И даже вот теперь, когда отца не было в живых, Усимацу по-прежнему его боялся.
В сопровождении дяди Усимацу отправился на пастбище Нисиноири. Дядя заблаговременно позаботился о выполнении всех формальностей с освидетельствованием, приготовил гроб, пригласил для ночного служения настоятеля храма Дзёсинъин из Нэцу — тот уже находился в сторожке. Дядя взял на себя хлопоты и о подготовке к завтрашним похоронам. Усимацу оставалось только следовать за ним для прощания с отцом. От посёлка до Эбосигадакэ было двадцать тё с лишним. Надо было перейти через перевал Тадзава и подняться по пустынной горной дороге. Стояла такая тьма, что хоть глаз коли, — ничего не было видно в двух шагах. Усимацу шёл впереди, освещая дорогу фонарём. По мере того как они удалялись от обжитых мест, дорога становилась всё уже и уже и, наконец, превратилась в узенькую, засыпанную гнилыми листьями тропинку. Они проходили места, где Усимацу в детстве так часто бродил с отцом. Усимацу с дядей пришлось одолеть несколько невысоких гор, прежде чем они вышли к небольшому плоскогорью, где находился загон.
Спустившись в долину, они сразу же увидели сторожку. Сквозь, щели в её стенах проникал свет горевших внутри фонарей, в ночном воздухе разносились звуки деревянного гонга, которые, смешиваясь с бормотанием стекающих по ложбине горных ручьёв, навевали неизъяснимую грусть. Вот оно — последнее пристанище отца — домик, ветхая крыша и стены которого служили ему защитой от непогоды. Это было такое уединённое место, куда не ступала нога постороннего, разве что изредка мог забрести какой-нибудь путник, пробиравшийся через перевал Тонодзё к горячим источникам Кадзава. Мысленно Усимацу рисовал себе печальную картину заброшенного существования жителей горных мест — всех этих угольщиков, лесников, пастухов. Он задул фонарь и открыл дверь. Тесная сторожка была битком набита народом.
Усимацу выслушал слова искреннего сочувствия его горю от всех собравшихся — настоятеля храма Дзёсинъин, представителя крестьянской общины посёлка Химэкодзава, отрекомендовавшегося распорядителем, друживших с отцом крестьян и крестьянок. Луч светильника перед буддийским алтарём прорезал темноту убогой неуютной хижины, наполненной дымом курительных свечей. Простой, грубо сколоченный гроб — вот вместилище останков отца. Гроб был покрыт белым холстом, рядом лежала посмертная табличка и жертвенные приношения — вода, лепёшки да ещё хризантемы и веточка дерева сикими.[19] Когда чтение молитв закончилось, бонза подал знак, и все стали один за другим подходить к гробу для прощания с покойным. У всех из глаз катились слёзы. Усимацу, поддерживаемый под руку дядей, тоже склонился над гробом и совершил обряд последнего прощания.
Лицо отца было бледное, без кровинки — холодное лицо покойника. Вот так и закончил отец свою одинокую жизнь пастуха и теперь словно ждёт, чтобы поскорее лечь в землю, на том самом пастбище, где он провёл так много лет. Дядя по старинному обычаю снабдил его всем необходимым для дороги на тот свет — плетёной шляпой, соломенными сандалиями, бамбуковым обручем; отдельно на крышку гроба он положил для защиты от злых духов нож.
Снова началось чтение молитв, сопровождаемое ударами гонга. Разговоры об усопшем перемежались с непринуждённым смехом, кое-кто стал закусывать. Усимацу было тоскливо и горько; шум и разговоры не позволили ему сосредоточиться на своих мыслях и хотя бы немного отдохнуть после трудного пути. Так в разговорах прошла ночь.
Выполняя волю отца, дядя не сообщил о его смерти в Коморо, откуда они были родом. Прошло уже более семнадцати лет с тех пор, как отец покинул родные места и не поддерживал никакой связи с соплеменниками, поэтому никто из них не присутствовал на похоронах. Однако дядя беспокоился, как бы не вышло неприятности, если, прослышав о смерти своего бывшего старшины, сюда вдруг явится какой-нибудь недогадливый малый.
По словам дяди, отец уже давно выбрал местом своего упокоения пастбище. Хорошо, если удастся отнести его в храм и похоронить по крестьянскому обычаю, но этого может не случиться: по печальному обычаю, «этa» не имели права погребения на общих кладбищах. Отец хорошо это знал. Ради сына он мирился с жизнью в горах. Ради сына он хотел и после смерти спать вечным сном на пастбище.
— Хоть бы похороны прошли благополучно… У меня, Усимацу, сердце не на месте.
Дядя не один тревожился об этом. Утром все пришедшие проститься с покойным собрались в сторожке и возле неё. Здесь были не только окрестные крестьяне, но и сам владелец пастбища и торговцы молоком, которые отдавали на выпас свой скот отцу Усимацу. Для могилы выбрали место поодаль, на холме у сосны. Гроб подняли на плечи и понесли к месту погребения. За гробом следовал настоятель храма Дзёсинъин с двумя служками. За ними — Усимацу и дядя, оба в соломенных сандалиях. Одеты все были по-разному — кто в кимоно с гербами, кто в домотканых хаори; большинство, по обычаю жителей гор, были далее без хакама. У женщин на головах были белые полотняные повязки. Эта будничная одежда провожающих в последний путь отца и то, как они шли гурьбой, нарушая установленный похоронный ритуал, естественно гармонировало с простой жизнью усопшего. Люди пришли сюда не ради церемонии как таковой, а чтобы выразить тёплые чувства к покойному.
Погребальный обряд тоже был прост. Для людей, исполненных скорби, однообразные звуки гонга и барабана были подобны траурной музыке, а монотонное чтение молитв звучало надгробным плачем. Поклонились гробу, похлопали в ладоши,[20] воскурили благовония — вот и всё. Кое-кто стал расходиться. Гроб опустили в могилу. Рядом высился холм земли. Последние полевые ромашки были смяты и затоптаны ногами людей.
Присутствующие на погребении один за другим бросали на гроб пригоршни земли. Дядя и Усимацу тоже бросили по горсти. Потом кто-то взял лопату и стал засыпать могилу. Комья земли с глухим стуком падали на крышку гроба, словно где-то обрушилась скала, и сразу дохнуло резким запахом сырой земли, повеяло невыразимой печалью. Усимацу стоял неподвижно, неотрывно глядя в могилу, пока над нею не вырос маленький холмик. Единственное, что ему осталось от отца, — это завет «Храни тайну!». До последнего вздоха внушал он ему свою волю, а теперь погребён глубоко в землю, вот его могила, и его больше нет.
Похороны прошли благополучно. Попросив позаботиться обо всём остальном владельца пастбища и оставив сторожку на попечение младшего пастуха, Усимацу с дядей собрались домой в Химэкодзаву. Усимацу пытался унести с собою чёрную кошку отца, но она не давалась. После смерти отца она ничего не ела, не отзывалась на зов и всё время жалобно мяукала под полом сторожки. Может быть, она тоже тосковала по умершему хозяину? Её жалели. Скоро наступят холода, чем она будет тогда кормиться в горах?
— Жалко — совсем одичает, — сказал дядя.
Присутствовавшие на похоронах один за другим расходились. Молодой пастух, которому поручили сторожку, пошёл проводить их до холма, где находился загон для скота. Грустно светило ноябрьское солнце, пастбище Нисиноири казалось на редкость пустынным и мрачным. Кое-где зеленели невысокие сосны. Горные азалии, буйно разросшиеся на пастбище, и те поникли от мороза. Всё кругом, казалось, наводило на грустные думы о смерти.
Усимацу молча брёл по узенькой тропке среди невысоких гор, согнувшись под тяжестью своего горя. Он вспоминал, как три года назад посетил эти места в конце мая. Как раз в это время у скота чешутся рога. Тогда все эти увядшие, почерневшие от мороза азалии пестрели красными и жёлтыми цветами. Помнится, ему повстречались дети, собиравшие папоротники. Кругом слышалось воркование диких голубей. Лёгкий, приятный ветерок доносил аромат горных лилий, свидетельствуя о начале раннего лета. Отец, указывая на сочную зелень, покрывавшую холмы, говорил, что Нисиноири — благодатное место для скота: здесь животные излечиваются от многих болезней, потому что едят свежую траву, лижут соль и пьют воду из горных речек. Он рассказывал много интересного о повадках скота: о том, как животные объединяются по породам, о том, что при слиянии стад происходит испытание боданьем и что у животных существуют свои способы воздействия друг на друга, что в стаде непременно отыскивается корова, которая становится как бы королевой. Усимацу вспоминал, с каким увлечением он слушал тогда эти рассказы.
Хотя отец укрылся от людей и коротал свои дни в глуши гор Эбосигадакэ, но в душе он всю жизнь лелеял честолюбивые мечты. Этим он и отличался от своего брата, лишённого каких бы то ни было желаний. Отец всегда негодовал по поводу существующих нравов и своей несчастной судьбы и решил, раз ему нельзя пробиться в жизни, лучше уединиться в горах. И если ему самому не удалось добиться того, чего он хотел, то пусть, по крайней мере, удастся его сыну. «Держись крепко, — говорил отец, — не отказывайся от намерения выйти в люди, даже если солнце взойдёт на западе и сядет на востоке! Иди вперёд, борись, добивайся!» — В этих словах был весь отец.
Теперь, думая о том, каким одиноким был отец, Усимацу с ещё большей силой ощутил ту надежду и страсть, которые отец вкладывал в свой завет. Единственный завет его жизни — «Храни тайну!», его последний предсмертный вздох и неожиданная кончина глубоко потрясли молодого человека. О, смерть безмолвна! Но у потрясённого Усимацу она вызывала гораздо больше тягостных раздумий, чем если б он услышал тысячи слов.
Они дошли до загона, и Усимацу увидел то, что было делом жизни отца: на обширном горном плато паслось огромное стадо. Коровы бродили, пощипывая сочную траву, или лежали под соснами; в восточной части плато за частоколом содержались молодые, ещё безрогие телята.
Усимацу обошёл загон. Пастух разжёг из хвороста и сухой травы костёр. Как раз здесь дядя и дожидался Усимацу. Мужчины и женщины, сидевшие вокруг костра, накануне всю ночь не спали, да и на похоронах пришлось потрудиться, так что многие очень устали. Они расселись вокруг и, полусонные, с удовольствием вдыхали пряный запах тлеющих листьев. Дядя поднялся и высыпал на камни две мерки соли.
— Надо угостить на прощание коров! — сказал он. При мысли о том, что всё это — питомицы отца, Усимацу посмотрел на них с нежностью. Увидев соль, крупная чёрная корова, помахивая хвостом, приблизилась к людям. Поводя ушами, подошла другая, коричневая, с белыми пятнами на лбу и брюхе. Несколько молодых тёлок, напуганные присутствием незнакомых людей, жалобно мычали, раздувая ноздри, но не отваживались подойти ближе к любимому лакомству. Потом, осмелев, сделали несколько шагов вперёд с таким видом, точно хотели сказать: «Лизнуть-то хочется, да здесь какой-то подозрительный народ». Дядя засмеялся.
— Что ж, это неплохие товарищи. С ними и в горной глуши жить можно.
Усимацу и другие тоже улыбнулись. Распростившись со всеми, ещё раз поклонившись месту вечного упокоения отца, Усимацу отправился домой. Позади остались вершины Эбоси, Цунома, Адзумая, Сиронэ. Проходя мимо храма Фудзи-дзиндзя, Усимацу обернулся и посмотрел в ту сторону, где находилась могила отца, но над пустынным плоскогорьем не было видно ничего, кроме тоненькой струйки подымающегося к небу дыма.
Глава VIII
Слух о неожиданной смерти пастуха в Нисиноири немедленно достиг селения Нэцу. Склонность к преувеличению присуща людям издавна, а то, что покойного смертельно ранил бык, особенно поражало воображение любопытных, поэтому повсюду только и судачили об отце Усимацу. Суеверные люди сразу же решили, что в предыдущем рождении[21] он, должно быть, совершил страшный грех. Строились разные догадки насчёт его прошлого: одни говорили, что он переселился с пастбищ Минами-Саку, другие, — что он родом из провинции Каи, но были и такие, кто утверждал, что он потомок самураев из Айдзу и тому подобное. Только никто не знал и даже не предполагал, что он был в Коморо старшиной посёлка «этa».
На следующее утро, по обычаю, в семье дяди было устроено угощение для тех, кто помогал им во время похорон, после чего Усимацу вместе с дядей обошёл односельчан и поблагодарил их за внимание и участие. Дома осталась одна тётка. После обеда стало совсем тепло; солнце щедро лило свои лучи на грядки лука во дворе, на галерейку, где выставлены были для проветривания арбузы. Куры весело кудахтали, безнаказанно ощипывали у забора цветы, забегали на циновки в комнату. Тётка, присев у стока для воды, чистила котёл; она не заметила, как к ней подошёл какой-то господин.
— Скажите, пожалуйста, здесь живёт Сэгава-сан? — вежливо спросил он.
На лице тётки отразилось удивление: перед ней стоял совершенно незнакомый человек. Сняв повязанное вокруг головы полотенце, она поклонилась:
— Да, мы Сэгава. Извините, а вы кто будете?
— Меня зовут Иноко, — представился господин. Узнав от тётки, что Усимацу скоро вернётся, Рэнтаро решил подождать его здесь, если позволят, и в сопровождении хозяйки, пригибаясь, прошёл через низенькую дверь внутрь крытого соломой домика.
Когда-то Рэнтаро находил прелесть в деревенской жизни. Он с любопытством оглядел закопчённые стены и присел, словно для него не было ничего приятнее, чем беседовать у очага. Как принято у крестьян, от входной двери домика до чёрного хода шёл сквозной коридор. Там вперемежку стояли мешки с углём, вёдра с соленьями и всевозможная крестьянская утварь. В углу лежала куча не очищенного от земли картофеля. Очаг находился у самого входа, запах дыма придавал этому невзрачному жилищу ощущение уюта. На стенах висели старые календари и выцветшие картинки.
— Жаль, что вы не застали его… У нас ведь случилось большое несчастье, и он пошёл поблагодарить односельчан.
Тётка стала рассказывать Рэнтаро про неожиданную смерть отца Усимацу. В очаге пылал огонь. В котелке, висевшем над очагом, забулькала вода; тётка заварила чай и хотела было налить гостю, как вдруг — странная вещь память! — вспомнила давным-давно уже забытый у них обычай. У «этa» не принято подавать чай или еду обычным людям, и прежде в доме Сэгава всегда строго соблюдали этот обычай. Только переселившись в Химэкодзаву, они забыли этот обычай и поступали, как все. За долгие годы жизни в этих местах они перестали чуждаться знакомых и частенько обменивались подарками — весной посылали кому-нибудь рисовые лепёшки, осенью сами получали, скажем, гречневую муку. Они не видели в своих действиях ничего дурного, да и у знакомых не возникало никаких подозрений. Старый обычай не вспоминался. Но сейчас, вероятно потому, что гость был необычный, совсем не похожий на крестьян из Химэкодзавы… и такой неожиданный… тётка, человек старого поколения, сама удивилась, как дрожит её рука, наливающая чай. А Рэнтаро и не подозревал об этом. Он с наслаждением смочил пересохшее горло и теперь с улыбкой слушал рассказы старой женщины о детских шалостях Усимацу.
— Скажите, в вашем посёлке «этa» при Нэцу живёт некий богач Рокудзаэмон? — вдруг спросил её Рэнтаро. — Правда, вам мой вопрос может показаться неуместным…
Тётка удивлённо взглянула на Рэнтаро.
— Да, живёт, — подтвердила она.
Действительно, в посёлке «этa» при Нэцу, расположенном в восьми тё от Химэкодзавы, на западной окраине жил очень богатый «этa» Рокудзаэмон. Он был хорошо известен в этих краях.
— Говорят, у него в доме недавно была свадьба, — заметил Рэнтаро.
— Я ничего об этом не слыхала. Что ж, значит, принял к себе в дом зятя? Дочь его, говорят, засиделась в девушках.
— А вы знаете её?
— Она у нас слывёт красавицей. Белолицая, стройная… Жаль, что бедняжка в такой семье родилась. Ей вроде бы уж лет двадцать пять будет, а по виду больше девятнадцати — двадцати не дашь.
Во время этого разговора Рэнтаро, казалось, о чём-то думал.
Время шло, а Усимацу всё не возвращался. Рэнтаро наскучило ждать, и он вышел, чтобы прогуляться по окрестностям и полюбоваться видом гор. Уходя, он попросил тётку передать Усимацу, что хочет непременно с ним повидаться.
Завидев издали Усимацу, тётка выбежала ему навстречу.
— Слушай, Усимацу, к тебе приходил какой-то господин. Он назвался Иноко.
— Иноко-сэнсэй? — воскликнул Усимацу, и у него радостно заблестели глаза.
— Он долго сидел у нас, но так и не дождался тебя. «Пройдусь немного», — говорит. Он пошёл вон туда. А кто он такой, этот господин?
— Мой учитель, — ответил Усимацу.
— Неужто! — поразилась тётка. — А я-то с ним так обошлась! Совсем запросто… Думала, он просто твой знакомый. Ведь разговаривал он так, будто ты ему приятель.
Усимацу хотел было сразу же пойти разыскивать Рэнтаро, но тут вернулся дядя. Устало повалившись на циновку, он несколько раз пробормотал: «Всё прошло хорошо! Всё обошлось благополучно — и похороны и благодарности». Видимо, эта мысль успокоила его.
— А знаешь, Усимацу, как я беспокоился? — обратился он к племяннику через минуту. — Всё по милости неба обошлось хорошо, — добавил он и с облегчением вздохнул.
Мирный деревенский дом и старинные нравы дяди и тётки, не ведающих о переменах на свете, звонкое кудахтанье кур, разносившееся в сухом послеполуденном воздухе, навевали тихий покой и воскрешали в душе Усимацу картины давно забытого детства. Его крепкая, энергичная тётка, никогда не имевшая собственных детей, всегда была очень добра к Усимацу, да и сейчас смотрела на него, как на ребёнка; её обращение с ним забавляло Усимацу. Когда он, смеясь, сказал ей: «Смотри, ты разговариваешь со мной совсем как отец», — у тётки на глаза навернулись слёзы. Дядя заулыбался. Усимацу с наслаждением пил налитый тёткой чай и вспоминал, как он любил её пирожки и мармелад на патоке. Да, приятно было вернуться на родину!
— Ну, я пойду, — сказал он немного погодя и вышел из дому. Дядя вдруг поднялся и с озабоченным видом поспешил вслед за ним. Нагнав племянника возле осыпавшейся от заморозков хурмы, дядя, понизив голос, спросил:
— Послушай, Усимацу, я слышал про какого-то Иноко, преподавателя из учительской семинарии. Твой гость — это не он?
— Да, он самый, мой учитель Иноко.
— Вот как! Значит, это он и есть? — Дядя осмотрелся по сторонам и, внушительно подняв большой палец, прошептал: — Ведь ты знаешь, он… Будь осторожен!
Усимацу рассмеялся.
— На этот счёт будь спокоен, дядя.
И поспешно ушёл.
Хотя Усимацу сказал: «Будь спокоен», на самом деле он собирался открыться Рэнтаро. Он и учитель — только вдвоём… будет ли у него ещё когда-нибудь такой благоприятный случай? И сердце Усимацу взволнованно забилось.
Он нашёл Рэнтаро на небольшой, покрытой сухой травой насыпи. Оказалось, что учитель оставил жену в Уэде, а сам утром приехал в Нэцу. С ним был только Итимура. Адвокат наносит визиты местным заправилам, а Рэнтаро отправился в Химэкодзаву навестить Усимацу. По разным соображениям собраний здесь не устраивали, и Рэнтаро не мог наслаждаться красноречием Итимуры, зато он мог вволю побеседовать с Усимацу. Ему было приятно посвятить дружеской беседе конец этого тёплого осеннего дня в горах Синано.
Какой радостью это было для Усимацу! Сидеть рядом с любимым учителем, слышать его голос, видеть его оживлённое лицо, дышать вместе с ним воздухом их общей родины — это было неповторимое для Усимацу счастье! Тем более, что Рэнтаро-собеседник был куда интереснее, чем Рэнтаро-писатель. Строгое, сосредоточенное выражение его лица не мешало ему быть сердечным и мягким, очень простым в обращении человеком. Он растянулся на пригреваемом солнцем пригорке и стал рассказывать устроившемуся рядом Усимацу о своей болезни. Когда его поместили в больницу, он вначале только кашлял, а потом у него пошла горлом кровь. Правда, теперь в груди у него уже не болит, и он чувствует себя настолько бодро, что порой даже забывает о болезни. Но если снова повторится такое же, ему несдобровать.
Разговор был дружеский и сердечный, но Усимацу всё же не покидала тревога. «Когда же я соберусь с духом и скажу ему всё?» — эта мучительная мысль ни на минуту не давала ему покоя. Иногда он вдруг со страхом вспоминал о болезни учителя, и в голове у него проносилось: «А что, если я заражусь?» — но он тут же одёргивал себя.
Так они беседовали обо всём, что приходило на ум, — о местных нравах и обычаях, этом наследии средневековья, оставленном кое-где рыцарством и буддизмом, о расцвете и упадке городов вдоль железнодорожной линии Синъэцу, о былом процветании тракта Хоккоку и о том, как захирели теперь местные почтовые станции… Перед ними высились вершины гор Надэсина, Якадакэ, Хофукудзи, Мисаяма, Вада, Даймон. Далеко-далеко на запад и восток простирались их пологие склоны. Внизу, в глубокой долине, несла свои воды Тикума. Это были картины, с детства врезавшиеся в память Усимацу. Он делился своими воспоминаниями с Рэнтаро, а Рэнтаро, слушая его, с любопытством рассматривал расстилавшуюся вокруг них панораму. На противоположном берегу реки раскинулось плоскогорье Аэбара, над ним вились дымки — признак людского жилья. Указывая на освещённую солнцем долину, Усимацу рассказывал об обосновавшихся там поселениях — Иоттакубо, Нагасэ, Марико. Он живо описал окутанную густой синевой долину, где бьют горячие ключи Рэйсэндзи, Тадзава, Бэссо, и величавую вершину горы — прекрасное место для отдыха, куда каждый год в пору цветения гречихи, стекаются толпы не только местных крестьян, но и приходящих издалека, чтобы забыть о своей усталости.
Рэнтаро признался, что раньше он был безучастен к красоте горной природы. Виды Синано представляют собой грандиозную панораму, но из множества созданных природой чудесных картин, пожалуй, именно их можно отнести к разряду обыденных. Они грандиозны, это верно, но им не хватает истинной прелести. Горы всегда казались ему похожими на фантастически вздымающиеся и падающие волны и вызывали в душе у него какое-то беспокойство и смятение. Глядя на них, он только тревожил себе сердце. Так было раньше. А вот во время нынешней поездки, как это ни странно, Рэнтаро впервые увидел горы совершенно по-иному. Он ощутил дыхание окутанных дымкой склонов, услышал голоса далёких и глубоких долин, увидел трепет то живых, то увядающих рощ, почувствовал движение плывущих по небу чередой то мрачных, то прозрачных облаков. Рэнтаро восхитился меткостью слов: «Равнина — отдых природы, горы — её деятельность». И казавшиеся раньше ничем не примечательными, горы Синано теперь обрели для него новый, глубокий смысл. Признание Рэнтаро было приятно Усимацу — он всем сердцем был привязан к горам. В тот день небо на западе было ясное, и можно было видеть горы Хида. По другую сторону долины, над громоздящимися друг на друга вершинами, высилась гигантская белая стена; снег уже не раз ложился на неё толстым слоем. Она искрилась и сверкала в лучах вечернего солнца на синем фоне осеннего неба. Усимацу мог до самозабвения любоваться картинами родных гор. Живописные кручи, окутанные свинцово-лиловатой дымкой долины, придавали пейзажу неизъяснимую величественность, Гордо вздымаются пики Хариги, Хакуба, Яки, Норикура, Тёга. Там берут своё начало Кадзусагава, Осирогава и многие другие реки и речушки. Там, на недосягаемой высоте, живут белые куропатки. Там, среди скал, можно видеть следы древних ледников. Там никогда не ступала нога человека. О безмолвные горы Хида — исконный торжественный чертог природы! Чем больше Рэнтаро и Усимацу любовались ими, тем больше проникались сознанием их величия. Они много говорили о горах.
Сколько раз во время этой беседы Усимацу порывался рассказать Рэнтаро о своём происхождении! Ещё накануне, после похорон, сидя при свете лампы в одиночестве до поздней ночи, Усимацу пытался представить себе беседу с учителем, если представится такой случай: он скажет ему вот так… или лучше так… И вот Рэнтаро рядом, а он не в силах ему открыться, рассуждает о красоте горной природы, а то, что тяжёлым камнем лежит на сердце, высказать не может. И хотя они успели побеседовать о многом, ему казалось, у него было такое чувство, словно он ещё не сказал Рэнтаро ни слова.
Рэнтаро пригласил Усимацу к себе в гостиницу, где он, уходя, распорядился приготовить ужин. Дорогой Усимацу ещё несколько раз пытался заставить себя заговорить о том, что его угнетало. Он был уверен, что это признание ещё больше их сблизит; от волнения у Усимацу даже перехватывало дыхание, и он останавливался. Тайна, от которой зависит вся его жизнь… Но почему же так трудно открыть её человеку такого же происхождения, как он сам? Он очень хотел, но не мог. Он терзался своей нерешительностью и корил себя за это.
Незаметно они вышли к западной окраине Нэцу. Неподалёку от каменной статуи Дзидзо[22] находился посёлок «этa». Среди приземистых, крытых соломой лачуг с обращёнными к востоку скатами крыш резко выделялась большая усадьба, похожая на старинный замок; на солнце ярко блестели её белые стены. Это был дом богача Рокудзаэмона. Жители посёлка занимались главным образом земледелием и плетением пеньковых сандалий. Здесь не было человека, который не шил бы, например, обуви, не мастерил бы сямисэны, барабаны или другие предметы из кожи или не торговал бы павшими лошадьми, точно так же, как в посёлке «этa» в Коморо. Зато сандалии здесь плели в каждом доме, и почти на каждом заборе висели для просушки гирлянды пеньки. Всё это живо напомнило Усимацу детство, домашний быт их семьи в Коморо. Его покойная мать и тётка тоже вечно что-нибудь плели из пеньки, да и сам он любил ворошить груды пеньки, подражая работе взрослых.
Разговор переключился на Рокудзаэмона. Рэнтаро поинтересовался, что он за человек, как живёт. Усимацу мало что мог рассказать о нём. Как говорили люди, богач Рокудзаэмон не получил никакого наследства, всё добро нажил сам. Его не любили, называли скороспелым богачом, вороной в павлиньих перьях. Он не только жаден, но и тщеславен. Чтобы стать, как он говорит, «барином», он не жалеет денег; спит и видит, как бы пробраться в высшие круги общества. Чтобы завести знакомства в свете, Рокудзаэмон выстроил в Токио роскошную виллу. Ради этого он стал членом Общества Красного Креста. Ради этого он принимает участие во всяческих благотворительных акциях. Ради этого украшает свой дом картинами и всевозможным раритетом. Здесь в округе о нём говорят, как о редкостном неуче, дом которого ломится от книг.
Когда Усимацу и Рэнтаро подошли к усадьбе Рокудзаэмона, солнце уже садилось. Его ярко-красные лучи озаряли белые стены дома, и всё, казалось, полыхало в огне. Усадьба была обнесена прочной оградой. Возле ограды стайка ребятишек, видимо, из семей «этa», предводительствуемая семи-восьмилетним мальчуганом, играла в мэнко.[23] Среди них были краснощёкие, живые, ничем не отличающиеся от обычных детей, были и тщедушные, хилые — истинные дети отверженных. Достаточно было взглянуть на лица ребятишек, чтобы понять, что и посёлок «этa» делится на свои классы. Приветливо окликнув детей, прошёл какой-то крестьянин, ведя в поводу лошадь; поравнявшись с Усимацу и Рэнтаро, он как-то невольно весь съёжился. Словно тень проскользнула мимо молодая женщина. Усимацу стало тяжело дышать воздухом посёлка «этa»: как можно так не понимать своего невежества и нищеты! И груди у него клокотало негодование, сердце сжималось от боли и стыда. «За кого они нас принимают?» — думал он с горечью. Ему хотелось, как можно скорей уйти отсюда.
— Учитель, пойдёмте, — торопил Усимацу остановившегося было Рэнтаро.
— Взгляни-ка на дом Рокудзаэмона! — подозвал его тот. — Во всём сказывается характер его владельца, не правда ли? Говорят, на днях тут была свадьба…
— Свадьба? — удивился Усимацу. — Не слыхал.
— Да, причём весьма необыкновенная. Её, пожалуй, можно назвать политической свадьбой…
— Я не совсем понимаю, что вы хотите сказать.
— Видишь ли, невеста — дочь владельца этой усадьбы. А жених — кандидат в парламент. Разве это не любопытно?
— Действительно, жених — кандидат в парламент? Кто же это? Неужели тот самый, с которым мы ехали вместе в поезде?
— Именно он!
— Не может быть! — У Усимацу глаза вылезли на лоб. — Вот это неожиданность, никогда бы не подумал…
— И для меня это тоже было неожиданностью. — Глаза у Рэнтаро блестели.
— Но откуда вы это узнали?
— Когда придём — расскажу.
Глава IX
Подойдя к дому Цукакубо, Усимацу вспомнил, что он не успел сегодня побывать у одного местного крестьянина, которого не успел поблагодарить за участие в похоронах отца. Он сказал об этом Рэнтаро, и они решили, что Рэнтаро пойдёт в гостиницу, а Усимацу придёт немного позже.
Усимацу свернул на дорожку, которая вилась среди полей, и, когда подходил к нужному ему дому, со стороны улицы послышались звуки флейты — это продавец сластей созывал своих юных покупателей. Со всех сторон с радостными криками бежали мальчики и девочки. Нехитрая мелодия флейты бродячего торговца приводила в восторг всех ребятишек, будила в них наивные мечтания. Но не только охочие до лакомств дети слушали пение флейты. Усимацу тоже невольно остановился: и опять перед его мысленным взором возникли картины детства.
Зачем скрывать? В доме, куда он сейчас шёл, жила теперь подруга его детства. Она уже несколько лет была замужем за сыном хозяина дома. Её звали Оцума. Её родители жили в Химэкодзаве, по соседству с Усимацу, их дома разделял только яблоневый сад. Усимацу было девять лет, когда они обосновались в этом посёлке, и в первые же дни он подружился с маленькой Оцумой. Отец девочки, большой труженик, был принят в дом зятем[24] из Уэды. Он никого здесь не знал, и как-то само собой получилось, что он подружился с семьёй Сэгава. Усимацу был его любимцем, и всякий раз, возвращаясь с богомолья из Исэ, он непременно припасал ему какой-нибудь подарок. И не было ничего необычного в том, что дети соседей играли вместе, тем более, что они были примерно одного возраста. При звуках флейты радостные воспоминания детства заполнили душу Усимацу. Он пытался представить себе, какая сейчас Оцума, но память сохранила лишь смутный образ юной девушки, такой, какой она впервые явилась ему в своей юной красоте. Это было весной, цвели яблони, и они бродили под их низко склонившимися ветвями и беззаботно щебетали. То была сказочная пора, пора» похожая на сон, но владевшее ими чистое чувство запомнилось навсегда, хотя всё остальное выветрилось из памяти. Правда, их юная привязанность продолжалась недолго. Вскоре Усимацу подружился со старшим братом Оцумы и с ней уже не играл.
Оцума вышла замуж в шестнадцать лет. Её муж был товарищем Усимацу по школе, все трое были однолетки. Даже по деревенским понятиям они поженились очень рано. Усимацу ещё был всецело поглощён изучением истории и языков в стенах семинарии, а молодых супругов уже окружали малыши, с утра до вечера теребившие их: «папа!», «мама!».
Перебирая в памяти прошлое, Усимацу поднимался на холм. Перед домом пробегал чистый, прозрачный приток полноводной горной речки Нэцу; каштаны, окаймлявшие дорогу, уже осыпались. На деревцах хурмы тоже не осталось ни одного листка. Только трава у самой воды ещё зеленела, и, казалось, было видно, как жадно пьют влагу её корни. Все обитатели дома были заняты приготовлениями к зиме. Возле стока несколько женщин усердно мыли брюкву. Одна из них, повязав голову полотенцем и подобрав тесьмой рукава кимоно, особенно быстро и ловко работала белыми руками. Усимацу задержал на ней взгляд и вздрогнул: он узнал в этой женщине Оцуму. Как изменилась подруга его детства! Лицо Оцумы тоже выражало изумление.
Муж и свёкор Оцумы куда-то ушли, дома оставалась одна свекровь. Усимацу слышал, что у Оцумы пятеро детей, но старших не было видно, они, вероятно, играли где-то поблизости. Три девочки, самой большой из которых было всего пять лет, робко жались к матери и от смущения даже не поклонились, как подобает, гостю. Потом одна с любопытством стала разглядывать его, другая продолжала прятаться за мать, а самая маленькая, только что научившаяся ходить, никак не могла привыкнуть к чужому человеку и громко плакала. Свекровь и Оцума рассмеялись.
— Что за смешной ребёнок! — сказала Оцума и дала девочке грудь.
Принявшись сосать, крошка ещё долго всхлипывала и украдкой поглядывала на Усимацу, — это была очаровательная картина.
Разговорчивая свекровь болтала без умолку, занимая Усимацу. Оцума, кончив кормить ребёнка, молча приготовила чай и, подавая его Усимацу, тихо сказала:
— А какой Усимацу-сан стал взрослый!
И, подняв на него глаза, вдруг покраснела.
Передав хозяину дома благодарность, Усимацу торопливо ушёл. Оцума со свекровью пошла проводить его до ворот; они долго стояли, глядя ему вслед. Усимацу шёл, раздумывая над тем, как жизнь меняет и его и других людей. Неужели эта домовитая женщина и добрая мать, таящая в себе и сейчас какую-то прелесть, была та самая Оцума, воспоминания о которой до сих пор хранила его душа? Он увидел сейчас совсем другого человека. Как странно: они одного возраста, а Оцума уже мать пятерых детей… И всё же это была та самая Оцума, подруга его детства!
Эти воспоминания отозвались в его сердце глубокой болью. Как прекрасна была та давняя пора детства, когда он не ведал душевных мук, и как безутешна его нынешняя жизнь, терзающая его душу сомнениями и муками! О, ушло навсегда то беззаботное время, когда он, не задумываясь над тем, кто он и что, бродил с милой девочкой по яблоневому саду. Усимацу хотелось снова вернуть детство и снова, пусть недолго, пожить, не думая о том, что он «этa». Хотелось снова, как в пору далёкого детства, свободно вкушать радости жизни. Страстное желание весенним потоком забурлило в его груди. Горькое отчаяние от сознания того, что он «этa», и светлые мысли о его первой любви смешались, и молодость показалась ему ещё прекраснее. И вдруг Усимацу вспомнил об Осио, и его охватила горячая волна пробуждённых к жизни чувств. Он быстро зашагал к гостинице, где его ждал Рэнтаро.
У входа на фонаре было написано: «Гостиница Ёсидая»; это было всё, что осталось от шумного когда-то почтового тракта, проходившего через Нэцу. Теперь здесь проезжих было мало, прежние хозяева гостиниц вернулись к земле, и в Нэцу осталось всего два-три постоялых двора. «Ёсидая» была одним из них, но и здесь дела были так плохи, что комнаты для постояльцев в осеннюю пору занимали для выведения шелковичных червей. И всё же, несмотря на запустение, в «Ёсидая» всё выглядело так, как и положено в старинных деревенских гостиницах: у ворот были рассыпаны для просушки бобы, во дворе звонко кудахтали куры; мимо Усимацу, забавно покачиваясь, проследовал к ванной слуга, державший в высоко поднятых руках ведро воды. В очаге у входа ярко полыхал хворост. Изнутри дома доносился чей-то беззаботный смех.
«Да, расскажу!» — сказал сам себе Усимацу. Когда он входил в ворота гостиницы, эта мысль опять завладела его умом. Его провели в комнату Рэнтаро. Он был один, адвокат ещё не вернулся. Усимацу огляделся: и висящее над притолокой изречение в рамке и ширмы — всё было ветхое, старинного образца. Но, может быть, именно поэтому всё здесь навевало покой, располагало к тихой беседе. Слуга подбросил в жаровню угля, положил подушки; Рэнтаро и Усимацу удобно расположились друг против друга. Усимацу чувствовал себя как-то необычно и вместе с тем хорошо, и даже чай, который Рэнтаро сам ему налил, показался ему совершенно особенным. Он стал называть Рэнтаро одну за другой его книги, которыми он зачитывался последние годы. Он рассказал, что первой попалась ему в руки книга «Современные идеи и общественные низы», потом он прочитал «Утешение бедных», «Труд», «Обыкновенный человек», и каждая из этих книг была для него по-своему интересна. Усимацу подробно рассказал, как его обрадовало объявление о выходе «Исповеди», как он ждал её появления в магазине и как с книжкой в руках, ещё не читая, пытался представить себе её содержание, а прочитав, был просто потрясён. Впервые он понял и ощутил всю страшную силу того, что называется обществом, в книге открывался ему новый мир.
Слышать всё это Рэнтаро доставляло необычайную радость. И с этим радостным чувством он направился в ванную, когда пришли сказать, что вода готова. Рэнтаро считал Усимацу просто одним из своих знакомых и не предполагал, что тот такой горячий приверженец его идей: пылкость, с которой говорил Усимацу, не оставляла сомнений в его искренности. Болезнь есть болезнь, — вот почему Рэнтаро избегал близкого общения с людьми; он не хотел создавать опасность заражения для других; на его лице всё время лежала печать этого не ведомого здоровому человеку беспокойства. Но стеснительность Рэнтаро, раздражавшая других, Усимацу казалась трогательной. Он уже не испытывал никакого страха перед болезнью учителя, а только чувствовал к нему сострадание.
Из-за окна ванной комнаты доносилось журчание сбегавшей по камням воды.[25] Какое наслаждение, погрузившись в чуть ли не кипящую воду, лежать и слушать, как стекают вниз прозрачные струйки. В окно падали лучи заходящего солнца и золотили наполнявший ванную пар. Рэнтаро окунулся и вышел на настил; окутанный паром, он весь горел. Усимацу, разморённый теплом, тоже сделался красным; по лицу его катился пот; приятная истома овладела всем телом, и он забыл про все жизненные невзгоды.
— Учитель, позвольте я вам потру спину! — Усимацу взял шайку и стал позади Рэнтаро.
— Потрёшь? — обрадовался Рэнтаро. — Пожалуйста. Только покрепче.
Усимацу был счастлив, что человек, к которому его с давних пор влекло, находится рядом с ним, что он видит его в повседневной жизни, знает, что он думает, как говорит, как поступает. Да и Рэнтаро был рад новому другу.
— Теперь моя очередь, — сказал Рэнтаро, зачерпнув горячей воды. Усимацу попробовал отказаться.
— Нет, не нужно… Я вчера только принимал ванну.
— Вчера — это вчера, а сегодня — сегодня, — шутил Рэнтаро. — Не церемонься, давай я тебя потру.
— Благодарю.
— Ну как, Сэгава-кун, хороший я банщик? Ха-ха-ха! — смеялся Рэнтаро и, намылив мочалку, стал тереть Усимацу спину. — Когда я ещё служил в Нагано, мы устроили для учеников экскурсию в Кодзукэ. Помню, меня тогда все называли обжорой. И это, пожалуй, соответствовало действительности. Ведь я был тогда таким здоровым малым! С тех пор чего только не было в моей жизни, и всё же вот такой человек, как я, сумел дотянуть до сегодняшнего дня…
— Учитель, довольно.
— Что ты? Ведь я только начал.
Рэнтаро старательно вымыл Усимацу спину и под конец окатил его из шайки тёплой водой: мыльная пена медленно стекала по дощатому настилу.
— Я только с тобой почему-то и могу так откровенно говорить, — сказал вдруг Рэнтаро серьёзно. — Знаешь, каждый раз, когда я думаю о моих собратьях, я понимаю, как это ужасно. Стыдно сказать, но духовная жизнь, мир идей для них ещё не доступны. Когда я покинул учительскую семинарию, размышления об этом омрачили мою жизнь на много дней. И заболел-то я из-за этого. Но болезнь меня спасла. Мне захотелось не только думать, но и действовать. Вот ты читал «Современные идеи и общественные низы». Будь я здоров, я бы ни одного дня над этой книгой не стал сидеть. Но для меня высшим удовлетворением будет, если когда-нибудь в среде «синхэйминов» появится такой человек, который прочитает мою книгу и скажет: «А ведь это написал наш собрат, Иноко!» Тогда мне будет чем гордиться, вот для чего мне нужна жизнь, вот в чём моя надежда…
«Скажу, скажу ему», — вертелось в голове у Усимацу, и, всё будто чем-то сдерживаемый, он вышел из ванны, так ничего и не сказав. Вернулись в комнату. Адвоката всё ещё не было. На ужин им готовили рыбу хая, недавно пойманную в реке Тикума. Рэнтаро купил её но дороге из Уэды. Он велел зажарить рыбу на вертеле и подать с мисо. Рэнтаро давно мечтал о таком блюде. Из кухни доносилось звяканье посуды, аппетитный запах жарящейся рыбы, смешанный с запахом капающего с вертела подгорелого жира, наполнил комнату.
Рэнтаро достал из чемодана свои лекарства. После ванны он выглядел посвежевшим и здоровым. Машинально понюхав креозот, Рэнтаро вдруг заговорил о Такаянаги:
— Значит, Сэгава-кун выехал из Ииямы вместе с ним?
— Да, но, знаете, учитель, он вёл себя как-то странно, — засмеялся Усимацу, — похоже было, что он меня избегает.
— Это говорит о том, что у него нечиста совесть.
— Словно сейчас вижу, как он прячет лицо в воротник своего пальто.
Рэнтаро улыбнулся.
— Из дурного, мой друг, никогда ничего хорошего не выйдет.
Он рассказал Усимацу всё, что слышал о Такаянаги и о его тайной женитьбе на дочери Рокудзаэмона. Рэнтаро узнал обо всём этом довольно странным образом. Когда он находился в деревне Акиба, где был самый старый в Синано посёлок «этa», ему об этом рассказал какой-то родственник Рокудзаэмона, с которым тот был в плохих, даже враждебных отношениях. Когда же Рэнтаро с адвокатом Итимурой приехали в Нэцу, они сразу же наткнулись на молодую чету Такаянаги, которые тайком отправлялись в свадебное путешествие. Возможно, те их и не заметили, но Рэнтаро и Итимура сразу узнали Такаянаги.
— Нет, это уму непостижимо! — воскликнул Рэнтаро. — Как, по-твоему, Сэгава-кун, что должен чувствовать такой человек? Когда ты вернёшься в Иияму, увидишь, наверное, он объявит о своей женитьбе как ни в чём не бывало. Даст понять, что жена из богатого дома и из какой-то дальней местности. А вот что она дочь «этa», этого он не расскажет.
Служанка внесла столики с ужином. Запах свежезажаренной рыбы щекотал ноздри. Её серебристая спинка и оранжевое с белым брюшко, покрытые мисо, стали коричневыми. Нанизанная на бамбуковый вертел рыба плавала в жиру. Забавно выгнув спину, рядом со служанкой появилась кошка, привлечённая запахом рыбы. Услышав, что её услуг не потребуется, служанка взяла кошку и удалилась.
— Ну что ж, начнём, — сказал Усимацу, придвигая кадочку с рисом, от которой шёл пар.
— Ты не стесняйся, вспомни нашу столовую в учительской семинарии, — засмеялся Рэнтаро и стал есть. Усимацу тоже принялся за рыбу; нежное мясо её легко отделялось от костей, а поджаренное мисо вкусно пахло.
— Да! — Рэнтаро отстранился от столика и положил руки на колени. — Современным господам просто диву даёшься! Ради денег они готовы на всё. Но как бы Такаянаги ни пускал пыль в глаза, дела у него, как я слышал, обстоят неважно. По уши в долгах, кредиторы наступают со всех сторон, и он пускается на всякие махинации, лишь бы удержаться на поверхности. Вряд ли ему удастся в этом году победить на выборах. Знаешь, как бы туго тебе ни приходилось, жениться ради денег — это значит уж явно показать свою низость. Конечно, Такаянаги может доказывать, что Рокудзаэмон полноправный гражданин, что в женитьбе на его дочери нет ничего странного и что вполне естественно на выборах пользоваться помощью родственников… Допустим, что это так. Хорошо. Если ради полюбившейся ему девушки он переступил границы своего сословия — это хорошо. Но зачем же тогда устраивать свадьбу тайком? Зачем он ведёт себя как трус, тайком приезжает, тайком уезжает? Ведь он — кандидат в парламент. Разглагольствует повсюду так, словно способен вершить мировую политику, а посмотришь — в жизни он ничтожный человечишка, надевший на себя личину благородства. Ведь это ужасно! Правда, на свете сколько хочешь людей, которые ради денег готовы на всё, они даже собственную душу продадут, найдись только покупатель. Но этот Такаянаги тем и отвратителен, что он лицемер и ханжа. Представь себя на моём месте — и ты поймёшь, что для «этa» нет ничего более унизительного, чем вот такого рода сделка…
Помолчав немного, Рэнтаро снова заговорил об этой истории с женитьбой, как будто мысль о ней не давала ему покоя.
— Этот Такаянаги хорош, но не лучше и Рокудзаэмон! Как можно выдать родную дочь за такого человека! Теперь, наверное, он отправится в Токио и всюду будет трезвонить, что его зять политический деятель. Только вряд ли всё это обойдётся благополучно. Ведь и тщеславию есть границы! О дочери хотя бы немного подумал.
Усимацу с удивлением слушал Рэнтаро — он не имел ни малейшего представления о закулисной стороне жизни политиков. Поразила его и горячность, с какой Рэнтаро говорил о своих сородичах. «Какая сила духа заключена в его хилом, больном теле!» — подумал Усимацу. Слова Рэнтаро доходили до самого сердца Усимацу, но иногда ему казалось, что не будь Рэнтаро больным, он бы спокойнее и хладнокровнее смотрел на жизнь.
Усимацу так и не сказал того, что хотел. Когда он вышел из гостиницы, было совсем темно. По дороге домой ему стало так грустно, что захотелось плакать. Почему же я не сказал? — допытывался он у самого себя и сам же отвечал: потому что запретил отец… потому что меня предостерегал дядя… потому что, если тайна соскользнёт с моих уст, она рано или поздно дойдёт до чужих ушей: учитель скажет жене, а она как женщина вряд ли сможет сохранить чужую тайну, и тогда повернуть всё назад будет невозможно… К тому же я вовсе не хочу думать о том, что я «этa», я до сих пор жил как обыкновенный человек и впредь хочу жить так же, это самое разумное.
Усимацу придумывал себе всевозможные оправдания, к тому же задним числом, но и сам в них не верил. Его терзало раскаяние, у него было такое чувство, что он обманул самого себя. Ведь таиться от Рэнтаро ему попросту не позволяла совесть.
Ах, полно, к чему эти мучения! Конечно, если он и откроет когда-нибудь свою тайну, то только учителю. Он признается только человеку, который сам когда-то вот так терзался, который сам «этa». Что же в этом опасного, что страшного?
«Не сказать — это значит солгать», — снова начинал корить себя Усимацу.
Душу Усимацу, охваченную юношеским порывом, стремящуюся навстречу весне, сковывала мучительная тайна. Словно молодая травинка, пробивалась она к солнцу сквозь смёрзшийся снег, борясь с сомнениями и страхом. Ей было тесно, не хватало воздуха. Когда снег тает под лучами солнца — травинке становится просторнее — в этом нет ничего странного. Так что же странного в том, что душа молодого человека, согретая пламенем другого сердца, стремится к нему навстречу? Чем больше Усимацу видел Рэнтаро, чем больше он слушал его, тем сильнее подпадал под его влияние, тем сильнее сам стремился к духовной свободе. «Надо сказать, надо сказать. Разве его путь не должен стать моим?» Так терзалась, так боролась сама с собой мятущаяся душа Усимацу.
«Решено. Завтра увижусь с учителем и непременно ему откроюсь», — твёрдо сказал себе Усимацу и поспешил домой в Химэкодзаву.
Дома он застал отца Оцумы, и все вместе они допоздна просидели у очага за беседой. Когда гость ушёл, дядя не допытывался, где так долго пропадал Усимацу, и ничего не спрашивал про Рэнтаро. Но когда Усимацу укладывался спать, он вдруг спросил:
— Усимацу… Ты ведь ничего не рассказал сегодняшнему гостю о себе?
Усимацу посмотрел на дядю.
— Кто же станет рассказывать об этом? — ответил он, но искренности в его словах не было…
Улёгшись в постель, Усимацу долго не мог уснуть. А когда наконец заснул, то увидел странный сон: будто он стоит у гроба отца, глядит ему в лицо, и вдруг оказывается, что в гробу не отец, а Рэнтаро; он пристально всматривается в болезненные черты учителя, но видит лицо Оцумы. И не успел он подумать, какие у неё красивые, сияющие глаза, как сверкают белые зубы, как румянец заливает её щёки, какая она ласковая и женственная и какую нежность источает её душа, как перед ним возникла Осио. Правда, видение длилось недолго — какой-то миг. Наутро он даже не мог припомнить, что видел во сне.
Глава X
Итак, наступил час, когда Усимацу твёрдо решил скинуть с себя тяжкое бремя тайны.
Через день Рэнтаро с адвокатом возвращались в Уэду, и Усимацу условился отправиться вместе с ними. Утром того же дня на бойню Уэды отправляли быка, который насмерть забодал отца. Усимацу и дядя, по обычаю, должны были присутствовать при убое животного. Всё складывалось более чем благоприятно для того, чтобы Усимацу мог осуществить наконец своё намерение, — кто знает, когда доведётся снова встретиться с Рэнтаро. «Нужно только для этого непременно остаться наедине с учителем… Ни дядя, ни адвокат не должны этого слышать…» — думал, собираясь и дорогу, Усимацу.
Рэнтаро и Итимура ждали их на повороте шоссе, ведущего в Уэду. Усимацу представил им дядю.
Потирая свои большие, натруженные руки крестьянина, дядя поздоровался и смущённо пробормотал:
— Усимацу очень вам обязан… Кажется, на днях вы заходили. Меня, к сожалению, не было дома.
Рэнтаро вежливо высказал соболезнование по поводу смерти отца Усимацу, и все четверо двинулись в путь.
Они шли по сырой от утренней росы дороге, потом вдруг попали в полосу густого тумана. Кругом ничего нельзя было различить, только откуда-то доносилось пение петухов. Было тепло, как ранней весной; казалось, даже увядшая трава у обочины дороги, и та оживает. У самой земли серый туман был гуще, а деревья соседней рощи казались скрытыми за завесой дыма и отодвинутыми далеко-далеко. Все четверо шли, оживлённо беседуя. В утреннем воздухе громче всех звучал весёлый голос адвоката.
После Хигаси-Уэды Рэнтаро и Усимацу немного поотстали. Светало, туман рассеивался, кое-где проглядывало ясное небо. Сверкая белизной, над головой путников проплывали утренние облака. Вдали показались очертания деревни, над соломенными крышами поднимался дым.
Рэнтаро не подавал вида, что ему трудно идти по этой неровной, каменистой дороге. Но Усимацу всё же старался замедлять шаг. Хотя его неопытный глаз и не замечал у Рэнтаро одышки, он всё же беспокоился о нём. Дядя и Итимура ушли от них вперёд более чем на целое те. Из-за гор выкатилось солнце, под его лучами влажная дорога заискрилась, засверкала. По полям Тиисагаты разлился тёплый и мягкий утренний свет.
Ах, если говорить, то теперь!
Усимацу считал, что, открывшись Рэнтаро, он не нарушит отцовского завета. Если бы он рассказал кому-нибудь другому, тогда действительно всё, чего он добивался ценой тяжких душевных мучений, пошло бы прахом. Но он откроет свою тайну только Рэнтаро — это всё равно, что открыть её отцу или брату. Совершенно всё равно, — так убеждал себя Усимацу. Нет, он не беспечен, он не забывает завета отца. И он не хочет ставить себя на край гибели. Он вовсе не намерен совершать безумие.
«Храни тайну!» — прозвучал в его душе суровый голос, и леденящий холод пробежал по всему телу. Он на мгновение замер. «Учитель, помоги мне!» — мысленно призывал он, терзаясь, но какая-то невидимая сила удерживала его от опасного шага. «Храни тайну!» — снова прозвучало в его душе.
— Ты что-то сегодня задумчив, Сэгава-кун, — заметил, вглядываясь ему в лицо, Рэнтаро. — Как мы с тобой отстали! Давай-ка догонять.
Усимацу прибавил шагу.
Вскоре они нагнали своих спутников. Случай, всегда готовый ускользнуть как птица, был упущен. «Может быть, мне приведётся ещё когда-нибудь остаться наедине с учителем», — тешил себя надеждой Усимацу.
Солнце стояло уже высоко. Небо сделалось тёмно-голубым и словно прозрачным. Только на юге, у горизонта, белели клочья облаков. Согретые тёплыми лучами, курились поля, дышали холмы; лёгкий парок, поднимавшийся над землёй, приятно щекотал ноздри.
По обеим сторонам дороги тянулись чуть подёрнутые зеленью поля, казалось, они с нетерпением ждали новой весны.
Любопытно, что каждого из четверых путников, наблюдавших эти сельские картины, жизнь деревни интересовала совершенно по-разному. Троих из них занимали только вопросы повседневной жизни. Адвокат говорил о конфликтах между землевладельцами и арендаторами. Рэнтаро — о печалях и радостях крестьянской жизни, дядя — о нуждах и бедах крестьянского хозяйства: о сорняках и бесплодии почвы, так сильно влияющих на урожай, о нерадивом хозяйствовании жителей горных областей по сравнению с рачительностью и трудолюбием крестьян, живущих на равнинах Кадзусы. Но хотя перед мысленным взором Усимацу вставали те же безрадостные картины деревенской жизни, юношеское восприятие окружающей действительности позволяло ему увидеть в деревне нечто большее, чем только тяжёлый труд. Так, за разговорами, забыв об усталости, они вошли в Уэду. Здесь находилось отделение конторы адвоката, где жена Рэнтаро дожидалась возвращения мужа из Нэцу. Рэнтаро и адвокат распрощались со своими спутниками, условившись встретиться на бойне, когда будут резать быка. Дядя и Усимацу отправились сразу туда.
Чем ближе они подходили к бойне, тем ярче вставал перед каждым из них образ покойного, и они делились своими воспоминаниями. Посторонних поблизости не было, и можно было, не стесняясь, говорить обо всём, о чём только захочется.
— Эх, Усимацу! — вздохнул дядя. — Вот сегодня уже шестой день, как скончался брат. Как быстро летит время! Ты приехал, похороны, поминки, потом ходили благодарить, и незаметно прошло пять дней, сегодня уже шестой, а завтра будет первый седьмой день.[26] А кажется, он скончался только вчера.
Усимацу молчал и задумчиво шагал вперёд. Дядя заговорил снова:
— Да, никогда не знаешь, как сложится твоя жизнь, ожидаешь одно, а получается совсем по-другому. Вот и с братом так: жить бы ему да поживать, а какое несчастье приключилось. И ничего после него не осталось: ни денег, ни почётного имени! Только и знал, что всю жизнь работал. А ради кого? Всё ради тебя да меня. Когда я был молод, мы часто с братом ссорились. Он и бил меня, и не раз до слёз доводил. А теперь как подумаю — дороже родных никого нет. Все на свете отвернутся, а родные не бросят. Оттого мне брата и не забыть…
Некоторое время шли молча.
— И ты не забывай! — опять начал дядя. — А уж как он о тебе беспокоился! Раз он мне говорит: «У Усимацу теперь самая опасная пора. Одно дело размышлять, сидя в горах, а другое дело жить на людях. Жить среди чужих и держаться так, чтобы никто не разгадал, что у тебя на душе, — это не так-то легко. Только бы он вёл себя умно, не начинал бы без толку увлекаться разной учёностью да набираться всяких нестоящих мыслей!.. Пока ему не стукнет тридцать лет, я не могу быть спокоен». Я ему говорю: «Ну, что ты! За Усимацу я ручаюсь». А брат только покачал головой и продолжал: «Нет, нет! К детям переходят одни только недостатки родителей. Усимацу осторожен, это хорошо, но опять же, как бы чрезмерная осторожность, наоборот, не вызвала подозрений». Тогда я засмеялся и говорю: «Ну, коли так, тебе никогда не видать покоя». — И дядя залился своим добродушным смехом. А отдышавшись, заговорил о другом: — У тебя до сих пор всё шло благополучно. Теперь, думаю, беспокоиться уже нечего. На это у тебя головы хватит. Нет ничего лучше осторожности. Никому, кто бы это ни был, хоть трижды учитель, человек твоего круга, никогда никому ни гугу. Помни: чужой- не родной… Когда брат, бывало, спускался с гор, только войдёт в дом, глянет на меня да на тётку, — и сейчас же о тебе разговор заводит. Теперь брата нет, и будем мы с тёткой вдвоём о тебе говорить и на тебя радоваться. Ведь у нас нет детей, одна только и есть У нас опора — ты.
Бык был доставлен на бойню ещё ранним утром. Его хозяин, пожилой крестьянин, стоял у ворот, поджидая Усимацу и дядю. Следуя за мальчиком из мясной, тащившим пустую тележку, они дошли до бойни. Завидя их, крестьянин ещё издали стал им кланяться и выражать соболезнования. По его лицу было видно, как искренне он переживает случившееся.
— Что вы, что вы, — перебил его дядя. — Всё произошло из-за оплошности брата. Вам совсем не за что себя упрекать.
Но тот не успокаивался.
— Я не могу вам и в глаза глядеть. Но ведь бед натворило животное. Так что прошу вас, сочтите, что тут произошло несчастье, с которым надо всем нам примириться, — повторял он снова и снова.
Скотобойня, расположенная на окраине Уэды, у самого подножия горы Тарояма, представляла собой пять недавно выстроенных, длинных одноэтажных зданий. У ворот её, выкрашенных чёрной краской, бродила стая бездомных собак: они подозрительно обнюхивали разговаривавших и тихонько повизгивали.
Усимацу и дядя в сопровождении хозяина вошли во двор. В северной его части находилось помещение для осмотра скота, в восточной — сама бойня. Дорогу им показывал полный мужчина лет пятидесяти: по вежливому обращению и манере держаться можно было догадаться, что это старший мастер на скотобойне. Кроме него им на глаза попались с десяток молодых парней — забойщиков и мясников, — все, несомненно, «этa», о чём свидетельствовал и их приниженный вид и тёмный цвет кожи. Казалось, на красноватых лицах этих людей выжжено клеймо. Они исподлобья поглядывали на посетителей, провожая их кто тупым, кто воровато испуганным взглядом, — так часто смотрят люди из низших слоёв этой касты. Наблюдательный дядя сейчас же заметил их и подтолкнул Усимацу локтем. У Усимацу же и без того тревожно сжималось сердце. Едва локоть дяди коснулся его плеча, как по всему его телу словцо пробежал электрический ток. К счастью, он сумел подавить своё волнение, и дядя, успокоившись, вовлёк его в общий разговор.
В помещении для осмотра кроме быка находились ещё две коровы: они, словно приговорённые к казни, ждали своего конца. Усимацу, дядя и крестьянин стали возле огороженной ячейки, в которой находился бык. Странно, но Усимацу не испытывал ни чувства гнева, ни ненависти к этому красивому животному, погубившему его отца. Перед его мысленным взором проплывали одна за другой мучительные картины страдания и смерти отца, хлынувшая на траву из распоротого рогами живота кровь. В других ячейках стояли коровы породы «садо», одна чёрная, другая рыжая, обе до того худые, что едва ли годились на мясо. Разве можно было сравнить с ними злополучного быка — этого огромного красавца великолепного сложения с лоснящейся чёрной шкурой. Хозяин животного, перегнувшись через барьер ячейки, гладил ему морду, щекотал шею.
— Эх, почтенный, наделал ты бед! А то разве я привёл бы тебя сюда по доброй воле! По делам и заслуга. Хочешь не хочешь, а придётся тебе распрощаться с жизнью.
Крестьянин разговаривал с быком, как отец, старающийся утешить сына перед лицом неотвратимой судьбы. Видно, нелегко ему было расставаться со своим любимцем.
— Вот видишь, это сын Сэгавы-сана, — говорил он ему. — Проси у него прощения! Проси! Не может быть, чтоб у такой животины, как ты, не было души. Запомни как следует, что я тебе скажу: в новой своей жизни стань каким-нибудь более разумным существом.
Крестьянин рассказал всю родословную быка. Много ему довелось повидать домашней скотины, только лучшего по крови, чем этот, он никогда не встречал. Отец быка был завезён из Америки, а мать, если б не её дурные повадки, считалась бы лучшей коровой на пастбище Нисиноири. Крестьянин вздохнул и сказал, что выделит часть выручки за мясо на поминальную службу по покойному пастуху, чтобы хоть этим утешить душу усопшего.
Тем временем пришёл ветеринар. Не снимая фуражки, он поздоровался со всеми. Следом за ним появился владелец мясной лавки, по-видимому, он пришёл за тушами. Вскоре подоспели и Рэнтаро с адвокатом Итимурой.
— Так это и есть тот самый бык? — тихо спросил Рэнтаро.
Рабочие стали готовиться к убою скота; они были в белых куртках, босиком, с подоткнутыми за пояс подолами кимоно. Взгляды присутствующих устремились на быка. Рабочие стали его отвязывать. Обе коровы, до той поры понуро стоявшие в своих ячейках, вдруг встрепенулись, замотали головами. Один из рабочих, крепко ухватив за рога рыжую корову, громко понукал её и бранился. Корова инстинктивно учуяла готовящуюся беду и пыталась вырваться. Чёрная корова беспокойно кружила вокруг столба, к которому была привязана. А бык, которого первым повели на убой, шёл смирно, даже как-то равнодушно, не вырывался и даже не мычал. Выпуская из ноздрей струйки белого пара, он подошёл к ветеринару. Скосил свои большие и влажные лиловатые глаза на стоявших в стороне зрителей. И это то самое свирепое животное, которое, бешено носясь по пастбищам Нисиноири, забодало насмерть отца Усимацу! Его спокойствие и выдержка в эти последние минуты жизни невольно вызывали жалость. У Усимацу и у дяди тревожно забилось сердце. Ветеринар обошёл вокруг быка, пощупал кожу, надавил шею, постучал по рогам, чуть приподнял хвост, — осмотр окончился. Рабочие всей гурьбой окружили животное и с криками погнали его в помещение, где забивали скот. Старший рабочий, улучив момент, набросил на шею быка верёвку, остальные дружно навалились на него, и в следующую минуту бык со связанными рогами уже лежал на дощатом помосте. Хозяин его стоял с оторопелым видом. У Усимацу тоже было удручённое выражение лица. Один из рабочих, целясь в переносицу, взмахнул топором со специальным приспособлением, и бык тут же испустил дух.
Косые лучи солнца, проникнув в помещение, освещали могучее безжизненное тело животного и белые куртки хлопотавших вокруг людей. Ловко орудуя большим острым ножом, старший мастер вспорол горло. Остальные рабочие, взобравшись на тушу, изо всех сил топтали и мяли её, где и как попало. Кровь алым ручьём стекала через отверстие в горле. Потом мастер постепенно снял кожу. Потом настала очередь коров.
Всё это зрелище произвело на Усимацу тягостное впечатление; его неотступно преследовала картина гибели отца. Когда Усимацу наконец пришёл в себя и огляделся вокруг, он увидел, что туша быка уже освежёвана и от неё поднимается лёгкий пар.
Душой Усимацу опять завладели воспоминания: «Не забывай!» О, как громко отзывались в нём предсмертные слова отца. Покойный отец точно оживал в его душе. И чей-то голос внутри его шептал: «Неужели ты можешь забыть отца, Усимацу?»
«Неужели ты можешь забыть отца?» — повторял сам себе Усимацу.
Нет, нет! Это вовсе не значит забыть отца. Ведь он больше не ребёнок, чтобы слепо подчиняться отцу, механически следовать его завету. Он счастлив, что вышел из-под суровой власти своего старого родителя, от одного сознания этого ему хотелось порой то плакать, то смеяться. Какая огромная разница между учителем, который не приемлет жестокости современного общества, и отцом, который учил его подчиняться этому обществу. Но чем больше Усимацу думал об этом, тем меньше сознавал, как ему следует себя вести.
Когда Усимацу удалось наконец стряхнуть с себя владевшее им оцепенение, он увидел стоявшего рядом Рэнтаро. К зрителям, наблюдавшим за разделкой туш, прибавился полицейский. Туша быка уже была разделена на части. Старший мастер поставил на каждой части клеймо, а мальчик из мясной лавки тем временем установил на тележке, устланной циновкой, ящик и, громыхая по настилу, резво подкатил её к большим весам в углу помещения.
— Двенадцать с половиной кан![27] — донеслось оттуда.
— Одиннадцать и три четверти кан! — снова послышался тот же голос.
Владелец мясной лавки, лизнув карандаш, аккуратно записывал цифры в свою книжку. Всё было кончено. Усимацу и его спутники попрощались с хозяином быка и направились к выходу.
Глава XI
— Вот и отлично! — сказал дядя, похлопав Усимацу по плечу, когда они выходили из ворот скотобойни, — Самое трудное уже позади.
— Ах, дядя, тише! — остановил его Усимацу и показал глазами на идущих впереди Рэнтаро и адвоката.
— Тише? — засмеялся дядя. — Вряд ли кто расслышит мой хриплый голос. Право, Усимацу, теперь молено не волноваться. Раз с этим покончили, значит, всё пойдёт хорошо. А я-то тревожился! С сегодняшнего дня мы все трое можем спать спокойно.
Мимо них провезли тележку, доверху нагруженную мясом. По тутовым садам гулко разнеслось её дребезжание, и как-то весело звучал звонкий лай бежавших за ней собак. Дядя, всегда добродушный, сейчас так и сиял, даже оспины на его лбу как будто сгладились от радости. О чём думает, чем терзается нынешняя молодёжь, ему было невдомёк. Его, человека старой закалки, заботило только одно: лишь бы всё было хорошо в семье — и ладно. Он стал торопить по-прежнему задумчивого Усимацу, — им надо успеть пообедать.
После обеда Усимацу простился с дядей и направился в контору адвоката, где его ждали Рэнтаро с женой. Они уезжали из Уэды четырёхчасовым поездом, жена Рэнтаро — в Токио, а сам Рэнтаро с адвокатом — в Коморо. До отхода поезда оставалось всего три часа, которые можно было провести в приятной беседе. Жена Рэнтаро очень тревожилась о здоровье мужа и предлагала ему вернуться вместе с ней в Токио, но тот и слышать об этом не хотел. Друзья, работа, ученики всегда были у него на первом плане, семья же на втором, таков уж был его принцип. И на этот раз он задерживался в Синано только потому, что хотел оказаться полезным адвокату. Жена давно примирилась с его характером. Однако она тревожилась, как бы здесь, в горах, не обострилась его болезнь.
— Не беспокойтесь, всё будет хорошо. Ведь Иноко-кун на моём попечении! — успокаивал её Итимура. А Усимацу размышлял: «Если мне дорог учитель, то мне должна быть дорога и его жена». При первом знакомстве, в поезде, она показалась ему светской дамой, но, когда он с ней разговорился и познакомился ближе, оказалось, что она очень милая, простая в обхождении женщина, не считающаяся со многими условностями. Вот и теперь она, нисколько не заботясь о своей наружности, в дорожном платье, с наспех причёсанными волосами, при мужчинах, деловито укладывала вещи. Усимацу вспомнил, как тепло Рэнтаро говорил о ней в «Исповеди», и представил себе историю их брака — девушки, выросшей в добропорядочной семье, с человеком другой касты.
Три часа, оставшиеся до отхода поезда, промелькнули незаметно. Пора было отправляться на станцию. Но, едва они собрались, как к Итимуре, что вполне естественно при его профессии адвоката, неожиданно явился какой-то клиент. И вот, рискуя опоздать на поезд, ежеминутно поглядывая на часы, он продолжал беседовать с посетителем. Рэнтаро с женой пошли немного вперёд. За ними следовал Усимацу: он решил проводить их до станции. «Когда же я опять увижусь с учителем?» — думал он. Желая быть хоть чем-нибудь полезным, Усимацу нёс чемодан Рэнтаро. От этого на сердце у него было как-то особенно и приятно, и грустно. Небо, очистившееся от облаков, сверкало холодным, уже зимним блеском, слепя глаза. Дойдя до развалин замка Уэды, они свернули на безлюдную улицу, круто спускавшуюся вниз. До слуха Усимацу, шедшего позади, вдруг донёсся обрывок разговора Рэнтаро с женой.
— Тебе нечего беспокоиться, всё обойдётся благополучно! — полусердито говорил Рэнтаро.
— Ох, не верю я в это ваше «благополучие»… Чувствую, что будет совсем не так уж благополучно! — вздохнула жена. — Вы совершенно не заботитесь о своём здоровье. Не знаю, что бы вы с собою натворили, если бы только я за вами не следила… Ведь лучи здешнего горного солнца так губительны для вас — подумать страшно!
— Нет, нет, здесь совсем не то, что на берегу моря, — засмеялся Рэнтаро. — К тому же в этом году стоят на редкость тёплые дни. Для Синано это совершенно не свойственно. Зато какой чистый воздух! Ты можешь быть абсолютно спокойна! Смотри, вот доказательство: ведь с тех пор, как мы в Синано, я ни разу не простудился.
— Вы так хорошо поправились! С таким трудом всё это далось вам. Надо быть очень осторожным, вдруг опять начнётся прежнее?..
— Если всего бояться, тогда никаким делом заниматься нельзя.
— Делом заниматься? Когда вы будете совершенно здоровы, тогда можете сколько угодно заниматься вашим делом… Всё-таки поедемте со мной в Токио!
— Опять всё сначала! Ну как же ты не можешь понять, что мне необходимо ехать в Коморо. И отчего эти женщины такие непонятливые? Ты, видно, забыла, как я обязан Итимуре-сану. И ещё говоришь мне при нём: «возвращайся», «не надо ехать»… Будь ты хоть немного сообразительнее, ты, наверное, не говорила бы таких вещей. Уехать сейчас отсюда — это значит свести к нулю всё, над чем я так много думал. Я должен осуществить свои замыслы, а для этого необходимо одному побродить по горам, понаблюдать сельскую жизнь. Ведь я хочу снова приняться за работу. Лучший случай вряд ли представится… — Он заговорил совсем о другом. — А погода-то как хороша! Мягкая, ясная — прямо золотая осень. Поездка с Итимурой-саном обещает быть очень интересной… Поезжай спокойно домой и жди меня. Я привезу тебе хороший подарок из Синано!
Потом некоторое время супруги шли молча. Усимацу поменял руку и теперь нёс чемодан в левой руке. Немного погодя жена Рэнтаро грустно заметила:
— А я ведь даже не рассказала вам о причине, по которой я прошу вас вернуться.
— А разве у тебя есть на это какая-то особенная причина? — спросил Рэнтаро.
— Нет, ничего особенного, но… — Она тяжело вздохнула, словно что-то припоминая. — Просто вчера мне приснился дурной сон… я ужасно встревожилась: всю ночь не могла заснуть. Я почему-то очень беспокоюсь о вас. Понимаете, я не должна была видеть такой сон… Этот сон неспроста!
— Не говори чепухи! Так вот почему ты так зовёшь меня с собой в Токио?!
Рэнтаро засмеялся.
— Я не согласна с вами. Случается нередко, что во сне видишь будущее. Я просто сама не своя!
— Ну, можно ли верить снам?
— Удивительные вещи бывают, бывают… Я видела но сне, что вы умерли.
— Какая ерунда!
Усимацу итог разговор показался несколько странным. Тихая милая, интеллигентная женщина, а верит в сны. Сон сродни сказке детских лет: проплывающие чередой всякие диковинные видения вне времени и пространства. Подумать только — учитель умер… И могла же присниться такая невероятная вещь! А жена Рэнтаро всерьёз принимает это к сердцу. Какая впечатлительная женщина! Усимацу стало смешно. «А ведь большинство женщин таковы», — сказал он себе и невольно вспомнил суеверную окусаму из Рэнгэдзи, а потом и Осио.
Перейдя мост, они увидели здание железнодорожной станции. Жена Рэнтаро несколько отстала. Усимацу опять переложил тяжёлый чемодан из одной руки и другую и решил заговорить с Рэнтаро.
— Ну вот, учитель, — грустно сказал он, — мы расстаёмся. Сколько времени вы собираетесь пробыть в Синано?
— Полагаю, до тех пор, пока не закончатся выборы. Откровенно говоря, я подумывал было вернуться в Токио, тем более, что жена меня уговаривает. Будь это обыкновенные выборы, я уехал бы без долгих размышлений, ведь всё равно от меня мало пользы в таких делах. Итимура — Другое дело: он выступает кандидатом, и ему всё равно, кто его противник, но мне это не безразлично. Когда я думаю об этом Такаянаги, то вопрос, кто победит: Итимура или он, для меня приобретает особое значение.
Усимацу шёл молча, Рэнтаро, будто вспомнив что-то, оглянулся на жену, но тут же зашагал дальше.
— Ты только подумай, — продолжал Рэнтаро, — как действует этот Такаянаги. Пусть говорят, что мы невежественные, низменные существа, но и нашим унижениям есть предел. Я буду всеми силами препятствовать победе этого субъекта. Если бы я не знал истории его женитьбы, тогда ещё куда ни шло. Но знать и смолчать — это для «синхэймина» непростительное малодушие.
— Что же вы намерены предпринять, учитель?
— Что предпринять?
— Вы говорите, что не можете уехать так…
— Да, да. Необходимо нанести ему удар, пусть даже маленький. Я прекрасно понимаю, что за его спиной стоит богач Рокудзаэмон, значит, в ход могут пойти и подкуп, и даже наёмные громилы. А что есть у нас? Пара сандалий на ногах да язык во рту… Да, занятное дело, занятное потому, что Такаянаги не на что положиться, кроме денег…
— Да и деньги нужно пускать в ход умеючи… Рэнтаро рассмеялся.
Тем временем они добрались до вокзала Уэда.
До прибытия поезда, следовавшего в Токио, времени оставалось немного. Зал ожидания был полон. К ним присоединилась жена Рэнтаро, а адвоката всё ещё не было. Рэнтаро вынул папиросы и предложил Усимацу закурить.
— Да, Синано очень любопытное место, — заговорил он, затягиваясь. — Нигде с такими людьми, как я, не обращаются так, как здесь… — Он перевёл взгляд с Усимацу на жену, окинул взглядом пассажиров и продолжал: — Не правда ли, удивительно, Сэгава-кун? Ты ведь знаешь, кто я. Я полагал, что раз здесь не что-нибудь, а выборы, то вряд ли будут уместны мои выступления. Задень я хоть чуточку чем-нибудь избирателей, я только вызвал бы их раздражение. Поэтому я не хотел выступать. Но в Синано оказывается всё по-иному, и меня просят непременно произнести речь.
Вот сегодня вечером я буду с Итимурой-куном на митинге в Коморо. — Он улыбнулся, что-то припомнив. — Когда я выступал в Уэде, собралось больше семисот человек. И как внимательно, как хорошо слушали! Один корреспондент из Нагано сказал мне как-то: «Для речей нет места лучше, чем Синано». И это действительно так. Какая тяга к знанию! Это, видно, особенность здешних жителей. Вряд ли в других провинциях найдётся человек, который захотел бы иметь со мной дело. А в Синано я «учитель»! Ха-ха-ха!
Жена Рэнтаро слушала его с горькой усмешкой.
Началась продажа билетов. Пассажиры засуетились. В толпе показалась грузная фигура адвоката. Расплывшись в улыбке, — времени для приветствий и расспросов не оставалось, — он вместе со всеми заспешил к выходу на платформу. Усимацу купил перронный билет и последовал за ними.
Поезд опаздывал на двадцать минут, и ожидавшие его пассажиры толпились на перроне. Жена Рэнтаро присела под большими часами и, рассеянно глядя на окружающих, о чём-то задумалась. Адвокат прогуливался среди толпы. Усимацу ни на минуту не отходил от Рэнтаро, горя желанием высказать ему свои чувства. Иногда он принимался что-то чертить на сухой земле подошвой своих дешёвых гэта, а Рэнтаро, прислонившись к столбу, молча наблюдал за ним.
— Поезд основательно опаздывает, — заметил Рэнтаро.
Усимацу вздрогнул и, словно опомнившись, стал стирать начертанные ногой знаки. Школьник, который неподалёку наблюдал это, отвернувшись, смущённо засмеялся.
— Кстати, Сэгава-кун, я хочу знать твой адрес в Иияме, — сказал Рэнтаро.
— Я живу в Рэнгэдзи, в Атаго-мати.
— Рэнгэдзи?
— Да. Мой почтовый адрес такой: уезд Симо-Миноти, город Иияма, Рэнгэдзи. Этого достаточно.
— Ага. Хорошо, — сказал Рэнтаро и улыбнулся. — Видишь, это между нами: может случиться, что я заеду к вам.
— К нам, в Иияму? — Глаза Усимацу заблестели.
— Да, возможно. Но сначала я объеду уезды Саку и Тиисагату, потом заверну в Нагано. Так что, понимаешь, я наверняка не могу сказать. Если же заеду в Иияму, то непременно загляну к тебе.
Послышался гудок паровоза. Выпуская клубы чёрного дыма, к станции приближался длинный поезд на Наоэцу. Торопливо сбежались станционные служащие, смазчики с испачканными лицами, в промасленной одежде. Появился начальник станции. Поезд остановился, и толпа хлынула к вагонам. Из многих окон выглядывали пассажиры. Наскоро простившись с Усимацу, жена Рэнтаро и адвокат устремились в вагон.
— Ну, до свидания, — сказал Рэнтаро, сердечно пожимая ему на прощание руку, и вошёл следом за ним в тот же вагон. Станционный служитель захлопнул за ним дверь. Стоявший рядом начальник станции высоко поднял правую руку, и не успел раздаться его сигнальный свисток, как поезд тронулся и покатился по рельсам. Жена Рэнтаро высунулась из окна и ещё раз кивнула Усимацу; она была так бледна, что это невольно врезалось ему в память. Фигуры пассажиров заколебались и как тени проскользнули мимо. Усимацу долго, как потерянный, стоял неподвижно. Учитель уехал!.. Когда он осознал это, поезда уже не было видно. Остались только клубы белого дыма, стлавшиеся низко над землёй, но вот уже и они разлетелись на клочья, рассеялись по ветру и, растаяв в зимнем небе, исчезли.
Отчего человек не может выразить свои чувства так, как он хочет? «Сегодня, именно сегодня!» — не раз и не два твердил он себе, намереваясь всё рассказать учителю, но так ничего и не сказал… В груди Усимацу теснились страдания и страх. С печальными мыслями возвращался он той же дорогой в Нэцу.
Седьмой день после смерти отца прошёл благополучно. Сходили на могилу, отслужили молебен; под конец тётка устроила поминальное угощение. Хотя все они изрядно устали, дядя с тёткой, покончив с обрядами, облегчённо вздохнули. Но у Усимацу по-прежнему было тяжело на душе. Впечатления от личной встречи с Рэнтаро оказались куда сильнее, чем от чтения его книг. Иногда Усимацу одиноко бродил по скалам Тиисигаты, размышляя о своей жизни. Шагая по покрытым увядшей листвой холмам Нэцу, вдоль долины Химэкодзава или по полям, прислушиваясь к многоголосому хору птиц и наслаждаясь мягким светом ноябрьского солнца, он чувствовал, как в нём с новой силой бурлит молодая кровь. «Да, да, во мне дремлет сила, — думал Усимацу. — Только она скрыта где-то внутри и не знает, как и когда ей вырваться на волю. О, природа утешает и ободряет! Но она не указывает дороги. И ни поля, ни холмы, ни долины не способны ответить на его вопросы». Однажды Усимацу получил два письма. Оба из Ииямы. Одно было от Гинноскэ. Характерный для него стиль, та же манера обстоятельно изъясняться, как в устной беседе. Сначала шли всякие утешения, затем сообщались новости из Ииямы. Гинноскэ писал обо всём, что приходило ему на ум: сообщал, какие ходят толки о директоре, съязвил по адресу Бумпэя: «К несчастью, у меня нет дядюшки — окружного инспектора», — и ещё много всего в таком же роде. Потом выразил недовольство положением учителей, повозмущался тем, что при нынешней постановке школьного дела молодому учителю невозможно по-настоящему применить свои способности. Хорошо, что в учительской семинарии он долгое время работал под руководством преподавателя естествознания, и теперь ему представляется возможность перевестись на должность ассистента в агрономический институт. Так что в самом недалёком будущем он сможет наконец посвятить себя изучению ботаники. «Поздравь меня, я так рад», — писал Гинноскэ.
Письмо товарища разбудило таившиеся в душе Усимацу честолюбивые мечты. Конечно, в семинарию Усимацу поступил, как и многие его товарищи по школе, для того чтобы обеспечить себе в будущем какой-то постоянный источник существования, и, конечно, должность учителя начальной школы удовлетворения ему не приносила. Гинноскэ повезло, у него благоприятно сложились обстоятельства. Обычно же, перед молодым учителем, закончившим семинарию, есть два пути — либо в течение десяти лет тянуть лямку в начальной школе, либо поступить в учительский институт. Поэтому, едва окончив семинарию, Усимацу стал подумывать о продолжении образования. Если бы он сразу же подал тогда заявление, возможно, теперь уже был бы студентом института. Но, будучи выходцем из «этa», он всё никак не решался. Его постоянно мучили сомнения. Допустим, рассуждал он, я окончу учительский институт, стану преподавателем средней школы или учительской семинарии, и вдруг со мной случится то же, что с Рэнтаро, — что тогда? Как бы высоко я ни поднялся по служебной линии, меня будет всегда преследовать страх. Нет, лучше укрыться где-нибудь в глухой провинции, вроде Ииямы, и терпеливо ждать, когда истечёт десятилетний срок обязательной службы. А тем временем исподволь заниматься и готовить почву для переключения на какой-нибудь другой вид деятельности. Если бы не его происхождение, он бы не отстал от других. Усимацу вздохнул и с завистью подумал о судьбе Гинноскэ.
Второе письмо ему написал Сёго по поручению учеников четвёртого класса старшего отделения. Письмо с выражением соболезнования было написано неуверенной рукой и точь-в-точь так, как учили в школе. «В Нэцу, Сэгаве-сэнсэю, от Кадзамы Сёго» — стояло в конце. В уголке мелким почерком было приписано: «Р. S. Поклон от сестры из Рэнгэдзи».
— Поклон от сестры… — повторил вслух Усимацу и почувствовал в этих словах что-то невыразимо дорогое. Он вышел в сад и погрузился в мечты об Осио.
Памятный ему яблоневый сад… Прежде тоненькие молодые деревца превратились в большие с толстыми стволами деревья; некоторые были так изъедены червями, что в них едва теплилась жизнь. Листья уже облетели, и обнажённые тонкие ветви, низко нависшие над землёй, плотно переплелись между собой. Во всём чувствовалось приближение зимы. У ног Усимацу лежали длинные тени деревьев. Под деревьями, зарывшись в пыли, дремали куры. За яблоневым садом виднелась соломенная крыша — дом родителей Оцумы. Дом, куда он часто бегал играть в детстве. Над ним вился голубой дымок. Сердце Усимацу наполнилось вдруг нежностью.
— Поклон от сестры… — шептал он, прогуливаясь по саду.
Радостные воспоминания незаметно овладели им. Давным-давно, ещё мальчиком, он играл здесь со своей подругой Оцумой. Здесь, в тени свежей листвы, они укрывались от людских глаз. Здесь они шептали друг другу признания в первой любви. Здесь они, забыв обо всём на свете, во власти чистого чувства, бродили по дорожкам.
Так, вспоминая прошлое, Усимацу заметил, что мысль его переходит от Оцумы к Осио и от Осио снова к Оцуме. Нельзя сказать, чтобы они были похожи друг на друга. Нет, они отличались и по возрасту и ещё более по характеру и внешности. И уж никак нельзя было уподобить их сёстрам. Но, как ни странно, думая об одной, он непременно вспоминал другую.
Если бы не горькое сознание, что он «этa», он не тосковал бы так по людям! Он не сожалел бы так и о своей безвременно ушедшей молодости. Томясь по радостям жизни, он не мучился бы так сильно. Тяжкая судьба стала препятствием на его пути, и чем больше он ощущал непреодолимость этого препятствия, тем сильнее закипали в его груди гнев и боль. Когда-то Оцума, прогуливаясь с ним в яблоневом саду, говорила ему сладкие как мёд слова только потому, что она не знала о его происхождении. Стала бы хоть одна девушка улыбаться ему, если бы знала, что он «этa». При одной мысли об этом Усимацу охватывало отчаяние, а вслед за ним рождался протест. Чувства нежности и боли слились воедино и разрывали ему сердце. Громкое кудахтанье кур вывело Усимацу из задумчивости.
— Поклон от сестры… — ещё раз прошептал Усимацу и ушёл из сада.
В этот день он заснул с мыслью об Осио. Но и на следующий день, и на третий он ложился в постель с мыслью об этой девушке. Правда, наутро приятные мысли об Осио вытеснялись мучительной тревогой: как быть? что делать дальше?.. В этих тревожных думах проходили за днями дни, но Усимацу не находил ответа. Хотя он рассчитывал, будучи здесь, обдумать и разрешить много наболевших вопросов, оказалось, что это не так просто. Выходило, что ему не остаётся ничего другого, как вернуться в Иияму и продолжать прежнее безрадостное существование. Да, он ещё молод, не имеет жизненного опыта, не располагает средствами и, вдобавок, связан сроком обязательной службы. Будущее рисовалось неясным и даже мрачным, при мысли о нём Усимацу охватывала, тоска.
Глава XII
Миновал четырнадцатый день после смерти отца, и Усимацу решил собираться в обратный путь. Дядя и тётка засуетились: высчитывали по календарю дни, сплели ему дорожные сандалии, испекли пять рисовых лепёшек, хотя хватило бы и трёх, завернули их в бамбуковые листья, добавили к ним ещё маринованной дыни. По случаю отъезда Усимацу к ним зашёл отец Оцумы.
Сидя у очага, они вспоминали прежние времена. Разговоры постоянно возвращались к покойному отцу. Прощальный чай… Когда Усимацу пил этот крепкий душистый напиток, он сильнее, чем когда-либо, почувствовал теплоту родственных уз. Дядя проводил его до околицы, до того места, где стояло изваяние бога, покровителя путников, и тут они попрощались.
По небу медленно ползли тяжёлые, серые облака, и малолюдная долина Тиисагата казалась ещё более унылой. Горная цепь Эбоси скрылась за тучами. А в долине Нисиноири, там, где находилась одинокая могила отца, наверное, уже выпал снег. Накануне целый день дул пронзительный зимний ветер, он сорвал с деревьев последние листья, и их верхушки стали совсем голые, словно голова буддийского монаха. Горы выглядели по-зимнему печально. Долгая зима, наводящая тоску при одной мысли о ней, окончательно вступила в свои права. Уже доставались из корзин тёплые ватные шапки. Из ноздрей лошадей, гружённых тяжёлой кладью, шёл белый пар. Как всегда в эту пору, в горах погода резко менялась. Вдыхая холодный чистый воздух, Усимацу спускался по каменистой дороге. Когда он добрался до окраины деревни Арая, пальцы у него совсем окоченели.
В Танаке Усимацу сел на поезд, шедший в Наоэцу, и прибыл в Тоёно после полудня. В станционном ресторанчике Усимацу подкрепился лепёшками, испечёнными тёткой. Изрядно проголодавшись, он съел целых четыре. Оставшуюся лепёшку бросать не полагалось, да и отдать собаке тоже не годилось, и он снова завернул её в бамбуковый лист и сунул в карман пальто. Потом Усимацу подтянул покрепче тесёмки сандалий и направился к пристани Канидзава. Она находилась на расстоянии одного ри.[28] Впрочем, на сей раз этот путь показался Усимацу короче, чем в прошлый раз. Шагая по прямому, уходящему вдаль шоссе Хоккоку, Усимацу не заметил, как вышел к широко разлившейся Тикуме.
Он поспешил к пристани справиться, когда будет лодка, идущая в Иияму; оказалось, что она только что отошла. Какая досада! Придётся ждать следующую. Всё же это лучше, чем идти пешком, — успокаивал себя Усимацу и в ожидании лодки решил отдохнуть в ресторанчике.
Пошёл мокрый снег. Небо сплошь заволокло серолиловыми тучами. Ждать под открытым небом больше часа само по себе было невыносимо. К тому же от быстрой ходьбы Усимацу сильно вспотел, даже рубашка на спине взмокла. Волосы на лбу так слиплись, что неприятно было касаться их рукой. Пока Усимацу, распахнув кимоно, отдыхал, потягивая крепкий чай, ресторанчик стал понемногу наполняться людьми. Одни грели у жаровни замёрзшие ноги, другие сушили у очага мокрые хаори; третьи, засунув руки за пазуху, рассеянно прислушивались к разговорам. Хозяйка в ватном кимоно из тёмно-синего шёлка, которое топорщилось на ней, как панцирь черепахи, с полотенцем на голове, подавала посетителям чай и обносила сластями, разложенными на старом подносе.
Тем временем к пристани подкатили две коляски. Пассажиры, видимо, торопились. Насквозь промокшие рикши, вероятно, предвкушая хорошие чаевые, проворно опустили верх колясок и стали выгружать багаж. Взгляды всех присутствующих устремились на сошедшую с коляски пару.
Усимацу был ошеломлён, и не без основания: это был Такаянаги с какой-то женщиной. Бывают же такие совпадения: вместе ехали сюда и вместе возвращаются, да к тому же ещё ждут одну и ту же лодку. Только тогда Такаянаги ехал один, а теперь возвращается вдвоём с женщиной, видимо, своей молодой женой, закутанной по самые брови в светлый шёлковый платок. Взглянув на стройную фигуру женщины в новом элегантном пальто, Усимацу сразу понял, кто она. Он с удивлением отметил, что предположение Рэнтаро оправдалось.
Хозяйка провела новых гостей в заднюю комнату. Там у жаровни уже сидел пассажир, пожилой бонза, и по тому, как он по-приятельски сразу же заговорил с Такаянаги, было ясно, что он — его давний знакомый. Потом оттуда донёсся громкий хохот. Усимацу отвернулся и стал смотреть на унылое небо, на непрерывно падающий мокрый снег, но как-то незаметно для него самого его внимание то и дело привлекали шум и смех, доносившийся из задней комнаты. Не желая прислушиваться, он всё же невольно напрягал слух. И он услышал такой разговор:
— Право, я и не думал так скоро с тобой увидеться! — говорил бонза. — Я полагал, что ты занят выборами, объезжаешь округу. А ты, оказывается, вот чем занимался! Я не подозревал, что у тебя такое радостное событие.
— Нет, я действительно был очень занят, — послышался голос Такаянаги. Усимацу представил себе, какой у Такаянаги сейчас самодовольный вид.
— Это замечательно! Извини за нескромный вопрос, а супруга твоя тоже из Токио?
— Да.
Услышав этот ответ, Усимацу усмехнулся.
Из дальнейшего разговора он понял, что супруга Такаянаги намеревалась из Ииямы отправиться в Токио, посетить Эносиму и Камакуру. Так как Такаянаги был человек предусмотрительный и ловкий, он ехал в Иияму не из Нэцу, а сделав изрядный круг. И вот, встретив бонзу, наговорил ему с целый короб. Усимацу от его беззастенчивого вранья стало не по себе. «Сколько скверного творится на свете», — думал он, невольно сравнивая мрачную тайну этой четы со своей собственной тайной, и снова чуть утихшая боль сжала его сердце. Но, встряхнувшись, он напустил на себя беззаботный вид и быстро вышел из ресторанчика.
Крупный мокрый снег шёл не переставая. Погода предвещала сильный снегопад, который ежегодно бывает в этих местах на всём протяжении тракта от Этиго до Ииямы. Серые тучи по-прежнему заволакивали небо. Горная цепь Ками-Такаи, плоскогорье Сугатайра и другие громоздившиеся друг на друга горы, окутанные снежными облаками, то проглядывали сквозь туман, то снова исчезали из вида.
Некоторое время Усимацу, забывшись, смотрел на быстрые воды Тикумы, но незаметно его мысли опять вернулись к только что услышанному разговору. В это время началась продажа билетов, и все пассажиры устремились к кассе. Усимацу несколько раз оборачивался, чтобы взглянуть на чету Такаянаги. «Не надо, не надо этого делать», — говорил себе Усимацу, но оглядывался снова и снова.
Лодка причалила к берегу, смешавшись с толпой пассажиров, Такаянаги с супругой тоже время от времени украдкой бросали на него косые взгляды. А может быть, это только ему казалось? Он не был уверен, что эта женщина знает его, но он-то её знал. Это, несомненно, была дочь Рокудзаэмона. С причёской новобрачной. Скрывая под тонким слоем белил краску смущения, она жалась к мужу, весь облик которого свидетельствовал о тщеславных устремлениях. Осторожно поддерживая её, он помог ей спуститься к причалу. «Что у них на уме, у этой пары?» — думал Усимацу, направляясь вслед за другими пассажирами к лодке.
Лодка была крытая, необычного вида — с окнами; борта, выкрашенные внизу в белый цвет, пересекали две поперечные красные полосы. В кормовой части лодки дощатая дверь вела в закуток для багажа; пассажиры размещались в длинном узком помещении, таком низком, что, стоя, они почти упирались головой в потолок, сидя же, задевали друг друга коленями.
Послышался плеск шеста за кормой. Лодка, заскользив по песку, отчалила. Усимацу примостился в углу, вытянул ноги и, уныло покуривая папиросу, погрузился в размышления. Тусклый блеск реки за окном отсвечивал на хлопьях мокрого снега, придавая ему более весёлый вид. Мерное бормотание бьющихся о борта волн, усыпляющие всплески вёсел — вот тишина на воде! Кое-где на пустынных берегах виднелись ивы. Иногда эти деревья казались далёкими тенями, иногда лодка проскальзывала почти под самыми их голыми ветвями. И снова вопрос: что ждёт его впереди? — вставал перед Усимацу. Кто знает? Высунувшись из окна, он смотрел в сторону Ииямы. От зрелища низко нависших снежных туч ещё тяжелее становилось на сердце одинокого «этa». Противоречивые чувства — то неприязнь, то нежность — наполняли душу Усимацу. Что сейчас делается в школе? Чем занят его товарищ Гинноскэ? Что поделывают несчастный Кэйносин, окусама из Рэнгэдзи? Тут опять на память ему пришли слова письма Сёго, и Усимацу не без радости подумал, что снова сможет увидеть ту, видеть которую ему так хотелось. Теперь каждый раз, когда Усимацу вспоминал старый храм, он чувствовал, при всей его удручённости, как в жилах начинает бурлить кровь.
«Рэнгэдзи… Рэнгэдзи…» — слышалось ему в ритмичных ударах вёсел по воде.
Мокрые снежные хлопья сменились мелкими сухими снежинками. Томительное время пути пассажиры коротали за разговорами. Более других изощрялся бонза — знакомый Такаянаги: он насмешливо болтал о политике, вышучивал то одно, то другое, чем потешал остальных пассажиров. «Выборы — это своего рода спектакль, политические деятели — актёры, а все прочие — зрители, развлекающиеся забавным зрелищем», — говорил бонза, и все смеялись, а кое-кто вставлял свои замечания. Кто соглашался с ним, кто возражал, завязался спор. Едва один из пассажиров высказал предположение: «Итимура возьмёт верх» — как другой тут же насмешливо перебил его: «А ты что, его агент?» Имя адвоката повторялось всё чаще и чаще, вызывая каждый раз у Такаянаги недовольную гримасу — он то фыркал, то язвительно кривил губы.
Молодая супруга Такаянаги внимательно прислушивалась к разговорам; она нежно прижималась к мужу, заботливо ухаживала за ним. Её смело можно было назвать красивой. А наряд новобрачной и причёска «марумагэ» очень ей были к лицу. Глянцевитая кожа на щеках нежно розовела. Смеясь, она грациозно прикрывала ладонью свой прелестный маленький рот. По всему видно было, что эта женщина ещё не знает тягот семейной жизни. И всё же, заглянув в её большие, широко раскрытые глаза, можно было прочесть старательно скрываемую тревогу; временами она задумывалась, вперив взгляд в одну точку. Иногда, встрепенувшись, украдкой шептала что-то на ухо Такаянаги. А иногда Усимацу ловил её взгляд на себе. Её глаза, казалось, говорили: «Кто этот человек? Я его где-то видела».
Глядя на красавицу «этa», Усимацу испытывал к ней жалость соплеменника. Если бы не её происхождение, при такой красоте и богатстве она, несомненно, составила бы более удачную партию… Ей бы не пришлось отдать себя во власть этого холодного карьериста… Бедняжка! Но, размышляя о тайне женщины, он вдруг содрогнулся от страха: что, если она его знает? Что она думает, что он из Нэцу, из Химэкодзавы, ему, конечно, бояться нечего. Наоборот, бояться должна она. Во-первых, уже много лет, как он живёт вдали от родных мест… и приезжал туда за последние пять лет только два раза: в первый раз — после окончания семинарии… да вот теперь, спустя целых три года… И к тому же по возможности старался обходить посёлок «этa»… А если и оказывался там случайно, всё равно никто не мог знать, кто он и откуда… Нет, можно не волноваться. Так лихорадочно размышлял Усимацу. Вероятно, он беспокоился только потому, что знал тайну новобрачной пары. То, что они шепчутся всё время, ещё ничего не значит. А сторонятся его, вероятно, оттого, что стесняются.
Но, тем не менее, тревожное состояние не покидало Усимацу. Он отвернулся, стараясь не встречаться глазами с четой Такаянаги.
По реке Тикума надо было проплыть вниз по течению всего пять ри. Но на протяжении этого небольшого пути им пришлось не раз причаливать к пристаням, проходить под кое-как наведёнными мостами, которые во время разлива реки каждый раз сносило водой, и из-за этого путь занял три часа. В Иияму они прибыли только к пяти часам. Усимацу вместе со всеми сошёл с лодки. И берег, и мост — всё вокруг было покрыто снегом. Стемнело, а снег всё сыпал. В сумерках неясно белели заснеженные улицы. Кое-где уже горели огни. В вечернем воздухе разнёсся удар колокола Рэнгэдзи. Это Сё-дурак, как всегда, поднялся на колокольню возвестить, что зимний день подошёл к концу. Заслышав колокольный звон, Усимацу вдруг осознал, как всё здесь ему близко и дорого, и ему показалось, что с тех пор, как он покинул Иияму, минула бездна времени.
За те полмесяца, что он отсутствовал, городок приобрёл зимний вид: уже были выставлены на привычных местах камышовые щиты, предохраняющие от снежных заносов. Всё напоминало Усимацу снежную область Этиго.
На улице Синмати было людно. По дочерна протоптанной дорожке торопливо шагали навстречу друг другу прохожие. То и дело сторонясь то вправо, то влево, Усимацу старался поскорее свернуть на тихую Атаго-мати. Ещё издали он заметил одинокую фигурку мальчика, шедшего ему навстречу. Поравнявшись, Усимацу узнал в нём Сёго. Дрожа от холода, он в окоченевших руках нёс бутылку.
— Ах, Сэгава-сэнсэй! — обрадовался, узнав его, Сёго. — Вот никак не ожидал вас встретить. Я не думал, что вы так скоро вернётесь!
Глядя на простодушное и радостное лицо Сёго, Усимацу вспомнил Осио.
— А ты куда идёшь? Тебя послали за чем-нибудь?
— Да, — усмехнувшись, кивнул Сёго и показал на тёмную бутылку.
Усимацу сразу понял: отец послал мальчика за сакэ.
— Спасибо тебе за письмо, — сказал он и стал расспрашивать о школьных делах, кто вёл уроки в их классе. Потом осведомился об отце.
— Отец? — Сёго грустно улыбнулся. — Отец сидит дома, — запнулся он. По лицу мальчика видно было, как глубоко этот ребёнок переживает случившееся с его отцом. Усимацу с грустью оглядел фигурку мальчика, плохо одетого, в гэта на босу ногу. Печальные глаза Сёго и бутылка сакэ, которую он нёс, без слов говорили о том, как проводит свои дни лишившийся работы Кэйносин.
— Кланяйся отцу, — прощаясь, сказал Усимацу.
Сёго кивнул в ответ и со всех ног помчался домой. Усимацу тоже ускорил шаг; снег сыпал по-прежнему.
Наконец Усимацу вошёл в ворота храма Рэнгэдзи. Оттуда разносились гулкие удары гонга, что означало конец вечерней службы. Пока он добрался от причала до храма, его всего засыпало снегом. Завидев его, навстречу выбежала окусама. Она так обрадовалась, словно вернулся из путешествия её родной сын. И другие обитатели храма тоже вышли ему навстречу. Служанка Кэсадзи стала метёлочкой счищать приставший к одежде снег. Сё-дурак принёс горячей воды для ножной ванны. Радостно и приятно стало на душе у Усимацу, когда он, усталый, подавленный, уселся в прихожей и, сняв облепленные снегом сандалии, погрузил окоченевшие ноги в тёплую воду. «Только… что это не видно Осио?» — радуясь общему радушию, думал Усимацу; её-то ему и не хватало.
В это время из задних комнат вышел бонза в облачении, надетом поверх кимоно, это был настоятель Рэнгэдзи. Окусама представила мужу Усимацу. Он вернулся из Киото, когда Усимацу был в отъезде. Коротко поприветствовав Усимацу, настоятель в сопровождении младшего бонзы удалился.
Ужинали все обитатели храма вместе, в нижней комнате. Каждый всячески выказывал Усимацу сочувствие, расспрашивал о пребывании на родине. На вешалке, испокон века стоявшей у закопчённой стены, была небрежно развешана женская одежда.
— Сегодня вечером у школьной подруги Осио свадьба, — сказала окусама. — Осио тоже получила приглашение и ушла.
«Так это её будничная одежда», — подумал Усимацу. На узорчатое ученическое хаори наброшено было полосатое кимоно, а в разрезах его, у проймы, проглядывал красноватый край нижнего кимоно. Усимацу подумал, что все эти вещи, вместе взятые, составляют её повседневную одежду. Сейчас она кажется просто ярким узором на тёмной стене, от этих мыслей образ Осио стал ему ещё милее и ближе. Свет маленькой лампы, озаряя наполненную дымом курений комнату, придавал всей атмосфере ужина необычную привлекательность.
Завязалась беседа. Мало-помалу Усимацу рассказал ахавшим и охавшим слушателям, как погиб отец, описал виновника его смерти — красавца быка, ночь, проведённую в горной пастушьей сторожке, похороны и одинокую могилу на горном пастбище у подножия Эбосигадакэ, где пасутся стада коров, рассказал, как коровы пощипывают сочную траву, лакомятся солью и ходят на водопой к горным речкам. Потом рассказал, как быка отвели на бойню и лишили жизни — словом, обо всём рассказал, утаив лишь о встрече с Рэнтаро да о несчастной красавице «этa», ставшей женой Такаянаги.
Усимацу рассказывал о своей поездке весьма охотно, полагая, что присутствующим его рассказ чрезвычайно интересен, но вскоре заметил, что окусама иногда отвечала невпопад или вдруг что-то переспрашивала. Видно, её мысли были заняты чем-то другим, она словно находилась в каком-то полузабытьи. В конце концов Усимацу удостоверился, что она совершенно его не слушает.
Приглядевшись, Усимацу заметил, что веки у неё покраснели и вспухли от слёз. Впечатлительные люди всегда чувствительны. С лица у неё не сходило грустное выражение, видно, душа её была охвачена тревогой.
В чём же дело? За время его отсутствия в храме как будто ничего особенного не произошло. Несколько раз их навещал Гинноскэ, приходил поболтать Бумпэй. Главным событием было, конечно, возвращение настоятеля. И всё же Усимацу почувствовал, что здесь произошло что-то необычное.
Служанка Кэсадзи поднялась в комнату Усимацу и зажгла лампу. Осио всё ещё не возвращалась.
«В чём дело? Что случилось с окусамой?» — недоумевал Усимацу, подымаясь по тёмной лестнице к себе в комнату.
Заснул он не скоро. Возбуждённый чрезмерной усталостью, он долго ворочался в постели. Едва голова его коснулась подушки, перед его мысленным взором всплыл образ Осио. Правда, он возник как бы в тумане — неясный, колышащийся. Временами он сливался с образом Оцумы. Сколько раз Усимацу тщетно пытался воссоздать облик Осио: её глаза, щёки, волосы… Но у него это не получалось. То ему слышался её нежный, сдержанный голосок, то представлялась милая улыбка её свежих губ… ах, нет ничего более зыбкого, чем память! Вот вспомнил! Вот исчезла! Представить себе ясно облик Осио Усимацу так и не смог.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Глава XIII
— Разрешите войти?
В жилые помещения Рэнгэдзи вошёл какой-то господин. Это было на следующее утро после возвращения Усимацу. Внизу уже позавтракали, а Усимацу всё ещё не вставал.
— Разрешите войти? — повторил незнакомец; служанка Кэсадзи со всех ног бросилась к выходу.
— Позвольте узнать, — очень вежливо спросил посетитель, — здесь живёт Сэгава-сан? Учитель начальной школы Сэгава-сан?
— Здесь, — подтвердила с поклоном служанка и распустила тесьму, которой были подвязаны рукава её кимоно.
— Он дома?
— Да, дома.
— Мне непременно надо его увидеть, будьте добры доложить, что пришёл вот такой-то. — С этими словами он вручил служанке визитную карточку. Служанка взяла карточку и со словами «Подождите немного!» — торопливо прошла наверх.
Усимацу ещё спал. Подойдя к изголовью, служанка разбудила его. Услышав сквозь сон, что к нему пришли, он что-то промычал, потянулся. Потом, протирая сонные глаза, взглянул на визитную карточку и испуганно вскочил.
— Что ему надо, этому человеку?..
— Он пришёл к вам.
Несколько минут Усимацу как во сне переводил взгляд с карточки на служанку и со служанки на карточку.
— Вероятно, тут какое-то недоразумение, — сказал он, с сомнением качая головой.
— Такаянаги Тосисабуро? — произнёс он вслух. Кэсадзи, чуть-чуть покачивая пухлым телом, всем своим видом давала понять: «Скорей отвечайте!»
— Нет, тут какая-то ошибка, — произнёс наконец Усимацу. — Право, не может быть, чтобы этот человек пришёл ко мне.
— Но он спрашивал Сэгаву-сана, учителя начальной школы Сэгаву-сана.
— Странно! Такаянаги… Такаянаги Тосисабуро… и ко мне… что ему нужно? Придётся, видно, принять. Попроси его сюда.
— А как же завтрак?
— Завтрак?
— Ведь вы ещё не ели. Может быть, покушаете внизу. Мисо горячее.
— Не стоит. Мне не хочется есть. Лучше проведите гостя в нижнюю комнату и попросите немножко подождать, пока я здесь приберу.
Кэсадзи вышла. Усимацу окинул взглядом комнату. Оделся, убрал постель. Разбросанные по комнате вещи швырнул в стенной шкаф. Среди книг, расставленных на полочке в нише, были и сочинения Рэнтаро. Быстрым движением Усимацу спрятал было их под стол, но тут же вытащил и сунул в тёмный угол шкафа. Теперь в комнате не оставалось на виду ни одной книжки учителя. Усимацу немного успокоился и поспешил вниз умываться. Всё же — по какому делу мог прийти к нему этот человек? Ведь при встречах в пути он даже ни разу не заговорил с Усимацу, наоборот, всячески старался его избегать. А теперь специально приходит… Ещё до того, как гость оказался в комнате, Усимацу уже места себе не находил от подозрений и страха.
— Разрешите представиться: Такаянаги Тосисабуро. Давно наслышан о вас, но не имел случая посетить.
— Очень рад вас видеть. Пожалуйста, прошу сюда.
Обменявшись приветствиями, Усимацу пригласил Такаянаги к себе в мезонин.
Не в силах понять намерений неожиданного гостя, Усимацу с самого начала испытывал неловкость. Он решил быть настороже, но всё же постарался принять безразличный вид. Усевшись на подушку, он предложил Такаянаги сложенное вчетверо белое шерстяное одеяло.
— Прошу вас, садитесь, — приветливо заговорил Усимацу. — Я должен извиниться, что заставил вас ждать. Вчера поздно засиделся — и вот проспал.
— Что вы! Это я должен извиниться, что помешал вам отдохнуть, — обходительным тоном ответил Такаянаги. — Вчера, когда мы были в лодке, мне так хотелось с вами поздороваться. То, думаю, невежливо не поздороваться, то, наоборот, неудобно в таком месте… и вот теперь прошу меня извинить.
По всему было видно, что Такаянаги пришёл ради какого-то важного для него разговора. Однако в его любезной гладкой речи было что-то вкрадчивое. Стоило взглянуть на элегантный костюм и осанку Такаянаги, чтобы стало ясно, каким тщеславием исполнено это восходящее политическое светило. Цепочка от часов несколько раз обвивалась вокруг плотного пояса; на пальцах сверкали чистым золотом целых два кольца. «Зачем он пришёл, этот человек?» — мысленно повторял Усимацу. Мысль о тёмной тайне гостя, так похожей на его собственную, не позволяла ему посмотреть в глаза собеседнику.
Такаянаги слегка придвинулся к Усимацу.
— Я слышал, что у вас случилось несчастье. Наверно, вы очень расстроены?
— Да, — ответил Усимацу, разглядывая свои руки. — Меня постигло большое несчастье — скончался мой отец.
— Это очень прискорбно, — задумчиво заметил Такаянаги. — Гм, да, да… Мы с вами встретились ещё на станции Тойоно, потом я сошёл в Танаке, и вы тоже… Помните? Как же, вы тоже сошли в Танаке. Наверное, вы как раз направлялись домой. Смотрите-ка, какое совпадение, мы с вами уехали и вернулись вместе. Видно, нас с вами связывает судьба. Верно?
Усимацу молчал.
— В этом-то и дело. — Подчёркнуто произнёс Такаянаги. — Именно потому, что нас связывает судьба, а в этом я уверен, я говорю так откровенно. И ваше состояние, право же, я вполне понимаю.
— Что? — перебил его Усимацу.
— Вполне его понимаю, но хотел бы, чтобы и вы меня поняли. Поэтому я и позволил себе прийти к вам.
— Мне всё же не ясно, что вы имеете в виду.
— Послушайте…
— Я не могу уяснить, о чём идёт речь.
— Вот я и веду к тому, чтобы вы поняли. — Такаянаги понизил голос — Вы, может быть, слышали, я… я больше не одинок… я женился. И бывают же странные вещи: жена моя вас хорошо знает.
— Ваша супруга знает меня? — И, слегка изменив тон, Усимацу добавил: — Ну и что же?
— Вот по этому поводу я и пришёл поговорить с вами.
— Что именно вы хотите сказать?
— Видите, то, что сказала жена, я не вполне понимаю… знаете, женские разговоры, — довольно бестолковая вещь… но, удивительно, будто кто-то из её дальних родственников в давние годы был близко знаком с вашим отцом. — Говоря это, Такаянаги пристально вглядывался в лицо Усимацу. — Ну, само по себе это ничего не значит, однако, если жена говорит, что знает вас, то и вы вряд ли можете ничего не знать о ней, да и я, со своей стороны, обеспокоен… Всю ночь я не сомкнул глаз, думая об этом.
На некоторое время в комнате воцарилось молчание. Оба собеседника сидели безмолвно, испытующе глядя друг на друга.
— Ах! — шумно вздохнул Такаянаги. — Мне хочется, чтобы вы поняли, как хорошо, что я пришёл с вами поговорить. Никто, кроме вас, о нас с женой ничего не знает, а с другой стороны, и никто, кроме меня и моей жены, ничего не знает о вас… значит, наши интересы совпадают… не так ли, Сэгава-сан? — Он продолжал несколько другим тоном: — Вам, конечно, известно, что скоро выборы. На время мне крайне нужна ваша помощь. Если вы не прислушаетесь к тому, что я вам говорю, мы с вами падём жертвой друг друга. Ха-ха-ха! Нет, нет, я вовсе не требую вашей крови. Но всё же я пришёл к вам вот с таким решением…
В эту минуту на лестнице раздались шаги, и Такаянаги осёкся. Снизу донёсся голос Кэсадзи: «Сэгава-сэнсэй, к вам гость». Усимацу встал и раздвинул перегородку; перед ним, улыбаясь, стоял его приятель Гинноскэ.
— А, Цутия-кун? — воскликнул Усимацу и невольно перевёл дух.
Гинноскэ слегка поклонился Такаянаги, но не обратил внимания на натянутое выражение лица у хозяина и гостя, решив про себя со свойственной ему поспешностью: «Вероятно, у них какие-то дела».
— Слышал, что ты вернулся вчера, — заговорил Гинноскэ дружески. Как всегда, он был жизнерадостен. Его свежее, розовощёкое лицо так и сияло. Может быть, таким его делала надежда в скором времени распроститься с теперешней службой и стать ассистентом в агрономическом институте. Странное дело, его коротко остриженные волосы, казалось, сейчас придавали ему какую-то солидность, делали похожим на молодого учёного. И хотя ничто не изменило их дружеских отношений, всё же Усимацу казалось, будто Гинноскэ стал на ступень выше его, и ему было как-то не по себе.
А Гинноскэ горячо и сердечно выразил Усимацу сочувствие. Такаянаги молча слушал их разговор, дымя папиросой.
— Спасибо тебе за всё, что ты сделал для меня во время моего отсутствия, — сказал Усимацу, подбадривая сам себя. — Ты, кажется, вёл все мои уроки.
— Да, кое-как справился. Совмещать занятия в двух классах не так-то легко. — Гинноскэ засмеялся. — Ну, а ты как?
— Что ты хочешь сказать?
— У тебя ведь траур, ты можешь взять четыре недели отпуска.
— Нет, так не пойдёт. Для школы это неудобно. И самое главное — для тебя затруднительно.
— Ничего, обо мне не беспокойся.
— Завтра понедельник. Завтра и пойду в школу. Ну, Цутия-кун, твои мечты, кажется, осуществились. Я очень обрадовался, когда получил от тебя письмо. Не думал, что ты так скоро продвинешься.
— Да… — Гинноскэ счастливо улыбнулся. — Мне повезло.
— Да, тебе повезло. — Радуясь удаче товарища, Усимацу вместе с тем как будто подумал о чём-то своём и, поникнув, спросил: — А приказ об увольнении уже отдан?
— Нет ещё. Ведь существует обязательный срок службы: сразу просто так не отпустят. Правда, в префектуральном управлении вошли в моё положение: разрешили внести меньше ста иен.
— Меньше ста иен?
— Если бы мне пришлось уплатить все издержки за обучение, то было бы худо. Хорошо, что мне сделали такую скидку. Я сейчас же написал отцу и попросил его помочь мне. Он, знаешь, очень рад и, кажется, сам поедет в Нагано. Я со дня на день жду от него известий. Остаётся нам побыть с тобой в Иияме только месяц!
Гинноскэ посмотрел на Усимацу. Усимацу тяжело вздохнул.
— Да, теперь о другом, — снова заговорил Гинноскэ. — Твой любимый Иноко-сэнсэй, говорят, сейчас в Синано. Я вчера читал в газете.
— В газете? — Усимацу весь вспыхнул.
— Да, в «Синано-Майнити». Говорили, он тяжело болен, а он, оказывается, полон энергии.
Едва услышав имя Рэнтаро, Такаянаги кинул острый взгляд на Гинноскэ. Усимацу молчал.
— Да, с этим «этa» шутить нельзя! — безо всякой задней мысли продолжал Гинноскэ. — Его идеи, может быть, и носят на себе печать болезненности, но его мужество в борьбе восхищает меня. Возможно, все чахоточные таковы. Говорят, его речи производят очень сильное впечатление. Только пусть Сэгава-кун не слушает его, а то опять вернётся прежняя болезнь.
— Не говори глупостей!
Гинноскэ, закинув голову, громко расхохотался.
Внезапно Усимацу замолчал. Он стоял недвижимо, словно теряя сознание. Словно всё внутри у него вдруг онемело.
«Что с ним? У Сэгавы-куна, видно, по-прежнему здоровье не в порядке», — подумал Гинноскэ. Некоторое время все трое сохраняли молчание. Усимацу пришёл в себя, услышав слова Гинноскэ: «Ну, мне пора».
— Погоди немного, — спохватился он и повторил ещё раз: — Погоди немного.
— Нет, в другой раз.
И Гинноскэ ушёл.
— Сейчас шёл разговор о господине Иноко… — сказал Такаянаги, стряхивая пепел с папиросы. — Сэгава-сан дружен с ним?
— Нет… — слегка запинаясь, отвечал Усимацу. — Я этого не могу сказать.
— Но вы к нему имеете какое-то отношение?
— Никакого отношения я к нему не имею.
— Разве?
— Да ведь я же сказал, что никакого отношения не имею. Никакой дружбы между нами нет.
— Раз вы это утверждаете, значит, так и есть, хотя… Этот господин действует заодно с Итимурой-куном. Что у них общего? Собственно, об этом-то я и хотел разузнать у вас, если вам что-нибудь известно…
— Я ничего не знаю.
— Адвокат Итимура большой пройдоха. На словах распинается за этого Иноко, а на деле просто хочет использовать его в своих целях и вертеть им, как ему заблагорассудится. Когда он начинает говорить о всяких возвышенных вещах, меня просто смех разбирает. Ведь все наши политики занимаются грязным ремеслом. Да, кто не знаком с политической деятельностью, тому не понять её отвратительной закулисной стороны.
Такаянаги вздохнул и продолжал:
— Я вовсе не собираюсь посвятить всю свою жизнь политике. Наоборот, я хочу как можно скорей выбраться из неё. Подготовлен я к этой деятельности плохо, систематического образования, как у вас, у меня нет. Но я хочу в борьбе за существование во что бы то ни стало одержать верх. Поэтому я не могу идти обычным путём. Может быть, моя карьера вам представляется блестящей. И в самом деле, внешне всё выглядит именно так. Но вряд ли есть ещё одна такая сфера деятельности, где при столь блестящей лицевой стороне была бы такая мрачная изнанка! Другое дело — люди состоятельные, которые говорят себе: «Поразвлекусь-ка немного политикой». Но тем, кто, подобно мне, с юношеских лет увлёкся политической борьбой, не остаётся ничего иного, как продолжать её. Для многих нынешних политических деятелей политика — это способ заработать на жизнь. Мне не хотелось бы говорить вам о моих делах… вы мне можете не поверить… но, честное слово… у меня теперь нет другой возможности просуществовать, кроме как став депутатом. Что поделаешь, факт остаётся фактом. Если я провалюсь на выборах, я окажусь в безвыходном положении. Мне во что бы то ни стало нужна ваша помощь. Поэтому я обращаюсь к вам с покорнейшей просьбой: не рассказывать никому о моей жене. За это я о вас… вот, собственно, что я и хотел сказать: не говорить друг о друге… Прошу вас, спасите меня! Поймите меня! Поймите меня! Сэгава-сан, от этого зависит моя жизнь.
Такаянаги слегка привстал и, низко склонившись, упёрся руками в циновку. Он простёрся перед Усимацу, как молящая о жалости собака.
Усимацу слегка побледнел.
— Право, вы делаете произвольные выводы…
— Нет, я прошу вас непременно помочь мне!
— Выслушайте, что я вам скажу. Я, право, не могу понять вашей просьбы. Ведь мне совершенно незачем кому бы то ни было рассказывать о вас. Я не имею к вам никакого отношения.
— Нет, имеете…
— Я не могу с вами согласиться. Мне нечем вам помочь и мне не требуется ваша помощь.
— Значит…
— Что «значит»?
— Тогда как лее вы намерены поступить?
— Никаких особых действий я не собираюсь предпринимать. Мы с вами не имеем друг к другу никакого отношения — только и всего.
— Никакого отношения?
— Я, например, не помню, чтобы когда-либо мне случалось говорить с кем-нибудь о вас, думаю, что и впредь в этом не возникнет необходимости. Я не люблю перемывать чужие косточки, тем более, что только сегодня с вами познакомился.
— Конечно, вам, может быть, незачем говорить обо мне. И мне тоже незачем говорить о вас. Но такая постановка вопроса, право же, не удовлетворяет меня. Я пришёл к вам именно затем, чтобы поговорить с вами поподробнее и, если понадобится, сделать для вас всё, что в моих силах. Право, вам это не помешает.
— Я очень благодарен вам за любезное предложение, но я не могу его принять.
— Неужели после всего сказанного вы так ни о чём и не догадываетесь?
— Вы заблуждаетесь…
— Я заблуждаюсь! Почему вы так думаете?
— Потому что я ничего не знаю о том, что вас беспокоит.
— Если вы так утверждаете, тогда нам не о чем говорить. Но, по-моему, нам всё же есть что обсудить. У нас, повторяю, взаимные интересы. Сэгава-сан, я позволю себе ещё раз зайти к вам и прошу, обдумайте всё, что я вам сказал.
Глава XIV
В понедельник утром директор пришёл в школу рано. Комнату рядом с приёмной он превратил в свой кабинет и каждый день до начала занятий затворялся в нём. Он делал это отчасти для подготовки к делам, отчасти для того, чтобы оградить себя от жалоб учителей и не дышать табачным дымом. Как раз в этот день впервые после длительного отсутствия явился на службу и Усимацу. Увидев его в коридоре, директор поговорил с ним, расспросил о похоронах и тут же заперся в своём кабинете.
Вскоре раздался стук в дверь. По стуку директор сразу же узнал Бумпэя. Он каждое утро выслушивал от своего любимца секретные донесения. Случайные признания учителей, сплетни учительниц, надоедливые пререкания и завистливые толки о распределении часов занятий и жалованья — всё, что происходило в школе, становилось немедленно известно директору. «Должно быть, сегодня у него опять какая-нибудь новость», — подумал директор, впуская Бумпэя в кабинет. Довольно скоро зашёл разговор об Усимацу.
— Кацуно-кун, — директор понизил голос. — Это очень интересно… то, что ты сейчас сказал… ты прознал что-то относительно Сэгавы-куна?
— Да. — Бумпэй улыбнулся.
— Право, мне трудно тебя понять. Ты всё ходишь вокруг да около.
— Нельзя же, господин директор, неосмотрительно разглашать вещи, которые способны изменить всю жизнь человека.
— Ого, способны изменить всю жизнь?
— Если допустить то, что я слышал, — факт, и если это станет известно в городе, Сэгава-кун, пожалуй, больше не сможет оставаться в школе. Не только не сможет оставаться в школе, но, возможно, будет вообще изгнан из общества и никогда уже не выбьется в люди.
— Что? Не сможет оставаться в школе, будет изгнан из общества? Это ужасно! Это равносильно смертному приговору.
— Да, почти что так. Правда, я самолично не мог удостовериться, правда ли то, что я слышал, но если сопоставить разные факты, то… гм…
— Что означает твоё «гм». Что ты узнал? Говори же!
— Только, господин директор, имейте в виду: если станет известно, что всё исходит от меня, я окажусь в неловком положении.
— Почему?
— Да потому, что подумают, будто я разгласил всё это нарочно, желая занять его место. Мне это будет очень неприятно. У меня вовсе нет никаких честолюбивых замыслов… я рассказываю вам то, что слышал, вовсе не затем, чтобы скомпрометировать Сэгаву-куна.
— Понимаю. Ты напрасно беспокоишься, ведь ты же сам узнал от кого-то другого… видишь?
Бумпэй улыбнулся с загадочным видом; чем более многозначительной была его улыбка, тем большее нетерпение обуревало директора.
Директор подставил Бумпэю ухо, и тот что-то ему шепнул. Директор сразу же изменился в лице, но не успел ничего сказать, так как раздался стук в дверь. Бумпэй быстро отскочил от директора и встал у окна. Дверь отворилась, и на пороге появился Усимацу. Не зная, входить ему или нет, он переминался с ноги на ногу. А тревожный взгляд его как будто говорил: «О чём они сейчас говорили, эти двое?»
— Господин директор! — заговорил он спокойным тоном, — что, если бы сегодня мы начали уроки попозже?
— А разве ученики ещё не собрались? — Директор посмотрел на свои карманные часы.
— Пока нет, что-то запаздывают. Ведь сегодня такой снег…
— Но уже пора. Соберутся или не соберутся, порядок — прежде всего. Пожалуйста, вели служителю давать звонок.
Такого размагниченного состояния, как в это утро, Усимацу никогда прежде не испытывал. Утром он одевался как в полусне. И потом, когда, захватив коробку с завтраком, вручённую ему женой настоятеля, он снова после долгого перерыва шёл по засыпанной снегом дороге в школу, и когда выслушивал соболезнования коллег, и когда, окружённый учениками своего класса, отвечал на их расспросы, — это полусонное состояние его не покидало. И даже во время занятий он то и дело терял интерес к происходящему у него на глазах и автоматически объяснял новый материал или отвечал на вопросы учеников. Как раз в этот день он был дежурным во время перемен. Каждый раз, когда раздавался звонок, возвещавший конец урока, девочки и мальчики со всех сторон обступали Усимацу и наперебой пытались завладеть его вниманием. Однако о чём они его спрашивали и что он им отвечал, Усимацу совершенно не помнил. Как во сне, бродил он по коридору, глядя на резвящихся ребят.
Он помнил, что к нему подошёл Гинноскэ и сказал:
— Сэгава-кун, что-то ты плохо выглядишь.
Никакие другие разговоры у него не сохранились в памяти.
Он не мог забыть только одно: что захватил с собой из дома вещь, предназначавшуюся Сёго. Во время большой перемены ученики и старшего и младшего отделений носились по коридорам, а кое-кто даже выбежал на спортивную площадку и играл в снежки. В аудитории четвёртого класса как раз никого не было, и Усимацу пошёл туда с Сёго; достав из кармана пакетик, завёрнутый в газету, он сказал:
— Я привёз тебе маленький подарок. Это записная книжка. Развернёшь и посмотришь дома. Хорошо? В школе не разворачивай… это тебе.
Усимацу думал, что он увидит на лице мальчика удивление и радость. Но, вопреки его ожиданиям, Сёго смотрел округлившимися глазами то на Усимацу, то на завёрнутый в газету пакет и не брал подарка. На лице его было написано недоумение: почему ему дарят такую вещь? Ужасно странно!
— Нет, спасибо, мне не нужно, — повторил он несколько раз, отказываясь взять подарок.
— Как же так? — не сводя глаз с Сёго, Усимацу сказал: — Раз тебе дарят, надо брать.
— Спасибо! — снова отказался Сёго.
— Слушай, это нехорошо. Ведь я привёз это специально для тебя.
— Мама будет браниться.
— Мама? Ну, как можно! Я тебе делаю подарок, а она будет браниться… Я дружен с твоим отцом, да и сестре твоей обязан, мне давно уже хотелось подарить тебе что-нибудь. Послушай, это хорошая записная книжка, с европейским алфавитом, линованная. Не отказывайся, возьми её… будешь записывать сюда свои сочинения и всё, что тебе только захочется.
С этими словами он сунул пакетик Сёго. Заслышав чьи-то шаги, Усимацу поспешно вышел из класса.
В конце коридора, у лестницы, ведущей на второй этаж, ученики бывали редко. В то время, как Усимацу наблюдал за порядком, в этом тихом уголке коридора уединились директор и Бумпэй; прислонившись к стене, они разговаривали.
— От кого же ты слышал про Сэгаву-куна? — допытывался директор.
— Просто невероятно, от кого, — засмеялся Бумпэй, — поистине удивительно…
— Не могу догадаться…
— Этот человек меня предупредил: поскольку речь идёт о чести, он просит никому не называть его имени. А я думаю, человек, который может стать депутатом, не будет бросать слова на ветер.
— Депутатом?
— Да, да.
— Неужели тот самый кандидат, который на днях прибыл с молодой женой?
— Он самый.
— В таком случае, он, вероятно, слышал всё это где-нибудь во время поездки по своему округу. Да, из дурного никогда ничего хорошего не выйдет, рано или поздно всё откроется. — Директор вздохнул. — Но я поражён! Мне и во сне не могло присниться, что Сэгава-кун — «этa»!
— Я тоже никак не ожидал.
— Посмотри на его наружность. Кожа, сложение — ничто не выдаёт низкого происхождения, не правда ли?
— Этим-то он всех и ввёл в заблуждение.
— И всё же я не понимаю! Глядя на него, никогда не подумаешь.
— Ничто так не обманчиво, как наружность. Ну, а его характер?
— Да и по характеру этого о нём не скажешь.
— А разве вы сами, господин директор, не находили странным его поведение, его разговоры? Присмотритесь внимательней к этому Сэгаве Усимацу и вы заметите, какой у него подозрительный взгляд.
— Подозрительность — ещё не доказательство, что он «этa».
— А вот послушайте. Сэгава-кун раньше жил в пансионе на улице Такадзё. Из этого пансиона выгнали одного богатого «этa»… И вот Сэгава-кун вдруг сразу же переезжает в Рэнгэдзи. Разве это не странно?
— Да, странновато.
— А его отношения с Иноко Рэнтаро? Разве помимо этого болезненного мыслителя мало писателей, которыми можно было бы увлечься? Сколько шума поднимает он вокруг всего, что пишет этот «этa». Он слишком пристрастен к нему, это вовсе не похоже на обычный читательский интерес.
— Это верно.
— Я ещё не говорил господину директору: недалеко от Коморо, в городке Йора, живёт мой дядя. На окраине этого городка есть речка Дзяхори, а за нею посёлок «этa». Так вот, по словам дяди, у всех жителей этого посёлка одинаковая фамилия: Сэгава.
— Неужели?
— Однако до сих пор жителей этого посёлка не зовут по фамилии. Ведь они всего-навсего «этa», так их и кличут просто по имени. Вероятно, до Мэйдзи у них вовсе не было фамилий. А когда они получили гражданские права, они всей деревней стали зваться Сэгава.
— Постой, Сэгава-кун не из Коморо. Он из Нэцу в Тиисагате.
— Это ничего не значит. Как ни верти, фамилия Сэгава и Такахаси очень распространены среди этой братии. Это я узнал от дяди.
— Теперь и я кое-что припоминаю. Однако послушай, если всё действительно так, как ты говоришь, как же могло случиться, что до сих пор это никак не обнаружилось? Наверняка бы уже давным-давно дознались. Ещё в семинарии.
— Возможно, но на то он и есть Сэгава-кун. Так долго морочить людей может только очень ловкий человек.
Директор вздохнул:
— А я-то ничего не знал! Правда, мне его поведение всегда казалось странным. Ведь не будет же человек просто так, без всякого повода, ходить постоянно погруженный в какие-то свои мысли.
Прозвучал звонок. Собеседники направились в другой конец коридора. Закончилась большая перемена, мальчики и девочки, стуча сандалиями, разбегались по своим классам. Усимацу шёл в окружении толпы учеников, то и дело оглядываясь назад.
— Кацуно-кун, — сказал директор, провожая Усимацу взглядом. — Да ты, кажется, прав. Попытаемся ещё что-нибудь разузнать о его тайне.
— Только прошу вас, господин директор, — с особым ударением сказал Бумпэй, — ни в коем случае не говорите никому, что эти сведения исходят от кандидата в парламент. Иначе я окажусь в очень неловком положении.
— Разумеется.
В тот день последним уроком был урок пения. Учитель пения принял от Усимацу его учеников и повёл их шеренгами в свой класс. У Усимацу был час свободного времени. Вспомнив вчерашнее упоминание Гинноскэ о заметке в газете, касающейся Рэнтаро, он поспешил в приёмную, где всегда можно было почитать свежие газеты. Войдя в приёмную, он увидел на столе ещё не подшитые, разрозненные листы позавчерашнего номера «Синано майнити» и без труда отыскал в конце второй страницы заметку о Рэнтаро. Сердце его забилось от волнения.
«Где бы мне прочитать заметку? — подумал он прежде всего. — Здесь, в приёмной? Нельзя, сюда в любую минуту могут войти. В классе? В комнате служителя? Нет, и туда может войти кто-нибудь. — Сунув газетный лист за пазуху, он вышел из приёмной. — Пойду в зал, наверх», — решил он и стал, ступая как можно тише, подниматься по лестнице, ведущей на второй этаж.
Он вошёл в тот самый зал, где проходила праздничная церемония в день рождения императора; обычно сюда никто не заходил, и здесь всегда в строгом порядке стояли длинные скамьи. Усимацу думал, что в этом зале он будет в большей безопасности, чем где бы то ни было в другом месте. Присев на скамейку, он вынул из-за пазухи газету и стал читать, как вдруг ему вспомнились слова, сказанные им Такаянаги: «Я с ним не дружу, я не имею к нему никакого отношения, я ничего о нём не знаю». Он покривил тогда душой и отрёкся от Рэнтаро, которого считал своим учителем и покровителем. «Учитель, простите», — прошептал он и снова углубился в чтение.
Смутные страхи опять завладели душой Усимацу, и, даже читая заметку о Рэнтаро, он думал только о себе, о своей жизни. Перебирая в уме события последних дней, Усимацу понял, что он попал в трудное положение. Если он немедленно не предпримет каких-нибудь шагов… да, нужно что-то придумать.
«Но что же мне делать?» — задавая себе этот вопрос, Усимацу не находил ответа и приходил в ещё большую растерянность.
— Сэгава-кун, что ты читаешь? — внезапно послышался за спиной чей-то голос. Усимацу весь переменился в лице. Оглянувшись, он увидел директора, который незаметно приблизился к нему и теперь смотрел на него испытующим взглядом.
— Газету, — ответил Усимацу, постаравшись принять безразличный вид.
— Газету? — Директор удивлённо посмотрел на Усимацу. — Есть что-нибудь интересное?
— Нет, ничего особенного.
Некоторое время оба молчали. Директор отошёл к окну и стал смотреть на двор.
— Ну и погодка, а, Сэгава-кун?..
— Да…
Обменявшись всего несколькими фразами, они вместе вышли из зала. Пока они спускались по лестнице, Усимацу было не по себе, его охватило неизъяснимое беспокойство. Может быть, это только неосновательное подозрение, но, право, отношение директора к нему явно переменилось. Он стал заметно холоден. Нет, не только это: казалось, будто он своим противным носом вынюхивает тайну Усимацу. Усимацу с присущей ему мнительностью стал строить всякие догадки, и ему было просто невмоготу идти рядом с директором. Переступая со ступеньки на ступеньку, директор иногда невольно касался его плечом, и тогда по всему телу Усимацу пробегала холодная дрожь.
Тем временем по школе разнёсся звонок, возвещавший окончание занятий. Двери классов одна за другой распахнулись, и оттуда, толкая друг друга, выбежали ученики: через мгновение они заполнили весь коридор. Усимацу поспешил смешаться с их толпой. По засыпанной снегом дороге ученики направлялись домой. Их лица выражали детскую гордость: они — школьники. Одни шли, размахивая коробками для завтрака, другие — водрузив узелки с учебными принадлежностями себе на голову. Со счётами под мышкой, с сандалиями в руках, они весело болтали, свистели и пели; их гомон смешивался с лаем собак и разносился далеко вокруг. Некоторые девчушки, сбросив гэта, бежали босиком. Вслед за учениками вышел за ворота школы и Усимацу. Он был полон тревоги и страха. Один только вид беззаботной детворы вызывал у него страдание.
— Сёго-сан, ты домой? — крикнул Усимацу.
— Да, — засмеялся Сёго. — А потом пойду в Рэнгэдзи, сестра велела мне прийти сегодня.
«Да, ведь сегодня проповедь», — вспомнил Усимацу. Несколько минут он стоял, провожая ласковым взглядом удаляющуюся фигурку Сёго. Перед ним простиралась заснеженная улица, по которой озабоченно сновали взад и вперёд люди. Вдруг всё завертелось у него перед глазами, и он почувствовал, что вот-вот упадёт. Потом ему почудилось, будто кто-то нагоняет его и того гляди схватит его, ему даже послышалось: «Ах ты, паршивый тёри![29]» — Он опасливо оглянулся. И никого не увидел. «Да никого и не может быть!» — сам себя подбадривал Усимацу.
Глава XV
Усимацу казалось, что яростная и несокрушимая сила общества постепенно всё неотвратимее надвигается на него. Вернувшись из школы и поднявшись к себе в мезонин, Усимацу сбросил с себя хаори и хакама и повалился на циновку. Единственное, на что он был способен, — это вволю предаться отчаянию. Он лежал неподвижно, без сна и без мыслей, словно ничего не сознавая. Потом приподнялся и медленно обвёл взглядом комнату.
Снизу доносились обрывки разговора и весёлый смех. Не стараясь прислушиваться, он, тем не менее, различил голоса: похоже, опять явился Бумпэй и развлекает собравшихся. Снова раздался взрыв смеха. Видимо, уже пришёл и Сёго. Иногда он отчётливо слышал молодой женский голос… «А, это Осио!» — Так, настороженно прислушиваясь, Усимацу стал прохаживаться из угла в угол по комнате.
— Учитель! — вдруг прозвучало совсем рядом, и в комнату вошёл Сёго.
Он пришёл сообщить, что внизу готовят чай, и узнать, не сойдёт ли и Усимацу поболтать со всеми. Там окусама и Осио, и даже Сё-дурак пришёл. Рассказывают такие смешные истории, что все катаются со смеху, а кое-кто даже смеётся до слёз.
— И Кацуно-сэнсэй пришёл, — добавил Сёго.
— А! Кацуно-кун тоже там? — улыбаясь, спросил Усимацу. На мгновение, словно вынырнув со дна души, на лице у него появилось выражение ненависти. Правда, оно сейчас же исчезло.
— Идёмте поскорей!
— Иди, я сейчас приду.
Однако Усимацу совсем не хотелось никуда идти. Бросив на ходу: «Поскорей!» — Сёго побежал вниз.
Опять оттуда донёсся весёлый смех. Это нижняя комната… Усимацу живо представил себе, кто там сидит в какой позе. Наверно, окусама, у которой на сердце какая-то тяжесть, нарочно, чтобы отвлечься, напускает на себя весёлый вид и заливается своим по-мужски громким смехом. Осио, по обыкновению, то входит, то выходит из комнаты, вот сейчас принесла чайный прибор, а теперь разливает чай и всех угощает. А может быть, сидя возле окусамы, она слушает разговоры и молча улыбается. А Бумпэй, наверно, снисходительно взирает на всех и противно кичится, сознавая себя здесь единственным мужчиной среди женщин и детей. Мало того, он, несомненно, ещё и прохаживается на чей-нибудь счёт… ах, такой человек не может ни у кого вызвать зависти, вот разве что его происхождение!
Жажда наслаждения жизнью волной взмыла в душе Усимацу. Чем больше он думал о жалкой участи своих несчастных сородичей, которых презирали и даже не считали за людей, тем сильней его охватывала жалость к своей молодости.
За ним опять пришёл Сёго.
— Почему же вы не идёте, учитель?
Усимацу хотелось избавиться от его простодушных приставаний, поэтому он решил повести мальчика в храм. Выйдя из комнаты и спустившись по лестнице, они попали в ту часть коридора, которая соединяла жилые помещения с храмом. Другое ответвление коридора, огибавшее здание со стороны заднего двора, проходило мимо нижней общей комнаты, где ораторствовал Бумпэй. Таким образом, Усимацу обошёл общую комнату стороной.
Вдоль всего коридора справа были расположены кельи, сквозь сёдзи были слышны голоса их обитателей. Здание храма было огромным и такой сложной планировки, что разобрать, где находятся жилые помещения и сколько здесь постояльцев, оказывалось практически невозможно. Обычно большинство его мрачных, ветхих помещений пустовало. И сейчас, шагая с Сёго по узкому, длинному коридору, Усимацу остро ощущал дух разрушения и упадка. Стены потемнели, столбы закоптились, краски на старинной картине, украшавшей большую деревянную дверь, облупились.
Когда они подошли к тому месту, где два коридора соединялись, оба почувствовали, что кто-то идёт за ними следом. Усимацу оглянулся, а за ним и Сёго. Это была Осио. Поравнявшись с ними, она залилась румянцем.
— Учитель, — её ясные глаза сияли, — я слышала, брат получил от вас такой прекрасный подарок. — При этом она радостно улыбалась.
В эту минуту послышался голос окусамы, она звала Осио. Девушка испуганно прислушалась.
— Слышишь, это тебя зовут! — сказал Сёго, взглянув на сестру.
Опять послышался голос окусамы. Усимацу проводил взглядом торопливо удалявшуюся фигурку Осио, потом открыл дверь и вошёл с Сёго внутрь храма.
О священная тишина! Кажется, будто бродишь среди древних руин. Кроме отсчитывающего секунды маятника часов, висевших на круглой, покрытой лаком колонне, под этим высоким тёмным потолком не было слышно ни единого звука. Казалось, здесь притаилось гнетущее душу безмолвие. Всё, что схватывал взгляд, — потемневшие от времени золочёные буддийские алтари, безжизненные искусственные лотосы, изображения небесных дев на стенах, будоражащих воображение людей, — всё без слов говорило о славе и упадке прошлых времён. Усимацу с Сёго прошли вглубь, во внутреннюю часть храма, и стали осматривать изображения древних святых в полутёмном алтаре.
— Сёго-сан, — сказал Усимацу, глядя на профиль мальчика, — кого ты больше любишь — отца или мать?
Сёго не отвечал.
— Давай я попробую угадать, — смеясь, продолжал Усимацу. — Вероятно, отца?
— Нет.
— Не отца?
— Ведь отец только и знает, что пьёт…
— Тогда кого же ты любишь?
— Сестру.
— Сестру? Вот как, значит, ты больше всех любишь сестру?
— Я сестре всё рассказываю, даже то, чего и отцу, и матери не расскажу. — Сёго засмеялся.
В небольшом северном приделе висела картина, изображающая нирвану. Эти священные картины можно встретить в обычных храмах, они большей частью бывают копией с копии: искажённая композиция, нелепый колорит, не имеющий ничего общего с природой тропиков пейзаж, — и, как правило, в них нет ничего примечательного. Нирвана в этом храме была написана по обычному шаблону, но, видимо, кистью водила рука талантливого художника, поэтому по сравнению с другими картинами эта казалась довольно живой. В ней была какая-то пленящая сердце безыскусственная реальность, затмевавшая заключённый в ней религиозный сюжет. Не было ничего удивительного в том, что Сёго с детской наивностью даже при виде изображения мучений птиц и зверей не удивлялся, а разглядывал их, словно иллюстрации к сказкам. Глядя на смерть Шакьямуни, простодушный мальчик даже засмеялся.
— Тебе, Сёго-сан, верно, ещё не случалось думать о смерти? — сказал, вздохнув, Усимацу.
Сёго поднял глаза на Усимацу.
— Мне?
— Да, тебе.
— Нет, не случалось!
— Конечно, в твоём возрасте не приходится думать о таких вещах.
— А что… — вспомнив что-то, засмеялся Сёго, — сестра Осио часто об этом говорит.
— Сестра? — Усимацу кинул на него загоревшийся взгляд.
— Да, иногда она говорит странные вещи: «Я хочу умереть, я хочу пойти куда-нибудь, где никого нет, и громко плакать», — с чего бы это?
Сёго склонил голову набок и сложил губы, словно собираясь свистнуть.
Вскоре Сёго ушёл, и Усимацу остался один. Сразу же в храме воцарилась тишина, казалось, полное символического значения убранство погрузилось в ещё более глубокое безмолвие. Всё здесь: и бронзовые курильницы, и подставки с искусственными цветами, и кадильницы, — даже эти безмолвные предметы как будто предались созерцанию, и тускло блестевшая на алтаре статуя богини Каннон казалась воплощением не милосердия, а, скорей, молчания. Усимацу прохаживался взад-вперёд между круглыми колоннами, думая об Осио. В этом тихом, отделённом от всего мира месте она казалась ему цветком, расцветшим на развалинах. Кровь кипела в нём и, обуреваемый сладостными мыслями, он непрестанно шептал про себя:
— Осио-сан, Осио-сан!
Незаметно стемнело. В передней стороне главного зала сквозь сёдзи слабо просвечивал голубоватый сумеречный свет, а на циновках вытянулись длинные тени колонн. Утомительный, тягостный зимний день близился к концу. Послышались шаги, и в храм вошли настоятель и молодой бонза, оба в белых одеждах. В глубине зала зажгли шесть свечей. Наискосок от алтаря, в углу у золочёной колонны, сложив на груди руки, присел на ступеньку настоятель. А ступенькой ниже, у противоположной стены, сел молодой бонза. Зазвучали торжественные удары гонга. А вслед за ними и пение.
Вечерняя служба началась.
О, какие грустные, грустные сумерки! Прислонившись головой к колонне, в боковом северном приделе, Усимацу закрыл глаза и глубоко-глубоко задумался. «Что, если Осио узнает о моём происхождении…» — думал он, сознавая всю горечь существования «этa». Смутные мысли о смерти соседствовали с чувством нежности, наполнявшим его душу. Он думал о том, что уже сейчас, в пору цветущей юности, ему приходится испытывать неведомые другим жизненные страдания, и одна только мысль об этом была для него мучительной. Струившийся в прохладном воздухе дым благовоний придавал большую остроту этой грустной прелести: навевал какое-то не поддающееся определению чувство, какую-то смутную печаль. Вдруг голоса бонз замолкли. Усимацу очнулся: кончилось чтение сутр, и началось возглашение имени Будды. Потом настоятель с чётками в руках отделился от колонны и принялся громко нараспев читать наставление, завещанное основоположником секты. Молодой бонза оставался на прежнем месте. Усимацу всё стоял и стоял… пока наставление не было прочитано до конца… пока молодой бонза не встал, почтительно подняв свиток над головой… пока наконец одна за другой не погасли свечи.
После ужина все обитатели Рэнгэдзи занялись приготовлениями к проповеди. По издавна заведённому обычаю, достали множество больших фонарей с гербами. Молодой бонза, Сё-дурак и служанка зажигали их и относили в храм.
Постепенно стал собираться народ, желавший послушать проповедь. Само собой разумеется, тут были прихожане храма; узнав, что вечером состоится проповедь, они поспешили сюда, зазывая один другого. И это были не только доживавшие свой век старики и старухи; послушать проповедь пришли и занятые, деловые люди. И уже по одному этому было видно, как прочно ещё держатся в Иияме старинные религиозные обычаи и вера. Даже в обыденных разговорах нередко употреблялись известные изречения и образные выражения из Священного писания. Девушки с чётками в красивых мешочках, которые они прятали за пазухой, тоже вереницей тянулись к Рэнгэдзи.
Для Усимацу это был самый приятный и самый печальный вечер за всё время жизни в храме. О, с каким душевным волнением он предвкушал радость слушания проповеди вместе с Осио! И в этот вечер мысль о его принадлежности к «этa» была для него мучительна, как никогда раньше.
Окусама, Осио и Сёго уже вошли в храм, и все трое стали в углу северного придела. Всюду, и в средней, и в южной части храма, молящиеся обменивались приветствиями, переговаривались между собой… голоса их, хотя и приглушённые, звучали оживлённо и весело. Забавно было наблюдать, как Сё-дурак, нарядившись в своё лучшее, аккуратно расправленное по складкам хаори, прохаживается среди молящихся, стараясь обратить на себя всеобщее внимание. Взглянув на его напыщенный вид, засмеялась окусама, а за нею и Осио. Усимацу сидел у стены, возле которой выставлены были дощечки с фамилиями жертвователей на «вечное служение» и суммой их пожертвований; совсем близко стояла и Осио; он улавливал нежный аромат, исходящий от её волос. Лучи фонарей ярко прорезали темноту храма, и при их свете профиль девушки казался ещё более юным. «Какой у неё трогательный вид, когда она стоит вот так, по-сестрински обнимая Сёго, и улыбается», — думал Усимацу, и каждый раз, когда он на неё взглядывал, его заливала волна радости.
До начала проповеди ещё оставалось немного времени. Пришёл Бумпэй. Он сначала поздоровался с окусамой, с Осио, с Сёго, и только потом с Усимацу. «Ах, и этот противный тип явился», — мысленно произнёс Усимацу, и все его грёзы мгновенно рассеялись. Он снова вернулся к действительности; когда же Усимацу вдобавок увидел, как непринуждённо Бумпэй разговаривает с окусамой, как смешит Сёго и Осио, он рассердился. Бумпэй умел разговаривать с женщинами и детьми и мог всякому пустяку придать значительность. В его манере поведения было что-то располагающее, пленяющее женские сердца, он умел выказать себя намного лучшим, чем был на самом деле. Рядом с замкнутым Усимацу Бумпэй казался даже сердечным. Усимацу ни к кому не подлаживался, больше того, с Сёго он был ещё более или менее ласков, но его отношение к Осио со стороны могло показаться даже холодным.
— Сэгава-кун, что ты скажешь насчёт сегодняшнего сообщения в газете? — не без ехидства тихо спросил Бумпэй.
— Сегодняшнего сообщения? — задумчиво переспросил Усимацу, подняв на него глаза. — Я ещё не читал газеты.
— Странно! Очень странно, что ты не читал.
— Почему?
— Странно, что, так преклоняясь перед этим Иноко-сэнсэем, ты не читал сообщения о его речи. Непременно прочитай. Да и отзыв газеты представляет интерес. Про Иноко-сэнсэя там сказано, что он «лев из «синхэйминов»» … Умеют же эти газетчики сказать, не правда ли?
На устах у него одно, но что в душе? Усимацу не доверял Бумпэю. Осио внимательно прислушивалась к их разговору и переводила взгляд с одного на другого.
— Рассуждения Иноко-сэнсэя — дело особое, но энергия этого человека меня восхищает, — продолжал Бумпэй. — Когда я прочёл отчёт о его речи, мне захотелось почитать что-нибудь из его книг. Ты, кажется, хорошо с ними знаком, вот я тебя и спрашиваю: что из написанного им считается самым лучшим?
— Право, не знаю, — ответил Усимацу.
— Нет, серьёзно… Я действительно заинтересовался им. Если из «этa» выходят такие люди, как Иноко-сэнсэй, то они, несомненно, заслуживают изучения. Да и тебе самому, вероятно, по этой причине захотелось прочесть «Исповедь»? — насмешливо сказал Бумпэй. Усимацу засмеялся и ничего не ответил. Как и следовало ожидать, едва только в присутствии Осио было упомянуто слово «этa», как Усимацу изменился в лице, с трудом скрывая своё волнение. Гнев и страх, вопреки воле Усимацу, отражались на его лице. А Бумпэй сверлил его своим острым взглядом, явно не желая ничего упустить из вида. Его взгляд, казалось, говорил: «Мне жаль тебя, но, право, скрывать бессмысленно».
— Сэгава-кун, у тебя, наверно, есть какая-нибудь его книга. Дай мне почитать, всё равно что.
— Нет… у меня ничего нет.
— Нет? Не может быть! У тебя — нет? Зачем ты скрываешь? Лучше дал бы мне что-нибудь.
— Я не скрываю. Раз я говорю, что нет, значит, нет.
В эту минуту настоятель храма поднялся на возвышение, и Бумпэй с Усимацу прекратили разговор. Все присутствующие, приняв подобающий вид, приготовились слушать.
Настоятель был одних лет с женой, но как мужчина выглядел сравнительно моложавым. Когда он в своём чёрном облачении с золотыми парчовыми наплечниками появился на амвоне, он казался человеком более возвышенной духовной жизни, чем многочисленные бонзы в Саку и Тиисагате, почти ничем не отличающиеся от мирян. Черты его лица — широкий лоб, тонкий нос, слегка сдвинутые брови — не только были красивы, они выражали мягкость, доброту характера и в то же время незаурядный ум.
Первая часть проповеди состояла в притче об обезьяне. Некогда существовала учёная обезьяна; она прилежно училась и в своём учении достигла таких высот, что могла читать наизусть священные тексты; короче, она была настолько учёная, что могла бы стать наставником для других. Но, к несчастью, будучи животным, обезьяна была лишена способности к вере. А человек, пусть даже не имея таких знаний, как у этой обезьяны, обладает силой веры, и с помощью одной только этой веры даже самый простой смертный может войти в мир будд. Так-то, братья и сёстры, уразумели? Не забывайте же денно и нощно возносить благодарения за то, что вы родились людьми.
Так настоятель начал свою проповедь.
— Наму амида Буцу, наму амида Буцу…
Эти возгласы заполнили обширное помещение храма. Мужчины и женщины достали из-за пазухи кошельки и стали класть на циновку пожертвования.
Темой второй части проповеди настоятель избрал эпизод из жизни князя Мацудайры Тотоми, в далёком прошлом владевшего замком Иияма. Иияма стала оплотом буддизма именно со времён этого князя. Пламенем веры он горел ещё с юных лет. Когда князь отправился для несения службы в Эдо, он обращался ко многим людям с заветным вопросом, которых! он жаждал разрешить, но не мог: «Когда человек умирает, что с ним бывает потом?» Ни его вассалы, ни учёные конфуцианцы не могли дать ответа на этот вопрос. Он спросил о том же ректора конфуцианской академии Хаяси. Но даже ректор конфуцианской академии Хаяси — и тот не мог ответить. Тогда князь обратился к буддизму и стал учиться у одного монаха в Сибуе; свои владения он уступил племяннику, через пять лет постригся в монахи и основал монастырь в Иияме. Как поучительна история этого обращения! На трудный вопрос, разрешить который были не в силах столь многие учёные, ответить может только тот, кто верует.
Так настоятель продолжал свою проповедь.
— Наму амида Буцу, наму амида Буцу… — как дуновение ветра пронеслись по храму возгласы молящихся, и снова все стали класть монеты.
Пока шла проповедь, Усимацу не раз, забывшись, устремлял взгляд на Осио. Опасаясь привлечь внимание присутствующих, он говорил себе: «Не надо, не надо», — и всё же смотрел снова и снова и не уставал поражаться юной красоте Осио. Но что это? По её лицу тихонько катятся горячие слёзы, она то всхлипывает, то украдкой вытирает нос. Присмотревшись, Усимацу увидел, что на её прелестном личике, как тень, то появлялось, то исчезало выражение страха и горя. О чём она думает? Что чувствует? Что вспоминает? Усимацу терялся в догадках. Ему не верилось, что юное сердце могла так глубоко тронуть сегодняшняя проповедь.
Говоря по правде, настоятель читал проповедь на старинный лад, и она не могла тронуть души людей, родившихся в новое время. Манера речи, похожая на бесстрастную декламацию, беспорядочные отрывочные мысли — всё это на фоне сверкающего золотом алтаря производило впечатление театрального представления какой-то пьесы на историческую тему. Невозможно поверить, что, слушая такого рода рассказ, молодой человек мог бы так растрогаться.
Сёго, видимо, клонило ко сну; в конце концов он прислонился к сестре и свесил голову. Осио всячески старалась отогнать от него сон: то принималась его тормошить, то что-то шептала ему на ухо, но мальчик, видимо, ничего не слышал.
— Нельзя спать! Люди смотрят и смеются, — сказала она уже полусердито.
Окусама вступилась:
— Оставь его! Ведь он ещё ребёнок.
— Действительно, совсем как младенец. Что с ним поделаешь!
С этими словами Осио обняла Сёго, тот, по-видимому, ничего уже не сознавал.
В эту минуту Усимацу чуть-чуть продвинулся вперёд и встретился глазами с Осио. Она быстро перевела взор на Бумпэя, на окусаму, а потом снова взглянула на Усимацу и покраснела.
Третья часть проповеди была построена на предании о Бякуоне. Давным-давно в храме Сёдзюэн секты Дзэн в Иияме жил монах по имени Этан-дзэнси. Бякуон отправился в Иияму к этому человеку ещё тогда, когда искал «путь».[30] Он намеревался обратиться к учению Дзэн. Когда Бякуон пришёл в Иияму, по долине навстречу ему пробирался человек с охапкой сухих листьев за спиной. У него была бритая голова, всклокоченная борода. Решив: это — он, Бякуон преградил ему путь и вопросил. Только после третьего раза его рвение было оценено Этаном-дзэнси. После этого Бякуон ценными днями служил ему как учителю. Но в конце концов беседы с ним даже Бякуона поставили в тупик, вернее, привели в отчаяние. «О, кто задаёт такие вопросы, тот безумец!» — так стал думать Бякуон и от избытка горя покинул эти места.
Предаваясь размышлениям, Бякуон бродил по окраинам Ииямы. Была как раз пора жатвы, он распростёрся возле груды зерна, и тут цеп крестьянина ненароком лишил сознания этого домогающегося «пути». Потом вечерняя роса попала ему в рот, он очнулся, ожил и в ту же минуту духовно прозрел. По другому преданию, Бякуон на окраине города столкнулся с продавцом масла, поскользнулся, упал — и духовно прозрел. Храм, который стоит и по сей день и носит название Дзёканъан, храм мирного созерцания, был построен, чтобы увековечить место великого прозрения Бякуона.
Это предание, по крайней мере, было молодёжи неизвестно. Затем настоятель наконец перешёл к заключению, говоря уже от себя; тут он впал в обычный проповедческий шаблон. Достигнуть «пути» собственными силами — этого не смог даже такой человек, как Бякуон. Помощь будд — вот единственное, на что следует уповать. Надо веровать. Надо следовать за теми, кто вас ведёт. И тогда самый обыкновенный человек достигнет желаемого. Надобно только одно: забыть себя и всецело предаться Будде Амида. Так настоятель закончил свою проповедь.
— Наму амида Буцу, наму амида Буцу…
Опять на циновки посыпались жертвенные монеты. Осио тоже сложила руки и вместе с окусамой произносила молитвенные заклятия, а слёзы так и катились по её нежным щекам.
Присутствующие в храме, перебирая чётки, стали расходиться. Окусама и Осио тоже поднялись и, стоя у колонны, кланялись, прощаясь с прихожанами. Опять пошёл снег. У входа в храм была толкучка. Женщины, отступив в сторону, ждали, когда схлынет толпа. Внимание Осио привлекали городские барышни, щеголявшие нарядами, видимо, стараясь не отставать от моды. Она внимательно разглядывала их и сравнивала их жизнь со своей жизнью при храме.
— Я просто поражён сегодняшней проповедью, — сказал Бумпэй, подходя к настоятелю. — История Бякуона привела меня в восхищение. Я её первый раз слышу. Особенно мне понравилось то место, когда Бякуон отправился к Этану-дзэнси: «И вот по долине навстречу ему пробирается человек с охапкой сухих листьев за спиной. У него была бритая голова, всклокоченная борода. Решив: это — он, Бякуон преградил ему путь и вопросил». Так оно и должно было быть! — забавно жестикулируя, болтал Бумпэй и все стоящие вокруг, не говоря уже о настоятеле, не могли удержаться от смеха. Тем временем прихожане разошлись. Храм опустел. Бонза и служка занялись уборкой. Сё-дурак собирал с циновок монеты.
Усимацу уже не было в храме. Он пошёл в жилые помещения проводить Сёго. В то время, когда Бумпэй рассыпался в любезностях перед окусамой и Осио, Усимацу молча гладил Сёго по головке и думал о своих, не ведомых никому печалях.
Глава XVI
Усимацу стало невмоготу ходить в школу. Однажды он не выдержал и подал заявление о невыходе на работу. В это утро он долго спал. Пробило восемь, девять, пробило и десять, а Усимацу всё ещё спал. В окно смотрело зимнее солнце, его лучи падали в комнату прямо на изголовье постели Усимацу, а он всё ещё никак не мог проснуться. Служанка Кэсадзи закончила уборку комнат, даже успела вытереть пыль. Она несколько раз подымалась в мезонин. Придёт, заглянет — Усимацу лежит утомлённый, бледный, точно с перепоя. Кругом всё разбросано: в одном углу — книги, в другом — какой-то свёрток. Казалось, всё в этой комнате пустилось по собственной воле в пляс; по беспорядку, царившему в комнате, легко можно было представить себе душевное состояние её хозяина. Когда Кэсадзи снова вошла сюда, неся кипяток, Усимацу наконец проснулся и в каком-то полузабытьи уже сидел на постели. От слишком долгого сна и упадка сил он казался ещё полусонным с выражением мучительного страдания на лице. В ответ на вопрос: «Не принести ли завтрак?» — Усимацу отмахнулся.
Служанка ушла, бормоча про себя:
— Он, кажется, плохо себя чувствует.
Стоял тоскливый, типичный северный зимний день. Маленькая муха, уцелевшая, несмотря на зиму, металась под потолком, стараясь добраться до окна. Когда Усимацу жил в пансионе на Такадзёмати, в его комнату обычно налетала уйма мух; мухи роились у самой притолоки, точно их занесло туда вместе с пылью. Они как будто торопились прожить свою короткую жизнь в предчувствии осенних ветров. Эта последняя оставшаяся в живых муха со всей ясностью напоминала о времени года. Усимацу следил за ней глазами и думал, что вот уже приближается декабрь.
Ничего не делать и предаваться одним размышлениям, когда ты полон сил и можешь работать, довольно нелегко. Образование, полученное на казённый счёт, обязывало его отслужить положенный и весьма немалый срок и постоянно следовать строгому распорядку школы. Всё это, разумеется, Усимацу знал. Знал, но у него пропала охота к работе. Ах, утренняя постель похожа на могилу, где погребён отчаявшийся человек! Усимацу опять повалился на неё и погрузился в глубокий сон.
— Сэгава-сэнсэй, к вам пришли! — послышался голос Кэсадзи.
Усимацу вздрогнул: оказалось, это Гинноскэ. Гинноскэ был не один. Вместе с ним пришёл, прямо в служебном костюме, и младший учитель из его класса. В этот день какой-то армейский капитан, объезжавший округ в целях распространения военных знаний, проводил беседу с учениками школы. В связи с этим последние уроки были отменены, и Гинноскэ с младшим учителем воспользовались свободным временем, чтобы зайти его проведать. Усимацу, приподнявшись на постели, смотрел на приятелей как в полусне.
— Ты лежи, — дружелюбно сказал Гинноскэ. На лице его отражалась искренняя забота об Усимацу. Усимацу стащил с постели белое шерстяное одеяло и закутался в него, как в ватный халат.
— Извините, что я не одет. У меня ничего страшного, так, пустяки.
— Простудились? — спросил младший учитель, внимательно глядя на Усимацу.
— Вероятно. Со вчерашнего вечера голова ужасно тяжёлая, а утром никак не мог с постели подняться, — сказал Усимацу.
— Вид у тебя и вправду неважный, — подхватил Гинноскэ. — Будь осторожен, ведь сейчас свирепствует эпидемия инфлюэнцы. Тебе хорошо бы что-нибудь выпить. Разбавь немного поджаренного мисо кипятком и выпей две-три чашки. Обычно это помогает при простуде. — Он переменил тему. — Ах да, я тебе принёс кое-что приятное, чуть не забыл — вот тебе подарок.
С этими словами он развернул платок и достал деньги — жалованье за ноябрь.
— Так как ты сегодня не пришёл, я получил за тебя, — продолжал он. — Проверь, пожалуйста, — должно быть правильно.
— Вот спасибо. — Усимацу взял вложенные в мешочек ассигнации и серебро. — Оказывается, сегодня двадцать восьмое! А я думал: ещё только двадцать седьмое.
— Хорошее дело, если, живя на жалованье, станешь забывать, какой сегодня день, — засмеялся Гинноскэ.
— Я стал таким рассеянным, — сказал Усимацу и, как бы подбадривая себя, добавил: — До конца месяца осталось совсем немного. Двадцать девятое и тридцатое, всего два дня, вот и весь ноябрь. Эх, да и год тоже на исходе. Как подумаешь — прошёл целый год… а я вот так ничего и не сделал.
— Все мы так, — горячо подхватил Гинноскэ.
— Тебе-то хорошо! Ты перейдёшь в агрономический институт, сможешь вволю заниматься своей любимой наукой.
— Кстати, насчёт моих проводов: мне сказали, что ученики хотят устроить их завтра…
— Завтра?
— Но раз ты лежишь…
— Ничего, мне уже лучше. Завтра я непременно приду.
Гинноскэ засмеялся.
— Сэгава-кун и на болезнь, и на выздоровление скор. Только что стонал, как тяжелобольной, глядь, а он уже здоров; можно подумать, что притворялся. Просто удивительно! И всегда это у тебя так. Да, недолго нам с тобой осталось болтать. Скоро распрощаемся.
— Как, ты уже уезжаешь?
У обоих был глубоко опечаленный вид. Младший учитель, который всё время курил, молча слушая их разговор, вдруг сказал:
— Сегодня в школе я слышал странную вещь: будто среди наших преподавателей скрывается «синхэймин». Говорят, и по городу уже ходит такой слух.
— Кто же пустил этот слух? — спросил Гинноскэ, обернувшись к нему.
— Этого я не знаю, — смутившись, ответил учитель. — Я думаю, это просто чья-то сплетня.
— И для сплетен есть границы. Пустить такой слух — это значит поставить всех нас в очень неприятное положение. Находятся же болтуны в нашем городе! Только и слышишь: такая-то учительница, мол, сделала так-то, а такой-то учитель этак. И откуда мог пойти такой слух? Ну, давайте переберём всех преподавателей школы! Вот УЖ чепуху несут! Разве не так, а, Сэгава-кун?
Гинноскэ взглянул на Усимацу. Тот молчал, кутаясь в белый плед.
Гинноскэ, засмеявшись, продолжал:
— Господин директор, конечно, очень неприятный своей педантичностью человек, но не его же принять за «синхэймина»! Да и среди учителей что-то никого похожего нет. Гм… правда, очень задирает нос Кацуно-кун… ну, если кого и можно бы заподозрить, то только такого, как Кацуно-кун, — снова засмеялся Гинноскэ.
— Ещё бы! — засмеялся вслед за ним младший учитель.
— Стало быть, кто же среди нас «синхэймин», как ты думаешь? — подтрунивая, сказал ему Гинноскэ. — Например, не ты ли?
— Не говори глупостей! — обиделся учитель. Гинноскэ продолжал смеяться:
— Что ж ты сразу рассердился? Я же не сказал, что это ты. Право, с тобой нельзя даже пошутить.
— Однако, — серьёзно сказал учитель, — если допустить, что это факт…
— Факт? Это совершенно невозможный факт. — Гинноскэ не хотел и слушать. — Почему? Суди сам! Учебные заведения, откуда вышли преподаватели нашей школы, в общем, хорошо известны. Одни, как ты, например, пришли сюда, окончив курсы; другие, как, например, Кацуно-кун, пришли после сдачи экзамена на право преподавания; третьи, как, например, мы с Усимацу-кун, вышли из учительской семинарии. Других у нас нет. Если допустить, что среди нас мог быть такой человек, об этом узнали бы ещё в учительской семинарии. При совместной жизни в общежитии за годы пребывания в семинарии это так или иначе выявилось бы. Те, кто сдаёт экзамены на право преподавания, тоже долгое время поддерживают тесную связь со своей школой, так что скрыть принадлежность к «этa» невозможно. О таких, как ты, и говорить нечего. Распускать такой слух — просто смешно!
— Оттого-то, — с особым ударением сказал младший учитель, — я и не утверждаю, что это факт. Я только сказал: если допустить, что это факт…
— Если? — засмеялся Гинноскэ. — Твоё «если» совершенно незачем допускать.
— Может быть, ты и прав. Но, если хоть на секунду допустить, что такая вещь действительно имеет место, понимаешь, к чему это приведёт? Мне при одной мысли об этом становится страшно.
Гинноскэ не ответил. Оба гостя не возвращались больше к этому разговору.
И всё это время Усимацу сидел как потерянный, лицо его на фоне белого одеяла казалось ещё бледней.
— А Сэгава-кун, видно, не совсем здоров, — пробормотал себе под нос Гинноскэ, спускаясь по лестнице.
Оставшись один, Усимацу некоторое время сидел неподвижно, обводя комнату растерянным взглядом, потом поднялся, убрал постель,[31] оделся. Вдруг как будто его осенило, он стал вытаскивать спрятанные в стенном шкафу книги. Они были воплощением духа Рэнтаро, напоены энергией и кровью сердца учителя; томик «Современные идеи и общественные низы», «Обыкновенный человек», «Труд», «Утешение бедных», а также «Исповедь». Усимацу перелистал одну за другой все книги, замазав на них свою печать. Потом он выбрал из стоявших на полочке в нише учебников по языку пять-шесть не нужных ему книг, стёр с них пыль и завернул все вместе в платок. В это время в комнату вошла Кэсадзи.
— Вы уходите? — спросила она. Усимацу, растерявшись, ничего не ответил.
— В такой холод! — Кэсадзи изумлённо смотрела на бледное лицо Усимацу. — Вы чувствовали себя так плохо, лежали, как же так?
— Нет, я сейчас хорошо себя чувствую.
— Но вы, наверно, хотите есть. Надо бы что-нибудь покушать… ведь вы с утра ничего ещё не ели.
Усимацу покачал головой и сказал, что он ничуть не голоден. Снял со стены и надел пальто, надел шляпу. Он поначалу и не собирался одеваться, но надел пальто, надел шляпу; казалось, будто им двигает какая-то машина — настолько он не сознавал, что делает. Потом часть принесённых приятелем денег он сунул в ящик стола, а часть прямо в бумажном мешочке положил в рукав кимоно.[32] Впрочем, это он тоже проделал механически, не сознавая, сколько оставил, а сколько захватил с собой. Взяв свёрток с книгами и старательно прикрыв его рукавом пальто, Усимацу вышел из Рэнгэдзи.
Снег покрывал и улицы и крыши домов. Навстречу Усимацу попадались рабочие в зимних камышовых шляпах, высоких плетёных гетрах, с прикрытыми сверху носками; путники, укутанные с головой в шерстяные пледы. Не раз его обгоняли сани, запряжённые то лошадьми, а то и людьми. Широкие карнизы, защищавшие дома от снега, сделали своё дело. Посредине улицы образовался высокий, выше домов, белый вал. Эта «снежная гора» была прославленной достопримечательностью Ииямы, — при виде её нетрудно было представить себе все трудности зимнего существования в этом городке. Серое небо предвещало новый снегопад, бледное солнце едва светило; картина зимнего дня повергала Усимацу в дрожь.
Усимацу не раз уже приходилось сбывать букинисту в Камимати старые журналы. К счастью, когда он вошёл, в лавке никого не было. Усимацу снял шляпу и с безразличным видом положил на прилавок свой свёрток.
— Принёс немножко книг… не возьмёте ли? — сказал он.
Хозяин по лицу Усимацу сразу всё понял; со смешком, как это делают все торговцы, он подался вперёд и придвинул к себе узелок с книгами.
— Сколько дадите… — добавил Усимацу.
Букинист развернул свёрток, просмотрел все книжки и разделил их на две части: книги по языку он отделил и тщательно перелистал, потом небрежно отложил в сторону книги Рэнтаро.
— За сколько вы намерены их уступить? — Он посмотрел на Усимацу и снова, как будто в смущении, усмехнулся.
— Лучше скажите, сколько вы дадите.
— Видите, у нас теперь торговля идёт плохо. На такие книги нет никакого спроса. Взять, конечно, можно, только за гроши. По правде говоря, вот эти английские книги только и в цене. А вот эти новинки — исключительно ради вас… — Букинист подумал: — Пожалуй, вам лучше взять их обратно.
— Раз уж я принёс… нет, не нужно этих разговоров. Если можете взять, берите.
— Только очень уж ничтожная цена им. Если вам угодно, я возьму, как вам называть цену — за каждую по отдельности? Или за все сразу?
— За все сразу.
— Крайняя цена пятьдесят пять сэн. Если вы согласны, я беру.
— Пятьдесят пять сэн? — уныло усмехнулся Усимацу.
Разумеется, он согласен, ведь ему всё равно за сколько, лишь бы продать. Теперь дело улажено. Считается, что книги не следует продавать. Усимацу тоже всегда так считал… Но сегодня он всё же принёс их сюда для продажи, — на это у него были особые причины. Он записал в счётную книгу свою фамилию и адрес и получил свои пятьдесят пять сэн. Перед уходом он на всякий случай ещё раз перелистал книги Рэнтаро и проверил те места, где стояла замазанная им печать «Сэгава». В одной книжке он обнаружил не замазанную им печать.
— Не дадите ли мне на минутку кисть? — Усимацу взял кисть и, окунув её в тушь, провёл по своей отчётливой печати вдоль и поперёк несколько жирных мазков.
«Ну, теперь всё в порядке», — решил он. На душе у него было сумрачно. Он растерялся и не знал, как быть дальше. Выйдя от букиниста, при мысли о только что содеянном он готов был заплакать.
«Учитель, учитель… простите!» — снова и снова повторял он про себя. Усимацу вспомнил, как сказал в разговоре Такаянаги, что не имеет к Рэнтаро никакого отношения. Острые уколы совести причиняли ему глубокую душевную боль, которую неспособны были унять доводы в пользу самозащиты. Изнемогая от стыда и страха, Усимацу брёл сам не зная куда.
Харчевня «Сасая». Здесь он когда-то пил с Кэйносином. Ноги Усимацу сами собой направились туда. Когда он раздвинул входные сёдзи и огляделся по сторонам, оказалось, что там всего лишь два-три посетителя. Хозяйка, с подоткнутым за пояс подолом кимоно, была занята обычными хлопотами, то подходила к столу, где мыли посуду, то готовила у очага.
— Что-нибудь найдётся поесть, хозяйка, а? — окликнул её Усимацу.
— К сожалению, сегодня у нас нет ничего особенного. Только жареная рыба да суп из тофу.[33]
— Дайте мне то и другое. И выпить тоже.
В эту минуту сидевший на бочке уличный торговец поднялся и, повязывая голову голубым полотенцем, оглянулся на Усимацу. И крестьянин, который в облепленной снегом обуви стоял, прислонившись к столбу, также украдкой кинул на него взгляд. Чернорабочий, с виду возчик саней, которому хозяйка только что налила из большой бутылки до краёв полную чашку дымящегося жёлтым паром сакэ, прихлёбывая водку, поглядывал на Усимацу. На нём сосредоточились взгляды всех находившихся в харчевне: приход необычного гостя нарушил общий непринуждённый разговор. Впрочем, полное любопытства молчание продолжалось недолго. Вскоре опять возобновился разговор, то и дело прерываемый громким смехом. И огонь в очаге запылал. Вдыхая разливающийся вокруг приятный запах дыма, Усимацу придвинул к очагу принесённый хозяйкой столик и молча принялся за еду. Как раз в эту минуту в дверях трактира, столкнувшись с уличным торговцем, появился какой-то человек с удочками. Он прислонил удочки к столбу и воскликнул:
— О! Редкий гость! — Это был Кэйносин.
— Удить ходили, Кадзама-сан? — осведомился Усимацу.
— Нет, куда уж в такой холод. — Кэйносин уселся против Усимацу. — Не мог высидеть у реки, бросил и пошёл.
— Хоть что-нибудь наловили?
— Ничего. — Кэйносин высунул язык. — С утра мёрзну и хоть бы одна рыбёшка. Просто никуда не годится.
Он произнёс это забавным тоном. Крестьянин и возчик расхохотались.
— Разрешите предложить и вам! — сказал Усимацу, осушая свою чашечку.
— Как, ты меня угощаешь? — Кэйносин широко раскрыл глаза. — Вот так штука! Никак не думал, что ты меня станешь угощать. Разве потому, что я сегодня так ничего и не наловил. — Он утёр набежавшую слюну.
Сейчас же на столике появилась бутылка подогретого сакэ. Дрожа и от холода, и от желания выпить, Кэйносин с наслаждением вдохнул аромат сакэ.
— Мне кажется, что я тебя давным-давно не видел. А у меня, видишь ли, с тех пор, как я ушёл из школы, никаких особенных дел нет, вот я и взялся за рыбную ловлю… Что ж, больше ничего не остаётся делать!
— Как можно в такой холод удить! — рука, в которой Усимацу держал хаси,[34] застыла в воздухе, он печально воззрился на своего собеседника.
— Кто не привык, тому оно, конечно, трудно. Правда, я и сам тоже непривычный… Но, по словам настоящих рыбаков, в зимней ловле есть своя прелесть, другим непонятная. Ничего, знаешь, если бы не ветер, то не так уж страшно. — Кэйносин хлебнул глоток сакэ. — Сэгава-кун, ты сам подумай: говорят, и так горько, и этак горько, но что действительно горько, так это жить без работы. Невмоготу мне сидеть, сунув руки в карманы, и смотреть, как рядом жена работает, выбиваясь из сил. Если можно пойти поудить, то ещё ничего, а вот в такие дни, когда на улицу и носа не высунешь, мне без работы просто беда. В такие дни уж ничего не попишешь, у меня заведено днём спать.
Кэйносин говорил очень серьёзно. Его слова: «у меня заведено днём спать» — задели Усимацу за живое.
— Между прочим, Сэгава-кун, — заметил Кэйносин, привычным жестом поднося к губам чашечку сакэ, — мой сын Сёго давно уже под твоей опекой. А дома у меня не всё идёт так, как мне хотелось бы. Вот я и подумываю, не взять ли мне его из школы? Что ты на это скажешь? Мне, собственно, не хочется забирать его из школы, — продолжал Кэйносин. — Я хотел дать ему хотя бы полное начальное образование, на то я отец. Жаль забирать его из школы и отдавать в приказчики, ведь в будущем году, в апреле, он окончил бы начальную школу. Так-то оно так, да никак без этого нам не обойтись, вот что плохо. Правда, он у меня порядочный бездельник, а всё же ученье как будто ему не совсем противно. Как придёт из школы, сейчас же за уроки, и один с чем-то там возится. Арифметика у него хромает, вот беда. Зато в сочинениях он, кажется, молодец. Когда получит у тебя отметку «отлично», это для меня большая радость. Давеча, когда ты подарил ему записную книжку, он говорит: «Учитель велел мне писать в ней сочинения». И, знаешь, радовался. Да как радовался! Вначале бережно положил её в книжный ящик, а потом без конца вынимал и рассматривал. Ночью даже во сне говорил про неё. Вот и хочется что-нибудь устроить. А подумаешь: ну, как сказать мальчику — брось школу! Жаль его. Только, видишь ли, как ни верти, а когда имеешь столько детей, ничего не поделаешь. Да, это, как говорится, — дети, а справиться с ними нелегко. Сорванцы да обжоры, как на подбор. — Кэйносин засмеялся. — Я только тебе могу об этом говорить. Ведь я им родной отец, не скажу же я: не ешь столько, трёх чашек с тебя довольно, не могу я скаредничать, верно?
Усимацу невольно рассмеялся. Кэйносин тоже уныло усмехнулся.
— Всё б ещё ничего, если б только не мачеха, вот что. Отдать Сёго в услужение, такая мысль у меня, право, появилась только из-за того, что мы с моей нынешней женой никак не поладим. Сколько я плачу над несчастной судьбой Сёго и Осио! Отчего это мачехи такие придирчивые? Вот давеча у вас в храме была проповедь. В тот вечер Сёго пришёл домой поздно. Жена рассердилась да как раскричится! «Если тебе так хочется бегать к сестре, можешь не возвращаться больше домой. Убирайся вон! Наверно, опять занимался пустой болтовнёй. Наверно, опять научился у сестры всяким глупостям. Оттого-то ты меня и не слушаешься». Вот так и отчитала его. А он ведь у меня неженка, молча забрался в постель и в слёзы. Тут я и подумал, в самом деле, надо его услать, тогда и разговоров убавится, и причина раздора исчезнет, может быть, у нас в доме станет веселей. Да что говорить: иной раз мне самому даже хочется взять Сёго да и уйти с ним из дома. Эх, видно, придётся нашей семье разойтись в разные стороны… больше ничего не остаётся.
Кэйносин всё больше обнаруживал свою врождённую склонность к жалобам. Водка как будто растекалась у него по всему телу, — щёки, уши и даже руки покраснели. Что же касается Усимацу, то чем больше он пил, тем более бледным становилось у него лицо.
— И всё же, Кадзама-сан, не стоит отчаиваться, — утешал его Усимацу. — Хоть я и мало чем могу помочь, но постараюсь сделать всё, что в моих силах. Выпьем ещё по чашечке, — идёт?
— Что? — Кэйносин уставился на него заблестевшими глазами. — Вот так штука! Ты говоришь: ещё по чашечке. Так и ты, значит, того? А я думал, что ты непьющий.
Он протянул Усимацу чашечку. Тот взял её и одним духом осушил.
— Здорово! — изумился Кэйносин. — Что это с тобой сегодня? Ты что-то много пьёшь. Надо меру знать! Я пью, в этом нет ничего странного, но чтобы ты пил… это меня беспокоит.
— Почему?
— Почему? Потому что ты и я — далеко не одно и то же.
В ответ Усимацу засмеялся, но в смехе его слышалось отчаяние.
Кэйносин что-то хотел сказать, но он не решался и только вздыхал. Крестьянин и возчик уже ушли. Хозяйка, усердно гремевшая кастрюлями, да ребёнок, стоявший у двери чёрного хода, — кроме них никто в харчевне не был и никто не мог помешать их беседе. Стены и потолок в харчевне покрылись толстым слоем копоти, видно, всё сохранилось в нетронутом виде со времён, когда здесь проходил почтовый тракт. У одного столба валялись сандалии, у другого — тыквенная фляга, вдоль стены в ряд были выставлены жёлтые тыквы; теперь здесь всё было так, как бывает в чайных на окраинах небольшого городка. Просторная прихожая с земляным полом, на солнце спит кошка. Тут же нахохлившиеся от холода куры.
В верхнее окошко проникали бледные лучи солнца и освещали выбивавшиеся из-под навеса крыши голубоватые клубы дыма. Усимацу рассеянно уставился на пылавший в очаге огонь. Как смягчает людские страдания алое пламя! От водки, которую он через силу выпил, Усимацу бросало в дрожь. Он готов был того гляди разрыдаться, не стесняясь людских взоров. Наплакаться бы громко, вволю! Но глаза Усимацу оставались сухими, и вместо рыданий из груди вырывался смех.
— Ах, — вздохнул Кэйносин, — бывают же такие люди, что знаешь их десять лет, а всё кажется, будто только что познакомились, а бывают и такие, как ты, что хоть мы и не близкие друзья, а хочется душу открыть. Поверь, кроме тебя, я ни с кем так не говорю. Вот и сейчас захотелось непременно тебе кое-что рассказать. — Он запнулся. — Дело в том… я недавно после большого перерыва опять увиделся с дочерью.
— С Осио-сан? — У Усимацу часто забилось сердце.
— Видишь ли, мне от неё передали, чтобы я пришёл… а то ведь, как ты знаешь, меня в Рэнгэдзи не очень-то жаловали… к тому же и жена всё своё… Так что я давно с дочкой не виделся. Но раз она сама хотела со мной о чём-то поговорить, я пошёл к ней. До чего же быстро молодёжь растёт! Я просто удивляюсь. Её прямо не узнать. Да, так знаешь, о чём она повела разговор? «Больше ни за что не могу оставаться в Рэнгэдзи, возьмите меня поскорее домой, прошу вас», — говорит она мне. Расспросил я её, что да почему, и понял, действительно ей надо уйти. Вот когда я узнал, какой наш настоятель.
Кэйносин взял бутылку. К сожалению, полной чашечки не получилось. Он хлебнул глоток и, утерев обеими руками углы рта, продолжал:
— Так вот какие дела. Ты только подумай! Бывают мужчины, которых все считают прекрасными людьми, но когда доходит дело до женщин, тут-то и выясняется… Настоятель Рэнгэдзи, видно, тоже из таких. Добрый человек, и учёный, и красноречивый, кажется, всё при нём, да и в вере ревностен, и вдруг такой грех, — отчего бы это? Когда я услышал от дочери о настоятеле, мне сперва даже не поверилось. «Неправда, наговор», — подумал я. Поистине нельзя судить о человеке по внешнему виду! Настоятель долгое время был в отъезде в Киото. Он вернулся как раз, когда тебя не было, ты уехал на родину. И вот, говорит дочь, он повёл себя не подобающим для приёмного отца образом. Ведь он всё-таки последователь Будды! Ведь он носит облачение и поучает вере других! Разве не так? Да хоть ради своего звания следовало бы ему призадуматься. Некрасивая, дурацкая история, никому и рассказать нельзя. Опять же окусама, — она, знаешь, какая. Таких ревнивых, как она, редко встретишь. А дочери и обидно, и страшно; говорит, по ночам даже спит плохо. Ну и поражён же я был, знаешь, когда услыхал эту историю! Мне понятно, почему она хочет вернуться домой. Да я и сам не хочу оставлять дочь в таком месте. Рад бы поскорей забрать её, но вот что плохо: если б только нынешняя жена моя была хоть немножко посговорчивей, мы бы уж как-нибудь да устроились все вместе. А теперь, когда с одним Сёго уже не знаешь что делать, да ещё явится Осио, совсем сладу с женой не будет. Прежде всего, как мы сами-восемь прокормимся? Вот и прикидываю и так и этак и не могу сказать дочери: приходи. Говорят: терпение, терпение… Терпеть то, что можно стерпеть, это ещё не значит иметь терпение. Настоящее терпение — это когда приходится терпеть то, что терпеть невозможно. Я ей сказал: «Ступай, ступай, не беспокойся. Ведь при нём жена. Если ты будешь всегда возле неё, он тебе ничего дурного не сделает. Пускай он даже ведёт себя не так, как положено отцу, но ты должна помнить, что тебя там воспитали. Раз ты стала дочерью Рэнгэдзи, ты никоим образом не должна возвращаться домой, как бы трудно тебе ни приходилось. Служить им — это и есть твой дочерний долг». Вот так я её утешал, ободрял и через силу там оставил. Как подумаешь, жаль становится её. Эх, будь жива моя первая жена…
Лицо Кэйносина выражало искреннее страдание, глаза блестели от слёз. Слушая его рассказ, и Усимацу тоже стая кое-что припоминать. Сейчас ему казалось, что в храме Рэнгэдзи по углам притаились чёрные тени: постоянные семейные неурядицы, как будто настоятель и окусама вступили в молчаливую борьбу… говоря образно, когда на одной стороне сияло солнце, и слышался весёлый смех, на другой — собиралась буря. В последнее время Усимацу ощущал это повседневно. Но он полагал, что это — нелады, которые случаются в любой семье; более того, что эти супружеские размолвки происходят по возвышенным поводам: ведь и настоятель, и окусама — оба ревностные последователи Будды. Усимацу и в голову не могло прийти, что чёрная туча нависла над головой Осио. Так вот почему окусама с напускной весёлостью вела легкомысленные разговоры и смеялась своим по-мужски громким смехом. Вот почему по лицу Осио часто катились слёзы. Всё, что Усимацу казалось странным и непонятным, после рассказа Кэйносина вполне прояснилось.
Долгое время Усимацу и Кэйносин, оба печальные, подавленные, молча сидели друг против друга.
Глава XVII
ТОЛЬКО когда они расплатились и вышли из «Сасая», Усимацу обратил внимание на то, сколько денег из жалованья он сунул в рукав: там было пятьдесят сэн серебром и бумажка в пять иен. При жизни отца Усимацу каждый месяц посылал ему перевод; теперь такая необходимость отпала и эти деньги оказались очень кстати, так как во время поездки на родину он порядочно издержался. Выходило, что всё же тратить их неосмотрительно не годится.
На душе у Усимацу было мрачно. Его мучили не столько мысли о себе, сколько жалость к семье Кэйносина; ему хотелось, во всяком случае, пока Сёго не кончит школу, как-то помочь — платить за его обучение или как-нибудь иначе… Эти мысли занимали его ум и, главным образом, потому, что он непрестанно думал об Осио.
Решив проводить подвыпившего Кэйносина до дому, он зашагал вместе с ним по занесённой снегом дороге. Под пронизывающим ледяным ветром Усимацу чувствовал, как его тело противостоит холоду и даже в душе возрождается бодрость. Кэйносин, оказывается, даже не забыл захватить удочки, — подумал Усимацу, — значит, не так уж пьян; однако походка у него была неверная, ноги заплетались, иногда он пошатывался и чуть было не падал в снег. Усимацу тогда говорил:
— Осторожней, осторожней. — И Кэйносин кое-как удерживался на ногах, бормоча:
— Что, в снег? В снег — это хорошо… приятней, чем упасть на плохую циновку.
Усимацу вздрагивал при мысли, что будет, если Кэйносин нечаянно заснёт на снегу. Закат жизни этого одряхлевшего учителя, судьба несчастной Осио… Идя за ним, Усимацу всё время думал только о Кэйносине и его детях.
Жилище Кэйносина — старая, крестьянская лачуга, крытая соломой. Раньше у него в Сироваки-но-Хирокодзи был настоящий дворянский особняк. Это было давным-давно; потом он уехал из уезда Симо-Такаи и с тех пор жил здесь. У входа на стене наклеены были привычные для севера Синано листки-амулеты с изображением стаек птиц. На глинобитной стене висели сухие листья редьки, перец, к крыше был прилажен грубый камышовый навес, защищающий от снега. По-видимому, в этот день как раз вносили арендную плату: у входа были разостланы циновки, высокие груды зерна заполнили весь дворик. Поддерживая Кэйносина, Усимацу перешагнул через порог. Со стороны чёрного хода их увидел Отосаку; подбежав, он стал кланяться, как слуга, который помнит лучшие времена хозяина.
— Сегодня будем платить за аренду, госпожа сказала… я с братом пришёл помочь.
Не дослушав его, Кэйносин в полузабытьи повалился наземь. Изнутри донёсся сердитый голос жены и плач ребёнка. «Что ты наделал? Разве можно так шалить?» — бранилась она. Отосаку прислушался, потом, спохватившись, сказал с жалостью о своём прежнем хозяине:
— А господин-то напился!
Он помог Кэйносину встать и отвёл его в уголок за сёдзи. В эту минуту, посвистывая, появился Сёго.
— Сёго-сан! — окликнул его Отосаку. — Прошу тебя, сходи за хозяином. (Так в просторечье называли помещика.) Скажи ему, чтобы он поскорей пришёл.
Вскоре из задней комнаты вышла и жена и, увидев лежащего в углу пьяного Кэйносина, поняла, что он опять оказался на попечении Усимацу. Сгрудившиеся вокруг них дети дрожали от страха и переглядывались в ожидании того, что последует дальше. Однако присутствие Усимацу, да и Отосаку с братом, заставило её сдержаться, она только кинула на мужа презрительный взгляд и тяжело вздохнула. И принялась всячески благодарить Усимацу:
— Каждый раз Кэйносин доставляет вам столько хлопот… И Сёго получил от вас такой прекрасный подарок, — и при этом суетливо то вставала, то снова садилась.
Усимацу не трудно было понять её характер: вспыльчивая, нетерпеливая, склонная к жалобам, чувствительная — словом, такая, какой часто бывают сорокалетние женщины. В эту минуту к ней подошла девочка: она не села, не поздоровалась, а продолжала стоять с тупым выражением лица, — это был её второй ребёнок.
— Слушай, Осаку, надо поздороваться! Нельзя так стоять при чужих! Отчего это моя девочка так плохо себя ведёт?
Но на слова матери Осаку не обратила никакого внимания. С виду это был грубоватый ребёнок, скорее похожий на мальчика. Просто не верилось, что она — сводная сестра Осио.
— Эта девчонка совсем от рук отбилась! Когда же ты будешь слушаться? — обратилась она к Осаку, но у той был такой вид, будто слова матери её не касаются. Улучив минуту, она стремглав убежала.
В это время лучи уже клонившегося к закату солнца осветили сёдзи с южной стороны дома. Бумага на них была буро-чёрная от копоти, невольно напрашивался вопрос: когда же её меняли в последний раз?
— А, солнце выглянуло! — обрадовался Отосаку. — Вот и хорошо, а то давеча похоже было, что снег пойдёт.
Вместе с братом он взялся за приготовления к сдаче арендной платы. Бледно-жёлтый свет зимнего солнца высвечивал нищету и запустение жилища. Кто хоть раз бывал в крестьянском доме, тот, вероятно, легко представит себе деревянный настил вокруг очага, где теперь сидел Усимацу. Здесь обычно собирается за едой семья, здесь угощают гостей. Внутренний дворик — и кухня, и кладовая, и место для работы; он тянется через весь дом, от главного входа до чёрного, занимая, по крайней мере, треть всей постройки. На полках у стены стояли чашки, миски, лампы, на стене висел серп, мешок с семенами, в углу помещалось ведро с соленьями, стоял мешок с углями. Кухонная утварь перемежалась с земледельческими принадлежностями. Наверху был устроен насест для кур, но он был пуст, и вообще, похоже, здесь не держали домашнюю птицу.
Хотя Осио родилась не под этой соломенной крышей, но, по словам Кэйносина, она росла здесь до тринадцати лет, пока её не отдали в Рэнгэдзи; и этого было достаточно, чтобы всё в этом бедном жилище привлекало внимание Усимацу. В доме, видимо, было всего три комнаты. Несмотря на плоскую кровлю, потолок был сравнительно высокий; но из-за того, что к крыше был приделан навес от снега, в комнатах было темновато. Стены были оклеены грубой желтоватой бумагой, единственным их украшением служили старые календари да цветные картинки. Усимацу представил себе, как маленькая Осио стояла перед этими календарями и простодушно разглядывала, точно своих друзей, изображённых на них мужчин и женщин. И дом, и вся его атмосфера вдруг показались ему удивительно близкими.
Неожиданно у входа появился человек лет за пятьдесят в тёмно-зелёной шапке на шёлковой вате и в шёлковом ватном хаори. Вместе с ним вошёл Сёго, крича:
— Хозяин пришёл!
Помещик, у которого семья Кэйносина арендовала землю, был членом городского управления. Угрюмый, неприветливый, скупой на слова человек, он, слегка поклонившись Усимацу, молча сел погреться у очага. Люди такого типа часто встречаются среди жителей севера Синано: у них всегда беспричинно сердитое лицо, но это вовсе не значит, что они сердятся. Зная это, Усимацу не придал значения его поведению и стал наблюдать за хлопотливыми приготовлениями к расчётам за арендную плату. Усимацу живо помнил, как жена Кэйносина и супруги Отосаку убирали осенний урожай. Насыпанная на плотно утрамбованной земле груда зерна поистине была воздаянием за труд целого года, а теперь большую её часть предстояло отдать помещику в счёт высокой арендной платы.
Вошла девушка лет семнадцати, бросила на циновку деревянную мерку в одно сё и убежала. Жена Кэйносина стояла в углу дворика и, упёршись левой рукой в бок, с презрительным видом следила за происходящим. Во дворик с плачем ворвалась девочка лет пяти — третий её ребёнок, Осуэ. Не слушая утешений Отосаку, Осуэ продолжала тихонько плакать и дрожать; при каждом всхлипывании дрожь сотрясала всё её тельце, и девочка плохо слышала, что ей говорили.
— Не плачь, сейчас мама тебе даст что-то хорошее! — окликнула её мать. Всхлипывая, Осуэ подбежала к ней.
— Ручки замёрзли…
— Ручки замёрзли?.. Так иди скорей погрейся у жаровни.
Мать сжала окоченевшие руки девочки и повела её в заднюю комнату.
Помещик отошёл от очага. Заткнув ватную шапку за пазуху, спрятав руки в рукава, он стоял во дворике в ожидании, пока Отосаку с братом кончат приготовления.
— Ну, как зерно? — спросил, обращаясь к нему, Отосаку. Помещик ответил что-то ему тихо, так что слов нельзя было разобрать. Потом протянул свою белую руку и взял горсточку зерна. Раскусив одно зерно и, перебирая на ладони остальные, он холодно заметил:
— Есть пустые.
Отосаку грустно усмехнулся.
— Вовсе не пустые. Просто некоторые зёрна воробьи поклевали. На девять десятых это самый лучший рис. Давайте насыплем мешок и взвесим.
Достали шесть новых мешков. Отосаку черпал зерно совком и ссыпал его в большую круглую мерку. Помещик шестом уравнивал зерно сверху, а брат Отосаку ссыпал его в мешок. Он работал молча. Отосаку раздражённо закричал ему:
— Эй, сыпь сюда! Сдавать аренду молча — это не дело! — Он бросил ему совок, который держал в руках.
— Захватывай полнее! Раз, два! — раздался голос Отосаку. В мешок входила одна большая мерка в шесть то[35] и одна маленькая в три сё, которую принесла девушка; мешки в шесть то и три сё поставили рядом.
— Может быть, хватит шести мешков? — сказал Отосаку, покрывая мешки соломенными матами. Помещик ничего не ответил. Прищурив глаза, он как будто мысленно прикидывал на счётах. В это время брат Отосаку принёс большие висячие весы. Взвешивая мешок, братья напрягали все силы, и у обоих лица стали багровыми. Помещик удостоверился, что коромысло легло горизонтально, и внимательно следил за тем, чтобы крючок для гирь не качался.
— Ну, сколько? — спросил, всматриваясь в гири, Отосаку. — Ого!
— Восемнадцать кан восемьсот — здорово! — присоединился брат.
— Восемнадцать кан восемьсот — вот это зерно! — сказал и Отосаку, распрямляя спину.
— Да, но ведь мешок тоже что-то весит. — Помещик, видимо, всё ещё был недоволен.
— Конечно, мешок тоже что-то весит. Это дело известное, — отозвался Отосаку. А брат его пробормотал про себя:
— По мне восемнадцать кан — лучше и не надо.
— Что ж, на то и лучший рис.
С этими словами Отосаку напустил на себя глуповатый вид и стал вглядываться в выражение лица высокомерного помещика.
Наблюдая всю эту картину, Усимацу задумался над жалкой долой арендаторов. Хотя Отосаку по своей крестьянской честности не забывает прежних милостей и всячески помогает своему обнищавшему хозяину, всё равно семья Кэйносина никак не может прокормиться слабыми руками его жены. Когда Кэйносин рассказывал Усимацу, что бедняжка Осио хочет вернуться домой, он со слезами сказал: «Прежде всего, как нам сам-восемь прокормиться?» Действительно, как? Разве можно ей сюда вернуться? При одной мысли об этом Усимацу содрогался.
— Позвольте вам чашечку чая, — обратился Отосаку к помещику; тот, видимо, совсем продрогнув, поспешил к очагу.
Отосаку достал висевший у пояса кисет и закурил. Попыхивая трубочкой, он спросил:
— С шести мешков причитается два то пять сё?
— Два то пять сё — где это видано? — насмешливо сказал помещик. — Четыре то пять сё.
— Четыре то?
— Даже не четыре то пять сё, а четыре то семь сё, вот как.
— Четыре то семь сё!
Жена Кэйносина сначала молча слушала пререкания Отосаку с помещиком, но потом не выдержала и вмещалась:
— Слушай, Отосаку, четыре то семь сё — пусть будет так. Сколько бы там ни было, не рассуждай. Отдай хозяину хоть всё целиком, мне ничего не нужно.
— Что вы, госпожа… — остолбенев, уставился на неё Отосаку.
— Я бьюсь одна, бьюсь, а муж ничего не делает и только пьёт. Что тут скажешь? Просто руки опускаются… Да и детей куча, и все остолопы…
— Не говорите так, предоставьте всё мне… я ведь не сделаю плохо! — горячо успокаивал её Отосаку.
Утирая рукавом рубахи глаза, она вышла на кухню и принялась готовить угощение. Брат Отосаку сходил за сакэ. Поставил горшок, за ним тарелки, похоже было, что собираются угощать помещика, выставив всё то немногое, что имелось в доме. Обо всём позаботился Отосаку; на закуску были конняку[36] и жареное тофу, вдобавок к этому подали соления — вот и всё. Отосаку поднёс помещику чашечку сакэ:
— Холодная! Не согрета, — хозяин так больше любит.
При этих словах на губах помещика впервые промелькнула улыбка.
Усимацу хотелось поговорить с женой Кэйносина, но он медлил, так как пока не представлялось удобного случая. Когда дело дошло до выпивки, он понял, что помещик не скоро уйдёт. Хотя ему и предложили выпить: «Пожалуйста, и вы за компанию!» — он отказался и отошёл от очага. Отозвав Сёго в сторонку, он достал из рукава бумажный мешочек с деньгами и велел передать эти деньги Кэйносину. Кэйносин, мол, говорил, что по домашним обстоятельствам придётся взять Сёго из школы, так вот плату за учение и всё такое пусть внесут из этих денег и пусть непременно позволят ему по-прежнему ходить в школу.
— Ну, что, понял? — добавил Усимацу и сунул деньги Сёго в руки. — Какие у тебя холодные руки! — воскликнул он и крепко сжал мальчику пальцы. Когда Усимацу взглянул в его простодушное лицо, перед ним возникли полные слёз ясные глаза Осио.
Идя от Кэйносина домой, Усимацу утешал себя мыслью, что хоть что-то сделал ради Осио. Когда он уже подходил к воротам Рэнгэдзи, стало пасмурно, низко нависли свинцовые тучи, — похоже было, что опять пойдёт снег. Серые сумерки навевали на Усимацу ещё большее уныние и тоску. Только далеко-далеко над горизонтом виднелась алая полоска догорающей вечерней зари.
Звуки гонга, возвещавшие о начале вечерней службы, прозвучали для Усимацу сегодня совсем по-особому. Они уже не казались ему голосом далёкой от мира обители. Ореол святости померк, и теперь в звучании гонга ему слышался голос обычных людских страстей. Усимацу вспомнил рассказ Кэйносина. В его груди вспыхнуло презрение к настоятелю, даже не столько презрение, сколько страх перед ним. А следом — другая мысль: Осио — такой благоухающий цветок, она так пленительно женственна. И презрение к настоятелю соединилось с жалостью к ней.
Храм Рэнгэдзи… Теперь Усимацу знал его истинный облик. После того, что он услышал, печальная действительность подтверждалась каждой, даже как будто бы самой незначительной мелочью, и ощущение семейного уюта, которое он впервые испытал, перебравшись сюда, мгновенно исчезло.
Направляясь к себе в мезонин, Усимацу встретил Осио. Даже при слабом сумеречном свете он разглядел, как мертвенно-бледно её лицо и печальны чёрные глаза. Осио тоже удивлённо взглянула на него; её внимание, по-видимому, привлёк подавленный вид Усимацу. Но они лишь обменялись взглядами и, молча поклонившись, разошлись.
Когда Усимацу вошёл к себе в комнату, уже смеркалось. Но Усимацу не хотелось зажигать лампу. Он долго в глубокой задумчивости сидел один в темноте.
Прошло уже два часа. На столе Усимацу лежала тетрадь, в которой он день за днём записывал свои школьные наблюдения и соображения. Желтоватый свет лампы уныло освещал полутёмное помещение и отбрасывал на стену тень задумчиво склонившегося над столом Усимацу. Папиросный дым стлался по комнате и придавал всем находящимся здесь предметам расплывчатые очертания.
— Сэгава-сан, вы занимаетесь? — спросила окусама, войдя к нему в комнату. — Не будете ли вы так добры написать мне письмо? Извините…
В ожидании ответа окусама теребила в руках приготовленные бумагу и конверт. Усимацу заметил, что выглядела она не совсем обычно.
— Письмо? — переспросил он.
— Да, я хочу послать его сестре в монастырь в Нагано… — Окусама запнулась. — Я, собственно, хотела написать сама, и начала было писать. Но у нас, женщин, всегда получается очень длинно, а главного так и не напишешь. Вот почему я и пришла к вам с просьбой: напишите мне покороче! И почему это женские письма всегда так плохи? А сколько бумаги я перепортила… и написать-то надо пустяки, ничего особенного. Только напишите так, чтобы было понятно.
— Ладно, напишу, — коротко ответил Усимацу. Ободрённая его ответом, окусама стала рассказывать Усимацу содержание письма. Она просила написать, что хочет поговорить об одном деле, касающемся её лично… и чтобы сестра по получении письма непременно приехала. От Канидзавы до Ииямы ходит лодка, а если сестра не захочет ехать лодкой, она может полпути проехать на рикше, а потом пересесть в сани. Она просила написать, что теперь она твёрдо решилась и сама уже думает о разводе.
— Я только вас и могу попросить… — сказала окусама, и глаза её наполнились слезами. — Я не объяснила, в чём дело, и поэтому вам всё это, вероятно, кажется странным…
— Нет, — перебил её Усимацу. — Я тоже кое-что слышал… от Кадзамы-сана.
— А, вот как! Вы слышали от Кэйносина-сана?
— Правда, подробностей я не знаю…
— Очень глупая история, рассказывать даже стыдно. — Окусама глубоко вздохнула. — Ах, наш настоятель До таких лет дожил, а вот, видите, что вытворяет! Это, по-видимому, болезнь. Иначе с чего же на него находит такое? Разве не так, Сэгава-сан, а? Если б только не эта болезнь! Ведь настоятель такой мягкий человек… Замечательный человек… нет, я даже теперь ему верю. Отчего на меня всё так сильно действует? — всхлипнув, снова заговорила окусама. — Каждый раз, когда случается такая история, у меня всё валится из рук. Эта болезнь настоятеля… она началась давно. Прежний настоятель Рэнгэдзи рано умер; когда настоятелем после него был назначен мой муж, ему было всего семнадцать лет. На третий год, как я вышла за него замуж, настоятель уехал учиться в Киото… В молодости он считался очень способным: среди молодёжи, которая со всей страны стекается в главный храм нашей секты, таких, как он, говорят, можно по пальцам перечесть. Я осталась тогда в Рэнгэдзи с вдовой прежнего настоятеля и с отцом нашего молодого бонзы; мы втроём взяли на себя заботу о храме. Пять лет прожили мы здесь без него. Видно, болезнь настоятеля пошла именно с той поры. Женщина, с которой он связался, была старшей дочерью владельца гостиницы в Абара-но-Кодзи, что в Уо-но-Тане. История эта получила огласку, и даже бонза, обеспокоившись, отправился в Киото. Как я тогда волновалась, и сказать не могу! Не хотелось и вдову настоятеля беспокоить, боялась, как бы не дошло это до прихожан. Наконец я послала той женщине денег и тем заставила её порвать с ним. Тут бы настоятелю и угомониться. Но это врождённая болезнь, помочь ничем нельзя. Через три года, в пору, когда он учился в школе Синею, в Токио, он снова заболел.
Придя с просьбой написать ей письмо, окусама в душевной простоте позабыла о деле и стала изливать свои жалобы. Простота эта — в характере женщин; окусаме необходимо было, чтобы её выслушали.
— В то время уже стало ясно, — продолжала окусама. — что нельзя отпускать настоятеля одного… к тому же, в школе ему платили жалованье, а заботу о храме взял на себя бонза. Вдова прежнего настоятеля хотела повидать Токио, и вот мы вместе с ней отправились туда и все втроём поселились в храме Таканава. Оттуда до школы рукой подать. С тех пор настоятель ходил туда по улице Нихонэноки. А на этой улице жила одна молодая вдова, ревностная приверженица секты Синсю, образованная женщина. Она попросила настоятеля вести с нею беседы о вере, и он стал ходить к ней. Я и сейчас хорошо её помню — стройная, с белыми нежными руками; мне случалось её видеть, когда она проходила мимо нашего дома по пути на кладбище.
Однажды у нас с настоятелем зашёл разговор об этой вдове, и он презрительно фыркнул: «Да она просто сумасшедшая!» Разве не ужасно так отзываться о женщине? А он в это время уже был с ней близок! Вскоре она от него забеременела. Тогда он сам струхнул и стал просить у меня прощения. «Я виноват перед тобой», — говорит. По природе-то он честный, хороший человек; как что дурное сделает, сейчас же покается. Даже жалко порой на него смотреть. Скажет мне: «Ну, прошу тебя, прости!» — и я не могу его бросить. Тогда вызвала я письмом бонзу из нашего храма, а сама думаю: «Всё это оттого, что у меня нет детей. Если бы у меня был ребёнок, настоятель остепенился бы. А что, если я возьму у этой женщины ребёнка и воспитаю его как своего?» А иной раз и такое придёт в голову: что скажут люди? А люди скажут только одно: «Жена рядом, а он завёл ребёнка от другой». И тогда снова передумываешь, говоря себе: «Стыд, да и только! Всё это ужасно. Нет, на сей раз я с ним разойдусь!»
Но всё дело в том, что женщина слабое существо, стоит ей услышать ласковое слово, и она охотно всё позабудет. Вот так же и со мной. «Жалко его, ему без меня будет трудно». Вскоре она родила. За месяц до срока. К тому же и молока у ней не было, так что ребёнок и двух месяцев не прожил. Как я тревожилась, пока настоятель не вернулся в Иияму! Это случилось ровно десять лет назад. После этого он вроде бы образумился. Аккуратно три раза в месяц читал проповедь, в дни поминовений по просьбе прихожан читал молитвы, а когда возникала необходимость, ездил по всему приходу, иногда ему приходилось даже задерживаться на ночь… Прихожане его чтили, на четвёртый год осенью отремонтировали крышу храма. И до последнего времени всё шло более или менее нормально и жили мы вполне хорошо. Но беда в том, что как только человек почувствует себя в силе, он начинает скучать. А стоит появиться скуке, как опять берётся за прежнее. Так уж у него всегда. Ах, мужчины ужасный народ! Уж на что настоятель рассудительный человек, а когда находит на него эта болезнь — ему всё нипочём.
Вы только подумайте, Сэгава-сан: настоятелю уже пятьдесят один год! Пятьдесят один год, разве это не ужасно? Правда, теперь у нас в Иияме не найдёшь бонзы, который не лип бы к женщинам. Да, но они имеют дело со служанками из чайных домиков или заводят себе содержанок. Но увлечься Осио! Я просто слов не нахожу. Никак нельзя было этого от него ожидать! Нет, с ним творится что-то неладное: без сомнения, он просто сошёл с ума. А Осио обо всём рассказала мне и говорит: «Мама, не тревожьтесь, я никогда на это не пойду». Она девушка стойкая, я на неё полагаюсь. Я ей говорю: «Держись, Осио, отец ведь не безрассудный. Когда он поймёт, каково на сердце у нас с тобой, он, несомненно, образумится. Опомнится он или не опомнится, мы с тобой будем по-прежнему дружны». Мы обе горько плакали. Разве я к нему плохо отношусь? Только бы открыть ему глаза. Для этого я и затеяла этот развод.
Выслушав чистосердечную исповедь окусамы, Усимацу написал письмо так, как она просила, коротко и ясно. Пока он писал, окусама всё время шептала имя Будды, лицо её выражало тревогу о будущем.
— Спокойной ночи! — сказала она на прощание и ушла.
Оставшись один, Усимацу повалился на циновку рядом со столом, задумался и незаметно уснул. Последнее время он спал, спал и всё никак не мог выспаться, поэтому стоило ему лечь, как он сейчас же засыпал как мёртвый. При этом ему казалось, будто он куда-то проваливается. Просыпался же он всегда с тяжёлой головой. Так было и в этот вечер: очнувшись, он долго не мог понять, где он и что с ним, а когда он наконец пришёл в себя, то обнаружил, что уже поздно. Снегу за окном навалило много; иногда он сползал с крыш, глухо ударяясь в ставни, и это был единственный звук, нарушавший тишину ночи… В такой час все уже в постели. Внизу, по-видимому, тоже все уснули. Вдруг до слуха Усимацу донеслись приглушённые рыдания. Что это? Такое впечатление, будто кто-то рыдает внизу под лестницей в коридоре. Потом будто кто-то открыл ставни северного коридора и выглянул наружу. «А… Это Осио… это она плачет», — подумал он, и сердце у него сжалось от тревоги и жалости. Впрочем, Усимацу слушал в полузабытьи; чтоб прийти в себя, он встал и принялся ходить по комнате, но рыданий уже не было слышно. Усимацу то настороженно замирал на месте, то прикладывал ухо к стене и прислушивался. Он уже не мог сказать с уверенностью, действительно ли что-то слышал, или это ему приснилось. Он стоял в растерянности, скрестив на груди руки и уставившись на догоравшую лампу. Ночная тьма сгущалась, усталое сердце изнемогало. Когда он достал из стенного шкафа постель, он уже сам не сознавал, что он делает. Полусонный, он разделся, лёг и погрузился в тревожный сон.
ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ
Глава XVIII
Наконец, как всегда в это время года, повалил сильный снег. И улицы и дома — весь город скрылся под белой пеленой. Накануне за вечер снегу выпало больше четырёх сяку.
Когда выпадало так много снега, убирать его было уже невозможно; его просто сгребали на середину улицы, где получалась настоящая гора с отвесными склонами. Обе стороны этой горы тщательно сглаживали, утрамбовывали, так что издали она имела вид длинной белой стены. Гора всё росла и росла и вскоре уже превосходила высотой стоявшие по обе стороны дома, так что с вершины её виднелись только крыши да карнизы. Город, выкопанный из-под снега, — таким, образно говоря, казался Иияма.
Когда Такаянаги Тосисабуро повстречался на улице Хоммати с одним из членов городского управления, мужчины и женщины с лопатами в руках занимались расчисткой дороги от снега. Обменявшись обычным приветствием: «Вот так навалило!» — член городского управления остановил Такаянаги, который уже намеревался идти дальше, и заговорил с ним.
— Между прочим, слышали вы об этом учителе, о Сэгаве?
— Нет! — решительно ответил Такаянаги. — Я ничего не знаю.
— Говорят, что этот учитель — тёри.
— Тёри? — с выражением полного изумления произнёс Такаянаги.
— Я просто поражён. Вот так история! — Член управления поморщился. — Правда, это только слух, и откуда он пошёл, толком я не знаю. Но есть человек, который ручается, что это правда.
— А кто он, этот поручитель?
— Ну, об этом не будем говорить. Дело в том, что он просил не называть его имени. — Лицо члена управления приняло такое выражение, как будто он выдаёт чужой секрет. — Я говорю вам… прошу вас держать в секрете… — несколько раз повторил он. Такаянаги скривил губы и многозначительно усмехнулся.
Проводив взглядом поспешно удалявшегося Такаянаги и пройдя в обратном направлении один квартал, этот любитель слухов повстречался ещё с одним знакомым молодым человеком. Чем больше он думал: «Секрет! Секрет!» — тем трудней ему было удержаться, чтобы не шепнуть кому-нибудь об этом.
— Знаешь, что говорят про этого учителя Сэгаву? — Он показал своему собеседнику четыре пальца. Однако смысл этого жеста до того не дошёл. Поняв это, член городского управления, помахивая рукой, со смехом воскликнул: — Неужели ты не догадываешься?
— Право, не догадываюсь, — сказал его собеседник.
— Ну и бестолковый же ты… Ведь «этa» называют четвероногими! Понял? Но только это — секрет. Никому ни слова.
Сделав такое предостережение, член городского управления простился и пошёл дальше.
В это время мимо проходил младший учитель. Увидев его, молодой человек подбежал к нему и после обычного приветствия завёл разговор о школе. И как-то незаметно оба заговорили об Усимацу.
— Это большой секрет… но так уж и быть, тебе я скажу. Говорят, ваш учитель Сэгава — тёри.
Молодой человек понизил голос.
— Вот-вот, я тоже в одном месте слышал об этом, но как-то не верилось, — сказал учитель, глядя на собеседника. — Выходит, это действительно так…
— Я только что кое-кого встретил. И вот этот человек, которого я встретил, показал мне четыре пальца и говорит: вот что такое учитель Сэгава. Я ахнул, только не совсем его понял. Оказывается, это значит четвероногое.
— Четвероногое? Значит, «этa» называют четвероногими?
— Именно. Но я поражён. Ну и ловкач! Как ловко он сумел до сих пор скрывать это! Позволять такому нечистому существу преподавать в школе… никуда не годится.
— Тсс… — вдруг перебил его учитель и оглянулся. Как раз в этот момент с ними поравнялся Усимацу. Плотно закутавшись в пальто, он, видно, направлялся на службу. По его задумчивому виду ясно было, что он о чём-то сосредоточенно размышляет. Усимацу на мгновение остановился, но, бросив на них пристальный взгляд, быстро прошёл мимо.
Из-за сильного снегопада многие ученики не явились в школу. Начинать занятия было бессмысленно, поэтому учителя, разбившись на группки, кто в читальне, кто в учительской, а кто у фисгармонии в классе пения, праздно беседовали, словно природа даровала им этот день для отдыха.
Когда младший учитель вошёл в учительскую, в углу вокруг большого хибати[37] стояли пять или шесть учителей. Он присоединился к ним, и как-то само собой разговор перешёл на Усимацу. Послышались взрывы смеха, привлёкшие внимание находившихся поблизости коллег, и те стали подходить, желая узнать, что тут происходит. Оказались здесь и Гинноскэ с Бумпэем.
— Что ты на это скажешь, Цутия-кун? — обратился к Гинноскэ младший учитель. — Мы тут насчёт Сэгавы-куна разделились на две партии. Ты его однокашник. Ну-ка, скажи нам своё мнение.
— На две партии? — заинтересовался Гинноскэ.
— Дело в том, что Сэгава-кун… ну, одни находят, что он именно тот человек, о котором недавно пошли слухи, а другие говорят — это невероятная нелепость! Вот так и разделились наши мнения.
— Погоди! — спокойно остановил его учитель с жиденькими усами из четвёртого класса младшего отделения. — Две партии — это не совсем точно. Ведь некоторые ещё не высказали своего мнения.
— Я утверждаю, что это неправда! — решительно заявил учитель гимнастики.
— Видишь, Цутия-кун, как обстоит дело. — Младший учитель обвёл взглядом собравшихся. — Почему возникло такое предположение, это особый разговор, но, в общем, всё началось с того, что Сэгава-кун ведёт себя весьма подозрительно. Посуди сам: пошли толки, что в школе среди нас есть «синхэймин». Естественно, что всякий возмущается, не так ли? Ты первый. Уже одно то, что ходят такие толки, позорит всех нас, учителей. Стало быть, если бы У Сэгавы-куна была чистая совесть, он негодовал бы вместе с нами, не так ли? Конечно, он что-нибудь да сказал бы об этом. А мы видим, что он ничего не говорит, отмалчивается, значит, он что-то скрывает. Так считают многие. К тому же один человек говорит… — начал было он, но сразу же осёкся, — однако лучше оставим это.
— Так что же говорит один человек? Раз начал, продолжай, а то что же получается… — вмешался учитель из первого класса младшего отделения.
— Давай, давай! — с холодной усмешкой сказал Бумпэй. Он стоял за младшим учителем и слушал, покуривая папиросу.
— Нет, шутки в сторону, — вмешался Гинноскэ, и глаза его заблестели. — Я знаком с Сэгавой-куном с учительской семинарии и хорошо его знаю. Чтоб Сэгава-кун был «синхэймином» — это невозможно. Я не знаю, кто пустил такой слух, но раз об этом стали говорить, я буду на стороне Сэгавы-куна и не отступлюсь. Вы отдаёте себе отчёт, о чём идёт речь? Это не то, что выпить чашку чаю.
— Разумеется, — ответил младший учитель. — Оттого-то мы и ломаем себе голову. Вот, послушай, что говорит один человек. Когда с Сэгавой-куном заводишь разговор об «этa», он непременно переводит его на другое. Да не только переводит разговор, он сразу же меняется в лице, вот что странно. У него на лице появляется какое-то смущение, растерянность… Ведь уже одно это наводит на подозрение. Теперь так: если б он вместе с нами сказал «вот паршивый «этa»» или что-нибудь в этом роде, тогда никто бы ничего и не подумал, а то…
— Хорошо, а чем Сэгава Усимацу похож на «этa»? Ответь-ка мне на этот вопрос! — Гинноскэ пожал плечами.
— Что он в последнее время очень задумчив, это факт, — сказал учитель четвёртого класса, теребя свою реденькую бородку.
— Задумчив? — переспросил Гинноскэ. — Задумчивость у него в характере. Нельзя же из этого заключать, что он «синхэймин». Ведь есть сколько угодно мрачных людей, и они вовсе не «синхэймины».
— «Синхэйминов» отличает своеобразный запах, не так ли? Надо понюхать, тогда узнаешь, — шутя, сказал учитель из первого класса и засмеялся.
— Не говори глупостей! — улыбнулся и Гинноскэ. — Я много раз видел «синхэйминов». Они отличаются от нас прежде всего цветом кожи. «Синхэймина» можно распознать уже по одному виду. Потом, поскольку они отверженные, у них у всех надломленный характер.
Немыслимо, чтобы из среды «синхэйминов» вышел такой энергичный, смелый юноша. А разве сможет «синхэймин» пробиться к науке? Если принять во внимание всё это, то с Сэгавой-куном всё становится ясно.
— А что же, в таком случае, ты скажешь об Иноко Рэнтаро? — насмешливо спросил Бумпэй.
— Иноко Рэнтаро? Он… — Гинноскэ запнулся, — ну, он исключение.
— Скажи пожалуйста! В таком случае, и Сэгава-кун тоже может быть исключением, — захлопав в ладоши, засмеялся младший учитель. Остальные тоже не могли удержаться от смеха.
В эту минуту дверь учительской распахнулась, и вошёл Усимацу. Все разговоры сразу смолкли, и взгляды присутствующих обратились в его сторону.
— Как твоё здоровье, Сэгава-кун? — многозначительно спросил Бумпэй. Тон у него был весьма ехидный. Младший учитель переглянулся со стоявшим рядом учителем первого класса, и оба обменялись многозначительными улыбками.
— Благодарю, — спокойно сказал Усимацу. — Я уже здоров.
— Простудился? — осведомился учитель четвёртого класса.
— Да, пустяки, ничего серьёзного. — И Усимацу обратился к Бумпэю. — Вот что, Кацуно-кун, к сожалению, сегодня пришли не все ученики, не знаю, как нам быть. Боюсь, что и с проводами Цутии-куна ничего не выйдет. Правда, всё уже приготовлено, но школьники что-то не в настроении.
— Как же, такой снег, — улыбнулся Бумпэй. — Делать нечего, отложим.
В это время в учительскую вошёл служитель. Гинноскэ, внимание которого было приковано к Усимацу, не слышал, что тот сказал. Заметив это, учитель гимнастики слегка хлопнул его по плечу:
— Цутия-кун, тебя вызывает директор.
— Меня? — Гинноскэ только теперь понял, что речь идёт о нём.
Директор сидел в приёмной. Он был не один, с ним находился уездный инспектор. Когда Гинноскэ вошёл, они о чём-то тихо совещались.
— А, Цутия-кун! — Директор приподнялся и пододвинул Гинноскэ стул. — Я позвал тебя вот зачем.
В последнее время по городу ходит странный слух… вероятно, до тебя он тоже дошёл, но… разве мы можем оставаться спокойными, когда в городе идут такие толки? Если этот слух будет распространяться дальше, то кто знает, к чему это может привести. Присутствующий здесь господин инспектор тоже чрезвычайно обеспокоен и, несмотря на погоду, специально пришёл сюда. Мы знаем, что ты знаешь Сэгаву-куна ещё с учительской семинарии и что ты с ним дружишь, поэтому от тебя мы скорей всего сможем всё узнать. Так я полагаю.
— Нет, я лично об этом ничего не знаю, — ответил Гинноскэ, смеясь. — Пускай себе болтают что хотят. Если принимать во внимание всё, что говорят, тогда, пожалуй, и конца этому не будет.
— Ну нет, так рассуждать нельзя, — переглянувшись с инспектором, возразил директор и продолжал, глядя в Упор на Гинноскэ: — Ты ещё молод, ты не понимаешь, что с общественным мнением надо считаться. С общественным мнением шутить нельзя.
— Значит, из-за того, что в городе ходит сплетня, надо с нею считаться и верить тому, что высосано из пальца?
— Вот то-то и оно! Беда с вами! Разумеется, я-то не верю тому, что говорит. Однако сам посуди: дыма без огня но бывает, но так ли? Всегда есть какая-то причина для подозрений… А ты что думаешь, Цутия-кун?
— Я не могу так думать.
— Ну, тогда нам не о чем говорить. А всё же кое-что заставляет задуматься. — Директор понизил голос — Сэгава-кун в последнее время поглощён какими-то мыслями. Почему он стал мрачным? Раньше он, бывало, захаживал даже ко мне домой, а в последнее время перестал. Прежде мы нередко беседовали, смеялись, мы всегда все знали друг о друге, но теперь, когда он стал избегать людей и один предаваться каким-то размышлениям… тем, кто не знает причины такого поведения, кажется, что это неспроста, и вот его начинают подозревать в самых невероятных вещах.
— Нет, — перебил его Гинноскэ, — всё это объясняется другой серьёзной причиной.
— Другой? Какой же?
— У Сэгавы-куна такой характер: он и хотел бы высказать всё, что у него на душе, да никак не может.
— Откуда же ты можешь знать то, чего он не говорит?
— Так ведь я и без слов его понимаю. Я уже давно дружен с Сэгавой-куном и более или менее знаю всё, что с ним до сих пор случалось, поэтому теперь мне достаточно видеть, как он ведёт себя, и я уже сердцем чувствую, что у него на душе. Я знаю, отчего он задумывается, отчего стал таким мрачным.
Эти слова Гинноскэ сильно заинтересовали его слушателей. Директор и инспектор не проронили ни звука и только дымили папиросами в ожидании того, что он будет говорить дальше.
По словам Гинноскэ, мрачность Усимацу не имела никакого отношения к тем пересудам, какие велись в городе… Она была вызвана теми терзавшими его душу переживаниями, которые вполне свойственны людям его возраста. Гинноскэ догадался, что Усимацу полюбил дочь Кэйносина. Но из-за своего скрытного характера Усимацу не признался в этом ни своему другу, ни даже ей самой. Такой уж он от природы: молчит и скрывает свои чувства. Единственный выход им он находит в том, что всячески помогает её отцу и брату — Кэйносину и Сёго. То, о чём он не говорит словами, он, по крайней мере, выказывает своими действиями и в этом находит утешение. Вот какие непонятные другим страдания переполняют его душу. Впрочем, Гинноскэ сам совсем недавно догадался об этой тайне Усимацу, и то совершенно случайно.
— И вот, — продолжал Гинноскэ, приложив руку ко лбу, — когда я в этом убедился, поведение Сэгавы-куна стало мне понятно. А раньше я сам, бывало, недоумевал… Конечно, в его поведении было много несуразного.
— А вот оно что! Может быть, это так и есть, — сказал директор и переглянулся с инспектором.
Когда Гинноскэ, выйдя из приёмной, вернулся в учительскую, Усимацу и Бумпэй, в кружке учителей, собравшихся вокруг хибати, горячо о чём-то спорили. Остальные тоже были увлечены спором, хотя и молчали. Но и те, кто стоял, скрестив на груди руки, и те, кто сидел, облокотившись о стол, и те, кто расхаживал по комнате, — все внимательно ловили каждое слово. Одни бросали на Усимацу испытующие взгляды, в глазах других сквозило недоверие. По тону разговора Гинноскэ понял, что Усимацу и Бумпэй необычайно возбуждены.
— О чём вы тут спорите? — смеясь, спросил Гинноскэ. Младший учитель, который сидел позади других и как раз начал делать в своей записной книжке набросок с Усимацу и Бумпэя, обернувшись к Гинноскэ, сказал:
— А это об Иноко Рэнтаро. Только послушайте, какую бучу они тут затеяли! — Он помусолил острие карандаша и, улыбаясь, снова принялся за рисунок.
— Никакой бучи нет, — возразил Бумпэй. — Я только попытался выяснить, отчего это Сэгаве-куну пришло на ум изучать его сочинения.
— Но я не совсем понимаю, что Кацуно-кун хочет этим сказать? — возразил Усимацу. Глаза у него так и засверкали.
— Ведь на всё всегда есть причина, — не унимаясь, язвительно ответил Бумпэй.
— Причина? — пожимая плечами, спросил Усимацу.
— Ну, скажем так, — серьёзным тоном заговорил Бумпэй. — Например… Послушай, я только приведу пример. Представь себе, что человек сходит с ума. У нормальных людей он, конечно, не вызовет к себе особого сочувствия. И не может вызвать, потому что их самих ничто не угнетает.
— Гм! — Гинноскэ переводил взгляд с Бумпэя на Усимацу.
— Однако если человек, который сам глубоко страдает и одержим тревожными думами, встретил такого помешанного, он непременно заметит страдальческий вид этого несчастного, его измождённое отчаянием тело; ему бросится в глаза мрачное даже при солнечном свете лицо — лицо человека, думающего о смерти. И всё потому, что душевные муки, овладевшие помешанным, знакомы и ему. Вот в этом всё дело. Не оттого ли Сэгава-кун задумывается над вопросами человеческой жизни, что и его самого что-то глубоко угнетает.
— Разумеется, — подхватил Гинноскэ. — Если бы это было не так, он прежде всего не понимал бы его книг. Это я уже давно ему говорил. Правда, Сэгава-кун но может об этом сказать, но я-то прекрасно знаю, в чём дело.
— Отчего же он не может сказать? — многозначительно спросил Бумпэй.
— Такой уж у него характер. — Гинноскэ продолжал, словно что-то вспоминая: — Сэгава-кун всегда был такой. Такие, как я, всё сразу же выкладывают, не умеют ничего держать про себя. А если Сэгава-кун молчит, то вовсе не потому, что хочет что-то скрыть, а такой уж у него характер. Ему можно только посочувствовать… он и родился для страданий, тут уж ничем не поможешь.
Слушатели засмеялись. Младший учитель оторвался от своего рисунка и стал смотреть на спорящих. Учитель первого класса младшего отделения зашёл за спину Усимацу и, прищурив глаза, сделал вид, что потихоньку его нюхает.
— Да… — снова заговорил Бумпэй, стряхивая с папиросы пепел. — Я в одном месте достал книги Иноко-сэнсэя и просмотрел их. Как вы думаете, что, собственно, он собой представляет?
— То есть как это «что собой представляет»? — полусмеясь, полусерьёзно переспросил Гинноскэ.
— Он не философ, не педагог, не богослов… и в то же время не скажешь, что он просто писатель.
— Он — современный мыслитель, — резко ответил Гинноскэ.
— Мыслитель? — повторил Бумпэй насмешливо. — Ну, а по-моему, он мечтатель, фантазёр… просто безумец.
Он произнёс это так забавно, что среди слушавших его учителей опять раздался взрыв смеха. Рассмеялся и Гинноскэ. Вспыхнувшее чувство негодования охватило Усимацу, и кровь бросилась ему в голову. Бледное лицо его вдруг вспыхнуло, даже веки и уши покраснели.
— Да, Кацуно-кун выразился замечательно, — заговорил Усимацу. — Действительно, Иноко-сэнсэй и ему подобные — своего рода безумцы. Разве не так? В наш век, когда выставляют напоказ только то, чем можно угодить всему свету и польстить самому себе, и, таким образом, раззванивают о себе на всех перекрёстках, кто, как не безумец, напишет исповедь, чтение которой повергает в холодный пот? Кто лишил Иноко-сэнсэя его профессии, кто заставил его изведать страдания, которые довели его до тяжкого недуга? Нынешнее общество. И ради этого общества, обливаясь слезами, писать книги, произносить речи, проявлять такую твёрдую при его здоровье приверженность своим идеям! Мыслим ли такой идиотизм? Жизнь этого человека — это поистине жизнь, описанная в «Исповеди». Да, он терпеливо сносит насмешки, за это его называют мечтателем, фантазёром. «Как бы тебе ни было тяжело и горько, никогда не жалуйся — ведь ты мужчина! Пусть косятся на тебя сколько угодно, умри молча, мужественно, как волк!» — вот его девиз. Что ж, разве одно это утверждение не выдаёт в нём сумасшедшего?
— Не надо так горячиться, — стал успокаивать его Гинноскэ.
— Я вовсе не горячусь, — отмахнулся Усимацу.
— Да, но этот самый Иноко Рэнтаро ведь «этa»? — с усмешкой сказал Бумпэй.
— Ну, и что же? — огрызнулся Усимацу.
— Из существа такой низкой расы не может выйти ничего порядочного.
— Существа низкой расы?
— Да, существа презренной породы. Эти люди, способные на всякие извращения, кто они, по-твоему, если не существа низкой расы? А ещё втираются в общество и разносят такие идеи — нет, это недопустимо! Возиться с сырыми кожами да помалкивать — это больше подходит таким господам.
— Выходит, что Кацуно-кун человек просвещённый, благородный, а Иноко-сэнсэй — дикарь, существо низкой расы? А я до сих пор думал, что и ты, и он одинаковые люди.
— Да перестаньте вы! — уже сердясь, сказал Гинноскэ. — Разве можно так спорить?
Но Усимацу и слушать не хотел.
— Очень даже можно! Я говорю серьёзно. Вот послушай. Кацуно-кун утверждает, что Иноко-сэнсэй дикарь, низкое существо. И он совершенно прав. А я заблуждался. Да. Ему бы, как считает Кацуно-кун, возиться с сырыми кожами да помалкивать. Поступай он так, держи язык за зубами, он не нажил бы чахотки. А этот безумец, пренебрегая здоровьем, вступил в борьбу с обществом! Люди просвещённые, благородные занимаются воспитанием детей, педагогикой и тому подобным в расчёте на возможность украсить свою грудь почётной медалью. А несчастным дикарям, существам низкой расы, таким, как Иноко-сэнсэй, подобные успехи и во сне не снятся. Они ведь с первых своих шагов готовы к тому, что исчезнут из жизни, как роса в поле. Они вышли на битву жизни, готовые на смерть. Разве пламень, горящий у них в груди, не говорит об их печали и мужестве?
Дрожа всем телом, Усимацу засмеялся, обнажая верхний ряд зубов, но смех его был похож на рыдание.
Долго сдерживаемое напряжение прорвалось. На лбу у него выступила испарина, щёки подёргивались, от негодования и боли краска залила его суровое лицо, и он казался сейчас воплощением мужественности и решимости. Гинноскэ с изумлением смотрел на товарища — он давно не видел его таким. Казалось, после долгого сна пробудилась юная, могучая душа Усимацу.
Так как собеседник его молчал, то и Усимацу прекратил разговор. Бумпэй, видимо, всё ещё не мог справиться со своим возбуждением. Он прекрасно понимал, что, намереваясь жестоко отделать Усимацу, сам оказался побитым, и от сознания собственного поражения презрение и злоба ещё отчётливей отразилась на его лице. «Паршивый «этa»!» — говорил его полный ненависти взгляд. Он отвёл к окну учителя первого класса младшего отделения и шепнул ему:
— Ну, что ты скажешь о нашем разговоре: разве Сэгава-кун не выдал себя с головой?
Младший учитель только что кончил свой рисунок. Всем было интересно посмотреть, что получилось.
Глава XIX
Слух о том, что адвокат Итимура и Рэнтаро, несмотря на сильные снегопады, приезжают в Иияму, дошёл и до Усимацу. Сторонники Такаянаги всполошились и с новой силой стали готовиться к бою. Посещение избирателей, распространение агитационных предвыборных листовок, тайная вербовка голосов велись неустанно. Говорили также, что на помощь сторонникам Такаянаги уже прибыла в Иияму шайка соси.[38] Приближались решающие дни предвыборной борьбы.
Наступила очередь дежурства Усимацу и Гинноскэ, и они остались вдвоём в школе на ночь. Гинноскэ, вспомнив, что у него неотложное дело, ушёл и задержался до позднего вечера. Он не вернулся, журналы и ключи остались у Усимацу. Усимацу, полный ни на минуту не оставлявшей его тревоги, при всякой возможности, оставшись один, в изнеможении валился на циновки и предавался своим думам. Зимний день прошёл в мучительном беспокойстве. Когда за окном раздался звон колокола Рэнгэдзи, возвещавший заход солнца, в сердце Усимацу возникла новая тревога: что будет с Осио?.. Если решение окусамы станет известно Осио… а может быть, оно ей уже известно… Как отнесётся к этому молодая девушка? Разве она может сидеть сложа руки? Но каково ей будет вернуться домой к мачехе?
— А что, если Осио-сан не переживёт этого?.. — Когда ему вдруг пришла в голову эта мысль, его охватило отчаяние.
А Гинноскэ по-прежнему не возвращался. Облокотившись на стол у самой лампы, Усимацу думал об Осио. Долго он, погруженный в свои думы, одиноко смотрел на огонь, и мало-помалу им овладела усталость. Так, сидя за столом, он незаметно уснул.
И тут вошла Осио.
«Ведь я в школе? Как же могла оказаться здесь Осио? — удивился Усимацу. Но его сомнения тотчас же рассеялись: — Значит, Осио хочет о чём-то поговорить со мной», — догадался он. Эти нежные глаза… Он взглянул в глаза девушки, и они сказали ему всё, что у неё было на сердце. Отчего он добр только к её отцу и брату, а к ней самой так безучастен? Отчего, хотя они живут под одной кровлей, он не сказал ей ни одного ласкового слова? Отчего он не говорит то, что вертится у него на кончике языка, отчего замкнулся в своём горе и не понятном ей страхе?
Эти сладостные минуты вдруг прервал приход Бумпэя. Он стал озабоченно звать Осио, потом схватил за руку смущённую девушку и силой увлёк её за собой.
— Кацуно-кун, подожди! Разве можно так! — пытался удержать его Усимацу. Бумпэй оглянулся. Их взоры скрестились, словно молнии.
— О, Осио-сан, я вам расскажу кое-что интересное, — и Бумпэй, склонившись над её ухом, всем своим видом доказывал, что шепчет ей страшную тайну Усимацу.
— Стой, зачем ты ей это говоришь?
Усимацу бросился к ним… и проснулся… Так это был сон. Он очнулся, и у него отлегло от сердца. Но впечатление от сна ещё оставалось, и страх всё ещё не проходил. Он обвёл взглядом комнату — здесь не было ни Осио, ни Бумпэя. В этот момент дверь отворилась, и со свёртком под мышкой вошёл Гинноскэ.
— Уже поздно! Сэгава-кун, ты ещё не спишь? Давай укладываться и, лёжа, поболтаем с тобою. — Гинноскэ скинул и повесил на крючок пиджак, снял и положил на стол воротничок, отстегнул подтяжки.
— Ну вот, скоро нам и расставаться, — сказал он. Комната в восемь циновок, где столько раз, лёжа рядом, друзья проводили в разговорах всю ночь своего дежурства… Она навела Гинноскэ на грустные мысли о предстоящей разлуке. Оставшись в нижнем белье и не переодеваясь в ночное кимоно, он забрался в постель под одеяло.
— Значит, последнюю ночь я провожу в этой комнате с тобой! — сказал он со вздохом. — Это последнее моё дежурство…
— Да… Ты уезжаешь, — отозвался Усимацу. Он тоже уже лежал в постели.
— У меня такое чувство, точно мы с тобой опять в семинарском общежитии. Отчего-то всё вспоминается прошлое — то время, когда мы с тобой вместе учились. Интересно, как сложилась судьба наших прежних товарищей? — Гинноскэ немного помолчал, а потом заговорил: — Вот что, Сэгава-кун, я давно уже хочу тебе кое-что сказать.
— Мне?
— Послушай, нельзя так замыкаться в себе, как ты это делаешь, нехорошо. Глядя на тебя, только и остаётся думать, что у тебя какое-то большое горе и ты один его в себе носишь, один им мучаешься. Это ясно без слов. Но я за тебя тревожусь. Если у тебя есть горе, почему ты не поделишься им со мной? Разве я, твой друг, не помог бы тебе? Что с тобой происходит? — участливым тоном продолжал Гинноскэ. — Ты, вероятно, думаешь, что раз я начинающий учёный, раз я постоянно с головой ухожу в свои занятия, то не способен тебя понять? Но я вовсе не такой чёрствый. Я не бессердечный человек, способный с усмешкой поглядывать со стороны, как другой страдает.
— Странные вещи ты говоришь! Никто и не думает называть тебя бессердечным, — сказал Усимацу, повернувшись ничком.
— В таком случае расскажи мне.
— Что рассказать?
— Я не думаю, чтобы тебе нужно было таиться от меня. Оттого, что ты всё держишь в себе, твои страдания только усугубляются. Видишь ли, я одно время только и знал, что занятия, вот и смотрел на вещи слишком аналитически. Но теперь я смотрю глубже. Я прекрасно понимаю твоё душевное состояние. Понимаю, почему ты перебрался в Рэнгэдзи, почему ты уединяешься в своём горе, мне теперь всё ясно.
Усимацу ничего не ответил. Гинноскэ продолжал:
— По мнению нашего директора, всё это не стоит ни полушки. Обо всём он твердит одно: «Это болезнь современной молодёжи». Но, подумай, ведь был же и он когда-то молод! Сами провели свою молодость, посвистывая, а на нас напускают всякие строгости… Верно? Я им так и сказал. Сегодня директор и уездный инспектор позвали меня и спрашивают: «Отчего Сэгава-кун такой задумчивый?» Я им и сказал: «Это вы сами должны понимать. В молодости с каждым такое бывает».
— Вот как? Тебя об этом спрашивал инспектор?
— Видишь ли, твоя постоянная задумчивость вызвала всякие толки. Говорят невесть что… и твоё поведение ложно истолковывается.
— Ложно истолковывается?
— Дошло до того, что пустили слух, будто ты «синхэймин»… Есть ведь любители нести всякую чепуху.
Усимацу засмеялся.
— Допустим, что я «синхэймин», ну и что с того?
Наступило длительное молчание. Слабый свет прикрученной лампы рисовал на потолке расплывчатый круг. Уставившись в этот круг, Гинноскэ замечтался, и, так как Усимацу лежал молча и не шевелясь, Гинноскэ решил, что его товарищ уже заснул.
— Сэгава-кун, ты спишь? — окликнул он его.
— Нет… ещё не сплю, — отозвался Усимацу. Затаив дыхание, он пытался унять внутреннюю дрожь.
— Что-то не спится сегодня. — Гинноскэ выпростал руки из-под одеяла. — Давай ещё немного поболтаем. Когда я думаю о горестях молодости, я всегда вспоминаю тебя, и мне хочется плакать. Любовь и слава… вот что одушевляет пылкую молодость и что её убивает. Я тебя хорошо понимаю. При твоём характере так и должно было быть. Я втайне сочувствую и той, которую ты любишь. Оттого я так с тобой сегодня и говорю. По-моему, ты слишком мудришь. Насчёт этого-то я и хочу тебя предостеречь. Поверь, я прав. Перестань страдать в одиночестве. Ведь у тебя есть друг, посоветуйся же с ним, и тебе легче будет решить, что делать. Если бы ты сам спросил у меня: «Цутия, что, если я поступлю так-то?», я бы сделал для тебя всё, что в моих силах.
— Ах, это только ты со мной говоришь так! Спасибо тебе за твою сердечность. — Усимацу глубоко вздохнул. — Говоря откровенно, всё обстоит именно так, как ты думаешь. Именно так. Однако…
— Ну?
— Но ты не можешь знать всего… вот почему ты так говоришь. Дело в том, что… она умерла.
Снова наступило молчание. Немного погодя Гинноскэ попробовал опять заговорить с Усимацу, но ответа уже не получил.
Проводы Гинноскэ состоялись на другой день. Они продолжались с утра до двух часов. На обед вместо обычных блюд были поданы суси.[39] Учителя и ученики, один за другим, вставали и говорили прощальные речи. Состоялся Даже импровизированный концерт. Простодушные мальчики и девочки то грустили, то смеялись, и им казалось, что этот день они никогда не забудут.
Среди общей суеты и веселья один Усимацу не мог найти себе места. Казалось, он не видел и не слышал происходящего. Запомнились только смех учителей и учеников, аплодисменты, сопровождавшие каждое выступление, да и многозначительные взгляды, которыми его украдкой награждали даже среди всеобщего оживления. Ему казалось, что за ним беспрерывно следят, и тревога, волнение, страх подавляли всякий интерес к тому, что делалось вокруг. Усимацу утратил даже ощущение собственного тела, а мозг его был скован одной мыслью — заветом отца. Когда его слух уловил перешёптывания учителей: «Увидишь, Цутия-кун сделает отличную карьеру…» — Усимацу сразу же подумал о том, какая мрачная будущность ждёт его самого, и невольно позавидовал судьбе друга, — ведь он не был рождён «этa».
Проводы кончились. Усимацу сразу же ушёл из школы и поспешил домой в Рэнгэдзи. Стоя во дворе у входа в монастырские помещения, он заметил, как в комнаты настоятеля то входила, то выходила монахиня в белой одежде. Вспомнив о письме, которое он написал позавчера вечером по просьбе окусамы, он предположил, что это, наверно, её сестра. Навстречу ему из кухни выбежала служанка Кэсадзи и подала визитную карточку. На ней стояло: «Иноко Рэнтаро». Кэсадзи на словах добавила, что гость приходил ещё утром, сказал, что остановился в гостинице «Огня» на улице Ками-мати, и просил передать поклон; во дворе его поджидал какой-то полный господин, одетый по-европейски.
— Наверно, Итимура-сан, — пробормотал Усимацу. Судя по её рассказу, это был, несомненно, он.
«Не пойти ли к нему сейчас же? — подумал он, но тотчас же осёкся: — А вдруг его заметят? Если бы не это опасение, он, конечно, пошёл бы. Он полетел бы к нему птицей. Нет, подожди, — удерживал себя Усимацу. — Ведь могут подумать, что у него с учителем какие-то очень близкие отношения, что тогда? Разве не считается подозрительным уже одно то, что он зачитывается его книгами? Тем более неосмотрительно заходить к нему… а вдруг… нет, подожди, подожди! Подожди до вечера! Когда стемнеет, тогда можно остаться незамеченным…» — так убеждал себя Усимацу.
«Да, но что с Осио?» — вдруг кольнула его новая тревожная мысль. Усимацу поднялся к себе в мезонин. И вдруг ему вспомнилось, как всё было здесь хорошо, когда он только что сюда перебрался. Посмотришь — всё осталось, как было: и старенькое хибати, и простое какэмоно, и стол, и полка для книг. Как непрочна в сравнении с вещами человеческая жизнь! Перед глазами Усимацу встала картина изгнания из пансиона на Такадзё-мати несчастного Охинаты. Он вспомнил, как тогда возвращался из Рэнгэдзи, а навстречу ему, освещая в сумерках фонарями дорогу, из дома выносили носилки. Вспомнил, как рядом шёл слуга. Вспомнил хозяйку пансиона, стоявшую в дверях, её напутствие «будьте здоровы!» и бушующих жильцов. Он, как сейчас, слышал их крик: «Что, получил!» — и чувствовал, как ледяные мурашки пробежали у него от затылка по спине. Теперь всё это он воспринимал как собственную судьбу! Но за что так унижают, так презирают «этa»? Отчего они не могут считать себя равными со всеми людьми? Отчего именно «этa» не имеют права на существование в этом обществе? Как безжалостны, как жестоки люди! Усимацу взволнованно шагал по комнате. Его мысли прервал шум раздвигаемых перегородок. Вошла окусама.
У неё был совершенно расстроенный вид.
Я больше всего опасалась, что так оно и будет! — сказала она и, присев против Усимацу, рассказала ему о событиях вчерашнего вечера. Оказалось, что Осио, сказав, что она идёт на почту, ушла из храма и не вернулась. Оставленное на комоде письмо было адресовано окусаме. Оно было написано искренне и чистосердечно. Кое-где даже буквы расплылись от слёз. Осио писала, что во всех неприятностях повинна она одна, что она не знает, как вымолить прощение у своих приёмных родителей. Она слышала, что окусама решила развестись… пожалуйста, пусть она оставит эту мысль. Осио никогда в жизни не забудет милостей, которые ей оказывали с тринадцати лет до этого дня. Как ей хотелось бы всегда быть при окусаме на положении дочери и звать её матерью. Но такова уж её судьба… простите… «Матушке от Осио», — так заканчивалось письмо.
— Да… — сказала окусама, утирая рукавом глаза. — Молода она, как бы чего не сотворила… вчера я всю ночь не могла заснуть. Сегодня рано утром послала узнать, не вернулась ли она к отцу. — Окусама помолчала, а потом добавила: — Сестра из Нагано приехала. А тут вот что случилось! Сказать не могу, как она поражена! — Окусама зарыдала от жалости к несчастной девушке.
Бедняжка, каково ей было покинуть дом, с которым она сроднилась, оставить своих приёмных родителей и по снегу, в холод, бежать неведомо куда! Слушая окусаму, Усимацу представлял себе горе и страдания Осио, решившейся на побег из храма.
— Да… теперь настоятель, наверно, опомнился, — пробормотала окусама и, повторяя про себя: «Наму амида Буцу», вышла.
Некоторое время Усимацу неподвижно стоял, прислонившись к стене. Жалость и сострадание рисовали ему живую картину происшедшего. Вот перед ним Осио: вот она торопливо выходит за ворота храма, поминутно оглядываясь назад. Вот её опустившийся отец, который только и способен спать, пить да удить рыбу, куча плачущих и ссорящихся детей, мачеха… Если Осио вернётся к ним в дом, что с ней станет? И вдруг снова, как накануне, у него мелькает в голове: «А что, если Осио этого не переживёт?» — И сердце у него сжимается от ужаса.
Внезапно Усимацу отошёл от стены. Надев шляпу, он спустился с лестницы, прошёл коридор и с озабоченным видом вышел за ворота Рэнгэдзи.
«Куда же я, собственно, собрался идти?» — спросил себя Усимацу, когда заметил, что прошёл уже несколько кварталов. Весь во власти отчаяния и страха, он точно в полусне бесцельно брёл по занесённой снегом улице. И тут и там небольшие группы людей сгребали в кучу снег, который так и не растаял до самой весны. На крышах снег лежал толстым слоем, и, когда его сбрасывали, он падал на дорогу со страшным шумом. Сколько раз при этом Усимацу невольно вздрагивал от страха. А если ему случалось увидеть несколько человек, что-то обсуждавших между собой, он сразу же решал, что речь идёт о нём.
На углу одной из улиц ему бросилось в глаза объявление на стене. На широком листе европейской бумаги было что-то написано крупными иероглифами тушью и отмечено двойными красными кружками. Несколько человек с любопытством читали объявление. Усимацу тоже невольно остановился. В объявлении сообщалось о предстоявшем в тот день митинге, на котором выступит адвокат Итимура, а также Рэнтаро — и тема его речи. Место митинга — храм Хофукудзи в Ками-мати, начало — в шесть часов вечера, то есть после обычного времени ужина.
Прочитав объявление, Усимацу продолжил свой путь. Говорят, боязливым людям чудятся в темноте черти. Но у Усимацу теперь чувство боязни не исчезало и днём. Страшные лица, глумливые голоса, злоба окружали его со всех сторон; хищные вороны с противным, презрительным карканьем кружили у него над головой. «Ждут не дождутся, чтоб он упал на снег»! — с тоской думал Усимацу, весь во власти безнадёжности, и всё торопливее шагал вперёд по улице Сакана-мати.
Незаметно он вышел к реке. Это место называлось «Нижняя переправа»; отсюда была видна вся река. Хотя место называлось переправой, в действительности это был понтонный мост. По дороге, цепочкой темневшей на снегу, тянулись вереницы путников. Проезжали тяжело гружёные сани. Простирающаяся вдаль долина казалась белым морем, и прибрежный тростник и ивы — всё было погребено под снегом. Не только Кося, Кадзахара, Наканодзава и другие горы, но даже деревушки и рощи на противоположном берегу были окутаны снегом, и оттуда лишь глухо доносилась перекличка петухов. Среди снежной долины грустно текла Тикума.
Вот какой пейзаж расстилался перед взором Усимацу. Иногда его глаза неожиданно выхватывали какие-то предметы, в обычное время не привлекавшие его внимания, и он видел их отчётливо, в мельчайших деталях, и наоборот — порой очертания отдельных предметов расплывались, всё сливалось в одно целое. «Что со мной будет?.. Куда идти, что делать? Зачем я родился на свет?» — роились в его мозгу мучительные вопросы, и он не видел никакого выхода. Долго стоял он, глядя в воды Тикумы.
Всё ещё во власти мрачных мыслей о своей жизни, Усимацу спустился к понтонному мосту. Порой ему казалось, что кто-то гонится за ним… Он знал, что этого, конечно, не может быть… И всё же не мог отделаться от этого ощущения. Он то и дело оборачивался назад! Временами он испытывал какое-то странное головокружение и едва не падал в снег. «Глупости, глупости, держись крепче!» — бранил он и подбадривал себя. С трудом пробираясь по высоким сугробам, наметённым вдоль берега, Усимацу наконец вышел к мосту. Отсюда открывалась ещё более широкая панорама обоих берегов. И всё, что он видел, — стаи круживших над ним голодных ворон, копошащийся возле своей лодки рыбак и бредущие домой крестьяне с бутылями керосина, — всё напоминало о тяготах зимнего существования. Мутные тёмно-зелёные воды реки, казалось, насмешливо ворчали и, словно говоря: «Утопись!», стремительно неслись вниз, к морю.
Чем больше Усимацу думал, тем более тягостно становилось у него на душе. Оказаться выброшенным из общества, что ни говори, ужасно. Изгнание — позор на всю жизнь! Если это случится, как ему жить дальше? Он ещё молод. У него есть надежды, есть желания, у него есть честолюбие. О нет, только б его не отринуло общество, только б по-прежнему считали за человека! Только б жить, как другие… На память приходили унижения, которым подвергались его сородичи, несправедливые порядки, вся история «этa», униженных, отверженных, которых до сих пор ставят ниже, чем даже нищих «банта».[40] Он припоминал все те случаи унижений, которым он сам был свидетель, и представлял себе душевное состояние людей, которые либо были изгнаны, либо сами добровольно избрали изгнание, вспомнил отца, дядю, учителя, богача из Симо-Такаи, потом задумался о судьбе большинства красивых девушек «этa», которых тайком продают в публичные дома.
И горькое сожаление охватило Усимацу. Зачем он учился, верил в правду, свободу? Если бы он не знал, что он такой же человек, как и все, он мог бы существовать, спокойно снося людское презрение. Отчего он появился на свет в образе человека? Если бы он был животным, он рыскал бы по горам и долам, не ведая никаких страданий.
Радостные и печальные воспоминания прошлого одно за другим всплывали в памяти Усимацу. Вспомнились первые годы жизни в Иияме. Вспомнилось пребывание в учительской семинарии. Вспомнилось далёкое прошлое, когда он жил на родине. Казалось, всё это было совсем недавно, только вчера, даже то, что совершенно забылось, чего за много лет он ни разу не вспоминал. И всё это усиливало его жалость к самому себе. Когда наконец эти воспоминания перемешались и, рассеявшись, как дым исчезли, Усимацу пришёл к мысли, что у него впереди только два пути. Только два: либо изгнание, либо смерть. Но жить изгнанным из общества? Нет, он скорей предпочитал второе.
Короткий зимний день близился к концу, незаметно стало смеркаться. С тихой грустью в душе, как будто он больше никогда уже этого всего не увидит, Усимацу смотрел с моста вдаль: на западе, немного к югу, плыла груда снежных облаков, и ему казалось, что он видит холмы своей дорогой родины. Облака были тёмно-оранжевые, и только края их отливали золотистым блеском. Над ними полосами тянулась серая дымка. Да, закат! На пустынные берега надвинулись сумеречные тени. И Усимацу брёл по самому краю покачивающегося понтонного моста, думая о страшной возможности скорой смерти.
В Рэнгэдзи ударили в колокол, и этот звук навеял на Усимацу беспредельную печаль. Воды Тикумы потемнели, и плывущие по небу облака из оранжевых превратились в серо-лиловые, солнце скрылось далеко за горами. Тянувшиеся высоко в небе полосы серой дымки на мгновение озарились бледно-красным светом и сразу же исчезли из виду.
Глава XX
«Расскажу о себе, по крайней мере, учителю!» — мысленно говорил себе Усимацу; он всё ещё стоял на мосту.
— Это будет нашим последним прощанием! — воскликнул он, опять полный жалости к самому себе.
Когда с этой мыслью он пошёл обратно, в вечернем небе уже появился молодой месяц. Однако Усимацу не отправился прямо в гостиницу к Рэнтаро. Он знал, что сейчас начинается митинг. «Да, придётся ждать, пока митинг кончится», — решил он.
Харчевню неподалёку от Верхней переправы посещали, главным образом, простые люди. Но когда Усимацу проходил мимо, его привлёк аппетитный запах, который вместе с пробивавшимся из-под навеса дымом очага разливался вокруг. Он заглянул внутрь: огонь в очаге ярко горел. Усимацу невольно остановился. Он уже основательно проголодался, а возвращаться в Рэнгэдзи ему не хотелось, и он юркнул под навес. У очага сидело несколько лодочников, да ещё какой-то мужчина, по виду — возчик саней. Усимацу надо было скоротать время до окончания митинга, поэтому пришлось спросить сакэ, хотя пить ему и не хотелось. Для приличия он заказал одну бутылочку и лапши погорячей; ему тут же подали. Дрожа от возбуждения, жадно вдыхая запах лапши, Усимацу молча ел, прислушиваясь к разговорам.
Нищета, — Усимацу теперь столкнулся с ней лицом к лицу. Он чувствовал, что впервые слова и вздохи, срывающиеся с уст лодочников и возчика, находят глубокий отклик у него в душе. Ведь и сам Усимацу ничем не отличался от людей, которые жили сегодняшним днём и не знали, что с ними будет завтра. Огонь в очаге ярко пылал: люди ели, пили, смеялись. Усимацу тоже уныло смеялся вместе со всеми.
Ждать пришлось нестерпимо долго. Время тянулось медленно. Возчик саней вышел, вместо него вошёл кто-то другой. Не слушая, Усимацу невольно слышал, о чём говорили в харчевне. Вошедший рассказывал, что сторонники Такаянаги развили бешеную деятельность и что одни только соси, наверно, загребут немалую толику денег. Они сняли целую гостиницу, приспособили её под свой штаб, к их услугам повар, сакэ они пьют сколько хотят. Там постоянно околачивается народ, приходят, уходят, — сутолока необычайная.
Усимацу представил себе, какое действие окажет на горожан сегодняшний митинг. По-видимому, как раз сейчас в стенах Хофукудзи звучит мужественный голос учителя. Через некоторое время, прикинув, решил, что митинг, пожалуй, скоро кончится, Усимацу расплатился, оставив хозяйке немного чаевых.
Луна вышла из-за туч. Человеку, сидевшему до сих пор при желтоватом свете лампы и вдруг вышедшему наружу, всё вокруг казалось каким-то необыкновенным. Бледная, призрачная луна… Лунный свет заливал крыши и заснеженные улицы. От навесов протянулись чёрные тени. Вечерний туман, как дым, окутывал город, придавая ему унылый вид. Голубоватый мрак — вот как можно было назвать эту лунную ночь. Невыразимый страх сковал душу Усимацу.
Иногда за спиной у него слышались чьи-то шаги. Усимацу хотелось оглянуться, но он не решался это сделать. «Меня кто-то преследует!» — подумал Усимацу, и ему показалось, что кто-то, незаметно подкравшись сзади, готов его схватить. Только когда на углу улицы шаги вдруг затихли, Усимацу пришёл в себя и облегчённо вздохнул.
О неверный свет луны! Какие странные очертания обретают вещи в её сиянии! Как меняется их окраска! Заметив в призрачном вечернем сумраке какую-то приближающуюся к нему фигуру, Усимацу весь сжался от ожидания близкой опасности. Но неизвестный прохожий, мельком взглянув на него, прошёл мимо.
Вечерний воздух был сравнительно мягок, не то что в иные дни, когда, казалось, он звенит от стужи. Небо подёрнулось дымкой, на нём чуть-чуть белела гряда низко нависших облаков, звёзды скрылись, и только одна из них по-прежнему сияла. В домах двери уже были заперты. Кое-где из окон на улицу пробивался свет. Поминутно вздрагивая даже от привычных ночных звуков, Усимацу шёл по затихшим улицам.
Митинг только что кончился. Ступая по снегу, участники его один за другим расходились по домам. Проходя мимо, Усимацу прислушивался к оживлённым разговорам, стараясь понять, что происходило на митинге. Все возмущались, негодовали, казалось, не было человека, который не ругал бы Такаянаги. Одни требовали гнать его вон из Ииямы; другие призывали голосовать за адвоката Итимуру! Третьи высказывали возмущение по поводу всех политических деятелей на свете.
И тут и там люди собирались кучками и продолжали начатый на митинге разговор. Усимацу услышал чьи-то слова по поводу того, что речь Рэнтаро была не так уж блестяща, но в ней была удивительно притягательная сила, и его слова доходили до сердца слушателей. Несколько сторонников Такаянаги всё время пытались ему мешать, но в конце концов и они притихли. Все понимали, что речь Рэнтаро полна глубоких мыслей и сильных чувств. Временами в ней звучала неподдельная боль. В заключение, желая наглядно показать, как недобросовестный политический деятель вводит в заблуждение общество и унижает человеческое достоинство, Рэнтаро со всей страстностью ударил по самому уязвимому месту Такаянаги. Он рассказал присутствующим о его связи с Рокудзаэмоном, о браке, заключённом с дочерью Рокудзаэмона, из низких и корыстных побуждений.
Проходя мимо другой группы, Усимацу услышал, что Рэнтаро во время выступления несколько раз заходился кашлем. Когда он сошёл с трибуны, платок у него в руке был весь красный от крови.
Как бы то ни было, по-видимому, речь Рэнтаро глубоко взволновала горожан. В сердце Усимацу, поражённого смелым и мужественным поведением учителя, почему-то закралось смутное беспокойство. Посчитав, что уже пора учителю вернуться в гостиницу, Усимацу решил идти к нему. Остановившись перед входом в гостиницу под висевшим над входом фонарём, он заглянул внутрь. Судя по царившей там суматохе, он догадался: там что-то случилось. Мужчина лет пятидесяти, вероятно, хозяин, торопливо надел сандалии и, взяв фонарь, собрался куда-то идти.
Усимацу остановил его и спросил про Рэнтаро. То, что он услышал из уст хозяина, потрясло его: только что у ворот Хофукудзи на учителя было совершено нападение. Правда ли, ложь ли… но, если допустить, что это действительно так, то, разумеется, это месть Такаянаги. Не раздумывая, весь дрожа от волнения, он поспешил вслед за хозяином гостиницы к Хофукудзи.
Однако было уже поздно. Оказывается, Рэнтаро сказал, что не будет ждать адвоката, у которого были ещё какие-то дела, и уйдёт вперёд, оделся и вышел. Его ударили по голове камнем или чем-то другим. Измождённый болезнью, вдобавок усталый, Рэнтаро не смог оказать никакого сопротивления.
До освидетельствования тело Рэнтаро оставалось лежать на снегу, прикрытое пальто. Усимацу опустился на корточки и приблизил губы к уху учителя.
— Учитель, это я, Сэгава! — произнёс он, надеясь, что будет услышан.
Тщетно.
Голубоватый свет луны пронизывал эту картину леденящей мыслью о смерти. Залитые холодным светом, поёживаясь от ночного холода, люди нетерпеливо ждали прибытия полицейского и врача. Одни сидели на корточках, Другие группами прохаживались рядом. Адвокат стоял молча, мрачно понурив голову, скрестив руки на груди.
Наконец прибыли должностные лица и пришёл врач, началось освидетельствование тела. При свете фонаря Усимацу видел отчётливо обозначившиеся скулы, заострившийся нос, плотно сжатые, совершенно белые губы. На его мужественное, величавое лицо легла тёмная тень страдания.
Добропорядочный хозяин гостиницы принял необходимые меры, освидетельствование закончилось, теперь предстояло перенести тело в гостиницу. Адвокат и Усимацу подняли тело Рэнтаро, чтобы положить на носилки; адвокат взялся за ноги, а Усимацу засунул обе руки глубоко под мышки учителю. Тело Рэнтаро уже остыло! Тяжкая боль утраты сковала сердце Усимацу. Он прикладывался щекой к бледной щеке учителя, тщетно звал: «Учитель, учитель!» Хозяин гостиницы сложил на груди свисавшие с носилок руки Рэнтаро. Когда скорбная процессия двинулась к гостинице, луна уже зашла, дорогу освещали фонарём. Усимацу шёл за носилками, думая об учителе. Он вспомнил, как они вместе ужинали в гостинице в Нэцу, с каким презрением говорил тогда Рэнтаро о Такаянаги, как возмущался: «Более унизительное отношение к «синхэйминам» и представить трудно!» Вспомнил, как по дороге на вокзал в Уэде, когда они переходили мост, Рэнтаро сказал: «Я не могу допустить, чтобы победа на выборах досталась этому типу. Я приложу все усилия, чтобы выборы прошли в пользу Итимуры-куна». Он тогда ещё сказал: «Пусть считают нас презренными, низкими существами, но ведь и нашим унижениям есть предел». И ещё: «Если бы я не слышал историю о женитьбе Такаянаги — куда ни шло, но слышать, знать и смолчать — для «синхэймина» это слишком большое малодушие!» Вспомнилось ему, как жена просила Рэнтаро вернуться вместе с ней в Токио, как тот сердился, подбадривал её и всё же отослал домой, словно насильно отрывая от себя. Он сопоставлял все известные ему детали и в конце концов пришёл к твёрдому убеждению, что учитель приехал в Иияму, приняв вполне определённое решение.
Если б Усимацу знал об этом наперёд, он давно бы признался ему, что он тоже «синхэймин». И, может быть, тогда его чувства достигли бы сердца учителя…
Запоздалое раскаяние бессмысленно. Усимацу то охватывало чувство горького стыда, то он впадал в отчаяние. Рэнтаро, всего несколько часов назад вышедший из гостиницы, беседуя с адвокатом, теперь возвращается на носилках мёртвый! «Несомненно… жене в Токио…» — Усимацу взял это на себя и отправился на почту дать телеграмму. Стояла глубокая ночь. На улицах не было ни души. Дать телеграмму надо непременно. Если на почте спят, он постучит, разбудит. А каково жене получить такую телеграмму! В каких же выражениях следует сообщить о случившемся?
Усимацу вышел на тёмный пустынный перекрёсток. Откуда-то издалека доносился лай собак. Усимацу уже не мог совладать с собой. Слёзы безутешного горя хлынули из его глаз. И он дал им волю.
Слёзы облегчили застывшую душу Усимацу. Отправив телеграмму, он поспешил обратно в гостиницу. Всю дорогу его не покидала мысль о силе духа Рэнтаро. Невольно он сравнивал его с собой. Да, учитель был настоящим мужчиной. Хотя он открыто заявил о своём происхождении, люди относились к нему с уважением, никто его не отвергал. «Я не стыжусь того, что я «этa»» — какая прекрасная мысль! Разве его собственная нынешняя жизнь может идти в сравнение с жизнью Рэнтаро…
Только теперь Усимацу всё понял. Стараясь скрыть своё происхождение, он поставил себя в ложное положение. В сущности, до сих пор его жизнь была фальшью. Он сам себя обманывал. О чём думать, о чём тревожиться? Разве не лучше мужественно заявить: «Я — «этa»!» Вот чему учила Усимацу смерть Рэнтаро.
Когда он с красным, распухшим от слёз лицом вернулся в гостиницу, в задней комнате было много народа. Тело Рэнтаро, прикрытое дорожным коричневым одеялом, лежало в нише, головой к северу, лицо было накрыто белым платком. Хозяин гостиницы позаботился о том, чтобы, по обычаю, перед телом усопшего поставили низенький столик с новыми глиняными сосудами. Грустно было смотреть, как среди ночи в воздухе, наполненном дымом курений, трепещет пламя свечей.
Вернулся адвокат из полицейского участка и стал рассказывать Усимацу о Рэнтаро. С тех пор, как Усимацу расстался с ним на вокзале в Уэде, Рэнтаро побывал в Коморо, Ивамураде, Сиге, Нодзаве, Усуде и других местах и всюду подробнейшим образом изучал жизнь местного общества; потом он отправился в Нагано. До приезда в Иияму он чувствовал себя превосходно.
— Для меня тоже это было полной неожиданностью, — сказал адвокат и, словно припоминая, продолжал: — Когда мы шли с ним в Хофукудзи, я и предположить не мог, что он решится на такую вещь. Перед всяким его выступлением у нас обычно заходил разговор о содержании его речи; бывало, он мне даже за едой рассказывал: собираюсь, мол, говорить так-то, сказать то-то. А сегодня такого разговора не было. — Он вздохнул. — Да, плохой я друг. Вы, да и всякий другой человек обо мне так подумает. Пусть думают, ничего не поделаешь. Я действительно плохой друг. Если бы только я, вопреки всему, что говорил Иноко-кун, отправил его вместе с женой в Токио, этого не случилось бы. Как ты знаешь, Иноко-кун был слаб здоровьем, поэтому, когда он вызвался поехать со мной в Синано, я его удерживал всеми силами. Но Иноко-кун заявил: «Я еду по своим собственным соображениям, так что, пожалуйста, меня не удерживай. Пусть думают, что я еду ради тебя, пусть думают, что ты помогаешь мне, но, как бы там ни было, ты работаешь сам по себе, а я работаю сам по себе». Ну, думаю, раз так, при его настойчивости насильно его не удержишь, — не хотелось пренебречь его искренним расположением. Вот так мы и отправились — вдвоём. А как я теперь взгляну в глаза его жене? «Не беспокойтесь! Иноко-кун на моём попечении» — и всё такое… Как же мне теперь быть?
Совсем поникнув от горя, тучный адвокат так и застыл в своём неудобном европейском костюме в почтительной позе возле тела товарища. В этот час постояльцы в гостинице все уже спали, и тишина тёмной зимней ночи усугубляла печаль. Даже те, кто обычно морщился при одном упоминании об «этa», жалели Рэнтаро: его трагическая кончина вызывала у всех глубокое сочувствие.
— Полиция этого дела не оставит! Увидите, наверно, уже взялись за Такаянаги! — высказывали предположение люди, собравшиеся провести ночь возле усопшего.
Чем больше Усимацу размышлял о случившемся, тем отчётливее в нём зрело чувство, будто покойный учитель взял его за руку и ведёт куда-то в новый мир. Признание… он не решился открыться даже учителю, который был такой же «этa»… Как же он откроется перед лицом всего общества? — до сих пор такая мысль ему и в голову не приходила. И вдруг Усимацу обрёл мужество. Тот Усимацу, каким он был до сегодняшнего дня, умер. Он отказался от любви, отказался от имени… Все радости жизни, к которым, забывая обо всём на свете, стремится молодёжь, не существуют для тебя, если ты «этa»? «Этa»…
«Учитель «этa»… и этим сказано всё», — так думал Усимацу, и горячие слёзы, не переставая, катились по его щёкам. В этих слезах была боль души, горькая жалость к самому себе.
«Да, завтра я пойду в школу и открою свою тайну учителям и ученикам. Я сделаю это, не утратив чувства собственного достоинства, и так, чтобы по возможности не причинить неприятностей другим». — Усимацу стал обдумывать подробности этой акции: какие слова он скажет ученикам, что напишет в заявлении об уходе, и всё прочее. Так, в раздумьях о грядущем дне он вместе с другими провёл у тела Рэнтаро всю ночь. Петухи возвестили приход нового дня. Усимацу знал, что для него наступает новая заря.
Глава XXI
Перед тем, как идти в школу, Усимацу ранним утром зашёл в Рэнгэдзи. Там все, начиная с Сё-дурака и кончая служанкой, только и говорили о смерти Рэнтаро и аресте Такаянаги. Когда же стало известно, что человек, вчера Утром приходивший к Усимацу, и был тот самый Рэнтаро, все были просто потрясены. Окусама сообщила Усимацу, что её сестра уехала домой в Нагано, настоятель сам попросил у неё прощения, и поэтому развод… ну, как бы на время отложен.
— Наму амида Буцу, — твердила окусама, перебирая чётки.
Было первое декабря.
В Рэнгэдзи обычно завтракали рано, и Кэсадзи принесла завтрак в комнату Усимацу. Завтракать так же рано, как это делали другие обитатели храма, ему в последнее время не приходилось; поэтому по утрам ему обычно подавали уже остывший рис и перестоявшийся суп; на этот раз от риса шёл пар, суп издавал аппетитный запах свежесваренного мисо. В отдельной посуде были поданы квашеные бобы. Усимацу ел, а мысль о том, что он готов предстать пред всеми презренным «этa», не оставляла его, и слёзы — неприметно для него самого — капали из его глаз.
Позавтракав, Усимацу сел за стол и написал заявление об уходе. Он вспомнил завет отца. Вспомнил, как наставлял его отец: «Что бы тебе ни пришлось пережить, с какими бы людьми ни случилось иметь дело, ни в коем случае не открывай, кто ты. Помни, если ты в гневе или отчаянии забудешь моё предостережение, — ты тотчас же будешь выброшен из общества». Так говорил отец. «Храни тайну!» — Сколько мук он снёс, выполняя этот завет. «Храни тайну!» — Сколько сомнений и страха испытывал он каждый раз, когда напоминал себе об этом. Усимацу представил себе, как рассердился бы и огорчился отец, окажись он жив. Он, наверное, решил бы, что Усимацу сошёл с ума. И, несмотря на всё это, теперь он нарушит этот завет.
— Отец, не осуждай меня! — шептал он, точно прося прощения.
Сверкнули лучи зимнего утреннего солнца. Усимацу встал и подошёл к окну. Из раздвинутых сёдзи сквозь обнажённые ветви гинкго виднелись покрытые снежной пеленой улицы. Дощатые крыши, навесы — всё, что попадало в поле зрения, было белым-бело, а над домами вился голубой дым, — всюду готовили утреннюю еду. Когда лучи солнца залили здание школы, с которой Усимацу предстояло расстаться, у него сжалось сердце; вдыхая прохладный, чистый утренний воздух, он задумчиво смотрел на эту картину, как вдруг ему вспомнилась «Исповедь» Рэнтаро, и он с новой силой ощутил слова, которыми она начиналась. «Я — «этa», — повторил он несколько раз, стоя у окна, словно признавался в этом всему городу.
— Я — «этa»!
Повторив эти слова ещё раз после некоторой паузы, Усимацу стал собираться в школу.
Нарушить завет… какое это мучительное и в то же время смелое решение! С такой мыслью Усимацу вышел за ворота Рэнгэдзи. На первом же перекрёстке он встретил нескольких мужчин в сопровождении полицейского. Они шли со связанными руками, бледные, понурые, стыдясь людских взглядов. Один из них, в чёрном хаори с гербами и белых таби, особенно старался скрыть своё лицо. По элегантному костюму в нём сразу же можно было узнать Такаянаги Тосисабуро. Его спутники, судя по подозрительному виду, были нанятые им громилы. Кое-кто из них иногда останавливался и оглядывался назад, словно прощаясь с прошлой жизнью, и каждый раз полицейский их одёргивал.
— А, забрали-таки их! — сказал какой-то прохожий, остановившийся рядом с Усимацу посмотреть на арестантов.
— И поделом! — заметил другой.
Вскоре Такаянаги и его спутники повернули за угол и исчезли за снежным валом.
Учащиеся спешили в школу. У детей из пригорода головы были укутаны куском фланели либо шалью; они, перекликаясь между собой, бежали по снегу. Городские дети шли чинными стайками. При мысли, что сегодня он идёт вот так вместе с беззаботными учениками по привычной дороге в последний раз, всё, что попадалось Усимацу на глаза, вызывало в душе у него горестно-нежные чувства. Даже болтовня девочек, обычно так надоедавшая ему, в это утро была ему мила. И при виде их выцветших коричневых хакама у него тоскливо сжималось сердце.
На школьной спортивной площадке снегу навалило с гору. Спортивные снаряды, турник — всё оказалось погребённым под снегом; поэтому ученики проводили перемены только в здании школы. И в вестибюле, и в коридорах, и в большом гимнастическом зале звучали весёлые детские голоса. Усимацу в последний раз наблюдал за учениками до начала уроков. Когда он прохаживался взад и вперёд по коридору, со всех сторон только и слышалось: «Сэгава-сэнсэй!», «Сэгава-сэнсэй!» Ученики обступили его, и это было ему приятно. Они прыгали, скакали, шумели, и, когда он думал, что видит это в последний раз, их возня особенно трогала его. Две учительницы, стоявшие в коридоре, посматривая на него, переглядывались между собой и хихикали, но Усимацу не обращал на них внимания. В это утро и Сэнта, ученик третьего класса, пришёл рано и грустно стоял в углу гимнастического зала. Он с завистью смотрел на других учеников, с ним по-прежнему никто не играл.
Усимацу подошёл к Сэнте, обнял его сзади, нимало не заботясь о том, что их увидят и посмеются, и излил на него всю наконец-то прорвавшуюся глубокую жалость. Ведь этот несчастный мальчик родился под одной с ним звездой. Ему вспомнилось, как не так давно он вместе с ним проиграл партию в теннис. Вспомнилось, что это было как раз в день рождения императора, после чая по случаю ухода Кэйносина. Вдруг с противоположной стороны коридора послышалось стройное детское пение, вероятно, учениц первого класса младшего отделения:
При звуках этой песни по щеке Усимацу скатилась слеза.
Звонок раздался очень скоро. Стуча сандалиями, ученики врассыпную побежали в гимнастический зал. Преподаватели собирали свои группы. Раздался сигнальный свисток. И учащиеся, ведомые своими учителями, стали в определённом порядке расходиться по классам. Ученики старшего, четвёртого, класса, идя в ногу с Усимацу, зашагали по длинному коридору.
В приёмной, сидя друг против друга, поджидали членов городского управления директор и уездный инспектор. Они условились собраться здесь, чтобы посоветоваться относительно Усимацу. Инспектор пришёл раньше условленного срока.
Директор представил дело так, будто вовсе не по злобе хочет удалить из школы чуждый элемент. Он сам может уже считаться педагогом старой школы, а такие, как Гинноскэ и Усимацу, — люди нового поколения. Ему хотелось бы думать, что пока продолжается его время, но на деле всё на свете изменилось. Если он чего-нибудь и боится, то только нового века. Да, он не хочет стариться, не хочет дряхлеть, он хочет снимать шляпу перед мальчишками. Поэтому он и стремится удалить молодых, передовых учителей.
И не только это. Усимацу и Гинноскэ не идут навстречу его желаниям, как это делает хотя бы Бумпэй. На учительском совете каждый раз возникают столкновения. Они во всём помеха. Эти желторотые птенцы пользуются большей привязанностью учеников, чем сам директор, уже одно это может вызвать досаду. Он удаляет их вовсе не по злобе, а ради сохранения единства в школе. Так директор заботился о самозащите.
— Вероятно, члены городского управления сейчас придут, — сказал инспектор, взглянув на часы. — Кстати, по-видимому, и с Сэгавой-куном кое-что получается.
Это «кое-что» заставило директора улыбнуться.
— Нужно только, — продолжал инспектор, — чтобы это исходило не от нас. Пусть об этом заговорят городские власти.
— Именно. Я тоже так думаю, — согласился директор.
— Подумай: Сэгава-кун уйдёт, Цутия-кун уйдёт… тогда ты тут полный хозяин! На место Сэгавы-куна можно назначить моего племянника, а на другую вакансию я пришлю тебе ещё одного подходящего человека. Вот так и укрепим наши позиции, не так ли? Если всё пойдёт, как мы думаем, твоё положение упрочится надолго. Да и я недаром похлопотал.
Вошёл служитель. За ним появились трое членов городского управления.
— Прошу! — вежливо приветствовал их директор, поднимаясь им навстречу.
— Запоздали, извините! — оживлённо заговорил член городского управления в очках с золотой оправой. — Слыхали историю с Такаянаги… Сразу же изменилась вся обстановка выборов.
В тот день в школу прибыли из Нагано двадцать слушателей учительской семинарии, чтобы ознакомиться с учебной работой. Усимацу вошёл в свой класс.
Только что кончился урок морали[42] и начался второй урок, арифметики: ученики сосредоточенно решали задачи. Когда, открыв дверь, в класс вошли практиканты, ученики на минуту отвлеклись от задачек, но скоро снова уткнулись в тетради. Слышался только скрип грифеля по доске. Усимацу расхаживал между партами и с грустной думой о скорой разлуке следил за учениками. Время от времени он бросал взгляд на практикантов: в форменных костюмах они выстроились вдоль стены и свысока наблюдали за ходом занятия. Перед мысленным взором Усимацу замелькали счастливые дни его учения в семинарии. Вспомнилось, как в то время он сам, вместе с однокурсниками, под руководством преподавателей, ходил по школам, как они повсюду мучили учителей своей придирчивой, хотя и беззлобной критикой. И Усимацу когда-то тоже носил такую же форму, как эти практиканты.
— Решили? Кто решил, поднимите, пожалуйста, руку.
В ответ на вопрос Усимацу все дружно подняли руки — от старосты класса в последнем ряду до ученика, считавшегося почти безнадёжным. Даже Сёго, не слишком способный к арифметике, и тот храбро поднял руку.
— Кадзама-сан! — вызвал его Усимацу.
Сёго сейчас же встал с места и подошёл к доске. Лучи зимнего солнца, проникая в окно, как-то грустно освещали так хорошо знакомый Усимацу класс. Всё, что обычно не вызывало в нём никаких чувств, от высокого потолка до белых стен, представилось теперь ему в новом свете. Он смотрел сзади на Сёго, который, стоя у доски, старательно выводил цифры. Что за цветущий милый подросток! В хаори, с подобранными к плечам узкими рукавами,[43] слегка наклонив голову набок и приподняв левое плечо, он каждый раз старался писать цифру повыше и, напрягаясь всем телом, тянулся рукой к самому верху доски. Сёго был прилежный ученик, и в рисовании, в чистописании, в сочинениях он шёл хорошо, но по природоведению и арифметике он всегда отставал и занимал то пятнадцатое, то шестнадцатое место. Удивительно, в этот день он справился с задачей прекрасно.
— У кого такой же самый ответ, поднимите, пожалуйста, руки!
Ученики последнего ряда все до одного подняли руки. Сёго, слегка покраснев, вернулся на своё место. Практиканты обменялись добродушными улыбками.
Вызывая к доске, задавая вопросы и объясняя, Усимацу провёл урок арифметики. В этот день ученики вели себя удивительно чинно: с самого первого урока, когда и практикантов ещё не было, никто не шалил. Начиная с учеников, которые, как правило, всегда любили подремать, и кончая «техниками», которые обычно потихоньку устраивали под столом беспроволочный телефон, все вели себя вполне пристойно. Усимацу смотрел на учеников, и мысль о том, что сегодня он находится здесь в последний раз, не оставляла его ни на минуту. И поэтому он вёл урок с особым подъёмом.
— Разумеется, Итимура-сан пройдёт на выборах! — самоуверенно говорил в приёмной седой член городского управления. — Общественное мнение — это страшная вещь! Теперь, когда с Такаянаги дело приняло такой оборот, никто его и знать не захочет. Даже те, кого он сумел кое-как обработать, — и те сейчас будут на стороне Итимуры.
— И всё благодаря смерти этого Иноко… Итимура-сан должен быть ему благодарен, — с ударением произнёс член городского управления в очках с золотой оправой.
— Выходит, и с «синхэйминами» шутки плохи, — засмеялся уездный инспектор, выпятив грудь.
— Конечно, — подхватил седой член управления. — Решиться на такой поступок не так-то просто. Но такой человек, как Иноко, личность особая.
— Совершенно верно… Тот не то, что этот, — сказал член управления с оспинами на лице, по-видимому, из купцов, и все усмехнулись. По одному его выражению: «тот не то, что этот», — все прекрасно поняли, что он имел в виду.
— Сейчас посоветуемся относительно «этого», о котором вы сейчас упомянули, — сказал член управления в очках с золотой оправой, покуривая папиросу. — Мы хотим просить господина инспектора, пока в городе не поднялось слишком много разговоров, помочь нам перевести его куда-нибудь или предложить оставить службу. Мы просили бы вас это обдумать.
— Да… — Инспектор приложил руку ко лбу.
— Право, жалко Сэгаву-сэнсэя, но другого выхода нет, — вздохнул седой член управления.
— Как вы знаете, при наших нравах таких вещей не терпят. Представьте себе, что до отцов и братьев учеников дойдёт такой слух об учителе, — они тут же заявят, что забирают своих детей из школы. Это ясно. Уже теперь кое-кто из членов городского управления выражает недовольство. Мне уже пришлось слышать, что члены управления, ведающие народным образованием, не соответствуют своему назначению.
— Мы первые почувствовали себя неважно, когда услышали об этом, — вставил рябой член управления.
— Да, для школы это в высшей степени досадная история, — снова заговорил директор. — Вы, наверно, слыхали, что Сэгава-кун прекрасно работал… я всецело полагался на него, он был моей правой рукой. У него есть педагогические способности, человек он добросовестный, к тому же ученики относятся к нему прекрасно… Среди учительской молодёжи не много найдётся таких, как он. Лишиться такого человека из-за того, что у него низкое происхождение… нет, это не годится… Я просил бы вас, господа, помочь нам и, если возможно, оставить его в школе.
— Да, — перебил директора член управления в очках с золотой оправой. — Вы правы. Теперь, когда мы знаем мнение господина директора, нам должно быть стыдно за то, что мы пришли сюда для такого разговора. В самом деле, с точки зрения науки нет сословных различий. Так-то оно так, но надо же считаться со здешними предрассудками. Ещё редки люди с такими прекрасными взглядами…
— Да, мы ещё до этого не доросли, — заметил рябой член управления.
— Если бы ещё он был таким, как Иноко, ему бы простили, — вставил седой член управления. — Вот доказательство: тому и в гостинице давали останавливаться, для выступления предоставляли помещение храма, а когда он выступал, люди шли слушать его. Его преимущество в том, что он не скрывал. Он с самого начала заявил, кто он, и — как ни странно — ему все стали сочувствовать. А вот если скрывать, как это делает Сэгава-сэнсэй или жена Такаянаги-куна, тогда возникают неизбежные толки да пересуды.
— Именно… — согласился инспектор.
— А что, если попросить перевести его в другую школу? — спросил член управления в очках с золотой оправой, обводя взглядом присутствующих.
— Перевести? — многозначительно повторил инспектор. — Перевести при таких обстоятельствах не так-то легко. Раз об этом станет известно, ни одна школа не согласится… Придётся его уволить.
— Ну что ж, действуйте так, как вы сочтёте нужным, — сказал седой член управления, потирая руки. — Уже нашлись члены городского управления, которые вопят: «Безобразие! Сейчас же вон его…» — так что, пожалуйста, уладьте уж как-нибудь это дело.
«Как бы там ни было, после того, как доведу до конца занятия», — думал Усимацу и, с трудом подавляя бушевавшее в его груди волнение, вёл третий урок — чистописание. Как дрожала у него рука, когда, подойдя сзади к ученикам и водя их рукой, он показывал, как писать иероглифы. Сидевшие рядом ученики вытягивали шеи и, видя это, смеялись, широко открывая перепачканные тушью рты.
Когда звонок служителя возвестил окончание третьего урока, инспектор и члены управления уже ушли. Практиканты из семинарии ещё оставались, они хотели присутствовать на послеполуденных занятиях. Поручив другому учителю следить за учениками, Усимацу остался в учительской, чтобы привести в порядок свои дела. Что надо было сдать — сдал, что надо было выяснить — выяснил. Чем больше он думал о том, чтобы избежать нападок на себя, тем больше росло его смятение.
В углу учительской собрались свободные от уроков учителя; стоило только нескольким людям сойтись вместе, как тут же начинались разговоры о происшествии у ворот Хофукудзи. Высказывались различные предположения о мотивах, по которым Рэнтаро выступил па митинге с риском для собственной жизни. Одни говорили, что причиной было его чрезмерное честолюбие, другие, что это результат его трудной жизни, третьи — что это следствие его ненормальности. В общем, десять человек на десять ладов порицали и осуждали Рэнтаро. Если даже кому-нибудь случалось обронить сочувственное слово но поводу Рэнтаро, то это касалось исключительно его болезни. Не прислушиваясь, Усимацу всё же слышал эти разговоры и думал: не бывает на свете так, чтобы тебя правильно поняли!
И с глубокой горечью вспоминал слова учителя: «Умри молча, мужественно, как волк».
После большой перемены должны были состояться уроки географии и родного языка. На пятом уроке Усимацу вошёл в класс, неся с собой, кроме учебников по языку, недавно полученные им от учеников исправленные упражнения по чистописанию и тетради с сочинениями. Рисунки тоже. При виде тетрадок всегда любопытные ученики широко раскрыли глаза, а один даже воскликнул: «О, сочинения уже проверены!» Усимацу положил всё на стол и, как обычно, приступил к объяснению урока, но, объяснив только половину материала, закрыл книгу и сказал, что сегодня он на этом закончит, так как хочет им кое-что рассказать. Он обвёл взглядом учеников. «Будете рассказывать?» — сейчас же подхватили более шустрые ученики, уже готовые слушать.
— Расскажите, расскажите! — прокатились из угла в угол класса требовательные голоса.
Глаза у Усимацу заблестели. Ему трудно было удержать невольно выступившие слёзы. Он стал раздавать ученикам тетрадки по чистописанию, рисунки, сочинения. Некоторые были отмечены красными кружочками, на других стояли оценки «отлично», «хорошо», были и непросмотренные. Усимацу начал с извинения, сказал, что намеревался просмотреть все, но теперь у него уже нет на это времени, что они занимаются с ним сегодня в последний раз и что он здесь затем, чтобы с ними проститься.
— Вы, вероятно, знаете, — сказал Усимацу очень простым, понятным для детей языком, — что людей, которые живут в нашей горной местности, в общем, можно разделить на пять групп: старинное дворянство, городское купечество, крестьяне, духовенство и, кроме того, есть ещё «этa». Вы знаете, что «этa» и теперь живут обособленными селениями на городских окраинах, они плетут сандалии, которые вы все носите, изготовляют кожаную обувь, барабаны, сямисэны, некоторые из них занимаются земледельческим трудом. Вы знаете, что «этa» непременно раз в год со связкой риса приходит справляться о здоровье к вашим отцам и вашим дедушкам. И вы видели, что, когда «этa» приходят к вам в дом, они кланяются в прихожей, прикладывая руки к земляному полу, а чай и еду им дают в особых чашках, и они никогда не переступают порог дома.
С другой стороны, и вы также, если вам случится по делу зайти в посёлок «этa», по древнему обычаю, не возьмёте у них и спички, чтобы закурить; если даже у них есть чай, вам ни в коем случае его не предложат. Вот каким презренным сословием считаются «этa». Если бы такой «этa» пришёл к вам в класс и стал преподавать вам родной язык или географию, что бы вы тогда подумали? Что подумали бы ваши отцы и матери?.. А я один из этих презренных «этa».
Руки и ноги у Усимацу задрожали. Словно боясь упасть, он прислонился к столу. Ученики не то от удивления, не то просто заинтересованные, разинув рты, уставились на него.
— Вам уже пятнадцать — шестнадцать лет; это не такой возраст, когда совсем не знают жизни. Пожалуйста, запомните получше мои слова, — с грустной мыслью о скорой разлуке продолжал Усимацу: — В будущем, когда лет через пять — десять вам вдруг придут на память школьные годы… вспомните, что в четвёртом классе старшего отделения вас учил учитель Сэгава… что, до тех пор, пока этот учитель не открыл своего происхождения, он в день Нового года пил праздничную наливку так же, как и вы; в день рождения императора пел гимн так же, как и вы. И всегда желал вам счастья и жизненных успехов. Теперь, когда я сделал такое признание, вам, наверно, покажется, что моё присутствие оскверняет вас. Но, знайте, хоть я и низкого происхождения, всё же я учил вас каждый день, стараясь, чтобы у вас были хорошие взгляды и помыслы. Хотя бы ради этих моих стараний простите мне то, что было до сих пор.
С этими словами Усимацу приложил руки к столу, за которым сидели ученики, и склонил голову, прося прощения.
— Когда вы придёте домой, расскажите обо мне вашим отцам и матерям… Я очень виноват, что до сих пор скрывал. Расскажите, как я повинился перед вами и признался… да, я — «этa», я — тёри, я — нечистый.
Вероятно, думая, что он ещё недостаточно повинился, Усимацу отступил немного назад и с возгласом «Простите!» — опустился на колени. Поражённый, один ученик в заднем ряду вскочил со своего места. За ним вскочил другой; вытягивая шеи, они смотрели на Усимацу, а за ними поднялся весь класс. Одни влезали на скамьи, некоторые с криком выбежали в коридор.
В этот момент раздался звонок. Во всех классах распахнулись двери. И ученики других классов и учителя толпой хлынули в класс Усимацу.
С декабря Гинноскэ был в школе уже на положении гостя. В тот день он по личным делам зашёл в школу в половине второго и, находясь в учительской, вдруг услышал, что только что произошло в классе Усимацу. Не помня себя от волнения, Гинноскэ выбежал из учительской. В вестибюле, в длинном коридоре — повсюду ученицы в лиловых платках на плечах обсуждали происшедшее. В гимнастическом зале тоже толпились ученики, и все были поглощены разговором об Усимацу. Пробираясь сквозь толпу учеников, Гинноскэ направился к классу Усимацу. В коридоре, возле входа, окружив Усимацу, с оторопелым видом стояли директор, несколько учителей, среди них Бумпэй, а вокруг толпились ученики старшего отделения и даже практиканты из учительской семинарии. Усимацу в полуобморочном состоянии стоял на коленях, касаясь головой пыльного пола. При виде этого тягостного зрелища глубокая жалость охватила Гинноскэ. Он подошёл к Усимацу, помог ему подняться, стряхнул с платья пыль. Усимацу в полузабытьи твердил: «Цутия-кун, прости!» Слёзы градом катились по его лицу.
— Понимаю, понимаю! Я прекрасно тебя понимаю, — сказал Гинноскэ. — Ты и заявление принёс. Предоставь всё мне и иди сейчас же домой… Ступай, ступай!
Ученики Усимацу не расходились. Они собрались в классе и стали совещаться, как помочь любимому учителю. Это было собрание неопытных, совершенно не понимающих сложности жизни детей, но, как и следовало ожидать, они своей чистой детской душой остро чувствовали мучительное состояние Усимацу и теперь ломали голову, каким способом удержать его.
— Нельзя молча смотреть! Пойдём все вместе и будем просить директора! — предложил шестнадцатилетний староста класса. Раздались возгласы одобрения.
— Да, пойдём! — поддержал его другой ученик, видимо, сын крестьянина.
Решение было принято. Оставив дежурного для обычной уборки, мальчики вышли из класса. Среди них был и Сёго. Директор сидел у себя в кабинете, беседуя с Бумпэем. Когда к нему явились в полном составе ученики старшего, четвёртого, класса, он сразу догадался, что они хотят ему сказать.
— Вам что-нибудь нужно? — спросил, однако, директор как ни в чём не бывало.
Староста класса приблизился к директорскому столу. Директор и Бумпэй смотрели на него пристальным взглядом. По сравнению с Сёго это был очень развитой мальчик, он говорил ясно и чётко.
— Мы пришли к вам с просьбой, — начал он и рассказал о чувствах всего класса. — Пожалуйста, оставьте нам этого учителя. Пусть он «этa» — всё равно. Ведь теперь среди учеников есть «синхэймины». Почему же нельзя, чтоб и учитель был «синхэймин»? Об этом горячо просят вас все ученики. Пожалуйста! — сказал он и склонил голову.
— Господин директор, мы все просим! — в один голос сказали все ученики и тоже склонили головы.
Директор встал. Обведя всех взглядом, он сказал:
— Я прекрасно понимаю то, что вы говорите. Если вы так горячо хотите, чтобы он остался, постараюсь сделать всё, что возможно. Однако для всего есть определённый порядок. Когда хотят обратиться с просьбой, то полагается поступать по правилам: послать представителя или подать прошение. А вваливаться гурьбой, как вы, и кричать: «Оставьте его!» — это просто безобразное поведение.
Староста класса хотел было что-то сказать в своё оправдание, но не решился и только глядел на директора полными слёз глазами.
— Послушайте! — Директор взял со стола бумагу и, развернув её, показал им. — Сэгава-сэнсэй подал заявление об уходе. Это заявление нужно представить инспектору» нужно также показать члену городского управления по отделу образования. Как бы я ни хотел спасти Сэгаву-сэнсэя, но, если я буду стараться один, а члены управления не захотят со мною считаться, ничего не получится, не так ли? — Немного мягче он продолжал: — Я один не могу ничего добиться, подумайте об этом хорошенько. Потерять такого хорошего преподавателя не только вам, но и мне очень жаль. Я прекрасно понимаю то, что вы сказали. Во всяком случае, сегодня идите по домам и не забывайте о занятиях. Вам лучше в такие дела не вмешиваться. Разумеется, школа не сделает ничего плохого, а для вас самое главное — учиться.
Бумпэй слушал, скрестив на груди руки. Глядя вслед растерянно выходившим ученикам, он холодно усмехнулся. Директор закрыл дверь.
Глава XXII
— Разрешите узнать, не приходил ли сюда Сэгава-кун?
С этими словами на квартиру к Кэйносину зашёл Гинноскэ. По-дружески заботливый Гинноскэ, обеспокоенный всем случившимся, отправился разыскивать Усимацу.
Осио выбежала к нему.
— Сэгава-сан? Он только что ушёл.
— Только что? — Гинноскэ взглянул на Осио. — А куда он пошёл, вы не знаете?
— Хорошенько не знаю… — Осио запнулась. — Я слышала, что из Токио приехала супруга Иноко-сана. Вероятно, туда… Должно быть, он пошёл в гостиницу к Итимуре-сану. Сэгава-сан что-то такое говорил.
— К Итимуре-сану? Ну, это хорошо! — Гинноскэ перевёл дух. — А я ужасно беспокоился, зашёл узнать в Рэнгэдзи, а там сказали, что Сэгава-кун ещё не вернулся из Школы. Пошёл в гостиницу к Итимуре-сану, оказалось, и там его нет. Ну, думаю, не у вас ли он, случаем, и вот пришёл. — Гинноскэ задумался. — Значит, он был у вас…
— По-видимому, вы разминулись, — Осио слегка покраснела. — Не зайдёте ли? Хоть у нас так убого…
Гинноскэ вошёл за Осио в комнату и подсел к очагу.
На покрасневших припухших щеках Осио всё ещё были видны следы слёз. По одному выражению её лица Гинноскэ понял, о чём говорил Усимацу, прощаясь с ней. Судя по тому, как он вёл себя в школе, как каялся на коленях… наверняка его друг затеял что-то отчаянное. Что творится у него в душе? Несчастный! Гинноскэ хотелось хоть чем-нибудь помочь Усимацу, об этом он и собирался поговорить с Осио. Но сперва он стал расспрашивать девушку о ней самой. Оказавшись в таком бедственном и печальном положении, Осио сразу же почувствовала, что Гинноскэ можно довериться. К тому же она хорошо знала, что он и Усимацу — задушевные друзья. Она с тёплым чувством думала, что вот он-то поймёт, каково ей теперь, и с участием её выслушает. Когда же Гинноскэ спросил, почему она вернулась к отцу, сердце её дрогнуло. Всё, что произошло, пока она не решилась бежать из храма… она не могла об этом вспомнить без слёз… Осио даже не знала, с чего начать. Чувствительная, как все девушки, смущённая всей убогостью обстановки, этими закопчёнными стенами, она рассказала, то подкладывая хворост в огонь, то поправляя кимоно. По словам Осио, она решилась уйти из храма после того, как выплакала все свои слёзы. Ведь отец ей твёрдо сказал: «Пусть даже настоятель и не ведёт себя, как положено отцу, но ты всегда должна помнить, что тебя в храме воспитали. Раз ты стала дочерью Рэнгэдзи, ты ни в коем случае не должна возвращаться домой, как бы трудно тебе ни приходилось». Поэтому Осио, покинув храм, долго блуждала впотьмах, не зная, куда ей идти. Бредя вот так, словно в страшном сне, она вдруг наткнулась на человека, распростёршегося на снегу. Присмотрелась и увидела, что этот пьяный — её отец. Она испугалась, не замёрз ли он? Остановила как раз проходившего мимо Отосаку, и они вместе кое-как дотащили его домой. Натолкнись Осио на него немного позже, отец бы замёрз. С тех пор он слёг. По словам врача, состояние отца тяжёлое. Надежды на выздоровление почти нет.
Этого мало. Несчастья поджидали девушку и под этой кровлей: ни мачехи, ни сводных братьев и сестёр она здесь не застала. Оказалось, что накануне произошла жестокая супружеская ссора, мачеха корила Осио, ругала отца за пьянство и со слезами кричала, что дальше так жить нельзя. Взяв с собой трёх младших детей, она в отсутствие отца ушла, по-видимому, к своим родным в Симо-Такаи. Она увела из родных детей Сусуму, Осаку и Томэкити, а дома оставила Осуэ. Раз она оставила сравнительно тихую Осуэ, а взяла с собой беспокойную Осаку, значит, она всё же думала о том, что будет после её ухода. Соседка рассказала, что мачеха ушла с младшим ребёнком за спиной, ведя за руку Осаку. Сусуму вёл какой-то незнакомый мужчина, всё время оглядываясь назад.
Помогает им в беде один Отосаку: каждый день приходит с женой, приносит им всё необходимое, ухаживает за старым хозяином. Осуэ он даже взял на своё попечение и увёл к себе домой. Так из рассказа Осио возникла картина жизни семьи Кэйносина, распавшейся из-за нищеты.
— Выходит, теперь вас трое: отец, вы и Сёго-сан? — сочувственно заметил Гинноскэ.
— Да. — Осио со слезами на глазах поправила упавшую на висок прядь волос.
Они заговорили об Усимацу. Чувствуя, как сердечно относится Гинноскэ к товарищу, Осио не стала от него таиться. Она рассказала, как испугал её вид Усимацу. Бледный, а в глазах столько горя, что он даже не в силах был высказать всё, что его переполняет. Волнение душило его, и слова прощания были отрывисты. Низко склонившись перед ней, он мужественно признался в своём происхождении и сказал, что если она будет так добра и не забудет его, то пусть думает о нём, как о преступнике перед обществом.
— У него был такой вид, что сердце сжималось от жалости, — добавила Осио. — Но только я решилась его расспросить обо всём, как Сэгава-сан надел шляпу и ушёл… а я так потом плакала…
— Вот как, — вздохнул Гинноскэ. — Да, я себе так всё и представлял. Как вы были поражены, когда услышали о происхождении Сэгавы-сана, нетрудно догадаться.
— Нет! — твёрдо сказала Осио.
— О! — Гинноскэ раскрыл глаза от удивления.
— Я уже знала… Кацуно-сан где-то об этом уже слышал и рассказал мне.
Её слова поразили Гинноскэ. Чего ради Бумпэй сообщил об этом Осио?
— Ну и болтун этот человек! Прямо сладу с ним нет, — проворчал он про себя. Потом, как будто что-то вспомнив, спросил: — А что, разве Кацуно-кун часто бывал у вас в Рэнгэдзи?
— Да, матушка в Рэнгэдзи любит поговорить. Она уверяет, что с мужчинами разговаривать как-то проще, поэтому Кацуно-кун и бывал часто у нас.
— И он вам рассказывал такие вещи? — попробовал выяснить Гинноскэ.
— О, он удивительные вещи рассказывал, — замялась Осио.
— Удивительные вещи?
— Что у него такие-то и такие-то родственники, что он скоро сделает карьеру…
— Карьеру сделает? — Гинноскэ насмешливо улыбнулся. — Вот что…
— А потом ещё… — начала задумчиво Осио, — о Сэгаве-сане. Он отзывался о нём ужасно нехорошо. Вот тогда я и узнала об этом.
— А, вот как, вот каким образом вы это услышали. — Гинноскэ пристально посмотрел на Осио. Потом совсем другим тоном сказал: — Глупости болтает этот человек.
— Я тоже так думала. Уж слишком ужасные вещи он говорил. Ведь это же не просто злословие! Поэтому-то мне и было так горько, так горько…
— Значит, вы тоже жалеете Сэгаву-куна?
— А как же иначе?.. Пусть он и «синхэймин» или ещё что, но разве серьёзный человек не лучше человека, который только болтает языком? — невольно вырвалось у Осио, но она тут же, как обычно, потупилась и, опустив глаза, стала смотреть на свои нежные девичьи руки.
Гинноскэ вздохнул.
— Почему всё на свете бывает не так, как мы хотим! Когда я думаю о Сэгаве-куне, мне, право, хочется плакать. В самом деле! Ведь только из-за того, что он не такого, как мы с вами, происхождения, он должен отказаться от своей профессии, лишиться заслуженной репутации… Ну разве это не верх жестокости?
— Но ведь Сэгава-сан мог не знать, какого происхождения его отец и мать, — сказала Осио с заблестевшими от слёз глазами.
— Да, конечно… он этого не знал. Когда я слушаю вас, у меня появляется какая-то уверенность. Я думал, что… Что, когда вы узнаете о его происхождении, вы вряд ли будете к нему относиться, как к прежнему Сэгаве-куну.
— Почему?
— Да ведь обычно так бывает.
— У других, может быть, а у меня не так.
— Правда? Вы, действительно, так думаете?
— Но что же теперь делать? Мне хочется серьёзно с вами посоветоваться.
— Поэтому я и спрашиваю вас об этом.
— О чём «об этом»? — переспросила Осио и посмотрела на него так, как будто проникла в его мысли. Она вся зарделась.
Из задней комнаты послышался глухой кашель.
Осио насторожилась и озабоченно прислушалась, потом, извинившись, вышла.
Гинноскэ остался один и, глядя на пламя очага, задумался об Осио, которая, несмотря на юность, даже в таких тяжёлых обстоятельствах не сгибалась и не падала духом. Женщины севера Синано, закалённые работой в суровом климате, все отличаются твёрдым, деятельным характером. Их умение переносить страдания можно назвать врождённым. Такой была и Осио. При всей её неясности в этой девушке была какая-то удивительная стойкость. Размышляя об этом, Гинноскэ то и дело возвращался к мысли о Кацуно. Вскоре Осио снова вышла к нему.
— Ну, как отец? — с глубоким сочувствием спросил Гинноскэ.
— Особых перемен нет, — поникнув, ответила Осио, — сегодня он ничего не хочет есть, съел только немножко каши… с утра всё спит. Почему он так много спит?
— Да… это должно тревожить!
— Он вряд ли долго протянет! — вздохнула Осио. — Сэгава-сан делал для него так много хорошего. Но доктор говорит, что мало надежды.
Сказав это, она по привычке поправила прядь волос на висках.
При мысли о судьбе Осио Гинноскэ стало грустно.
— Как по-разному складывается жизнь людей! — сказал он. — Есть люди, которые вырастают в родной семье и живут весь век, не зная горестей. А есть такие, которым, как вам, с детских лет приходится трудно, которых всё время треплют жизненные бури, но которые при этом закаляют свой характер. Вот и вы как будто родились, чтобы страдать и бороться, и родились при этом женщиной! Такие люди такими и останутся; я думаю, что если у них есть не ведомые другим печальные дни, зато есть и не ведомые другим радостные дни.
— Радостные дни? — повторила Осио, грустно улыбаясь. — Не знаю, будут ли у меня они.
— Конечно, будут, — уверенно сказал Гинноскэ.
— О, если вспомнить, какой была до сих пор моя жизнь, не похоже, что такие дни настанут. Подумайте… ведь если бы я не жила в Рэнгэдзи, моей тамошней матушке и в голову не пришли бы мысли о разводе.
И до того, как уйти, оставить её, если бы вы знали, как я…
— Я всё понимаю. Понимаю и сочувствую.
— Я теперь всё равно что мёртвая. И только потому, что знаю, как ко мне относятся другие, я и нахожу в этом силу… и вот живу…
— И Сэгава-кун страдает, и вы страдаете. Наверно, оттого, что вам самой пришлось так тяжело, вы плачете и о Сэгаве-куне. И вот… мне хотелось бы, чтобы вы ему помогли. Вот о чём я хотел с вами поговорить…
— Вы говорите — помогла б? — У Осио вдруг загорелись глаза. — Если это в моих силах, я сделаю всё что угодно.
— Разумеется, это в ваших силах.
— В моих силах? Некоторое время оба молчали.
— Расскажу вам всё как есть, — горячо заговорил Гинноскэ. — Это было в ночь одного из наших дежурств в школе. Я пытался выведать, что у Сэгавы-куна на душе. Я ему сказал тогда: «Что, если бы ты не переживал всё один, а поделился бы с другом? Может быть, ты думаешь, что такой сухой человек, как я, не поймёт тебя? Нет, я не такой чёрствый человек. По-моему, ты слишком мудришь. Раз у тебя есть друг, разве он не поможет тебе?» Так я сказал. И вот Сэгава-кун в первый раз заговорил о вас… «Да, ты правильно догадался. Это действительно так. Но считай, что она умерла», — вот что он сказал. Сэгава-кун думал о своём происхождении и решил, что это несбыточная мечта, что теперь ему нельзя никого любить. Может быть любовь печальнее этой? Оттого-то Сэгава-кун и пришёл к вам и признался в своём происхождении, которое до сих пор скрывал. Вот в этом всё дело… если вы поняли, что у него на душе, можете вы ему помочь?
— Я и не знаю что сказать. — Осио покраснела до ушей. — Я хочу это сделать.
— Всей своей жизнью? — спросил Гинноскэ, пристально глядя на девушку.
— Да, — выдохнула Осио.
Гинноскэ был поражён её ответом. И любовь, и печаль, и решимость — всё было в этом «да».
— Как бы там ни было, передам Усимацу этот разговор и попытаюсь его спасти. Пойду в гостиницу к адвокату Итимуре, посмотрю, что там делается, и потом вернусь к вам рассказать. — Условившись об этом с Осио, Гинноскэ собрался было уже уходить, но она остановила его.
— У меня к вам просьба. Если у вас есть «Исповедь», не могли ли бы вы мне дать? Хотя я вряд ли смогу понять её…
— «Исповедь»?
— Да, сочинение Иноко-сана.
— А, вот что! Так и вы слыхали об этой книге?
— Ведь Сэгава-сан постоянно читал её.
— Хорошо. Вероятно, у Сэгавы-сана она есть, я узнаю… А если нет, я где-нибудь раздобуду и непременно вам доставлю.
Гинноскэ быстро направился в гостиницу к адвокату.
В гостинице вокруг тела Рэнтаро собралось множество народу. Благодаря заботам участливого хозяина, перед тем, как отвезти тело для сожжения, состоялась заупокойная служба. Службу совершал старый бонза из храма Хофукудзи. Из Токио прибыла жена, теперь вдова Рэнтаро, присутствовали и адвокат и Усимацу. Вероятно, оттого, что смерть человека в пути вызывала особую жалость, один за другим приходили на панихиду и обитатели гостиницы. Даже путники, не имевшие никакого отношения к Рэнтаро, все, кто только услышал о его внезапной смерти, собрались в коридоре и прислушивались к печальным звукам деревянного гонга.
Когда кончилось возжигание курений и бонза сделал перерыв в чтении сутр, Усимацу познакомил Гинноскэ с вдовой, и они обменялись несколькими словами. Явился корреспондент газеты из Нагано и теперь записывал всё, что удавалось узнать, в блокнот. Подойдя к вдове Рэнтаро, он обратился к ней профессиональным тоном:
— Вы супруга покойного?
— Да, — ответила вдова.
— Поистине прискорбное событие. Мне давно уже знакомо имя Иноко-сэнсэя, и я относился к нему с глубоким уважением.
— Да…
Эти слова послужили прологом к воспоминаниям. Все присутствующие, затаив дыхание, слушали. Вдова вспоминала, как она вместе с мужем приехала в Синано; какой удивительный сон она видела в ночь перед расставанием с ним; как она забеспокоилась о муже; как она ему сказала об этом, а он сурово выбранил её.
— Когда теперь всё это сопоставляешь, похоже, что уже тогда покойный понимал, на что идёт… «В Синано прекрасная осень, эта поездка будет интересной, я непременно привезу тебе подарок, приезжай домой и жди», — эти слова оказались его последними, прощальными словами. И вот теперь такое неожиданное несчастье… сколько хлопот оно причинило всем! — горько сетовала вдова. В этих её словах она выразила своё большое женское горе, и они нашли глубокое сочувствие у присутствующих.
Адвокат отозвал Гинноскэ в сторону. Разговор касался Усимацу. Итимура считал, что Усимацу тяжело сейчас оставаться в Иияме. С другой стороны, вдове желательна была бы на обратном пути мужская помощь, ведь она хочет везти в Токио прах Рэнтаро, поэтому не мог ли бы Усимацу поехать с ней? Если бы только не выборы, адвокат, разумеется, сопровождал бы её сам, но вдова упорно возражает, говорит: «Приложите все старания, чтобы победить на выборах, этим вы утешите дух мужа». Её желание понятно. Поэтому помощь Усимацу была бы весьма желательна… Все расходы она берёт на себя… непременно. Вот как обстоит дело.
— Я уже говорил об этом с Сэгавой-саном, — сказал адвокат, глядя на Гинноскэ, — вот со школой как?
— Со школой? — повторил Гинноскэ. — Откровенно говоря, там хотят его уволить. Это уже предрешено, так что там, конечно, не будет препятствий. По словам директора, и уездный инспектор тоже так настроен. Со школой я как-нибудь улажу. Думаю, что для Сэгавы-куна, действительно, самое лучшее — как можно скорее уехать из Ииямы.
Пока они разговаривали, внесли гроб. Снова началось чтение сутр. Все стали подходить к гробу, чтобы проститься с покойным. Когда настало время везти гроб к месту кремации, было уже темно. При виде того, как выносят гроб и ставят его на сани, вдова так зарыдала, что чуть не лишилась чувств.
Дождавшись момента, когда гроб охватило пламя, все сопровождавшие его вернулись в гостиницу. Усимацу, адвокат и Гинноскэ беседовали, расположившись в задней комнате вокруг хибати. Дотоле безжалостная судьба теперь как будто чуть-чуть улыбнулась Усимацу. Оказалось, что изгнанный из больницы, изгнанный из пансиона Охината — позор этого изгнания и послужил для него толчком к крайнему решению — намерен теперь заняться земледелием в Америке, в Техасе, и вот Итимура, рассказав о его планах Усимацу, неожиданно вдохнул в него надежду. Охината давно уже просил адвоката найти ему помощника — надёжного образованного молодого человека; Усимацу сам такого же происхождения, так что, узнав о нём, Охината, наверное, обрадуется. Адвокат готов его порекомендовать. Как он смотрит на то, чтобы поехать в Техас? При желании он там сможет заниматься наукой. Гинноскэ горячо одобрил это предложение.
— Вот видишь, — сказал он своему другу, — один бог бросает, а другой помогает.
— Мы условились, что послезавтра утром Охината ко мне зайдёт. Вышло очень удачно. Во всяком случае, вы с ним переговорите.
Предложение адвоката влило мужество в обессиленное сердце Усимацу, вызвало в нём желание снова взяться за работу.
Но это не всё. Усимацу узнал от Гинноскэ об Осио… Как глубоко взволновали Усимацу её слёзы, её решимость! Болезнь отца, уход мачехи и другие беды, свалившиеся на голову Осио, — всё это заставляло его ещё больше дорожить её чувством. Он в отчаянии, в полной безысходности, открывает ей тайну своего происхождения, прощается, а она тайком льёт из-за этого горькие слёзы. Значит, есть человек, который, выслушав хотя и позорную, но чистосердечную исповедь души, отдаёт ему, презренному «этa», свою жизнь.
— Вот видишь, какая это крепкая девушка, — добавил Гинноскэ.
На следующий день Гинноскэ взялся улаживать дела друга. Он сходил в школу и в Рэнгэдзи, побывал и у Осио. Собрал все вещи Усимацу в Рэнгэдзи, отобрал из них самое нужное, оставил на хранение в храме лишнее, — словом, действовал очень продуманно. Кроме того, Гинноскэ рассказал об Осио и вдове Рэнтаро и адвокату. Женщина всегда сочувствует женщине. А печальная судьба Осио особенно тронула сердце вдовы. Дальше больше — она заявила, что хотела бы взять её с собой в Токио — жить вместе, а когда судьба Усимацу определится, выдать её за него замуж — вроде как свою младшую сестру. Им поможет адвокат. Оставив всё на попечение Гинноскэ и адвоката, Усимацу решил как можно скорее уехать из Ииямы.
Глава XXIII
Наступил день отъезда. С самого рассвета шёл мокрый снег, навевавший печаль на готовившихся к отъезду обитателей гостиницы.
Рано утром перед гостиницей остановились сани. Из саней вышел господин в дорогом драповом пальто и велел возчику саней доложить о себе адвокату, Адвокат вышел ему навстречу со словами: «А, Охината!» Охината явился точно, как было условлено, для чего ещё до рассвета выехал из Симо-Такаи. Несмотря на приглашение «войдите», он всё же не вошёл, а остался в прихожей и здесь же советовался с адвокатом по юридическому вопросу. Окончив дела, Охината высказал соболезнование по случаю смерти Рэнтаро и поспешно собрался уходить. Но адвокат задержал его и рассказал ему про Усимацу.
— Прошу вас, войдите… здесь и вдова Иноко-куна, и Сэгава-кун, о котором я вам сейчас говорил. Вам нужно непременно познакомиться с ним. Ведь тут разговаривать неудобно, — убеждал его адвокат. Но Охината только горько улыбался. Как его ни уговаривали, он ни за что не хотел войти. Он в скором времени будет в Токио и навестит жену Иноко-куна там. Тогда он увидится и с Усимацу. Раз уж дело касается человека такого склада, это устраивает обоих. Подробности же по приезде в Токио. Он был непоколебим.
— Вы сегодня так торопитесь?
— Я вовсе не тороплюсь, но…
При этих словах адвокат заметил на лице у Охинаты выражение затаённого страдания.
— Тогда сделайте так, — сказал он, подумав. — У Верхней переправы есть ресторанчик. Мы все условились встретиться там сегодня утром, чтобы проводить уезжающих. Должно быть, там будет и близкий друг Усимацу. Может быть, тогда Охината пойдёт вперёд и подождёт их там? Очень хочется всё же познакомить его с Усимацу. — Так снова и снова убеждал его Итимура.
— Ну, хорошо, я буду ждать вас там, — согласился наконец Охината и, так и не войдя в комнаты, ушёл.
— Охината, по-видимому, кое-что вспомнил, — сказал про себя адвокат и, вернувшись в комнату, где вдова и Усимацу занимались сборами в дорогу, смеясь рассказал им о своём госте.
Пришёл и Сё-дурак из Рэнгэдзи. Он сказал, что его послала оку сама передать прощальные подарки. Отдельно он вручил Усимацу пару соломенных сандалий и покрышки на носки для защиты от снега — свою собственную работу. «Примите от меня маленький подарок», — сказал он. Усимацу вспомнил дни, прожитые в Рэнгэдзи, и ему стало как-то грустно расставаться даже с Сётой. Вспоминаешь о том, что прошло, и видишь, как изменилась жизнь у всех обитателей Рэнгэдзи! И у настоятеля, и у окусамы, и у Осио, и у него самого. Единственный, у кого ничего не изменилось, — это Сёта, которого все почему-то зовут дураком. Вот о чём думал Усимацу, навсегда прощаясь с этим звонарём, не имеющим ни семьи, ни близких, до конца своих дней остающимся похожим на ребёнка.
Пришёл и Сёго. «Дайте я понесу ваши вещи», — попросил он. Уже была приготовлена кладь для одних саней. Туда поставили гладкий деревянный ящичек с прахом Рэнтаро, завёрнутый в белое полотно и покрытый сверху чёрным, чтобы он по возможности не бросался в глаза. На сани погрузили ещё разные вещи, оставшиеся от Рэнтаро, а также багаж Усимацу. Избегая встреч с кем бы то ни было, вдова и Усимацу решили до верхней переправы пройти пешком и нанять ещё пару саней у ресторанчика на противоположном берегу. Провожаемые возгласами: «Всего хорошего!» — они вышли из гостиницы.
Мокрый снег сыпал и сыпал. На возчиках были круглые шляпы из ивовых прутьев, синие полотняные штаны и стёганые перчатки. Один из них впрягся в сани, другой подталкивал сзади. «Хо! хо!» — подбадривающе покрикивали они. Усимацу вместе с остальными тихо шёл следом за прахом учителя и под скрип скользящих по снегу саней думал о своей жизни. Сомнения, страх — о, эти страдания, о которых он не мог забыть ни днём ни ночью, наконец-то они покинули его! Теперь он свободен как птица. Как радостно вдыхал он холодный утренний воздух. Ему казалось, что, сбросив с себя тяжесть, он словно воскрес. Как моряк, вернувшийся после долгого плавания домой, Усимацу готов был целовать родную землю. Нет, охватившее его чувство было ещё радостней. И ещё печальней. Он шёл по похрустывающему под ногами снегу, и весь этот мир казался ему теперь его миром.
На перекрёстке, где им предстояло свернуть, чтобы выйти к Верхней переправе, навстречу им показалась Осио. Оставив больного отца на попечение жены Отосаку, Осио с сопровождающим её Отосаку поджидали их здесь, чтобы проводить до переправы. Усимацу и Осио… их встреча глубоко тронула даже посторонних. Просто, сняв шляпу, молча поклонился ей Усимацу.
Подняв ясные и всё же влажные от слёз глаза, пристально смотрела на него Осио. Никакие слова не могли бы выразить те чувства, которые наполняли в эту минуту их сердца. Одно то, что они ещё живут на этом свете, казалось им проявлением непостижимой силы судьбы. А тут ещё им, столько пережившим, сейчас, в минуты прощания перед долгой-долгой разлукой, дана возможность с любовью посмотреть друг на друга.
Усимацу познакомил Осио с вдовой и адвокатом. Как все женщины, они сразу же разговорились и дальше уже шли вместе. Отосаку же стал рассказывать адвокату и Усимацу о Кэйносине. Преданный своему прежнему хозяину, он говорил о семье Кэйносина с грубоватой крестьянской искренностью; что, если с больным что-нибудь случится, он всё возьмёт на себя, а зато просит помочь Осио и Сёго. Что ж, детей у него нет, разрешение хозяин дал, так что Осуэ он оставит у себя и воспитает в память о хозяине.
По длинному понтонному мосту у Верхней переправы перешли на тот берег и скоро добрались до ресторанчика. Там с раннего утра ждал Гинноскэ. Вышел навстречу и тот богач из Симо-Такаи — Охината. Адвокат познакомил его с Усимацу. Внешность у Охинаты была довольно невзрачная, заурядная, он был похож на захолустного лекаря китайской медицины; никак не верилось, что этот человек намерен перебраться в Америку и начать там новое дело. Но, беседуя с ним, Усимацу скоро почувствовал, что это человек с твёрдым, сдержанным характером, в котором таились, видимо, многие скрытые возможности. Охината рассказал Усимацу о японском посёлке в Техасе, о людях, уехавших из Кита-Саку далеко за океан и живущих ныне там. Рассказал, что среди них есть юноша из зажиточной семьи, окончивший среднюю школу в Токио в квартале Адзабу; он тоже присоединился к этим переселенцам.
— Ах, вот как, — засмеялся Охината, когда Усимацу напомнил ему о происшествии в пансионе в Токадзёмати. — Вы тоже там жили. Да, мне солоно пришлось. Вот этот случай и заставил меня затеять нынешнее дело. Теперь я говорю об этом со смехом… Но тогда… тогда было очень невесело.
Среди сидевших в ресторанчике раздался взрыв смеха. Охината заметил, что предался воспоминаниям в неподходящем месте, и, с горечью засмеявшись, сел с Усимацу за столик.
— Хозяйка, дайте-ка то, о чём я вас просил! — распорядился Гинноскэ. И вот в этом ресторанчике на берегу реки осушили прощальные чарки. И те, кто уезжал, и те, кто провожал, — все обещали всегда помнить друг о друге. Гинноскэ взял на себя роль хозяина: он пришёл сюда с раннего утра, обо всём позаботился, и вся обстановка с её непринуждённой простотой создавала атмосферу особой теплоты.
— Я всем тебе обязан, — сказал Усимацу, не в силах сдержать волнение.
— Это взаимно, — засмеялся Гинноскэ. — Но не думал я, что мне придётся так тебя провожать. Я, которому устраивали проводы, отстал от тебя… Человеческая жизнь поистине непостижимая вещь.
— Мы с тобой встретимся в Токио! — Усимацу не сводил глаз со своего друга.
— Да, и я скоро уеду. Ну, выпей чашечку. — Гинноскэ оглянулся. — Осио-сан, пожалуйста, не нальёте ли вы нам?
Осио взяла бутылочку и стала наливать. Её белые нежные руки дрожали, выдавая радость и печаль, переполнявшие её сердце.
— И вы выпейте с нами. — Гинноскэ взял из рук смущённой Осио бутылочку и, протягивая ей чашечку, настойчиво сказал: — Давайте я вам налью.
— Нет, благодарю вас, — сказала Осио, отстраняя чашечку.
— Так не годится, — смеясь, вмешался Охината. — В таких случаях полагается выпить. Хоть для вида, один глоток.
— Хоть для формы… — поддержал его адвокат.
— Тогда, пожалуйста, совсем немножко. — Осио поднесла чашечку к губам и покраснела.
Постепенно у ресторанчика собрались ученики четвёртого класса старшего отделения. Услышав о том, что Усимацу сегодня уезжает, они пришли проводить его. Их привело сюда чистое сердце и привязанность к Усимацу. Усимацу обходил краснощёких мальчиков, прощаясь с каждым в отдельности, рассказывая им о своих планах на будущее, и время от времени выходил на берег, где, стоя под мокрым снегом, возле голых ив, поджидал спешивших сюда по мосту учеников. Прозвучал удар колокола в Рэнгэдзи. За ним, разрывая тишину зимнего дня, над водами Тикумы разнёсся второй удар. Звук колокола набегал волнами, ширился, удалялся, и, когда он замирал, в облачной дали снова раздавался удар — третий… четвёртый, пятый. А, это Сё-дурак звонит, поднявшись на колокольню. Для Усимацу удары колокола звучали как прощание перед долгой разлукой, как весть о заре новой жизни. Взволнованный глубокими торжественными звуками, Усимацу невольно склонил голову.
— Шестой… седьмой…
Этот голос без слов, передаваясь из груди в грудь, вселял в провожавших и в уезжавших одни и те же мысли.
Сообщили, что сани готовы. Усимацу говорил с Гинноскэ о своих опасениях по поводу дяди и тётки. Ах, как они, наверно, беспокоятся.
— А если слухи о случившемся дойдут до Химэкодзавы, какие осложнения это вызовет! Возможно, что им нельзя будет оставаться в Нэцу. Как быть тогда? — сказал он.
— Тогда и видно будет, — Гинноскэ на минуту задумался. — Попроси позаботиться об этом Охинату-сана. Если твой дядя не сможет оставаться в Нэцу, пусть он переберётся в Симо-Такаи. Ничего другого пока сделать нельзя, как ни беспокойся… Э… ничего, как-нибудь уладится.
— Значит, так и скажи ему.
— Хорошо.
Заручившись согласием Гинноскэ и пообещав Осио по приезде в Токио купить и прислать ей «Исповедь», Усимацу и вдова стали прощаться. Адвокат, Охината, Отосаку, Гинноскэ и гурьба учеников окружили сани. Осио, бледная, вцепившись в руку Сёго, стояла поодаль, провожая Усимацу взглядом.
— Трогай! — подняв кверху руку, крикнул один из учеников.
— Учитель, я вас провожу вот дотуда! — ухватившись за заднюю перекладину саней, попросил другой.
В ту минуту, когда сани уже трогались, примчался младший учитель и потребовал, чтобы ученики шли в школу. И вдова, и Усимацу обернулись, чтобы узнать в чём дело. Передний возчик, вёзший сани с прахом Рэнтаро, а за ним и остальные двое, ослабили мускулы и недоумённо остановились.
— Не лучше ли было бы разрешить им проводить Сэгаву-куна? — сказал Гинноскэ, подойдя к учителю. — Ты подумай. Ученики из любви к своему наставнику пришли его проводить. Разве эти детские чувства не прекрасны? Их надо бы похвалить. А школа их останавливает! Ты поступаешь нехорошо. Брать на себя такое поручение — не делает тебе чести.
— Но нельзя рассуждать и так, как ты. — Учитель почесал себе затылок. — К тому же я вовсе не говорю, что они поступают плохо.
— В таком случае, почему же в школе говорят, что это плохо? — сказал Гинноскэ, пожимая плечами.
— «Уходить с уроков, не подав просьбы, самовольно — это не дело. Если хочешь идти провожать, иди, пожалуйста, но только получи на это разрешение», — так сказал директор.
— Можно подать просьбу и потом.
— Потом? Это уже не будет просьба. Директор опять сердит. Кацуно-кун, как водится, тоже говорит: «Ученики этого класса ужасно хитрые. Если такие вещи будут повторяться, это отразится на престиже школы; учеников, которые не желают соблюдать правила, нужно исключать из школы, хотя бы на время…»
— Лучше бы не относиться ко всему так формально. О чём бы ни шла речь, и директор и Кацуно-кун сейчас же: «Правила, правила!» Пропустить два урока, ну и что же? Что в этом страшного? Им бы самим следовало отпустить учеников. Самим следовало бы предложить им отправиться сюда… И им самим нужно было бы вместе с учениками прийти проводить Сэгаву-сана, ведь всё-таки вместе работали. А они и сами не пришли и ученикам запрещают. Наказывать детей за то, что они без разрешения пришли проводить своего учителя, несправедливо!
Гинноскэ не знал всех подробностей. Оказывается, накануне директор созвал учеников в зал и произнёс речь о причине ухода Усимацу. Он всячески порицал Усимацу, жестоко осуждал его поведение. Он заявил, что нынешняя реформа (директор нарочно употребил слово «реформа») благотворно скажется на будущности школы. Всего этого Гинноскэ не знал. Да, учителя ненавидят друг друга. Зависть как к сослуживцу и презрение как к человеку — эти страшные чувства, сжигающие мир, до последней минуты пребывания в этом городе преследовали Усимацу.
Увидев, что Гинноскэ очень горячится, Усимацу сошёл с саней.
— Послушай, Цутия-кун! Ну, что он может сделать, ведь он всего лишь исполняет поручение, — успокоительно сказал Усимацу.
— Нет, всё это совершенно непонятно! — отмахнулся Гинноскэ. — Подумай, как обстояло со мной. Мои проводы продолжались больше, чем полдня. Если ради меня можно было прервать уроки, то ради Сэгавы-куна это можно сделать с большим основанием.
Гинноскэ обратился к ученикам:
— Можете проводить учителя чуть дальше. Если у вас возникнут неприятности, я потом поговорю с директором.
— Идём, идём! — закричали некоторые ученики, размахивая руками.
— Послушай, я, право, не знаю, как быть, — остановил его Усимацу. — Я благодарен ученикам за то, что они пришли меня проводить, но если это грозит им неприятностями, мне же будет хуже. Достаточно, если мы простимся здесь; они специально пришли сюда, и это для меня очень дорого. Пожалуйста, отошли их обратно в школу.
Усимацу повторил то же самое ученикам, с грустью смотревшим на любимого учителя, и приготовился опять сесть в сани.
— Всего хорошего! — сказал он и кинул последний взгляд на Осио.
За голыми ветвями печальных прибрежных ив простирался Иияма. Тянувшиеся вдоль берега ряды крыш, возвышавшиеся кое-где здания храмов и остатки древних развалин — всё было окутано белой снежной пеленой. Видневшееся в ясную погоду белое здание начальной школы и колокольня Рэнгэдзи теперь были скрыты завесой падающего снега. Усимацу несколько раз оглянулся, глубоко вздохнул, и горячие слёзы невольно покатились у него по щекам. Сани заскользили по снегу.
1906 г.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Симадзаки-Тосон [44] (1872–1943) литературе выдающееся место. Он пользовался славой крупнейшего писателя еще при жизни — с момента выхода в 1906 году романа «Нарушенный завет». Проверка временем укрепила эту оценку: сейчас Тосон — общепризнанный в Японии классик японской литературы нового времени.
Тосон начал свою литературную деятельность в последние годы XIX века. Это было время, когда новая литература только начала формироваться. После незавершенной буржуазной революции Мэйдзи 1867 года в экономике, в политической и социальной жизни страны быстро утвердились и стали развиваться начала капитализма. Начинается перестройка производства, общественной жизни и быта па европейский лад, но в области культуры эта перестройка совершалась медленней. Только в последние два десятилетия XIX века на арену выступила молодая интеллигенция, явившаяся носительницей новых веяний. Прогрессивная молодежь была полна пафоса борьбы с феодальными устоями старой Японии, далеко не полностью сокрушенными революцией 1867 года. Молодая японская интеллигенция стремилась всесторонне приобщиться к европейской культуре, которая в ее представлении должна была помочь строительству новой жизни. Тосон выступает в эти годы как лирический поэт, создатель новой формы свободного стиха. В его поэзии отразился романтический подъем молодой прогрессивной интеллигенции. Однако подъем этот длился недолго, романтические иллюзии рассеивались, сменяясь разочарованием в действительности, представлявшей картину развивавшегося капитализма. Па рубеже XX века, после японо-китайской войны, знаменовавшей переход к империализму, и в условиях подготовки воины с Россией, уродливые экономические сторону капитализма и вызванные им острые социальные противоречия обнаружились особенно ясно. В интеллигенции наметилось расслоение одна ее часть, связав себя с капиталом, пошла к нему в услужение, другая, лучшая, вступила на путь борьбы. Именно в годы непосредственно предшествовавшие войне с Россией, зародилось первое значительное общественное демократическое движение — «хэнмин-ундо» — «движение простых людей», достигшее наибольшей силы во время самой войны, в значительной мере под влиянием событий 1905 года в России. Тогда же в Японию впервые проникли идеи социализма, появился перевод «Коммунистического манифеста. Развивается рабочее движение, быстро установившее связь с передовыми в то время рабочими организациями западного мира. Началась деятельность Катаяма Сэн[45].
Еще с конца XIX века в японской литературе одно за другим стали появляться произведения, в которых делается попытка реалистически показать действительность, но на большинстве их лежала печать подражательности западным образцам, они страдали приспособленчеством к очередному литературному течению, им не хватало идейной глубины и художественности.
Огромное значение для развития японской реалистической литературы имело то влияние, которое в те годы стала оказывать русская литература. Проникновение русской литературы в Японию неразрывно связано с именем Фтабатэя: он явился первым переводчиком Тургенева, проза которого была встречена передовыми японскими писателями восторженно; он в своих статьях пропагандировал идеи Белинского, противопоставляя их западным, в частности английским, литературным концепциям. Фтабатэй был инициатором движения за создание нового литературного языка, движения глубоко демократического по существу, так как оно, кладя конец господству в литературе особого письменного языка, сохраняющего окаменевшие, искусственно культивируемые языковые формы прежних эпох, делало художественную литературу доступной широким кругам народа. «Гэмбунитти» — «единство речи и письма», — так называл это движение за введение в литературу живых форм устной речи. Забегая вперед, отметим, что в области художественной литературы это движение, в значительной мере благодаря Тосону, еще в первом десятилетии XX века одержало победу. Однако в области официальной (законы, официальная переписка и т. п.) старый язык продолжал держаться вплоть до разгрома империалистической Японии в 1945 году.
В начале 1900-х годов Тосон стал работать учителем средней школы на своей родине в Японии, в горах Синано, в маленьком городке Коморо. Именно в эти годы в столице развертывалось демократическое движение «хэймин-ундо». Живя в глубокой провинции. Тосон по непосредственным впечатлениям от окружающей жизни и под идейным влиянием этого движения написал роман «Хакай» — «Нарушенный завет» (дословно «Нарушение завета»), который в себе все то, что было ранее провозглашено передовыми критиками и теоретиками литературы. Роман вышел в 1906 году и был признан немедленно, неоспоримо. Вот что писал известный критик и театральным деятель того времени Симамура Хогэну: «Несомненно. «Нарушенный завет представляет собой в нашей литературе явление нового порядка. Наша литература впервые дошла до поворотного момента. Тот дух, который разлит в кардинальных произведениях европейской натуралистической школы[46], впервые благодаря этому роману нашел себе у нас соответственное воплощение. Нельзя не выразить своего преклонения перед произведением, которое открывает собой новую эру нашей литературы, или, скорей, высоко поднимает знамя нового течения, синтезируя усилия множества предшественников, которые стремились эту эру открыть.
И действительно, не столько новатором, сколько блестящим завершителем наметившихся в японской литературе прогрессивных тенденций выступил Тосон в «Нарушенном завете. Не был Тосон новатором и в языке: грамматические основы современного японского литературного языка были заложены еще до Тосона в произведениях Фтабатэя и Ямада Бимйо. Однако у Фтабатэя этот язык был ограничен пределами диалогической речи, Тосон же написал живым разговорным языком весь роман, показав возможность обойтись без старого литературного языка. Пользуясь новым языком и в авторской речи, Тосон ярко выявил его художественную выразительность. Таким образом, Тосон оказался одним из тех, кто обеспечил безусловную и повсеместную победу нового литературного языка, и эта победа была тесно связана с рождением реалистической литературы. Особенное значение имеет то обстоятельство, что «Нарушенный завет» — образчик критического реализма: полнее и ярче, чем любое другое произведение новой японской литературы, этот роман показал неприятие японской передовой интеллигенцией конца XIX и начала XX века современной ей буржуазной действительности.
К «Нарушенному завету» примыкают вышедшие вслед за ним романы «Весна» («Хару», 1907) и «Семья» («Иэ», 1909–1910); вый посвящен теме крушения иллюзий молодого поколения, второй дает картину распада семьи в условиях капитализма. Однако в последующие два десятилетия Тосон отошел от общественной проблематики. Поддаваясь общим тенденциям японской буржуазной литературы тех лет, Тосон написал несколько психологических автобиографических романов. Наряду с этим он создал образцовые японской литературе произведения для детей в виде рассказов о родном крае, его природе и быте. Последнее крупное произведение Тосона относится к 1928 году — это исторический роман «Перед рассветом» («Иоакэмаэ»), рисующий эпоху революции Мэйдзи.
«Нарушенный завет» — роман об эта. Кто такие эта?
Япония, которая в разных областях жизни являет примеры удивительно стойких пережитков минувших веков, сохранила и касту эта — социальное явление, корни которого восходят к дофеодальной эпохе, ранее VIII века. Пути образования этой касты не вполне ясны, но несомненно, что среди предшественников эта были некоторые категории рабов, в том числе из иноплеменников. Однако, как будет показано ниже, это далеко не единственны)! источник её формирования, поэтому считать современных эта представителями другой расы, о чем в своем романе пишет Тосон, нет достаточных оснований. Начиная уже с этого раннего времени и на протяжении последующих веков происходило обособление ремесленников тех специальностей, которые и доныне остались целиком в руках эта. Таковы прежде всего — убой скота и выделка кож; затем плетение соломенных сандалий, починка деревянной обуви (гэта); уборщики нечистот, комедианты, проститутки также входили в ряды людей, впоследствии составивших эту касту. По-видимому, многие из этих «грязных» профессий считались нечистыми и, по ритуальным соображениям, усиливали презрение к категории населения, которая и без того, в силу иноплеменного происхождения или рабского положения, стояла на низшей степени социальной лестницы. В эпоху позднего (начиная с XVII века) возник и новый источник пополнения этой касты, который отнюдь не мог поднять ее престиж, — разжалование из других сословий как наказание за преступления. Уже ранее эпохи фактически произошло и территориальное обособление эта особых поселениях и бытовое с установившимися нормами тия. Феодализму осталось только закрепить ее существование юридически в качестве касты бесправной и отверженной в полном смысле этого слова. Некоторые её категории («эта» в узком смысле именовались те, которые занимались выделкой кож) получили официальное наименование «хинин», что буквально значит: «не человек.
Переворот Мэйдзи коснулся и касты эта: декретом 1871 года эта каста была юридически ликвидирована, и ее члены были причислены к третьему сословию «хэймин», получив и право именоваться так, однако с приставкой «новый» — «синхэймин». Им были присвоены и все гражданские права — ношения фамилии, повсеместного проживания, отбывания воинской повинности и пр. и пр. Самое слово «эта» было изъято из употребления. В современных японских толковых словарях этого слова нет.
Но получила ли проблема эта своё разрешение но существу?
Отнюдь нет.
В XX веке, как и в XVII, каста эта жива так же, как не умерло фактически само это слово. Если эта огородник (огородничество распространено среди эта), он должен продавать свой товар дешевле, чем другие, но и это не всегда спасает его от полного бойкота. Если он путешествует, его не пускают ни в одну гостиницу. Если он в армии, никто из товарищей-солдат не желает с ним общаться. Если он женится, скрыв свое происхождение, его жена может потребовать развода, а если с ним вступят в брак сознательно, то не только с его женой, но и с ее родственниками никто не захочет иметь дела. На юге и на севере Японии, в столице и в деревне и даже дальше, в эмиграции, на тихоокеанских островах и в Северной Америке — всюду, где только есть японцы, эта напомнят, что он — «нечистый».
Как существовать в таких условиях? Говоря словами героя «Нарушенного завета» Усимацу, «для эта весь секрет возможности выйти в люди и существовать, единственная надежда, единственный способ — это скрывать свое происхождение». Но этот исход возможен лишь для одиночек, да и для них он нередко оканчивается крахом. И собственно весь роман говорит о том, что скрывать свое происхождение — недостойно. Эта, не пожелавшие или не могущие этого сделать, всюду преследуемые, отовсюду гонимые, — бегут. Но куда? В единственное место, где они могут жить спокойно, потому что они среди своих, — в «особые поселения».
Эти «особые поселения» — «токусю бураку» — существуют в XIX веке, как и в XVII. В настоящее время число их превышает пять тысяч. Самих же эта насчитывается около трех миллионов человек.
И в наши дни, как и в средние века, эта обособлены профессионально. За исключением некоторой части (на юго-западе), занимающейся земледелием, подавляющее большинство ограничивается профессиями, которые сохранились за эта со времен средневековья. Но и это становится все трудней. Мелкие кустарные промыслы капитализируются все больше и больше. Кожевенное дело переходит на фабрики, плетенье — в промышленные артели, на крупные бойни берут любых наемных рабочих. Прежние занятия эта переходят в другие руки, к новым эта не допускают. Таким образом, экономически эта обречены на нищету.
Положение эта, материально бедствующих, культурно отсталых, в повседневной жизни притесняемых, ко второму десятилетию текущего века стало настолько тяжелым, что даже «сверху» нельзя было оставить его без внимания. Тем более, что эта не раз напоминали о себе волнениями. Возникло даже «додзйо-уидо» — «движение сочувствия», старания которого фактически сводились к частичным реформам «особых поселении». Это худосочное движение распалось, не добившись сколько-нибудь ощутимых успехов, но в 1921 году на смену ему возникло движение самих эта — «суйхэй-уидо» — «уравнительное движение». Только с развитием общего японского рабочего движения эта осознали, что в силу существующих жестких профессиональных рамок они являются не только сословной, но и экономя» чески обособленной группой. Возможность обогащения, которую дает капитализм для отдельных эта, на что охотно указывают буржуазные экономисты, ни в коей мере не разрешает проблемы существования всей касты в целом. Движение суйхэй, ближайшими целями которого было осуществление фактического равноправия, а также экономическая помощь эта (кооперирование, создание производственных артелей и т. п.), показало, что полного равноправия и повышения экономического благосостояния эта можно добиться, только борясь в одних рядах с японским пролетариатом. Практически эта и раньше активно участвовали в отдельных вспышках народного недовольства. Даже учитывая, что правительство с умыслом обрушивало па них большую тяжесть репрессий, нельзя отрицать серьезного участия эта хотя бы в известных «рисовых волнениях» 1918 годе» «Суйхэй-ундо» пробудило и организовало революционные устремления в среде этой касты. И хотя эти устремления не были лишены мелкобуржуазного характера, поскольку каста эта состоит главным образом из ремесленников-кустарей, мелких собственников и т. п., всё же большая часть организаций суйхэй в 20-х годах связала себя, с рабочим движением, притом именно с его левым крылом. Однако в годы реакции, то есть в 30-х годах, это движение заглохло.
И вот через тридцать лет после зарождения «суйхэй-ундо» в нынешней послевоенной Японии эта по-прежнему живут на отверженных. Поэт Такаити Минору в 1952 году писал:
В 1906 году, когда вышел «Нарушенный завет», не только движении «суйхэй-ундо» не было в помине, но и рабочее движение развёртывалось еще очень слабо. Нет ничего удивительного, что Тосон подошел к этой проблеме в духе тех либерально-демократических идей, которые одушевляли движение «хеймин-ундо». Проблема эта в романс разрешается в рамках индивидуальной судьбы, в психологическом плане. Она трактуется в духе гуманизма, как задача восстановления попранного достоинства личности, как утверждение ценности человеческой личности независимо от сословных и социальных ограничений.
Однако общественная проблематика «Нарушенного завета» не ограничивается этой, так сказать на виду лежащей, проблемой эта. В романе имеется еще одна, не менее важная, сторона. Выше упоминалось, что «Нарушенный завет» отразил разочарование прогрессивной интеллигенции в буржуазной действительности. Этот наглядно рисует, как быстро японская буржуазия, придя растеряла те прогрессивные устремления, которые ей были ственны в период самой революции Мэндзи. В этом отношении наиболее показателен образ кандидата в члены парламента
Образ Такаянаги дан Тосоном не изолированно. Внимательный читатель заметит, что все персонажи, которые имеют хоть какое-нибудь касательство к правящему аппарату — члены городского управления, директор школы, школьный инспектор и даже племянник инспектора, — неизменно обрисованы автором с отрицательной стороны. Так показано и духовенство в лице как будто лучшего представители своей среды — настоятеля храма Рэнгэдзи. Тосон почти пародийно излагает его проповедь, а позже раскрывает и подлинный моральный облик этого духовного пастыря — сластолюбца, готового совратить даже свою приемную дочь. Устами его жены автор добавляет, что порок среди духовенства — не редкость. И наоборот, с неизменной симпатией рисует Тосон образы простых трудовых людей — учителя Гинноскэ, адвоката Итимура, крестьянина Огосаку, из милости воспитанной в семье настоятеля храма юной о-Сио, се отца, дряхлого учителя Кэйносина, представителя уходящего со сцены сословия — самурайства, и даже забитого монастырского звонаря Сйота. В центре романа поставлены фигуры двух эта — два контрастных образа: Усимацу, подчиняющегося общественной несправедливости, пытающегося избежать последствий своего происхождения путем обмана, и Рэнтаро, смело вступающего в борьбу с этой несправедливостью и трагически гибнущего в борьбе, но своей гибелью пробуждающего человеческое достоинство в Усимацу. Образ Рэнтаро является наиболее ярким воплощением прогрессивных идей, воодушевляющих автора «Нарушенного завета».
Нельзя, однако, не заметить, что некоторые узловые сюжетные моменты романа ослабляют яркость художественного воплощение лежащей в его основе идеи. Объективное значение признания Усимацу было б куда больше, если б Усимацу сделал сто в обстановке полного благополучия; даже моральная ценность его несколько умаляется подозрениями Усимацу, что его происхождение больше не тайна для других. Ослабляет остроту проблемы внешне благополучная развязка. Тот как будто благоприятный поворот судьбы Усимацу, которым автор завершает роман, на самом деле но — призрачный выход, а социально — не выход вообще. Эмиграция не есть разрешение никакой социальной проблемы. На сти основано устройство судьбы о-Сио. Но большее значение, чем эти сюжетные моменты, имеет нарисованная на последних страницах романа картина того, как никто из чистых сердцем трудовых людей не изменил своего доброго отношения к Усимацу, узнав, что он эта, как не изменили своего отношения к нему дети. Можно сказать, что отношение к Усимацу — самый яркий признак, по которому образы романа определяются как положительные или отрицательные. И в этом также отчетливо проявились прогрессивные устремления его автора.
Несколько слов о художественной манере Тосона. В отличие от тех реалистов, манеру которых часто характеризуют выражением «сочная кисть», Тосон пишет как бы тонкой прозрачной акварелью. Часто он только намечает очертания, часто дает только отдельные детали, предоставляя воображению читателя дорисовывать целую картину. Такая манера свойственна многим видам японского искусства, в частности поэзии, где она проявляется более ярко, чем в романе Тосона.
В целом роман «Нарушенный завет» дает советскому читателю представление об одной из острых социальных проблем японской жизни и о творчестве одного из крупнейших японских писателей нового времени.
Н.И. Фельдман.
— 3,75 кг; в одном кане 1000 моммэ.
— травянистое растение из семейства арроутных, из которого приготовляется желеообразная масса, широко употребляющаяся в пищу.
— приставка после имени, в быту довольно фамильярная; более официальная — сан.
— прическа замужней женщины, преимущественно новобрачной.
— тестообразная масса из перебродивших соевых бобов, чрезвычайно распространенный продукт, употребляющийся для приготовления супов и для консервирования овощей; на кем также жарят.
— персонаж любимой детской сказки.
— игра, похожая на игру «орёл и решка».
— называется в истории Японии период 1867–1911 гг., то есть начиная с революции и кончая смертью императора, при котором она произошла. В первые два десятилетия были проведены основные буржуазные реформы, в частности все сословия были юридически уравнены; переворот Мэйдзи — незавершенная буржуазная революция 1867 г.
— главный город провинции Синано.
) — буддийское молитвенное обращение, употребляется как восклицание, вроде русского «господи помилуй!»
— широкий и длинный пояс, несколько раз обматывающийся вокруг тела, обязательная принадлежность всякого японского женского костюма.
— госпожа, почтительное наименование замужней женщины (несколько проще — окусан).
— уезд провинции Синано.
— рисовая водка; ее пьют подогретой.
— приставка после имени (см. куп).
— провинция, находится на северо-западе Японии.
— национальная религия Японии.
— дерево «илиций священный».
— название касты эта после предоставления ей юридического равноправия (1868). Считается более вежливым названием, чем эта.
— 1,8 литра.
— раздвижная часть наружном стоны, имевшая вил рам, затянутых особой плотной бумагой.
— наемные громилы, к услугам которых прибегают буржуазные партии на выборах в политической борьбе, капиталисты — при подавлении стачки и т. п.
— 3,03 см.
— пирожки из вареного риса с разной начинкой.
— одна сотая иены, около копейки.
— учитель; употребляется также как почтительное обращение и очень вежливая приставка после имени.
— 30,3 см.
— струнный инструмент типа домры.
— носки, но не вязаные, а из очень плотной материи, с отдельным большим пальцем (как в варежках). С национальной обувью — сандалиями, гэта — не носят ни чулок, ни носков, только таби.
— мифологические персонажи, символизирующие счастливый долголетний брак, японские — Филомен и Бавкида.
— 0,09 га.
— уезд провинции Синано.
— 109 м.
— презрительная кличка эта.
— 18 литров.
— название приморской дороги, соединяющей Токио с древней столицей Японии!
— особым образом приготовленная плотная беловатая масса из перебродивших соевых бобов; очень распространенный продукт.
— ласкательное окончание имени.
— часть одежды, ироде юбки-шаровар. Является принадлежностью официального костюма.
— накидка с рукавами, на которой часто бывает выткан фамильный герб. С одной стороны, употребляется как верхним одежда взамен пальто, с другой — является принадлежностью несколько парадного или официального костюма.
— палочки для еды, заменяющие вилку, ими пользуются щипцами.
— круглый или четырехугольный, большей частью или фаянсовый сосуд, куда кладут горячие угли, — наиболее распространенный вид обогревания помещения и японском доме.
— мера поверхности, равная 3,3 кв.м.
— 300 цубо.
— название Токио до 1868 г.
и — остров и старинный городок близ Токио, примечательные красивыми видами и древними памятниками.
— одна из северных провинций Японии.
Перевод, послесловие и примечания