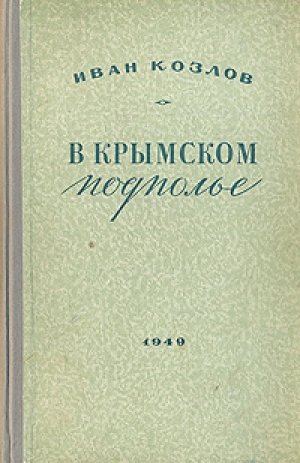
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru
Эта же книга в других форматах
Приятного чтения!
Вместо предисловия
«Следует признать, что важнейшим завоеванием нашей революции, является новый духовный облик и идейный рост людей, как советских патриотов. Это относится ко всем советским народам, как к городу, так и к деревне, как к людям физического труда, так и к людям умственного труда. В этом заключается, действительно, величайший успех Октябрьской революции, который имеет всемирно-историческое значение».[1]
В. М. Молотов
Симферопольский художник М. Щеглов нарисовал картину: городская улица, на углу — немецкий патруль и шпик, стена дома оклеена приказами немецкой комендатуры (мы знаем их содержание!), по тротуару, в центре картины, движется старик-стекольщик. На нем старое, замасленное, рваное пальтишко, облезлая шапка-ушанка. Одной рукой он осторожно опирается на палку, в другой — ящик с инструментом, куски стекла.
Старик-стекольщик и есть Иван Андреевич Козлов — автор воспоминаний «В крымском подполье», книги, удостоенной Сталинской премии. Ему шестьдесят лет. В большевистской партии он с 1905 года. Крымское подполье времен Отечественной войны — его пятое подполье: он активно работал в большевистском подполье в период царской реакции, затем в Екатеринославе и Николаеве — при немцах и петлюровцах; был членом подпольного ревкома в Севастополе, когда там господствовали англо-французские интервенты и белогвардейцы; в 1919 году он был секретарем Харьковского губернского подпольного партийного комитета, и, наконец, он — руководитель последнего, крымского, подполья.
Эти биографические данные стоит привести потому, что И. А. Козлов не только автор книги, но и ее герой. Как бы скромно он ни писал о себе, как бы ни старался остаться в тени, он тот реальный человек, тот первоисточник, который вправе стать прототипом образа несгибаемого большевика, беззаветно преданного делу Ленина — Сталина.
«В крымском подполье» показана великая роль нашей партии в организации активной борьбы с врагом. Самые рядовые советские люди включались в эту борьбу — не на жизнь, а на смерть. Они проявляли невиданный в истории героизм. Коммунисты шли в первых рядах. Беспартийные патриоты воевали вместе с коммунистами и вместе с ними ковали победу.
Большую роль играла молодежь — комсомольцы: Борис Хохлов, Николай Долетов, Лида Трофименко, Женя Семняков, Зоя Рухадзе, Шура Цурюпа, Семен Кусакин, Вася Бабий и другие. Они тоже ничем особенным не выделялись из общей массы советском молодежи. Секретарь подпольной комсомольской организации Боря Хохлов искренне смутился, когда однажды, говоря об их деятельности в немецком тылу, Козлов произнес слово «героическая». Все, что они делали, казалось юноше Хохлову таким естественным, само собой разумеющимся.
Подобно людям старшего поколения, они бесстрашно жертвовали своей жизнью во имя спасения Родины.
Познакомившись и сдружившись со всеми героями крымского подполья, познав их жизнь, мы постигаем го основное, решающее, что определило линию их поведения и сделало их действительными героями нашего времени.
«Герой» и «толпа» — таково было старое, реакционное, антинародное представление об обществе. «Герои» возвышались над «толпой», являя собой образец личности, «из ряда вон выходящей», необыкновенной; «толпа» — пассивную массу. Редактор «Русского богатства» народник Н. К. Михайловский полагал, что таков незыблемый закон жизни.
Против этой вздорной и антинародной теории решительно выступили еще на заре своей революционной деятельности В. И. Ленин и И. В. Сталин. Они учили, что основной и решающей силой исторического процесса является сам народ. Народ — творец истории.
Не «я», а «мы» заявил о себе новый герой.
«…Мы — социалисты, — говорил убежденно на суде Павел Власов, герой повести М. Горького „Мать“, — это значит, что мы враги частной собственности, которая разъединяет людей, вооружает их друг против друга, создает непримиримую вражду интересов, лжет, стараясь скрыть или оправдать эту вражду, и развращает всех ложью, лицемерием и злобой… Победим мы… Наши идеи растут, они все ярче разгораются, они охватывают народные массы, организуя их для борьбы за свободу… Вы оторвали человека от жизни и разрушили его; социализм соединяет разрушенный вами мир во единое великое целое, и это — будет!»
Социализм вернул человека к жизни. Разбив и уничтожив все и всяческие оковы капиталистического строя, социализм раскрепостил человека, возвратил ему жестоко, отнятую у него свободу, дал возможность всестороннего развития его способностей, то есть «возвратил человека к человеку».
Нашлись толкователи знаменитых слов Маркса о «возвращении человека к человеку», которые умудрились представить такое возвращение как некое понятное движение. А между тем у Маркса все абсолютно ясно. Надо «так устроить окружающий его (человека. — С. Т.) мир, чтобы человек получил из этого мира достойные его впечатления, чтобы он привыкал к истинно-человеческим отношениям, чтобы он чувствовал себя человеком… Если человеческий характер создается обстоятельствами, то надо, стало быть, сделать эти обстоятельства достойными человека».[2]
Именно социализм, и только социализм, так устроил окружающий мир, что люди воспитывают в себе истинно человеческие качества. Человек впервые почувствовал себя человеком, то есть «человек возвратился к человеку».
Буржуазные идеологи утверждали, что будто бы с уничтожением частной собственности прекратится всякая деятельность, воцарится всеобщая лень и уничтожится свобода личности. Эта реакционная ложь была разоблачена и высмеяна еще Марксом и Энгельсом. «Если бы это опасение было основательно, — писали они в „Манифесте Коммунистической партии“, — то буржуазное общество давно уже должно было бы разрушиться благодаря всеобщей неохоте к труду; ведь трудящиеся его члень ничего ек приобретают, а приобретающие не трудятся».[3] И они (…) доказали, что свобода человеческой личности возможна только в освобожденном коллективе, ибо личность, индивид есть существо общественное. «Краеугольным… камнем марксизма, — писал в одной из своих ранних работ И. В. Сталин, — является масса, освобождение которой… является главным условием освобождения личности. То-есть, по мнению марксизма, освобождение личности невозможно до тех пор, пока не освободится масса».[4]
Победа социализма в нашей стране вызвала сказочный трудовой подъем масс народа и создала необходимые предпосылки для всестороннего физического и духовного развития личности. Обыкновенные советские люди стали во всех отношениях людьми «необыкновенными». Героическое перестало быть свойством одиночек, а вошло в плоть и кровь народа и стало его жизненной потребностью и свойством. Советский народ и героизм — синонимы.
Вот почему Николай Островский решительно отвергал мысль об «исключительности» Павла Корчагина. Он подчеркивал, что Корчагин — обыкновенный рабочий парень, воспитанный большевистской партией. Корчагин — представитель того миллионного коммунистического авангарда, которыми объединяет вокруг себя миллионы. Источником его героизма, нравственной его основой служит большевистская идейность. В ряд с ним могут стать многие. Корчагин не возвышается над своими сверстниками, а наиболее полно выражает их новые качества, новую сущность.
Если раньше герой должен был конфликтовать с обществом, плыть «против течения», то теперь он выразитель интересов общества и находится на гребне все выше вздымающейся могучей волны народного движения. Между коммунистическим идеалом и нашей действительностью нет разлада, и потому нет разлада между героем и действительностью.
В этих условиях обнаружился массовый героизм простых рабочих людей, осознавших себя творцами новой, подлинно человеческой жизни. О них говорил товарищ Сталин: «Трудовой человек чувствует себя у нас свободным гражданином своей страны, своего рода общественным деятелем. И если он работает хорошо и дает обществу то, что может дать, — он герой труда, он овеян славой».[5]
Враги социализма, прихвостни и прихлебатели буржуазии распространили немало клеветнических измышлений о том, что социализм будто бы «обезличивает» человека, превращает людей в сожителей единой «однообразной, казенной, монотонной, серой казармы». Злобный бред! Именно капитализм нивелирует и стандартизирует человека, превращает его личное достоинство в меновую стоимость, растлевает его сознание и целиком подчиняет своим классовым интересам, делая из него наемного слугу буржуазии. В буржуазном обществе самостоятелен и личен только капитал, трудящийся же человек — несамостоятелен и безличен.
Наш народ воочию доказал миру, что только социалистическое общество дает наиболее полное удовлетворение личным потребностям и только социалистическое общество может действительно охранять интересы личности.
Люди наши не схожи — по уровню знаний, характеру, навыкам, вкусам, способностям, личным стремлениям; различно проявляют они себя в труде, в быту; многообразны их национальные особенности; неповторимы их индивидуальности. Но, как сказал поэт: «…главное в нас — это наша страна Советов, советская воля, советское знамя, советское солнце».
На основе вот этой великой общности выросло и окрепло морально-политическое единство советского народа, развился советский патриотизм, культивируемый большевистской партией. Силы эти стали движущими силами нашего общественного строя. Героизм советского человека и есть проявление этих сил, окрыливших миллионы. Не в сугубо индивидуальных особенностях, свойственных именно данной личности, следует искать разгадку героического поведения наших людей, а в той всеобщей социалистической закономерности, которая делает обычного, рядового советского человека хозяином, строителем и борцом, готовым итти на любой подвиг во славу своей социалистической отчизны.
Великая Отечественная война, самая тяжелая из всех когда-либо пережитых нашей Родиной войн, испытала силу и крепость этой закономерности. Немецко-фашистские захватчики столкнулись в нашей стране с таким народом, какой они не встречали ни в одной из порабощенных ими стран Европы. Народ этот воспитан партией Ленина — Сталина, и потому он оказался непобедимым и всепобеждающим.
«Люди с чистой совестью» — назвал свою книгу о партизанах Петр Вершигора. Герои книги «В крымском подполье» — тоже люди с чистой совестью, как и те, которые мужественно сражались на фронте, в рядах действующей армии, и те, которые так же мужественно трудились в советском тылу. Их героизм — их чистая совесть; они не могли жить за чужой счет, не могли не участвовать в победе.
Партия большевиков направляла деятельность всех этих людей, подымала их, вела.
Книга о крымском подполье пронизана пафосом партийности. И. А. Козлов ярко рассказывает о том, как крымские большевики в тяжелые дни, когда враг приближался к Крыму, организовали будущее подполье. Это было сделано основательно, умело, без всякой паники.
Коммунистическую партию в мемуарах И. А. Козлова представляют многие борцы, в том числе «Андрей» — автор воспоминаний. Он проходит через всю книгу, и о нем можно судить по всей совокупности фактов.
Перед нами раскрывается образ старого большевика, мастера подпольной борьбы, который действует, основываясь на огромном опыте, руководствуясь ясным партийным чутьем. Он искусно минует все засады, расставленные врагом. Он хорошо разбирается в людях и безошибочно судит о них, об их возможностях.
Взаимоотношения «Андрея» с комсомольцами, действовавшими в крымском подполье подобно краснодонцам, — пример того, как партия руководила работой молодежи во вражеском тылу. Большевистское руководство молодыми подпольщиками обеспечило успех их героических действий в Крыму, как и в других оккупированных районах страны.
Воспоминания товарища Козлова — документ большой важности; они помогают нам осознать самих себя, величие наших дел и душ. И потому-то эти воспоминания нашли дорогу к сердцу читателя.
Записки товарища Козлова были впервые опубликованы в журнале «Знамя». Потом они вышли двумя изданиями — в Крыму и в «Советском писателе». Они передавались по радио. Нынешнее издание — четвертое, дополненное.
И. А. Козлов посвятил свою книгу памяти мужественных патриотов-подпольщиков, павших в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами. Она — литературный памятник погибшим.
Но, вспоминая прошлое, он думал о настоящем и будущем. Книга обращена к живым:
«Пусть их светлый образ и героические дела послужат примером для нашей славной молодежи в борьбе за торжество коммунизма».
Семен Трегуб
Глава первая
Утро памятного дня 22 июня 1941 года застало меня в московской больнице.
Я не спал всю ночь и только по движению людей в коридоре понял, что наступил новый день. Для меня все равно продолжалась ночь, бесконечная, пугающая своей темнотой.
Третьи сутки я лежал на спине с забинтованными глазами, боясь шевельнуть головой, чтобы не повредить швы на глазу и не вызвать страшной боли, мучившей меня в течение последних недель.
За два месяца пребывания в глазной клинике я многое узнал о моей болезни, которую врачи называют глаукомой, а народ — желтой водой.
— Это коварная болезнь, — сказал академик Михаил Иосифович Авербах, — она почти неизлечима, и часто зрение исчезает мгновенно, неожиданно, как перегорает электрическая лампочка. Операцию вам сделаю, но за успех не ручаюсь.
Действительно, после операции мой левый глаз совсем перестал видеть, боли усилились. Пришлось оперироваться еще раз.
Теперь боли меня не беспокоили, но мучил страх: увижу ли я снова белый свет, смогу ли работать, или останусь слепым, беспомощным и даже не в силах буду выйти один из больницы?
Ведь случилось же так с моим соседом по палате, старым колхозником Василием Петровичем, который после операции сразу ослеп на оба глаза. Он частенько подсаживался ко мне на кровать. Сколько умилительной доброты было в этом старом слепом человеке! Как старался он успокоить и утешить меня надеждой, что все кончится хорошо и мы с ним оба будем видеть.
Многое я передумал, лежа с повязкой на глазах. А если я останусь слепым и не смогу работать, для чего тогда жить?
Но безнадежное отчаяние не охватывало меня даже в самые худшие времена моей жизни — на царской каторге. Именно там, в кандалах, под замком, в гнетущей тишине одиночки, я по-настоящему полюбил жизнь и узнал истинную цену воздуху, солнцу, свободе.
Долго обдумывал я, чем смогу заняться, если останусь слепым, и решил, что буду писать воспоминания. Как раз на эту работу у меня, зрячего, нехватало времени. «Буду диктовать жене, — думал я, — пусть пишет». Решив это, я сразу приободрился.
Передо мной замелькали картины далекого прошлого.
Вот почти забытое мною село Сандыри, растянувшееся на две версты вдоль шоссейной дороги, соединяющей город Коломну с Москвой.
Покосившаяся избушка под соломенной крышей, занесенная снегом. В холодной избе трое ребятишек забрались на холодную печку. Мать, стараясь согреть наши босые ноги, кутает их в разные лохмотья.
— Потерпите немножко, — говорит она ласково: — скоро отец из леса приедет, хворост привезет, печку протоплю, и у нас тепло станет.
— А поесть-то когда дашь? — плаксиво говорит младшая сестренка.
— И поесть дам. У Семки-лавочника полпуда муки выпросила. Отец весной отработает. Сейчас тесто замешу, напеку лепешек и накормлю вас.
Сестренка не унимается, продолжает хныкать. Уговоры не помогают. Мать сует ей в рот свою морщинистую руку и с отчаянием кричит:
— На, гложи мою руку! Больше у меня ничего нету.
Напуганная сестренка умолкает…
Ранней весной отец мой выехал в поле поднимать целину Семке-лавочнику, простудился и умер в городской больнице. Без нас его и похоронили. На городском кладбище много было свежих безыменных могил. Мы так и не узнали, в какой из них «спрятался» от нас мой отец…
Мои размышления прервал Василий Петрович:
— Возьмите наушники. Сейчас Молотов будет говорить. Интересно, о чем бы это?
Весть о войне потрясла меня. Забыв строжайшее требование врачей лежать без движения, я сел на кровати и стал приподнимать повязку, чтобы узнать, вижу ли я хоть сколько-нибудь. Но глаза были забинтованы крепко.
— Что же это, Иван Андреевич, война? — услышал я голос Василия Петровича.
— Война, друг мой. Полез на нас немец.
— Домой скорей надо! — испуганно сказал старик. — Сын и зять в армию уйдут, успеть бы хоть проститься с ними.
— Конечно. Всем нужно торопиться на свои места. Слышал, что сказал товарищ Молотов? Всем народом воевать будем, война-то отечественная.
Это стремление — «по своим местам» — было общим. Нам объявили, что больница превращается в госпиталь и здесь останутся только тяжело больные. Но и они не хотели оставаться и стремились разъехаться по домам.
Я настоял, чтобы с меня до срока сняли повязку. К великой моей радости, правый глаз сохранил зрение на пятнадцать процентов. Значит, в очках двигаться и работать можно.
Через день мне сняли швы с глаза. Я досрочно выписался из больницы, получив строгий наказ: не заниматься физическим трудом, не читать, не писать, быть под постоянным наблюдением врачей и ежедневно впускать в глаза капли.
Выслушав все эти наставления, я немедленно отправился домой, в Крым.
В Симферополь я приехал днем и не узнал свой опрятный и приветливый город. Белые, голубые, палевые стены домов покрылись желто-зелеными полосами маскировки. Стекла перечеркнуты крест-накрест. С окон исчезли цветы, занавески. Витрины магазинов зашиты досками, заложены камнями и мешками с землей. Ленинский парк изрыт и изуродован желтыми насыпями около щелей.
— Скажите, гражданка, Симферополь бомбили? — спросил я у встречной молодой женщины.
Она подозрительно посмотрела на меня и на мой чемодан.
— Вы не местный?
— Я здесь живу, но сейчас только с вокзала.
— Придете домой, узнаете! — холодно бросила она.
У радиоузла на улице Льва Толстого толпился народ. Слушали дневную оперативную сводку за 1 июля. Я остановился. По радио сообщали: на всех фронтах идут ожесточенные бои. Враг рвется на восток, уже образовались Минское, Бобруйское, Луцкое направления. Тяжелые вести…
Вдруг передача последних известий оборвалась. В репродукторе послышался шум, и через несколько секунд резкий голос диктора объявил:
— Внимание! Внимание! В городе объявлена воздушная тревога!
Пронзительно завыла сирена. Раздались протяжные гудки заводов. Толпа быстро стала редеть. Люди прятались в подъездах и подвалах ближайших домов. У ворот появились дежурные с противогазами.
Моя квартира была недалеко, и я, невзирая на окрики дежурных, пошел домой. Наш небольшой двухэтажный дом, закрытый с улицы зеленью каштанов, был тоже вымазан грязно-серой краской. На звонки никто не отозвался. Я вошел во двор, взглянул на крышу и ужаснулся: пятеро ребятишек, в том числе двое моих сыновей, босые, в трусиках, в огромных брезентовых шлемах и таких же рукавицах, сидели около трубы, что-то зажигали, и тут же гасили рукавицами.
Услышав мой голос, сыновья тотчас же спустились на землю и, сияющие, подбежали ко мне.
— Что вы там делали? — спросил я строго.
— Гребенку жгли. Практиковались, как тушить бомбы.
В квартире был необычайный беспорядок. На столе и на полу валялись разные инструменты, стружки, консервные коробки.
— А тут что у вас делается?
— Это мы подзорную трубу делаем, чтобы лучше видеть самолет, — задорно ответил младший сынишка, Лева.
— А убирать кто за вами будет? Мама?
— Мама теперь мало дома бывает: то на работе, то на дежурстве. Она тоже в группе самозащиты.
— То-то сразу видно, что вы тут полные хозяева.
— У нас тоже дел хватает, — говорил с важностью старший сын, Витя, вытирая грязными руками пот со лба. — Видал, во дворе сколько металлолома и бутылок? Это мы, ребята нашего двора, собрали.
— А бутылки зачем?
— Ты, папа, совсем отстал. Бутылки против танков нужны. В каждую бутылку наливают воспламеняющуюся жидкость. Показался танк — бей бутылкой прямо в него, и он загорится.
— А кто вас учил, что зажигательные бомбы можно тушить босыми ногами?
— Этого нам никто не говорил, — наморщил лоб Витя, — но ведь ты знаешь, папа, зажигательная бомба не то, что фугасная, она совсем не страшная. Маленькая, тоненькая. Во-вторых, она не взрывается, а горит медленно с одного конца. Если она попадет в дом, нужно только не психовать, спокойно взять ее за конец, который не горит, сбросить на землю, засыпать песком — и кончено, никакого пожара не будет.
— Удивительно, как это у вас все просто получается! Вам и война, наверное, не страшна?
— Чего же бояться, мы ее еще не видали. Хочется, чтобы фрицы хоть одну бомбу сбросили, а то кажется, что все эти воздушные тревоги зря народ пугают.
Вскоре пришла жена проверить, что с ребятами. Обрадовалась, увидев меня.
— А я все беспокоилась, что с тобой и как ты выберешься из Москвы. Как твои глаза?
Я сказал.
— Плохо, — печально проговорила она. — Нужно сделать все, чтобы уберечь остаток зрения.
— Если слушать врачей, мне нельзя заниматься физическим трудом, нельзя писать и читать, нельзя волноваться. Это значит — нужно ничего не делать.
— Ослепнешь — хуже будет.
— Не ослепну.
В общем, невеселый получился у нас разговор.
Оставаться в бездействии в такое время было невозможно. Ведь я старый большевик и никогда без дела не сидел. По выходе в декабре 1919 года из последнего, деникинского подполья я все годы находился на оперативной работе. В 1936 году из-за болезни почек ЦК ВКП(б) перебросил меня из Сибири в Крым для лечения, но я сразу же начал работать в Крымском обкоме партии. Подготовлял и докладывал на бюро обкома дела исключенных из ВКП(б) партийными комитетами. По характеру работы требовалось много читать и писать. Теперь из-за болезни глаз я не мог больше этим заниматься. Да и хотелось чего-нибудьболее Действенного, более тесно связанного с войной.
По моей просьбе меня перевели на общую инструкторскую работу. Я стал бывать на предприятиях, следил за работой первичных партийных организаций и помогал им перестраиваться на военный лад.
С фронта приходили тревожные вести. Одесса героически защищалась, но немцам удалось захватить Николаев, Херсон и переправиться через Днепр на Левобережную Украину. Фронт быстро приближался к Крыму.
Началась эвакуация женщин, детей и больных. Своих детей я эвакуировал в Среднюю Азию. У нас еще была уверенность, что врагу не удастся взять Крым. «Будем участвовать в его обороне, а в случае крайней необходимости эвакуируемся в самый последний момент», решили мы с женой.
24 сентября, когда я находился по заданию обкома в Евпатории, меня неожиданно вызвали к телефону.
— Когда приедешь? — услышал я взволнованный голос жены.
— Собираюсь завтра. А в чем дело?
— Знаешь, мы ведь можем не увидеться.
— Почему?
— Да вот, представь, мы сегодня переезжаем в Севастополь.
— В Севастополь? Кто это вы?
— Наше учреждение.
«Вот как!» встревожился я, догадываясь, что речь идет об эвакуации Симферополя.
— А наши туда же едут?
— Не знаю. Приезжай скорей!
— Ну, ты не волнуйся. Постараюсь уехать отсюда сегодня же.
Но в тот день мне выехать из Евпатории не удалось. Горком партии получил секретную директиву немедленно эвакуировать всех небоеспособных коммунистов, остальных перевести на казарменное положение. В случае отхода Красной Армии из города коммунисты поступали в распоряжение обкома партии.
Эта директива вызвала большую сумятицу среди работников горкома. Они попросили меня остаться еще на день и помочь им. Я согласился. А часов в десять вечера секретарь горкома получил «секретное» сообщение: ночью в районе Евпатории немцы выбросят десант — парашютную дивизию.
Я засмеялся:
— Целую дивизию! И ты веришь?
— Почему нет?
— Провокация. Шпионы стараются вызвать панику.
Мы заспорили и даже поругались. Но все-таки начали обсуждать мероприятия на случай появления десанта. В городе были истребительный батальон, ополченцы. Из добровольцев коммунистов и беспартийных патриотов уже сформировался партизанский отряд, который в случае вынужденного отхода наших войск должен был остаться в тылу врага.
В лихорадочной работе незаметно проходит время. Я взглянул на часы — половина четвертого. Вышел на улицу. Ночь пасмурная, тихая. Что же случилось на Перекопе? Неужели так быстро могли прорвать нашу оборону? Не может быть! Очевидно, обком принимает меры предосторожности. А что, если немец все-таки ворвется в Крым? Холодно становилось от этой мысли.
Я вернулся в горком и сказал секретарю:
— Завидую здоровым людям: в случае чего — винтовку за плечи и в партизаны.
— С партизанами дело ясное, а вот с подпольщиками не знаю, что делать.
— А у тебя есть и подпольщики? — удивился я.
— А как же! По заданию обкома я выделил для этой работы пять коммунистов, но они, понимаешь, боятся остаться здесь.
— Почему?
— Этих людей хорошо знают в городе. Придут немцы — первых их повесят.
— А зачем же им оставаться именно здесь? — сказал я с недоумением. — Нужно перебросить в другой район, где их не знают. А впрочем, и здесь могут остаться. Можно так замаскироваться — жена не узнает.
Я рассказал о некоторых мерах конспирации, которые мы практиковали во время гражданской войны в тылу у врага.
— Дело серьезное, а опыта у нас нет. Потому так и получается, — признался секретарь.
Этот разговор долго не выходил у меня из головы. «Конечно, секретарь прав. Все они хорошие коммунисты, но молодые, откуда может быть у них опыт подполья! Нужно немедленно поговорить об этом в обкоме и помочь. Честное слово, для меня эта работа самая подходящая!»
С таким решением я рано утром выехал из Евпатории.
Жену я нашел на работе. Ее комната вся была уставлена ящиками с упакованными делами. Тут же находились наш чемодан и два рюкзака.
— Что случилось? — сразу спросил я.
— Немцы прорвали Перекоп, — ответила она. — Прошлой ночью мы уже грузились на машины для эвакуации из Симферополя. Потом получили сообщение, что наступление немцев приостановлено, бои идут где-то около Ишуни.
— Дело дрянь. Раз Перекоп прорван, нашим держаться в Крыму трудно. Обком тоже эвакуируется?
— Да, эвакуируется. Работники обкома партии делятся на две группы: одна будет в Керчи, другая в Севастополе. Ты попал в керченскую группу, я в севастопольскую.
— Чего же они нас с тобой разъединяют? Раз группа работников обкома едет в Севастополь, пусть и меня туда посылают.
— Считают, что с твоим здоровьем тебя в Севастополь посылать нельзя.
— Опять мое здоровье! — Я рассердился. — Вот несчастье! Во всем оно стало мне помехой. Понимаешь, как это тяжело.
— Конечно, понимаю. Оставлять родные места врагу разве не тяжело?.. Помнишь, когда мы отправляли одних детей неизвестно куда, как мы переживали! Но прошлой ночью, когда сказали, что мне самой нужно уезжать, мне было еще тяжелее… — Она разрыдалась.
— Знаешь, — сказал я жене, когда немного успокоился, — я от тебя никогда ничего не скрывал. В партизаны мы с тобой, конечно, не годимся, но здесь остаются товарищи и для подпольной работы, а у меня в этом деле большой опыт…
— И что же ты думаешь делать? — насторожилась она.
— Я решил остаться с подпольщиками.
Жена задумалась.
— Я понимаю, в подполье тебя трудно заменить, но ты же можешь в любой момент ослепнуть.
— Случиться, конечно, все может. Но ведь война.
— А что делать мне?
— Ты еврейка и поэтому не можешь остаться со мной. Поезжай к ребятам, ведь они одни. И в тылу тоже нужны люди.
В конце концов так и договорились.
Я пошел в обком партии и выразил желание остаться в Крыму на подпольной работе. Секретарь областного комитета Владимир Семенович моему предложению явно удивился:
— Товарищ Козлов, да вы же только что из больницы! У вас с глазами очень плохо. Да и вообще здоровье… Мы вас для эвакуации наметили.
Я понял, что и секретарь считает меня, старика, инвалида второй группы, уже непригодным для такой работы, и это меня больно задело. Последнее время я только и слышал: «Вам… с вашим здоровьем…»
— Владимир Семенович, я полжизни провел в подполье — в царском и белом. Если хотите знать, именно мой возраст и болезнь помогут мне замаскироваться лучше, чем человеку молодому и здоровому… Кроме того, на каторге я изучил немецкий язык, а в 1914 году, когда мне удалось бежать из сибирской ссылки, я попал в Германию, несколько месяцев прожил там и познакомился с немецкими нравами и порядками. В 1918 году я столкнулся с немецкими оккупантами на Украине уже на подпольной работе, а в 1919 году, во время деникинщины, был секретарем Харьковского губернского подпольного комитета партии. Видите, мне больше чем любому другому подходит работа в немецком тылу.
И обком партии решил мою просьбу удовлетворить.
Предстоящая работа захватила меня целиком. Я вспоминал организационное построение подпольной организации, методы нашей работы в царской России, во время гражданской войны и интервенции. Подбор людей, клички, конспиративные квартиры, пароли, подделки документов, устройство подпольной типографии и ее маскировка, распространение листовок среди населения и солдат вражеских армий, диверсионные акты. «Самое страшное, — думал я, — это проникновение в подпольную организацию шпионов и провокаторов. Хамелеонов окажется немало. „Враг коварен и хитер“, предупреждает Сталин. Нужно не забывать это, чтобы перехитрить врага. Недаром мы прошли тяжелый, длинный путь борьбы с многочисленными врагами».
Законспирироваться необходимо было задолго до возможного прихода немцев. В Симферополе меня слишком многие знали в лицо, вот почему я решил переходить на нелегальное положение в Керчи. Я получил фиктивный паспорт на имя Вагина, запасся на всякий случай справкой из тюрьмы. В Симферополе же было известно, что я эвакуируюсь вместе с женой к детям в Среднюю Азию.
В последние дни беспокоила меня мысль, которую я стеснялся высказать жене. Ясно представляя себе всю опасность работы в фашистском тылу и тяжело переживая разлуку с семьей, я хотел чем-то закрепить нашу долголетнюю, дружную и хорошую жизнь.
«Надо мне с женой, наконец, зарегистрироваться в загсе, — подумал я, — а то шестнадцать лет живем и до сих пор времени для этого не нашли. Но как сказать об этом жене? Если сказать, что это необходимо для оформления получаемой мною персональной пенсии в случае моей гибели, она встревожится и обидится. Подумает, что к смерти готовлюсь. Сказать просто — как-то смешно».
Ломал, ломал я голову и неожиданно для самого себя выпалил:
— Знаешь что, Циля? Давай поженимся.
— А разве мы с тобой не женаты? — смеясь, спросила она.
— Нет, давай в загсе, по всем правилам, как полагается. А то уедешь в Среднюю Азию, вдруг еще замуж выйдешь… Чем я потом докажу, что ты моя жена?
Я говорил в шутливом тоне, но жена, пристально посмотрев на меня, угадала мои мысли.
— Ну что ж, жениться так жениться. Пойдем в загс, — сказала она просто.
Я облегченно вздохнул.
Мы тут же пошли в загс, зарегистрировались, достали бутылку хорошего вина и вечером вдвоем отпраздновали нашу свадьбу. Из предосторожности гостей приглашать не стали.
На другой день рано утром мы на легковой машине выехали в Керчь. Было пасмурно, моросил дождь. По дороге мы обгоняли стада коров и овец. Грузовики везли заводское оборудование. Вереницами шли тракторы, комбайны. Крым усиленно эвакуировался.
Часто попадались окопы, противотанковые рвы. На полях стояли замаскированные самолеты, в садах и в лесу располагались воинские части.
Темнело, когда мы подъехали к Керченскому горкому партии, находившемуся в красивом двухэтажном доме на берегу пролива.
Секретарь горкома Сирота, мой хороший приятель, на первый случай отвел мне пустующее помещение недалеко от горкома. В этих двух комнатах я временно поселился, а при немцах намеревался использовать их как конспиративную квартиру.
В городе было тревожно, многие уезжали, наспех продавали дома, имущество. Я считал, что в этой обстановке мне удастся легко приобрести необходимые для подполья вещи.
Жена на несколько дней задержалась со мной в Керчи, чтобы помочь мне подыскать квартиру и домик для будущей подпольной типографии.
Мне надо было устроиться на работу. Подумав, мы с Сиротой решили, что вполне подходящим для меня учреждением будет Рыбакколхозсоюз.
Сирота позвонил председателю и попросил устроить на работу Вагина. Я отправился в Рыбакколхозсоюз.
Председатель поговорил со мной и несколько раз с удивлением и неудовольствием осмотрел мои документы.
— Паспорт в порядке: «Вагин, Петр Иванович, пятидесяти пяти лет, кустарь-столяр». Но справка… справка не из желательных.
«Вагин Петр Иванович, 1886 года рождения, осужденный по делу № 2465 от 18 августа 1938 года по статье 116 Уголовного кодекса РСФСР к трем годам лишения свободы Красноярским краевым судом, содержался под стражей с 11 декабря 1938 года по 18 августа 1941 года. Из общей тюрьмы № 1 из-под стражи освобожден по отбытии срока наказания, что и удостоверяется».
— За кражу, значит, сидел?
— Другие крали, а я виноват.
— Вот что, голубчик мой, — стараясь быть сдержанным, сказал председатель. — Удивляюсь я вашей… — он замялся, — смелости…
Председатель, молодой парень, был действительно поражен: война, немцы наступают, Крым под угрозой, и в это время в таком городе, как Керчь, секретарь горкома просит устроить на работу какого-то проворовавшегося старика.
— Нет у меня работы: все должности заняты, — решительно сказал он и уткнулся в бумаги.
— А может быть, вы все-таки еще раз поговорите с секретарем горкома? — настаивал я.
Помолчав немного, он недовольно буркнул:
— Хорошо. Узнаю, в чем дело.
— Когда зайти к вам?
— Дня через три.
— Я зайду к вам завтра. Мне нужна работа.
На другой день, после повторного указания Сироты, председатель встретил меня по-другому.
— Извините, что немножко не так вас принял, — сказал он сконфуженно. — Вы по спецзаданию ко мне поступаете?
— Вы же знаете, что такие вопросы не задают.
— Простите… Я зачисляю вас на работу младшим диспетчером. Ознакомьтесь с материалами колхозов. Если нужно будет уходить и кто-нибудь из служащих спросит, куда, — скажите, что идете по моему заданию.
Он вызвал управляющую делами и официальным тоном приказал ей оформить меня на работу и выдать хлебную карточку.
Так из работника Крымского обкома партии Козлова я стал «нечистым на руку» кустарем Вагиным и в октябре 1941 года в Керчи, готовясь к «погружению» в подполье, перешел на нелегальное положение.
Пока я устраивался на работу, жена подыскала мне и квартиру для жилья и домик.
— А зачем тебе дом покупать и деньги тратить? — спросил меня Сирота. — Любой коммунальный дом можем дать. Бери хоть двухэтажный. Устраивает?
— Нет, не устраивает. Для типографии нужен свой дом. А то придут немцы, появятся и старые хозяева. Хлопот не оберешься.
— Да… — Сирота был озадачен. — Это, пожалуй, возможно…
Жена предупредила меня:
— Дом пойдем смотреть вместе, хозяева эвакуируются. А квартиру я могу показать тебе только издали. Я сказала хозяевам, что я одинокая, эвакуирована из Симферополя. Там у меня собственный дом и хорошее хозяйство. Поэтому я дальше уезжать не хочу, но не знаю, пропишет ли меня милиция в Керчи. Если милиция разрешит мне прописаться, то я приду к ним и уплачу за три месяца вперед. А если милиция откажет, я к ним больше не приду. Ждать они меня будут до четырех часов.
Домик стоял на городском склоне горы Митридат. Во дворе — сарай, задняя стенка прилегает к самой горе. Это мне особенно понравилось: при случае можно сделать хороший тайник.
Пожилая хозяйка сердито упаковывала вещи. Ей не хотелось бросать свое хозяйство, но муж — кузнец с завода имени Войкова — отправлялся на Урал с первой партией рабочих и оборудования.
За дом со всей обстановкой и курами хозяйка просила девять тысяч. Сошлись на восьми тысячах без кур, которых она решила зажарить на дорогу.
Покупку дома мы должны были на следующий день оформить в коммунальном отделе. Но Сирота не успел достать денег, и дело сорвалось.
Квартира сдавалась на улице Кирова, 44, почти на окраине, недалеко от порта.
Небольшая полутемная комната с двумя окнами на двор меня устраивала. Двор был проходной. Одна калитка — на улицу Кирова, другая — на набережную, весьма удобно.
Хозяева — старик и старуха, люди, видимо, хозяйственные и расчетливые — встретили меня сдержанно.
— Я слышал, вы сдаете эту комнату?
— Мы ее уже сдали одной дамочке, — оглядывая меня, ответила хозяйка.
— Немолодая такая, в черном плюшевом пальто?
— Да.
— Так она же меня к вам и послала. Я с ней встретился в милиции. Ее не прописывают.
— А вы тоже приезжий? — вступил в беседу хозяин, поглаживая жиденькую с проседью бородку.
— Здесь я в Рыбакколхозсоюзе работаю. Снимал комнату, а теперь хозяева уезжают, дом продают.
— А что, извиняюсь, делаете?
— Работаю агентом по снабжению.
— О, должность хорошая! — старик оживился.
— Ничего, на бога не обижаюсь! — согласился я. — Поживем с вами! Чего-чего, а рыбки поедим.
— Как вас по батюшке?.. Марья, дай стул Петру Ивановичу, — Старик услужливо пододвинул мне стул. — Вы что же, партийный будете?
— В молодости не был, а теперь какая уж партия!
Я уплатил им за три месяца вперед, предупредил, что переберусь через несколько дней, когда вернусь из командировки, и мы расстались, вполне довольные друг другом. 22 октября меня вызвал в Симферополь секретарь обкома. В этот раз Владимир Семенович уже не говорил о моем здоровье.
— Я вас вызвал по весьма важному вопросу, — сказал он, потирая наморщенный лоб. Он был встревожен и даже смотрел как-то иначе: пристально, как старый человек смотрит и взвешивает каждое слово и все возможности. — Положение наше на фронте ухудшилось. Надо быть готовым ко всему, а поэтому уже сейчас необходимо решить, кого оставить для руководства крымским подпольем. Мы считаем вас самым подходящим кандидатом. Как ваше мнение?
Мы стали обсуждать подробности будущей подпольной работы.
Для того чтобы руководить подпольем всего Крыма, надо находиться в Симферополе, но мне оставаться здесь сейчас было не только опасно, но просто бессмысленно. Владимир Семенович согласился, чтобы я пока продолжал работу в Керчи, а дальше обстановка покажет.
— Что вам нужно для подполья?
Я предложил прежде всего создать руководящий подпольный партийный центр с полномочиями обкома партии из трех человек: секретаря и двух заместителей — одного по военно-диверсионной работе, другого по организационно-политической.
— Сделаем. Что еще нужно?
— Мне нужно знать, кого вы оставляете в Крыму для подпольной работы в районах, и получить их явки и пароли.
— Это мы вам дадим.
Тогда же я поделился с Владимиром Семеновичем своим беспокойством относительно организации партизанских отрядов в Керчи.
После выступления товарища Сталина 3 июля в Керченский горком, как и всюду, посыпались заявления от партийных и беспартийных с просьбой принять их в партизанский отряд. Мне об этом подробно рассказывал Сирота.
Горком организовал два партизанских отряда по сорок человек. По плану, в случае прихода немцев один отряд должен был действовать недалеко от завода имени Войкова, в аджимушкайских каменоломнях, второй — в Камыш-буруне, в старо-карантинских каменоломнях.
В годы гражданской войны я был на подпольной работе в Севастополе и хорошо помнил, что керченские каменоломни попортили немало крови интервентам. За один только день 19 мая 1919 года английские миноносцы выпустили по каменоломням несколько сот снарядов, в том числе и начиненных ядовитыми газами. Но взять каменоломни все же не смогли.
Теперь командиром партизанских отрядов всего Керченского полуострова был назначен малоопытный и незнакомый с местными условиями человек. Он не придумал ничего лучшего, как расположиться со своим штабом в парткабинете и на виду у всех, открыто вызывал к себе будущих партизан. Словом, поднял недопустимый шум по всему городу. А главное, начал ориентировать керченских партизан не на каменоломни, а на старокрымские леса и кое-кого с толку сбил.
Все это я рассказал Владимиру Семеновичу, предложил утвердить командиром партизан другого человека, выдвинутого Сиротой, — Ивана Пахомова, в прошлом рыбака, а теперь председателя рыболовецкого колхоза Еии-Кале. Он еще в гражданскую войну партизанил в этих самых керченских каменоломнях.
— Я не возражаю, — сказал Владимир Семёнович, — но согласуйте этот вопрос с Мокроусовым. Он назначен командующим партизанскими отрядами всего Крыма.
В тот же день на бюро обкома был утвержден крымский подпольный центр: Колесниченко Василий Степанович из евпаторийской парторганизации, Ефимова Евдокия Викторовна из Старого Крыма и я. Все были примерно одного возраста. Товарищей вызвали в Симферополь, я с ними познакомился и условился о встрече в Керчи. Установили клички: Ефимова — «Маша», Колесниченко — «Семен», я — «Андрей».
В обкоме меня познакомили еще с одним коммунистом, остающимся в подполье, стариком Беленковым. Он уже имел фиктивный паспорт на имя Ланцова и был устроен на работу в симферопольскую психиатрическую больницу сторожем. Я дал ему пароль, с которым к нему должен был притти мой связной.
В Симферополе я пробыл два дня, разрешил все основные вопросы и сделал одно очень важное дело — договорился с Владимиром Семеновичем о том, что по моему первому требованию в Керчь приедет Лидия Николаевна Боруц с дочерью Клерой.
Познакомился я с этой женщиной следующим образом.
При немцах я решил работать на дому столяром как старик-инвалид. Еще в Симферополе, перед отъездом в Керчь, жена приготовила мне подходящую рабочую одежду, шапку. Я собрал все свои столярные инструменты, разумеется старые, долго бывшие в употреблении. Все это требовалось для оборудования мастерской.
А вот для домика, который я собирался купить под типографию, мне нужна была хозяйка, которую никто бы не знал и которая ничем не привлекала бы к себе внимания немцев.
Я просил жену помочь мне найти такую женщину.
— Ты знаешь нашего управдома?
Она назвала Лидию Николаевну Боруц.
Я пожал плечами:
— Очень поверхностно. Знаю, что она член партии, что активна по дому…
В самом деле, я только тогда подумал, как всё-таки мало мы знаем друг о друге, о своих соседях. Сколько раз встречался я с этой женщиной на дворе, на лестнице, мимоходом кланялся и проходил мимо!
— Боруц — серьезная, исполнительная женщина, — сказала жена. — Все мучается, что муж на фронте, а она ему ничем, по ее мнению; «основательным» не помогает. Она ведь отказалась эвакуироваться. У нее дочка пятнадцати лет, Клера. Они обе хотят пойти в партизанский отряд. Ну, какие же из них партизаны! У Лидии Николаевны сердце больное, а Клера — совсем девочка.
«Мать с дочкой… — подумал я. — Это даже хорошо для конспирации. Куплю им корову, и пусть под видом молочниц ходят по городу, выполняют задания…»
Я попросил жену поговорить с Боруц о работе в подполье и пригласить ее ко мне.
Жена привела худенькую, хрупкую женщину средних лет, ничем не примечательную по внешности. В большом широкоплечем ватнике она казалась еще меньше и производила впечатление не очень пожилой, но много пережившей. По манере держаться — бойкая, подвижная. Видно, энергии в ней много.
— Какие могут быть разговоры! — живо сказала Боруц. — Буду, наконец, помогать Красной Армии.
— А вы ясно представляете себе опасность этой работы?
Она чуть-чуть улыбнулась:
— Чего же не представлять! Попадусь — повесят.
— Нужно сделать так, чтобы не попадаться. А как ваша дочка?
— За Клеру я спокойна.
Это была единственная фраза, которую Лидия Николаевна произнесла с гордостью. Я подумал тогда, как смело и скромно эта маленькая женщина готова рисковать не только собой, но и подвергнуть смертельной угрозе самое дорогое, что у нее есть, — своего единственного ребенка.
— Вам, конечно, лучше знать свою дочь, но учтите: подполье — дело суровое и опасное. Советую вам все хорошенько продумать. Если вы твердо решите остаться, скажите мне. Пока я не эвакуировался, могу вас рекомендовать обкому.
— Я уже все продумала.
— Хорошо. Насколько мне известно, порядок такой: вы будете на учете, и когда потребуетесь, вам дадут направление. Но имейте в виду: это может случиться в любой момент.
— Я готова хоть сейчас.
Когда Боруц ушла, жена спросила меня:
— Ну как? Мне кажется, она говорит чистосердечно.
— Ничего, подойдет. И вид у нее подходящий для подпольщицы. Пусть она пока не знает, куда поедет и с кем будет работать. Устроюсь в Керчи — вызову.
Так вот об этой Лидии Николаевне я и рассказал Владимиру Семеновичу. Он обещал прислать ее ко мне в Керчь.
Все эти разговоры о подполье и подготовка к нему были очень тяжелы и для Владимира Семеновича и для меня. Когда в городе еще и боя не слышно, заранее готовиться к тому, что здесь, вот в этом доме, будут враги, — очень мучительно.
Но даже в эти напряженные дни нашлись минуты, когда я искренне, до слез смеялся.
Зашел у нас с Владимиром Семеновичем разговор о том, что мне нужны для подполья рация и типография. Рации у него не было, он собирался ее достать через командование.
— А типографию забирайте нашу. «Американка»! Подойдет?
Я, к стыду своему, не знал, что такое «американка».
Он объяснил. Я так и ахнул:
— Батюшки! Станок — тонна весом! Куда ж я с ним денусь?
Помню, тогда я впервые задумался над тем, что до войны как-то стерлись грани между молодыми коммунистами и нами, старыми. И только готовясь к подполью, я увидел, как резко отличается от нас молодое поколение. Ведь мы, по сути дела, воспитывались в подполье, оно вошло в привычку, въелось, так сказать, в нашу плоть и кровь. А они выросли после революции, привыкли ходить, высоко держа голову, совершенно не привыкли скрываться.
Только поэтому и мог предложить мне Владимир Семенович свою тысячекилограммовую «американку»; только поэтому Сироте не пришло в голову, что у коммунальных домов при немцах могут объявиться старые хозяева.
Я объяскил, что вся моя типография должна быть в небольшом чемоданчике: деревянная коробка для набора, валик, шрифт на одну-две листовки…
Мы сделали в два дня все, что можно было сделать. На прощанье Владимир Семенович настойчиво посоветовал мне немедленно эвакуировать жену из Керчи.
— Ну, а сами… — Он крепко обнял меня и поцеловал. — А сами, Иван Андреевич, месяца два сидите, чтоб я не слышно и не видно было. Только приглядывайтесь. А потом уж начинайте. Не мне вас учить.
Мы попрощались, и я уехал в Керчь, захватив с собой четыре ящика вина для чебуречной, которую намеревался открыть при немцах.
Глава вторая
В ночь на 25 октября я вернулся в Керчь. Условились, что Сирота обеспечит несколько квартир для приезжих подпольщиков и приготовит необходимые документы. Он обещал также помочь моей жене эвакуироваться.
Навсегда мне запомнился этот невеселый день. Пароход уходил в одиннадцать. Последние перед разлукой пасы мы с женой просидели в пустых стенах моей явочной квартиры.
Я даже проводить ее не мог. Лишь издали услышал гудок парохода. Пожалуй, это были самые тяжелые минуты, какое-то полное прощание с прошлым. Была семья, дом, хорошая, налаженная жизнь — и вдруг все это поглотила война. Сижу один за пустым столом, в чужой квартире, с фальшивыми документами…
Думаю, у каждого бывает момент, когда остро и безошибочно ощущаешь в себе рождение нового чувства, той страшной силы ненависти, которая нарастала потом с каждым днем. Да, пожалуй, не знаю, прошла ли она и теперь, эта ненависть. Может ли она полностью пройти после всего того, что каждый из нас видел и пережил!
Сложив в чемодан свои небогатые пожитки, а инструмент — в вещевой мешок, я отправился на новую квартиру. По дороге зашел на базар, купил три кило свежей рыбы и принес хозяйке «подарок из колхоза».
На работу в Рыбакколхозсоюз я выходил во-время, просматривал отчеты колхозов, делал выписки, как заправский диспетчер. В середине дня я «по заданию председателя» отлучался на два-три часа. Это время я проводил на своей явочной квартире и встречался с нужными мне людьми.
Начали приходить от Сироты коммунисты, намеченные горкомом для подпольной работы, но почти никого из них я не решился использовать.
Все они были квалифицированные рабочие, стахановцы, по большей части уроженцы Керчи, партийные активисты, широко известные в городе.
Я сказал Сироте, что эти люди очень хороши для партизанских отрядов, но в Керчи их оставлять нельзя. В лучшем случае их отправят на работу в Германию, но, как советский актив, они легко могут попасть и в гестапо.
— Давай малоизвестных людей, постарше возрастом. Совсем нет женщин, а их нужно побольше. И не обязательно, чтобы все были коммунисты. Очень желательно привлечь беспартийных патриотов.
Я обратил внимание Сироты и на то, что мне особенно нужны специалисты: гравер, наборщик, радист, машинистка.
Охотно согласилась остаться в подполье беспартийная наборщица Никишова. У ее родителей был свой дом на окраине города, работала она в типографии. Мы условились, что при немцах она выждет некоторое время, заслужит репутацию «благонадежной», а потом постарается устроиться в типографию. Я поручил ей теперь же на всякий случай приготовить немного шрифта.
А вот с комсомолкой работницей-швеей Полей Говардовской мне пришлось поспорить. Поля настаивала, чтобы я ее оставил в подполье, а я не хотел, потому что она еврейка.
Как было она обиделась, когда я выставил эту причину!
— Я родилась и выросла при советской власти и никогда не чувствовала разницы между евреем и русским, А теперь, когда нужно защищать Родину, вы мне об этом напоминаете…
Я сказал, что с евреями немцы расправляются особенно жестоко.
— А я думаю, что немцы со всеми советскими людьми расправляются одинаково.
Пришлось ей уступить. По внешнему виду она больше была похожа на армянку. Мы договорились, что сделаем ее по паспорту армянкой. Родные ее — мать и сестра — эвакуируются, ей мы достанем швейную машину, и она будет работать на дому портнихой.
Я встретился с Пахомовым, высоким смуглым человеком с резкими чертами лица. Каменоломни Пахомов знал прекрасно и подробно о них рассказал:
— Каменоломни находятся на глубине от пяти до двадцати пяти метров. От главных проходов идут во все стороны разные штольни — широкие и узкие, высота кое-где больше человеческого роста, а в некоторых местах можно пробраться только согнувшись. Там легко запутаться даже бывалому человеку. Деревня Аджи-Мушкай находится на каменоломнях.
— Значит, потайной выход сделать можно?
— Конечно, можно! По-моему, это неплохое укрытие для партизан. Скверно только то, что там нет воды. Но мы уже сделали резервуары, создали продбазы, склады боеприпасов…
Не имея помещения для типографии, я решил на первое время передать ее Пахомову в каменоломню. В последнюю нашу встречу я отдал ему шрифт, полученный мною от Сироты. Мы обменялись явками. Пахомов должен был прислать ко мне своего связного. Он же должен был снабжать подпольщиков оружием и взрывчатыми веществами для диверсионной работы.
27 октября — памятный для керчан день. Было тихо, небо безоблачно. Я только что вышел из своего «учреждения» и направился на явочную квартиру. Вдруг над морем появилось шесть «юнкерсов». Одно звено начало сбрасывать фугасные бомбы на порт, другое — на госпиталь и на жилые дома. Было много убитых и раненых.
К несчастью, одна бомба попала в только что подошедший пароход со снарядами. Начались оглушительные взрывы. Сила взрывов была такой, что огромный котел парохода пролетел над моей головой и со страшным грохотом упал в центре города. В порту возник огромный пожар.
С трудом добрался я до явочной квартиры и остался там ночевать, а утром, до начала работы, пошел на улицу Кирова показаться хозяевам и проверить, цел ли дом.
В городе было много разрушений. Особенно пострадали набережная и улицы, прилегающие к порту. На мостовой и на тротуарах зияли воронки от бомб, валялись неразорвавшиеся снаряды, камни, куски металла, убитые лошади. В разрушенных домах копошились люди, собирали уцелевший скарб и уходили на окраины. Наш дом оказался наполовину разрушенным взрывной волной. Через дыру в крыше светилось небо. Перепуганные хозяева грузили вещи на дроги.
Старуха и слушать не хотела моих уговоров:
— В деревню от греха! В деревню!
Они обещали, что как только будет поспокойнее, вернутся в город, починят дом, и я снова буду у них жить. Но пока что я был вынужден перетащить свои вещи на явочную квартиру.
С этого дня немцы начали ежедневно и методично бомбить Керчь. Встречаться с людьми стало гораздо труднее; из Рыбакколхозсоюза приходилось отлучаться часто и надолго.
Сослуживцы вообще относились ко мне, как к человеку чужому, довольно настороженно. Однажды, придя на работу, я заметил, что меня рассматривают особенно испытующе.
Я спокойно сел за свой стол рядом с молодой девушкой-счетоводом.
— Петр Иванович, куда вы все уходите? — спросила девушка.
— Председатель гоняет по разным поручениям.
— А как вы думаете, когда немцы будут в Керчи?
— Этого я вам не могу сказать. Может, они и совсем здесь не будут.
— А сегодня нас будут бомбить?
— Не знаю.
— Нет, вы все же скажите, куда вас председатель посылает? — допытывалась она, покраснев.
— Об этом я ему докладываю. Если вас интересует, спросите у него.
Она замолчала, схватила со стола какую-то бумагу и исчезла. Через некоторое время появился наш парторг. Он начал расспрашивать меня, откуда я, где работал, не состоял ли раньше в партии и почему не принимаю никакого участия в общественной жизни коллектива.
— Я уже старый и больной человек, — ответил я. — Слава богу, у нас для общественной работы молодежи хватает.
Когда парторг вышел, я направился к председателю.
— Кажется, меня сотрудники в чем-то подозревают?
— Подозревают! — Он засмеялся. — Счетовод мне сказала: «Знаете, кого вы приняли на работу? Немецкого шпиона. Мы заметили: как только он уходит с работы, начинается бомбежка». Они считают, что вы сигнализируете немцам. У вас какая-нибудь немецкая книжка есть?
Я действительно запасся немецким учебником и подучивал грамматику, слова. Часто приносил учебник в портфеле и оставлял его в ящике стола.
— Ну, вот и попались! Они сделали у вас в столе обыск и обнаружили эту книжку. Теперь паргорг требует, чтобы я принял меры.
То, что сослуживцы принимают меня не за того, кем я являюсь в действительности, меня очень устраивало. Не хотелось только, чтоб они за мной следили.
— Вы объясните служащим, что с работы я ухожу по вашему заданию, — сказал я председателю. — Но если они меня подозревают, пусть сообщат об этом в соответствующие органы. Только посоветуйте делать это скрытно, чтобы не вызвать у меня никаких подозрений. А то ведь я и сбежать могу.
Председатель посоветовал парторгу написать на меня заявление, что он и сделал. А я поставил об этом в известность Сироту.
Фронт все приближался. Скоро я решил уйти из Рыбакколхозсоюза, заручившись еще одной справкой, которая могла бы мне пригодиться при немцах. Я попросил председателя уволить меня с работы с самой «страшной» мотивировкой.
И мы составили приказ по Крымрыбакколхозсоюзу следующего содержания:
«Диспетчер по снабжению Вагин Петр Иванович ушел с дежурства по Крымрыбакколхозсоюзу 25 октября, а 28 октября совершенно не явился на работу, не имея на то никаких уважительных причин.
Со дня поступления на работу Вагин П. И. к своим обязанностям диспетчера по снабжению относился явно пассивно, не выполнил мое распоряжение о завозе крайне необходимых материалов для колхозов, что, но существу, сорвало намеченные мероприятия в колхозах. Такое поведение Вагина П. И. в военное время расценивается как контрреволюционный саботаж, за что Вагина П. И. с сего числа с работы снять и материалы на него передать в ревтрибунал».
Протянув мне выписку из этого приказа, он, смеясь, добавил:
— Знаете, когда я продиктовал этот приказ машинистке, она сказала мне: «Давно бы так! Мы сразу разгадали, что это за птица».
С председателем мы расстались друзьями, но зато сослуживцы проводили меня злорадными, уничтожающими взглядами, а на мое грустное «прощайте» никто не ответил.
Так завершилась моя карьера младшего диспетчера в Крымрыбакколхозсоюзе.
1 ноября наши войска оставили Симферополь.
Сдерживая немецкий натиск, одни части отходили на Севастополь, другие — на Керчь.
В ночь на 2 ноября приехали Колесниченко, Ефимова и Боруц с дочкой, а утром Сирота передал мне полмиллиона рублей. Из Симферополя прибыл еще один подпольщик — коммунист Скворцов по кличке «Николай». Обком намечал послать его на подпольную работу в другой район, но не успел перебросить и оставил в Керчи.
Создалось критическое положение. Нужно размешать подпольщиков, прятать деньги, типографию, материалы, а квартир нет! К приезду подпольщиков Сирота наметил семь квартир, но часть из них была разрушена, а в других давным-давно жили какие-то люди, о которых вследствие неразберихи в жилуправлении попросту забыли.
Таким образом, все мы, с деньгами и со всем нашим имуществом, очутились в моей явочной квартире. Это нарушало конспирацию и, кроме того, было весьма опасно. Помещение — в центре города. Бомбежки каждый день. Кругом уже разрушено много зданий. В нашем доме взрывной волной вырвало рамы и искорежило железные ворота, которые мы всегда запирали, чтобы во двор не заходили посторонние.
— Вот что, друзья мои, — сказал я товарищам. — Боюсь, что пока мы дождемся квартир жилуправления, мы можем перестать в них нуждаться. Пропадем здесь ни за грош и ничего не сделаем. Как кончится бомбежка, идите на окраины, обойдите все улицы из дома в дом. Наймите или купите любое, что попадется под руку: комнату, угол, сарай. Ищите поэнергичней, другого выхода нет.
Они ушли. Я разыскал на дворе доски, начал забивать окна и поправлять покосившуюся дверь.
Только через два дня на Нижне-Катерлезской улице мы нашли две комнаты в разных домах.
Опять задача: как разместиться в двух комнатах?! Сколько ни ломали мы голову, выход намечался только один: устроить фиктивный брак, поселиться двумя семьями, а «Николаю» подыскать угол. Сначала это предложение огорошило товарищей, а потом все весело рассмеялись и, так как другого выхода не было, решили так и сделать.
— Ну, «Маша», выбирай себе любого из нас! «Семен» помоложе, зато я побогаче. Имею полмиллиона денег, да сколько вина и разного прочего добра!
— Нет, нет, я за «Семена». Что мне богатство, была бы любовь, — с деланной серьезностью ответила та.
— А я к деньгам поближе, — весело заметила Лидия Николаевна. — Правильно, Клера? — спросила она дочь.
— Правильно, мама! И я богатая невеста буду.
Сирота помог нам быстро совершить «бракосочетание». «Семен» и «Маша» приняли общую фамилию Костенко, хозяевам домов мы решили говорить, что я и Костенко, то есть «Семен», работаем в Рыбакколхозсоюзе, жены наши — домохозяйки, а перебрались мы сюда с разрушенной улицы Кирова.
Так началась наша совместная жизнь с Лидией Николаевной и Клерой. Признаюсь, я был рад им, как родным. Уж одно то, что они знали мою семью, сближало нас. А кроме того, оставшись один, я убедился, как мне будет трудно с моими больными глазами.
Однажды вечером во время бомбежки я заблудился, упал в яму, расшибся и понял, что в темноте я могу ходить только по хорошо знакомому маршруту или с провожатым.
А теперь, на положении дочки и жены, Клера и Лидия Николаевна всегда могли быть рядом, и моя беспомощность кончилась.
Помню, как мы устраивались на новоселье с Боруц и Клерой. Вошли во двор домика с закрытыми ставнями. Двор огорожен каменной стеной, ворота поломаны. Во дворе две хибарки и курятник, похожий на собачью будку. Позади двора — большой огород и пустошь с бурьяном.
Нас встретил парень лет двадцати пяти в сером ватнике и кепке. Я принял его за хозяина.
— Я жилец. Грузчик. Вот мое помещение. — Он широким жестом показал на одну из хибарок с двумя окнами без стекол.
Хозяйка, женщина лет тридцати пяти, совершенно обезумевшая от бомбежки, невылазно сидела со своей дочерью в щели на огороде. Хозяйку звали Клавой. Она была работницей табачной фабрики.
— Что вы тут сидите? — спросила Лидия Николаевна. — Бомбежка кончилась, можно выходить.
— Что вы, господь с вами! — испуганно замахала она руками — Не успеешь до дому дойти, как он, проклятый, опять начнет сыпать.
— Да тут у вас совсем не видно разрушенных домов, — сказал я.
— Не видно, а стекла все повылетали. Разве его, окаянного, узнаешь, куда он угодит! Налетит воронье вражье, начнет над головами кружиться, так и думаешь — смертушка пришла. Что ж это будет? — закончила она с отчаянием.
— Что поделаешь, война! — сказал я. — Мы у вас комнату снять хотим, а то нашу квартиру разбомбило, остались на улице.
— Занимайте, сделайте милость! Пусть хоть люди будут, воры не полезут.
— Пойдемте, покажите нам квартиру.
— Нет, нет, не пойду, боюсь! Поди, Ларчик, отведи их. Пусть живут, — сказала она, обращаясь к грузчику.
— А цена какая будет? — спросила Лидия Николаевна.
— Какая теперь цепа! Бомба угодит — вот тебе и цена. Живите, пока живы.
— Пойдемте, отведу, — сказал Ларчик.
Мы вошли в дом, в маленькую пустую комнату с земляным полом и двумя окошками без стекол, освещенную полосками света через щели закрытых ставней.
Ларчик с ленивым любопытством наблюдал, как мы раскладывали свои немногочисленные пожитки. Уходя на «дежурство», я попросил его помочь Лидии Николаевне.
— А с работы приду, винца выпьем.
Ларчик безнадежно свистнул:
— Вина теперь не достать.
Понизив голос и как бы сомневаясь, стоит ли говорить, я сказал, что работаю по снабжению, достать можно и вино и мануфактуру. Да где спрячешь? Придут немцы, да за твое добро тебя же…
— Еще немцев бояться! — с презрением сказал Ларчик. — Что попадется, все берите. Спрячем. — Он оживился. — Я в курятнике такую яму выкопаю, хоть тысячу бутылок давай!
Видимо уверовав в мои «снабженческие связи», Ларчик спросил:
— А может быть, вы сможете где-нибудь и стекла добыть? У меня двое маленьких пацанов, боюсь простудятся. Да вам и самим стекло понадобится.
Мне понравилось, что Ларчик заботится о стеклах, когда неизвестно, будет ли цел завтра дом. Видно, вывести его из равновесия не так легко!
Когда он ушел, я сказал Лидии Николаевне:
— Получше прощупайте этого Ларчика, познакомьтесь с его женой, посмотрите, как они живут и что за люди. Если парень надежный — используем его. Другого выхода у нас пока нет. Придется пойти на риск, ничего не поделаешь.
— Хорошо, разузнаю все, — ответила та.
— Давайте твердо держаться в соответствии с новым нашим положением. Ты, Клера, должна называть меня только «папа» и на ты. А вы, Лидия Николаевна, называйте меня просто «Петя», а я вас «Лида», и тоже на ты. Смотри, Клера, не сбивайся, не проговаривайся, а то могут получиться большие неприятности.
У Сироты я достал все, что нужно. Уже смеркалось, когда я, потный, усталый, нагруженный стеклом, гвоздями, инструментом и четырьмя бутылочками портвейна, вернулся с «дежурства». У нас сидели «Семен» с «Машей» и рассказывали, как устроились на своей новой квартире.
Хозяева их — в прошлом богатые люди — имели прибыльные огороды, им принадлежал чуть ли не весь квартал, застроенный теперь этими маленькими домиками. Они ждали немцев, надеясь, что к ним вернется земля.
— Уток и кур откармливают, — сказала «Маша». — Готовятся фашистов угощать.
Клера привела Ларчика. Мы познакомили его с «Семеном» и «Машей». Увидя бутылки, Ларчик просиял.
Позвали хозяйку. Но та, видимо, действительно решила до конца войны сидеть в щели. Она даже ночевала там. Это было нам очень кстати: никто не мешал устраиваться.
Пользуясь отсутствием посторонних глаз, мы быстро перенесли все необходимые для подполья вещи к себе на квартиры. Вино Ларчик закопал в курятнике. Часть денег взял «Семен». Триста пятьдесят тысяч рублей мы с Лидией Николаевной уложили в ящик и под видом «мануфактуры» вместе с Ларчиком закопали у него в сенях, в земляном полу. На это место поставили большую бочку с квашеной капустой. Чтобы окончательно уверить Ларчика, что в закопанном ящике содержится мануфактура, я дал его жене несколько метров ткани для ребятишек и сказал: «Если нужно будет, дам еще».
Через Ларчика я познакомился и со вторым нашим соседом — Василием. Боец истребительного батальона, он находился на линии обороны на горе Митридат и должен был эвакуироваться вместе с частями Красной Армии. Василий просил нас позаботиться о его семье, которая оставалась в городе, и мы обещали это сделать.
Немец бомбил Керчь почти непрерывно, но боя еще на было слышно. Только 10 ноября мы явственно услышали отдаленную канонаду и увидели вспышки огня.
Сирота оставался в городе до последнего момента. Я все время держал с ним связь и получал информацию о положении на фронте и в городе.
15 ноября я случайно столкнулся с ним на улице недалеко от горкома. Немцы были уже в Камыш-Буруне и обстреливали город из орудий и минометов. За горой Митридат, совсем близко, шел бой с пехотой противника. Сирота был очень встревожен. Он оглянулся по сторонам и незаметно кивнул мне. Разговор с секретарем горкома на улице — грубейшее нарушение всех правил конспирации, но что было делать! Явочная квартира моя была к тому времени совершенно разрушена, а другой еще не нашлось.
В эту минуту опять начался налет. Раздался хорошо знакомый противный свист падающей бомбы. Я побежал и прыгнул в одну воронку с Сиротой.
— Оставляем город, — торопливо говорил он. — Войска переправляются на Кубань. Горком и штаб переехали в Ени-Кале. Здесь остается только заслон, чтобы обеспечить эвакуацию оставшихся войск и техники. Магазины и склады открываем для населения. Пусть забирают, что осталось. Пролив немец жутко бомбит. Потопил, гад, наш пароход с рабочими. Твое последнее задание выполнил. В деревне Капканы затопили одиннадцать лодок. Рыбацкие сети припрятаны. Пароль твой передал.
Эти лодки я намеревался в случае необходимости использовать для связи с советским берегом.
Раздался оглушительный взрыв. Нас осыпало землей. Когда я поднял голову, Сирота, пригнувшись, бежал к горкому. Он на мгновение остановился, увидел, что я жив, улыбнулся и побежал дальше.
Я тоже поднялся и, когда самолеты скрылись, стал пробираться к себе.
Наступила ночь. На нашем дворе никто не скал. Мы то и дело выходили за ворота и прислушивались. Над городом и проливом стоял тяжелый грохот разрывов. Полыхали пожары.
К рассвету все затихло.
— Смотрите! — вдруг испуганно вскрикнул Ларчик, указывая на гору Митридат. — Немцы! Ей-богу, они!
Глава третья
— Где, где немцы?
Я изо всех сил напрягал зрение, но над городом стоял дым пожара, и я ничего не видел.
— Вон, смотрите! На самом верху, у часовни. И пешие, и конные. А вон справа цепочкой с горы спускаются.
Скоро я разглядел движущиеся точки; появляясь из-за горы, они спускались к городу, и их становилось все больше и больше…
Немцы на нашей земле! У меня сжалось сердце. Я-то познакомился с немцами еще двадцать семь лет назад и хорошо запомнил это знакомство. Есть вещи, которых забыть нельзя.
Да, я бежал в четырнадцатом году из сибирской ссылки в Германию, полагая понаслышке, что там народ культурный и свободный. Нанялся сезонным рабочим к фермеру и работал честно. Мне хотелось, чтобы меня уважали. Мне нравились немецкая черепица, порядок, аккуратность. Я думал многому научиться.
Три сына фермера имели высшее образование. Я был хорошим работником, они не могли этого не видеть, и все-таки очень скоро я услышал излюбленное немецкое выражение: «Руссише швайн!»
— Вы должны изменить свой ужасный русский вид, — сказал мне как-то старший сын хозяина, указывая на мою сатиновую косоворотку, сапоги и картуз. — А то вы можете напугать нашу скотину.
Помню, первое время за обедом я старался оставлять немножко супа на тарелке: пусть немцы не думают, что мы, русские, обжоры. Но хозяйка обрадовалась и стала каждый день убавлять мне суп на такое количество ложек, какое я оставлял. В конце концов я стал получать меньше половины тарелки.
Выдавая мне два бутерброда по утрам, немка машинкой строгала сыр и ветчину. Эти аккуратно сделанные бутерброды просвечивали, в лунную ночь через них можно было считать звезды.
Порядок в доме действительно был: в такой-то час встать, в такой-то час в кирху, в таком-то ящике такое-то белье, перевязанное такой-то ленточкой. Жили мои хозяева богато. Но за стакан горячей воды для бритья с меня вычитали пфенниг. Я мог надорваться на работе, но все равно был для них только «руссише швайн».
Я сбежал, даже не взяв расчета…
А объявление в Кенигсберге: «Сдается комната, только не русским». Мой квартирный хозяин, кондуктор трамвая, с длинными усами, закрученными кверху, походил на императора Вильгельма, портрет которого висел у него в комнате. На противоположной стене находился небольшой портрет Карла Маркса. Хозяин, заметив мое недоумение, пояснил с усмешкой, что он — социал-демократ и Маркс принадлежит ему, а кайзер — это жене.
— Мы, немцы, любим порядок. У нас всему есть свое место.
У них действительно было место всему, кроме человечности. Этот бездушный, автоматический порядок так замучил меня, что я решил вернуться в Россию: каторга, и та лучше!
…И вот немцы пришли к нам устанавливать свой «новый порядок»! Как победители, как хозяева идут они по нашей земле.
В эту минуту я не на шутку испугался, что у меня нехватит силы жить рядом с ними. Я покосился на Клеру, на Ларчика: они ведь немцев еще не знают.
Мне казалось тогда, что я уже все знаю о немцах.
— Гостей встречаете? — раздался позади нас тихий голос.
Я вздрогнул от неожиданности. Оглянувшись, увидел Василия. Глаза его были воспалены от бессонных ночей. Плотная, коренастая фигура как-то съежилась, согнулась. Серое, землистое лицо, измазанные грязью одежда и вещевой мешок сразу выдавали бойца.
— А ты почему остался? — изумленно спросил Ларчик.
— Не успел эвакуироваться. Всю ночь протолкался на переправе, ничего не вышло.
— Много народа осталось?
— Нет. И я бы уехал, налетел немецкий самолет и начал бомбить. Мы не успели сесть. Катер отчалил.
— Немцы идут! — волновался Ларчик. — Прячься скорей!
— Да куда теперь спрячешься? — Василий растерянно оглянулся. — Найдут, хуже будет.
— Иди во двор, — подтолкнул я Василия, — переоденься скорей и займись чем-нибудь по хозяйству.
— Ступай, ступай, Вася! — Ларчик плотно прикрыл за ним калитку и добавил озлобленно: — Вот, зараза, до чего дожили!
— А ты разве не военнообязанный? — спросил я у Ларчика.
— Нет, освободили. У меня глаза больные и ревматизм замучил.
В одиночку и звеньями пролетали к морю вражеские самолеты. Доносились глухие взрывы. Дымилась догорающая мельница. В городе было совершенно тихо, как на кладбище. И в этой страшной тишине появились первые немцы.
Один за другим они перебегали площадь по направлению к нашей улице.
— Пойдемте и мы во двор, — нерешительно сказал Ларчик.
Мы вошли во двор. Переодетый Василий пилил со своей женой какие-то гнилые доски.
Как долго длились эти последние минуты тишины! Вот за воротами раздался топот кованых сапог. Калитка с шумом распахнулась, и два немецких солдата с автоматами вбежали во двор. За ними — еще пятеро. Один торопливо устанавливал в раскрытой калитке ручной пулемет, другие начали обыскивать огород и двор.
— Зольдат, партизан зинд да? — сердито крикнул немец с нашивками на рукаве.
Я отрицательно потряс головой:
— Нет, нет!
В это время солдат позвал немца с нашивками на огород, к щели. Немец бросился туда и, заглянув в щель, закричал:
— Партизан! Вег, вег!
Клава еле-еле выбралась из убежища.
— Партизан, партизан! — немец направил на нее револьвер.
Клава повалилась на землю и, загораживая лицо дрожащими руками, повторяла хриплым голосом:
— Что вы, что вы! Господь с вами. Я женщина, я бомбы боюсь…
Ударив Клаву носком сапога, немец заставил ее встать. Она вскочила и побежала к нам. Немец выстрелил, промахнулся и погнался за Клавой.
— Она сумасшедшая! — не выдержав, крикнул я по-немецки.
Клава подбежала к нам и упала.
— Она сошла с ума от бомбежки, — повторил я. — Она все время сидит в щели.
Было похоже, что Клава действительно потеряла рассудок. Валяясь по земле, она громко рыдала, повторяя: «Убьют, господи, убьют!»
Немцы засмеялись.
— Молчи! — прикрикнул немец с нашивками, ткнув ее сапогом в бок. — Откуда вы знаете по-немецки? — спросил он меня.
— Я был в Германии.
— Это хорошо. Сделайте нам яичницу.
Я перевел Ларчику. Тот испуганно пожал плечами: — Нет яиц. У меня две курицы, но они не несутся.
Ответ Ларчика обозлил немца. Он потребовал зажарить курицу. Ларчик поймал пеструю хохлатку и, свернув ей голову, передал жене Василия.
Скоро во двор зашел еще один солдат и передал немцу с нашивками приказ немедленно итти дальше. Солдаты захватили с собой недощипанную курицу и ушли.
— Ну вот, мы и познакомились, — сказал я.
— Я думал, Клаву убьют, — отозвался Василий, вытирая с лица пот.
— Больше в щель не ходите, плохо может кончиться, — посоветовал я Клаве.
Она ничего не ответила, с трудом поднялась с земли и, шатаясь, пошла домой.
Убедившись, что советские войска ушли, немцы, как саранча, хлынули в город. Они заняли самые лучшие квартиры. Домовладельцам и жильцам в лучшем случае было разрешено жить в сенях и сараях. В нашем районе разместился полк СС. Начался грабеж. Тащили кур, гусей, часы, одежду — все, что попадалось под руку.
Зашли и к нам два молодых немца в грязных потрепанных куртках. Почесываясь и не обращая на нас никакого внимания, они молча прошли к шкафу и начали вытаскивать оттуда продукты.
— Что вы ищете? — спокойно спросил я их по-немецки.
Солдаты сразу повернулись ко мне и растерянно забормотали:
— Вы немец?
Я взглянул на сахар, который солдат держал в руках, и, сделав вид, что не расслышал их вопроса, продолжал:
— Хотите чай пить? Пожалуйста, садитесь за стол. Хозяйка вас угостит.
Солдаты переглянулись, сунули обратно в шкаф взятые ими продукты, сели за стол, обшаривая комнату глазами. Особенно быстро бегали колкие, злые глаза худощавого небольшого солдата, который потом назвался Максом.
— Лида, — сказал я Лидии Николаевне, — дай нам чаю и чего-нибудь закусить.
— Вы немец? — повторил солдат.
— Нет, я русский, но долго жил в Германии. Это моя жена, — указал я на Лидию Николаевну, — и дочка Клера.
Видимо, немцы не могли понять, кто я такой, и на всякий случай, из предосторожности, вели себя сдержанно. Лидия Николаевна и Клера подали чай, закуску и сели с нами за стол. Увидев патефон, солдат спросил, можно ли сыграть.
— Можно. Клера, заведи что-нибудь веселое.
— У вас хорошо, мы поселим к вам нашего командира, — сказал Макс, поглядывая колкими глазами на Клеру.
У меня мелькнула мысль, что они затевают что-то недоброе по отношению к девушке, и я испугался.
— Ну что вы! Вы же видите, какая у меня маленькая комната, а у меня жена, дочь. Куда же мы денем вашего командира?
— Ничего, для него найдете место, — жестко ответил Макс.
Солдаты ушли, оставив меня в смятении. Я поделился с Лидией Николаевной.
— Вот сволочи! Что же нам делать? — спросила та.
— Нужно как-то выкручиваться.
Вечером Макс привел обер-ефрейтора. Огромный, широкоплечий детина лет тридцати со свирепым лицом и водянистыми глазами сразу напомнил мне кенигсбергского кондуктора. Только у того усы были закручены кверху, под Вильгельма, а у этого — маленькие, рыжие, подстрижены под Гитлера. На рукаве куртки — фашистская свастика, на груди — железный крест. Он был чисто выбрит и даже надушен.
Не здороваясь, он прошел прямо к столу, грузно уселся, приказал солдату тоже сесть и начал меня допрашивать.
Я рассказал, что в прошлом имел столярную мастерскую, потом был раскулачен и выслан в Сибирь. Там работал в артели завхозом и за кражу осужден на три года. В Керчи работал в Рыбакколхозсоюзе. Там узнали, что сидел в тюрьме, уволили, хотели опять судить, но они, немцы, так сильно бомбили Керчь, что большевикам ехало не до меня.
Пасмурное лицо ефрейтора прояснилось.
— Откуда вы знаете немецкий язык?
— Я был в Германии.
— Как туда попали?
— В прошлую войну попал к вам в плен. Я под Тильзитом у фермера работал. Там и вашу культуру и порядки узнал. Ваш кофе и бутерброды мне на всю жизнь запомнились.
Немец самодовольно засмеялся:
— О да! Мы любим кофе.
Лидия Николаевна поставила на стол две бутылки вина, закуску. Клера попросила разрешения завести патефон. Немцы ели с большим аппетитом. Ефрейтору очень понравилось вино, и он тянул рюмку за рюмкой.
— Скажите, пожалуйста, ваши власти могут разрешить мне открыть свою мастерскую? — спросил я.
— Конечно, разрешим, — ответил немец. — У нас никаких большевистских колхозов не будет.
— А война скоро кончится?
— Скоро, — уверенно кивнул он. — Украина уже наша, Москва окружена. До Урала дойдем, и война кончится.
— Но до Урала еще далеко.
Он презрительно махнул рукой.
— Большевикам капут. Красная Армия разбита. Большевики затопили в московском метро полтора миллиона жителей. В Москве образовалось новое правительство. Оно просит фюрера заключить мир, но мы не хотим.
Немец захмелел. Он вздумал потанцевать и, пошатываясь, подошел к Клере. Девочка так побледнела, что я испугался и решил подбодрить ее.
— Что ж ты, глупенькая! Господин офицер хочет научить тебя танцевать как следует. Извините, господин офицер, — улыбнулся я немцу: — девочке еще ни разу не приходилось танцевать с настоящим офицером.
Обер-ефрейтор остался доволен. На прощание он даже подал нам руку и сказал, что его зовут Отто. Обещал никого к нам не вселять и заходить в гости.
Когда они ушли, Лидия Николаевна, словно после тяжелой работы, устало опустилась на стул и с тревогой посмотрела на дочь, потом на меня. Я понял ее страх и подумал: «Надо, чтобы Клера меньше попадалась на глаза этому немцу».
Что же я мог еще сделать?
Утром Ларчик и Василий держались со мной очень натянуто. Из их осторожного разговора я понял: они подозревают, что я хочу поближе сойтись с немцем. Я постарался рассеять возникшее у них недоверие и обрадовал их сообщением, что, кажется, в наш дом пока никого вселять не будут.
Мы сидели в нашем домике, как осажденные, и напряженно прислушивались к каждому шагу на улице, к каждому скрипу калитки. Через три дня я не выдержал и решил пойти узнать, что делается в городе.
— Может быть, рано? — сказала Лидия Николаевна. — Пусть немножко успокоится.
Наверное, ей было страшновато с непривычки оставаться одной, но у меня уже нехватало терпения. В трудные времена самое ужасное — неизвестность и бездействие. Мне хотелось подыскать помещение для мастерской и скорее начать что-нибудь делать.
На улицах меня поразило почти полное отсутствие наших, советских людей — одни немцы. По мостовой шли легковые и грузовые автомашины с немцами, по тротуарам — немецкие солдаты и офицеры. На углах, в резиновых плащах, в касках, с большими бляхами на шее и дубинками в руках, стояли гестаповцы. Везде слышалась немецкая речь.
Каким чужим и враждебным показался мне город! Последний раз я проходил по этим улицам под непрерывными разрывами бомб, но и тогда мне не было так жутко.
На столбах, на заборах — приказы. Я все их внимательно прочел.
«Приказываю всем жителям города и его окрестностей в трехдневный срок зарегистрироваться в городской управе и в гестапо. За неисполнение приказа — расстрел.
18 ноября 1941 года.
Германская полиция безопасности».
«Приказываю всем рабочим, служащим, иженерно-техническим и другим работникам зарегистрироваться на бирже труда и работать по указанию немецких властей. Неявка на работу будет рассматриваться как саботаж, и виновные в этом будут расстреляны».
«1. Кто с наступлением темноты без письменного разрешения немецкого командования будет обнаружен на улицах города, тот будет расстрелян.
2. Движение в дневное время как по шоссейным, проселочным дорогам, так и вне дорог за городом без разрешения немецкого коменданта не разрешается. Нарушители будут расстреляны…»
А вот и пункт, непосредственно касающийся Пахомова:
«3. Во всех домах и улицах щели и входы в катакомбы должны быть немедленно заделаны прочными каменными стенками.
За неисполнение — расстрел…»
Я задумался: делают это немцы в порядке предупреждения или уже нашелся какой-нибудь предатель и донес о партизанах?
Были приказы об обязательной регистрации скота и птицы, о сдаче теплой одежды и белья для германской армии и другие приказы. И везде расстрел, расстрел… Меньшей меры наказания не было.
Я повернулся, чтобы итти дальше, и остановился: у подъезда дома лежала молодая женщина в изодранном платье, с растрепанными светлыми волосами. В правой руке ее был зажат окровавленный платок. Видно, она лежала уже не первый день.
— Бегите, немцы схватят! — услышал я вдруг испуганный шопот за спиной. — Мужчин ловят! — повторила торопливо проходившая мимо меня незнакомая старушка.
Я оглянулся. Со стороны улицы Карла Либкнехта немцы гнали большую толпу мужчин. Бежать поздно. Перешагнув через труп, я спрятался в подъезде. Толпу прогнали мимо. В ней были и подростки и старики. Солдаты автоматами подталкивали отстающих.
Переждав немного, я вышел на улицу, свернул в первый попавшийся переулок и окольными путями добрался домой.
Я вызвал «Семена», «Машу», «Николая». Конечно, наши не ждали хороших новостей, и все-таки мой рассказ ошеломил всех.
Документы у нас были в порядке, и чтобы не вызывать подозрений, мы решили немедленно пройти регистрацию. На другой день я пошел в городскую управу, зарегистрировался. Немцы остро нуждались в специалистах, поэтому я на бирже труда встал на учет как не имеющий профессии инвалид второй группы.
И в управе и на бирже людей было много. Разговаривали шопотом, оглядываясь. Я потолкался в народе, послушал о новых порядках в городе.
Ворвавшись в город, немцы прежде всего начали уничтожать культурные учреждения. Прекрасный клуб камыш-бурунских рабочих они разграбили и устроили там конюшню. Из городской библиотеки книги выбрасывали во двор и сжигали на костре.
На горе Митридат стояло старинное здание музея, где были собраны богатейшие материалы тысячелетней истории Керчи. Все исторические ценности немцы немедленно уничтожали.
Недалеко от Сенного базара был так называемый Царский курган — раскопки древней гробницы. Там немцы устроили уборную.
— А в городской управе — Токарев, — сказал какой-то старик. — Токарев и Бамбухчиев.
Позднее через Ларчика и Василия мне удалось выяснить, что это за люди.
Шестидесятилетний Токарев был городским головой во время оккупации немцами Керчи еще в восемнадцатом году, и теперь они снова посадили его на эту должность. Бамбухчиев — жулик, аферист, неоднократно судившийся за кражу. В управу вошли и некий Яншин, осужденный по делу промпартии, и петлюровец Данилюк. О других я пока ничего узнать не смог. Городскую полицию немцы набрали из уголовников.
Возвращаясь с биржи, я неожиданно встретил своего квартирного хозяина с улицы Кирова. Пошли вместе.
— Что ж так скоро из деревни вернулись?
Вид у него был очень расстроенный. Он оглянулся и быстро зашептал:
— Вернулся, а жить негде. Немцы в доме конюшню устроили. В квартире лошади. Солдаты где стоят, там и гадят. Свой дом, а на улице живу. Что делать?
Я поглядел на него, многозначительно помолчал и сказал:
— У меня есть знакомые немцы. Я открываю столярную мастерскую. Если вы меня пустите в свой дом, попробую помочь.
Старик обрадовался, но стал прибедняться, торговаться, а попутно клясть своих сыновей, которые не послушали его, ушли с красными. С красных какой теперь толк? А вот невестка-то с ребенком у него на шее.
— Петр Иванович! — спросил он вдруг. — Вы вот с немцами знакомы. Что они там, про Анапу ничего не говорят? Скоро возьмут ее?
— А зачем вам Анапа?
— Как же! У меня там лавка была, большой дом. Большевики отняли. В доме школу устроили. Я потому и переехал сюда.
— Хорошо еще, что школу, не конюшню, — не без ехидства заметил я. — Дом, наверное, в порядке.
— В порядке, в порядке. Как думаете, ведь отдадут?
Мы дошли до сквера Ленина. Старик вдруг остановился и испуганно схватил меня за локоть:
— Господи! Никак люди висят!
На деревьях возле разрушенного памятника Ленину висели три человека. Одеты они были в потрепанные ватники, на ногах — ботинки с обмотками. У каждого была приколота на груди бумага. Написано по-русски: «Повешен как партизан». На окровавленные, обезображенные лица страшно было смотреть. Очевидно, их повесили недавно, а перед казнью пытали.
Около повешенных молча толпились женщины и дети. Они с ужасом смотрели то на трупы, то друг на друга. Немцы же, проходившие мимо, с удовольствием посматривали на толпу.
Постепенно народ стал расходиться. Мы с хозяином тоже вышли из сквера. Я обещал зайти к нему, и мы расстались.
Вид казненных произвел на меня очень тяжелое впечатление. Я решил проверить, живы ли мои подпольщики, и зашел к Поле Говардовской. Она была сильно встревожена и очень обрадовалась моему приходу.
— Знаете, со мной получается скверная история. Сначала шло все хорошо. И на новую работу при помощи Сироты устроилась — продавщицей в магазине, и на эту квартиру переселилась. Никто и не подозревал, что я еврейка. Но с эвакуацией родных ничего не вышло. Мать узнала, что немцы потопили пароход с рабочими, и наотрез отказалась ехать. Как назло, накануне прихода немцев бомба разбила в деревне наш дом, и мать с сестрой приехали в город. Меня в это время дома не было. Мать сказала соседям, что я ее дочь, и все узнали, что я еврейка. А тут — вы слышали? — приказ немцев о регистрации евреев в гестапо. Мне пришлось пойти вместе с матерью и сестрой.
Теперь и я встревожился.
— Очень скверно, что так вышло. О чем же с вами говорили в гестапо?
— Ни о чем. Записали только фамилию, имя, адрес и приказали носить белую звезду на груди.
Девушку необходимо было спасти. Я предложил ей оставить мать и сестру в этой квартире, устроить фиктивный брак с «Николаем», переменить фамилию и переселиться в другое место.
Поля отказалась:
— Мать не согласится; а если я уйду потихоньку, она будет меня разыскивать и может погубить не только меня, но и вас.
Я просил ее постараться убедить старуху. Она обещала. Дал ей пароль и адрес, по которому она могла меня найти.
Ушел я от Поли очень подавленный. Меня мучило, что я согласился оставить ее в Керчи.
Домой я вернулся в тяжелом настроении. Повешенные не выходили из головы.
Меня, все время тревожила мысль: неужели немцы знают о партизанах и поэтому издали приказ замуровать входы в каменоломнях?
Я ничего не говорил товарищам, но как-то раз «Семен» сам сказал мне:
— Что-то нет связного от Пахомова. Как они там?
Не помню точно, но, кажется, на другой день после этого разговора мы услышали глухие взрывы. Вернувшись из города, Ларчик объяснил:
— Аджи-мушкайские каменоломни рвут. Партизан боятся, что ли… Говорят, и пулеметы и прожекторы туда тащат.
Я был твердо уверен, что Пахомову удастся сохранить запасные потайные выходы, тем не менее каждый взрыв больно отдавался в сердце. Нехватало сил больше оставаться в неизвестности. Я собрал заседание партийного комитета.
Внешне наши заседания выглядели очень безобидно: сидят семейные пары за столом, пьют чай, вот и все. Только вечером, когда хождение по городу кончается, я беру маленький листок и несколькими шифрованными словами записываю протокол.
Мы решили послать «Семена» в Аджи-Мушкай на явочную квартиру, указанную Пахомовым. Но как это сделать? Необходимо достать пропуск на выход из города.
Я вспомнил, что Василий работал раньше в гужтранспортной конторе. Пошел к нему. Василий был дома и чинил ботинок своего сынишки.
— Слушай, Василий, — сказал я, усаживаясь: — не знаю, как у тебя, а у нас кушать нечего. Как бы это достать барашка?
От Лидии Николаевны я узнал, что у него с едой совсем плохо.
— На деньги сейчас ничего не купишь, — вздохнул Василий.
— У меня есть кое-что для обмена. Костенко согласен поехать в деревню. Надо бы лошадь достать и съездить. Достанешь — тебе половину.
— Куда вы хотите ехать? — Василий отложил ботинок.
— В ближайшее село, ну, хоть в Аджи-Мушкай. Есть там знакомые?
— Там живет наш дрогаль, старик. Барашка у него самого нет, но он всех в селе знает и скажет, у кого есть.
— А подвода?
— Через два двора от нас живет еще дрогаль…
Василий тут же привел этого дрогаля. Договорились мы быстро. Дрогалю разрешалось выезжать за город. «Семен» поехал на правах его помощника, грузчика, и повез для обмена немного мануфактуры, несколько пачек спичек, чаю и две бутылки вина.
…Вот и вечер, а их все нет. «Маша» пришла к нам, Клера то и дело выбегала за ворота. Мы очень волновались: немцы установили строгую слежку за ходившими по городу в неположенное время. Несколько человек уже было расстреляно.
«Семен» вернулся, когда до комендантского часа оставалось всего несколько минут. Мы уж места себе не находили. Погода была сырая, телега увязла в грязи и долго не могла выбраться.
По виду «Семена» я сразу понял, что съездил он хоть и благополучно, но безрезультатно.
Оказывается, немцы точно знали о партизанах Пахомова в каменоломнях. 20 ноября они попробовали туда сунуться, но партизаны дрались с немцами двое суток и заставили их отступить. Немцы понесли большие потери и пока лезть в каменоломни не осмеливались.
«Семен» рассказал, что вся деревня занята немцами. К каменоломням и подойти нельзя: кругом охрана. Цементируют и минируют все выходы. Из деревни Аджи-Мушкай взяли двадцать заложников и пригрозили расстрелять, если партизаны нападут на немцев.
По адресу, указанному Пахомовым, «Семен» никого не нашел. В доме оказались немцы. От женщины, живущей по соседству, «Семен» узнал, что нужный нам человек выехал, но должен скоро вернуться.
Немцы грабят крестьян так же, как и городских. Все описали, вплоть до курицы и кролика. Никто не имеет права ничего продавать. Но старик все же обещал «Семену» достать барашка к следующему воскресенью.
Мы надеялись, что к тому времени связной Пахомова вернется в Аджи-Мушкай.
В условленное воскресенье «Семен» поехал в Аджи-Мушкай и вернулся оттуда потрясенный. Связной Пахомова оказался предателем. На глазах у всей деревни он водил немцев в каменоломни. Когда партизаны отбились и прогнали немцев, предатель выехал в Ени-Кале, где был назначен старостой.
Глава четвертая
Итак, человек, оставленный на подпольную работу и, надо думать, проверенный, оказался предателем.
Конечно, все мы понимали, что как только придут немцы, появятся и предатели, но все-таки в том «черном списке» предателей, о котором мы узнали, некоторые фамилии оказались тяжелой неожиданностью.
Даже беззаботный Ларчик однажды пришел домой совершенно подавленный. Долго слышалось только излюбленное его словечко: «Зараза! Вот зараза!»
— Что с тобой? Расскажи толком, — спросил я.
— У меня на заводе Войкова брат-машинист. Завод-то разрушен, но немцы хотят восстановить водопровод и электростанцию, — мрачно сказал Ларчик.
— А рабочие как?
— Рабочие-то не хотят! Немцы насилу собрали несколько человек по домам. Тянут, извиняюсь, кота за хвост. Но вы подумайте, Петр Иванович! Директором завода и старостой поселка назначен Пискарев. Мастер томасовского цеха Пискарев. Ну, не зараза ли? Он сказал, что отправит в Германию всех, кто не будет работать. Брат у меня там… Что делать?
Соседи считали меня стариком бывалым и рассудительным, который и с немцем поговорить сумеет и русских не продаст. Я выспросил все, что можно, о Пискареве и вздохнул:
— А брат что думает?
— Что ж брат! Конечно, не хочет на немцев работать. Да что поделаешь, когда его за шиворот притащили.
— Ну что ж, — заметил я, — пусть пока работает потихоньку.
Так нащупывалась у нас связь с войковцами. Для нашей будущей деятельности это имело большое значение.
К тому времени в городе стали поговаривать, что Красная Армия освободила Ростов на Дону. Усилились налеты советской авиаций на Керчь. Несколько раз появлялись корабли Черноморского флота и обстреливали город.
Когда начали бомбить Керчь, я, конечно, радовался, как всякий советский патриот, нн, с другой стороны, очень боялся, как бы бомба не попала в наш дом. Ведь могли взлететь на воздух сотни тысяч моих новеньких советских дензнаков, и тогда — прощай вся конспирация!
Поговаривали уже и о десанте. Немцы заметно нервничали. Распространились слухи, что население Керчи, в первую очередь евреев, эвакуируют в другой район Крыма.
28 ноября по городу был расклеен приказ гестапо, в котором говорилось, что все евреи, проживающие в городе Керчи и его окрестностях, независимо от возраста, обязаны явиться на Сенную площадь 29 ноября от восьми до двенадцати часов дня, захватив с собой трехдневный запас продуктов. Невыполнение приказа каралось публичным повешением.
Я тревожился о Поле Говардовской и пошел к ней. Кроме Поли, я застал в комнате ее сестру и мать.
— Но ведь ничего плохого не может быть, правда? — старалась убедить себя сестра Поли. — Просто эвакуируют. Видите же, даже продукты на три дня…
Я предложил помочь им укрыться каждому в одиночку. Обещал достать новые паспорта на разные национальности и фамилии.
Поля и сестра быстро согласились, но старуха-мать отказалась наотрез.
— Хотите, чтобы нас повесили, что ли? — говорила она с горячностью. — Чего нам бежать и прятаться? Мы не преступники какие-нибудь. Я старый человек, всю жизнь прожила и мухи не обидела. За что меня будут обижать, кому я, старуха, нужна? То же самое и мои девочки. Кто против них что-нибудь может иметь? Они тихие, скромные, с людьми живут хорошо. Подумайте сами, добрый человек: зачем нам скрываться? Не нас одних отправляют, а тысячи евреев. Где все будут, там и мы, а прятаться, как беглые арестанты, мы не станем.
Она ни под каким видом не соглашалась отпустить от себя Полю. Старуха плакала, жаловалась на то, что она больная, беспомощная и никогда не думала, что Поля может ее на старости лет бросить.
Как я ни старался убедить старуху в другом, она оставалась непреклонной.
— Знаете, — обратилась она ко мне: — Поля у кого-то взяла разную мануфактуру и белье на сохранение, а теперь мы уходим. Тут это разворуют, а пятно падет на нас. Я бы сама отнесла хозяину, да она не говорит, чье это.
Я понял, что речь идет об имуществе подпольной организации, которое я передал Поле перед приходом немцев.
— Я знаю, это вещи одной знакомой женщины, — успокоил я старуху. — Она придет и заберет их, не беспокойтесь.
Провожая меня, Поля сказала:
— Мама связала меня по рукам и ногам. Придется остаться с ней. Буду работать там, где будем жить. С вами постараюсь установить связь. Ваш адрес не изменился?
— Пока нет. В любой момент можете его использовать.
Утром 29 ноября я послал Клеру посмотреть, что делается на Сенной площади. Она вернулась часа в два вся в слезах…
С восьми часов на площадь начали сходиться еврейские семьи. К двенадцати часам собралось несколько тысяч. Людей начали угонять партиями по сто — двести человек. Клера проводила одну партию до тюрьмы и видела, как за ними захлопнулись железные ворота. Потом она опять вернулась на площадь. Там уже никого не было. Стояло только несколько жандармов.
С одной из боковых улиц выбежал старик-еврей. Вероятно, ему было тяжело нести вещи, он устал. Увидя пустую площадь, старик испугался, что опоздал. Он подошел к жандарму и начал ему что-то объяснять, показывая на вещи и ноги. Жандарм, не торопясь, вынул револьвер и тут же пристрелил его.
А 2 декабря рано утром жены Ларчика и Василия пошли в деревню Багерово. Там на колхозном поле оставалась невырытая картошка. Горожане частенько ходили туда и тайком от немцев выкапывали ее.
Женщины вернулись в полдень без мешков, в полуобморочном состоянии.
В тот день я впервые узнал о систематических массовых расстрелах у Багеровского противотанкового рва.
Словно черная туча опустилась на город. Нельзя было выйти из дому, чтобы не натолкнуться на какую-нибудь страшную сцену. На повешенных, которые до сего времени качались в сквере, жители перестали обращать внимание. Куда страшнее было видеть лица живых людей, которых вылавливали немцы, везли, тащили, гнали на расстрел.
Когда-то я полагал, что знаю немцев, но оказалось, что невозможно было представить, на что способны фашисты.
Лидия Николаевна, проходя мимо городской больницы, видела, как немцы вытаскивали оттуда людей в одном белье, волокли их по снегу и грязи, бросали на грузовики и прямо из больницы везли к Багеровскому рву. Я как-то проходил по улице Энгельса. Меня обогнал открытый грузовик. В нем сидело несколько человек — мужчины, женщины и мальчик лет четырнадцати. Взрослые сидели с понуренными головами, они словно окаменели. Мальчик же, как пойманный зверек, все вертелся, ловил взглядом прохожих, видно по-детски еще на что-то надеялся.
Когда он взглянул мне в глаза, я оцепенел. Не знаю, увижу ли когда-нибудь в жизни что-либо страшнее этих умоляющих детских глаз.
Машину охраняли двое полицейских с винтовками. Вдруг одна женщина выбросилась из машины на мостовую. Грузовик резко затормозил. Один из полицейских спрыгнул за женщиной. Она подбежала к телеграфному столбу и, обхватив его обеими руками, сползла на землю… Полицейский стал бить ее прикладом. Судорожно держась за столб, женщина исступленно кричала:
— Убей здесь, никуда не пойду! Мне все равно! Не пойду!
Прохожие обступили женщину и полицейского. К счастью, поблизости не оказалось немецких солдат. Люди молча, сурово смотрели на полицая-предателя и незаметно сжимали его в кольцо.
Было очень тихо. Только ворчал грузовик и истерически кричала арестованная:
— Люди добрые! Они убивать нас везут! За что?
Вдруг пожилая женщина упала между арестованной еврейкой и полицейским. Несколько человек бросились поднимать ее, оттолкнули полицейского. В это время мальчик выскочил из машины и исчез в развалинах домов.
Охранник, сидевший в машине, поднял крик. Боясь, как бы не разбежались остальные арестованные, полицейский бросил свою жертву, выругался, вскочил в машину, и они уехали.
Люди помогли арестованной подняться, какая-то женщина поменялась с ней платком и увела с собой.
Я уже говорил, что домашнее окружение «Семена» и «Маши» отличалось от нашего. Хозяева «Семена», будучи до революции людьми состоятельными, возлагали большие надежды на приход немцев. Они рассчитывали получить обратно свои огороды. Племянник хозяйки Митька быстро устроился в полицию, брат ее, юркий, подвижной парень лет тридцати, опытный спекулянт, пока слонялся без дела. Второй брат устроился переводчиком у коменданта.
У нас же во дворе подобрался преимущественно народ рабочий. Я старался разговаривать поменьше, больше слушал, а рупором нашим являлся Василий, который пользовался у соседей авторитетом.
Ко мне часто приходили за советом обворованные немцами люди. Я обычно безнадежно разводил руками:
— Что ж поделаешь! Пойдете жаловаться — хуже будет. Вот у нас расстреляли соседку только за то, что она пожаловалась на немца, который увел ее корову.
Ефрейтор Отто два или три раза заходил к нам. Обещал как-нибудь притти обедать. К счастью, он не пришел, но когда к нам во двор являлись за поживой немецкие солдаты, я с достоинством сообщал им, что обедает обер-ефрейтор, и они тотчас исчезали.
Но был момент, когда популярность жильцов нашего дома несколько обеспокоила меня. Как ни посмотришь, во дворе люди. Соберутся чуть не со всей улицы и обсуждают новости дня.
Я предупредил Василия и Ларчика, что если так пойдет дальше, то гестапо несомненно возьмет наш дом на заметку. Стали собираться осторожней.
Сведения к нам поступали уже непрерывно и притом самые разнообразные. «Семен» и «Маша» узнавали кое-что от хозяйского брата-переводчика и племянника-полицая, а мы с Лидией Николаевной — от наших соседей.
Через брата Ларчика я знал, что делается на заводе Войкова. Клава рассказывала о табачной фабрике, которую начали восстанавливать немцы. Через Василия и дрогалей доходили кое-какие сведения из соседних деревень. Около Клеры группировалась молодежь, и мы использовали ее в различных разведывательных целях.
8 декабря я вызвал «Семена» и «Машу».
Обсудив на заседании комитета вопрос о положении в городе и наших ближайших, задачах, мы пришла к выводам, что немцы своим неприкрытым грабежом и террором сами разоблачают перед людьми истинную сущность «нового порядка», и уже заметны результаты их «просветительной» работы.
Когда была объявлена регистрация евреев в гестапо, никому не приходило в голову, что их поголовно будут расстреливать. Не думали этого даже тогда, когда евреям приказали явиться на Сенную. Но теперь, когда в гестапо проходит регистрация крымчаков, в городе уже ходит слух о том, что немцы готовятся расстреливать крымчаков. «Вчера расстреляли всех евреев, завтра крымчаков, а послезавтра за нас, русских, возьмутся» — вот что говорят между собой рабочие.
— Это говорят не только рабочие, — сказала мне Лидия Николаевна, — я об этом же слышала от женщин, с которыми постоянно встречаюсь в очереди у водопроводной колонки.
После расстрелов у Багеровского рва даже хозяева «Маши» и «Семена» стали больше говорить о расстрелах, чем о своих огородах.
«Маша» рассказала об одной сцене, происходившей у нее на глазах.
Племянник хозяйки, полицай Митька, явился к тетке за советом. Ему предлагают приличную надбавку за вылавливание советских работников.
Хозяйка возилась у печки… Она резко обернулась к Митьке.
— Вот, видел? — Она потрясла ухватом, — Своими руками голову размозжу, если выдашь хоть одного. — И повернулась к нему спиной, ворча: — Таких порядков я в жизни не видела. Детей стреляют, и за что?
Уже имелись факты проявления открытого негодования.
На биржу труда пришел жандарм и начал отбирать людей на работу. Один пожилой рабочий оттолкнул немца, когда тот потащил его за рукав к выходу. Жандарм ударил рабочего плеткой по лицу. Рабочий стиснул кулаки и сказал громко: «Не боюсь. Что бы вы ни делали, а здесь не быть вам!» Немец не понял, но на лицах присутствовавших появились одобрительные улыбки. Рассвирепевший немец побежал в кабинет заведующего биржей, а народ разбежался.
Таких примеров с каждым днем становилось все больше и больше. Люди начинали «закипать».
К этому времени мы уже отлично законспирировались. Предстояло подготовить явочную квартиру и найти людей, которым можно было доверить организацию патриотических групп. Первым подходящим для этого человеком все мы считали Василия.
Было решено как можно скорее оборудовать столярную мастерскую. Кроме места для явок, она будет средством для завязывания новых знакомств.
Поскольку связи с Пахомовым пока нет, а наша типография у него, надо было найти наборщицу Никишову, которая оставлена Сиротой в Керчи, и подыскать домик под типографию.
«Маша» рассказала, что брат хозяйки, переводчик, согласился за плату давать ей уроки немецкого языка.
— Он говорит только, что очень занят, и просит ходить на уроки к нему домой.
Это было неплохо. Через переводчика можно было попытаться найти лазейку в немецкую комендатуру.
После заседания комитета я направился к своему бывшему квартирохозяину. Дом освободился, так как кавалеристы были куда-то переброшены. Я поручил «Николаю» на правах моего компаньона заняться оборудованием столярно-слесарной мастерской.
Хозяин видел, что я хочу как можно скорее получить помещение, и не замедлил этим воспользоваться. Он потребовал, чтобы мы отремонтировали весь дом. Когда все было готово, в двух комнатах поселился хозяин с семьей, а две комнаты сдал нам, получив плату за полгода вперед. Нас это вполне устраивало.
Комнату побольше мы отвели под мастерскую, а в маленькой поселился «Николай». Инструменты, привезенные мною из Симферополя, стекло, гвозди, полученные через Сироту, нам теперь очень пригодились, так как все магазины и рынки с приходом немцев были закрыты и в городе нельзя было ничего купить. На бочонках мы устроили верстаки, разложили инструменты, из разрушенных домов притащили старое железо, набрали досок, словом — вполне обеспечили себя нужным материалом.
Хозяин решил, что мы должны ему все делать бесплатно. С чисто кулацкой жадностью он натаскал нам целую кучу барахла для ремонта: три примуса, четыре кастрюли, ведро, чайник, бак для белья, несколько замков, даже проржавленную горелку для лампы. Этот хлам сразу придал нашей мастерской рабочий вид. «Николай» приступил к починке. Мне хозяин тоже нашел работу — исправить зимние рамы и дверь.
В хлопотах по оборудованию мастерской прошла целая неделя.
В это время уехал со своей частью Отто. Он сказал, что уезжает не надолго — готовится штурм Севастополя, и к рождеству, по приказу фюрера, город будет взят… Как досадно было, что обком не смог обеспечить нас рацией! Сколько интересных разведданных мы могли бы сообщить на Большую землю!
Я попросил Отто подарить что-нибудь нам на память. Он долго мялся. Пожалуй, и отказал бы, но Клера сказала, что все мы будем скучать по нем, попросила подарить фотокарточку и тут же подала ему чернила для надписи.
Отто размяк. Он достал из кармана фотографию, где был снят в парадной форме, с крестом на груди, и написал: «На память Клере от Отто». Мне он подарил маленький карманный немецко-русский словарь и написал: «На память Петеру от Отто».
Впоследствии эти подарки, как своеобразные талисманы, охраняли нас от набегов фашистских грабителей. Как только в нашей квартире появлялись немецкие солдаты, мы сейчас же показывали им подарки обер-ефрейтора, и немцы оставляли нас в покое. Сам Отто больше в городе не появлялся. Должно быть, он сложил свою самодовольную голову под Севастополем, который оказалось не так-то легко взять.
В нашу мастерскую стали приходить разные люди: соседи — чтобы познакомиться с нами; домашние хозяйки — с просьбой починить чайник или керосинку. Зашел однажды и брат Ларчика, симпатичный парень лет двадцати трех, тот самый, которому я посоветовал остаться на заводе. Он рассказал, что попытки немцев восстановить на заводе водопровод и электростанцию провалились.
— На работу выгнали человек полтораста. Но мы стараемся делать все так, чтобы пользы не было. Половина рабочих уже разбежалась, тем более, что денег не платят и обращение самое хамское. Чуть что — в морду заедут. А вы посмотрите, что за хлеб! — Он показал кусок черной массы, похожей на смесь земли и соломы. Помолчав немного, сказал: — Брат посоветовал к вам зайти, Я ведь слесарь неплохой.
Но мне хотелось сохранить этого парня на заводе, и я просил его пока обождать.
— Нам инструменты и материалы нужны, — сказал я на прощание. — Постарайтесь достать их и заходите к нам почаще. Друзей своих приводите. Может, целую артель организуем.
Как-то во двор зашли два немецких солдата. Лица — холеные, на петлицах — самолеты.
— Две ложки и тарелку, — приказал один, показывая на стеклянную банку с вареньем, которую держал в руках.
«Варенье сперли у кого-то, — догадался я, — и хотят сожрать тайком от товарищей».
Хозяин услужливо пригласил немцев к себе в комнату.
— И вы, Петр Иванович, зайдите. Мне спросить у них кое-что нужно.
Немцы сели за стол. Хозяин велел жене подать тарелки, ложки и прошептал мне на ухо:
— Не взята Анапа?
— Скоро закончится война? — спросил я у солдат.
Те переглянулись и ничего не ответили.
— Один мой знакомый, обер-ефрейтор Отто, давно говорил, что война скоро кончится, а она все продолжается…
— Должна скоро кончиться, — нехотя отозвался один из них, круглолицый, с румяными щеками и еле заметным пушком над верхней губой.
— Япония объявила войну Америке и Англии, — добавил второй солдат, с бледными, впалыми щеками и большими серыми глазами. — Теперь вместе с Японией мы скорее победим всех.
Япония вступила в войну. Это новость!
— Ну как, Петр Иванович, Анапу взяли? — допытывался хозяин.
— Старик спрашивает, взяли ли вы Анапу. У него там дом свой, хочет поехать туда.
— Анапа? А что такое Анапа? — спросил с изумлением круглолицый.
— Это город на Кавказе.
— Нет, Кавказ возьмем после Москвы.
— После Москвы? — изумился я. — Отто давно говорил, что Москва окружена.
— А кто вы такой? — вдруг спросил меня сероглазый.
— Я хозяин мастерской, а Отто — мой хороший друг, а вот его подарок, — сказал я гордо, показывая им словарик с дарственной надписью немца.
Оба они внимательно посмотрели на надпись, потом на меня.
— Стекла вставлять умеете?
— Могу, но стекла нет.
— Пойдемте с нами.
Я подумал: «Ну влопался со своими расспросами!» Но делать было нечего. Я зашел в мастерскую, взял стеклорез и наскоро рассказал «Николаю», куда иду. Он очень встревожился.
Когда я выходил с солдатами, меня нагнал хозяин:
— Петр Иванович, а как же с Анапой?
— Да подождите вы с вашей Анапой! — раздраженно ответил я. — Вы видите, я с ними иду, чего же пристаете?
Солдаты привели меня во двор на берегу пролива. На деревянной вышке торчала пушка. Около нее стояли два солдата.
«Тюрьма», мелькнула у меня мысль.
Мы вошли в дом, где находилось человек двадцати солдат. Круглолицый что-то тихо сказал, солдаты обступили меня и начали расспрашивать, кто я, чем занимаюсь, откуда знаю немецкий язык. Я рассказал им о себе то же, что рассказывал Отто, добавив, что теперь, с помощью обер-ефрейтора, я открыл свою мастерскую.
Вдруг раздалась тревога, солдаты выскочили во двор и, вбежав на вышку, начали стрелять из пушки, оказавшейся зенитным орудием. Тут только я понял, что это не летчики, а зенитчики.
Когда тревога кончилась, два уже знакомых мне солдата вернулись в дом. Один принес какую-то раму со стеклами и показал на окно, забитое фанерой:
— Вставляй!
Я занялся работой, ожидая, что будет дальше. Солдат достал с этажерки большую книгу в красном переплете. Я сразу узнал первый том «Истории гражданской войны в СССР».
— Ленин? — немец ткнул пальцем в портрет Ильича.
— Ленин.
— Хороший человек Ленин? — пристально глядя на меня, спросил немец.
«Вот и допрос начался! — подумал я. — Что же им ответить? Сказать „плохой“ — язык не поворачивается».
Передо мной встал живой Ильич, каким я видел его в Цюрихе во время первой мировой войны. Мы говорили о моем возвращении в Россию на подпольную работу. «Отдохните немножко, тогда и поедете», сказал Владимир Ильич.
— Да, хороший человек Ленин, — ответил я решительно.
— Почему хороший? — допытывался немец.
— Ну как же! Раньше в России был царь, земля была у помещиков, рабочие работали по пятнадцати часов. Народ был темный, неграмотный. При Ленине земля перешла крестьянам, рабочие стали работать восемь часов, все дети учатся, культура стала подниматься. В Германии тоже высокая культура, — добавил я, чтобы смягчить разговор.
— Да! — самодовольно переглянулись солдаты.
— Сколько членов в партии большевиков? — спросил солдат.
— Не знаю. Я беспартийный. Читал в газете, будто шесть миллионов.
— Большевиков шесть миллионов, а населения сто девяносто миллионов. Почему же все солдаты дерутся за Сталина?
— Молодые русские очень любят драться, — ответил я серьезно. — Я сам, будучи мальчишкой, любил драться. Бывало из носу кровь бежит, а все дерешься.
Немцы переглянулись.
— А далеко до Урала? Холодно там?
— Очень холодно. Я там был. Сбежал от холодов. Но как же вы на Урал попадете? Надо сначала Москву взять.
Солдат сказал развязно:
— В Москве большевики потопили три миллиона жителей. Фюрер приказал нашей армии отойти от Москвы на тридцать километров и не входить в нее до тех пор, пока иностранные журналисты не приедут в Москву, чтобы убедиться в варварстве большевиков.
В комнату вошел ефрейтор, и солдаты оборвали разговор. Я закончил работу и ушел, обрадованный благополучным окончанием столь неожиданных приключений.
«Николай», видно, очень волновался.
В мастерской я все ему рассказал. Мы сделали выводы; «У немецких солдат нет уже прежней уверенности в победе. И с Москвой у них дело не вышло. Москва — наша».
Известие о том, что Москва наша, постарались немедленно распространить.
Мы посмеивались: гитлеровский дурачок Отто утопил в метро полтора миллиона, зенитчики — три. Интересно, сколько утопят другие?
Согласно решению комитета, я сообщил Лидии Николаевне пароль и поручил ей разыскать наборщицу Никишову.
Лидия Николаевна пошла в типографию. Она назвалась старой знакомой Никишовой. Один из рабочих сказал ей, что Никишова наниматься еще не приходила. Срок, в течение которого она должна была «отсиживаться», еще не кончился, и нам ничего другого не оставалось, как ждать.
Я считал, что уже пора привлечь к подпольной работе Василия. Пригласив его к себе на чай, я как бы между прочим сказал:
— Вы уже знаете, что Ростов на Дону взят Красной Армией?
— Слышал.
— Идут упорные слухи, что у нас вот-вот должен высадиться десант.
— Это и по поведению немцев заметно: сильно нервничают.
— Нам нужно чем-то оправдать перед Красной Армией свое пребывание на оккупированной территории.
— Я тоже об этом не раз задумывался, — вздохнул Василий, — но не знаю, что делать. Человек я беспартийный, знакомых таких не имею, кто мог бы помочь.
— Об этом я и хочу с Вами поговорить. На днях я встретил одного человека. Он мне откровенно признался, что связан с подпольной организацией. Ему дали задание организовать советски настроенных людей. Он хочет и меня привлечь к этой работе. Я решил посоветоваться с вами. Думаю, нужно пойти на это. Мы же русские люди и не можем примириться с оккупантами.
— Это вы, Петр Иванович, правильно сказали! — с жаром отозвался Василий. — Русскую душу у нас никто никогда не вырвет.
— Мой знакомый так и говорил. Плохо, что оружия у нас нет.
Василий подумал, видимо окончательно решившись, подозвал меня к окну:
— Видите?
За окном у нас была огромная воронка — еще от немецкой бомбы. Местность болотистая, воронка сразу наполнилась водой, она так и стояла вечной лужей.
— Там на дне винтовок двенадцать. Наши побросали. Я сам свою винтовку туда бросил. Можно достать, вычистить. У меня есть и люди. Только сигнал подай — пойдут куда угодно и оружие найдут.
— Очень хорошо! — обрадовался я. — Свяжитесь с этими людьми. Организуйте сначала небольшую группу, три — пять человек. Если людей будет больше, организуйте вторую группу. Назначьте руководителей, возьмите на учет все оружие. Смотрите, чтобы эти люди друг друга не знали. И вообще, все дело нужно держать в строжайшем секрете.
— Это я отлично понимаю. Один болтун всех может загубить.
— Безусловно. Давай, Василий, действуй! Связь держи со мной, а я буду докладывать подпольщику.
— Согласен!
Еще я ему сказал, что нужно установить наблюдение за немцами, узнать, где какие их части расположены, где какие огневые точки находятся. На том берегу все должны знать.
— Понятно, разведка необходима, — ответил Василий.
— Сделайте так, чтобы каждый патриот ею занимался.
— Все будет сделано.
— А какое ваше мнение о Ларчике? — спросил я его перед уходом. — Вы знаете его больше, чем я.
Василий помялся:
— Ларчик хороший парень, но невыдержанный, выпить любит. Последнее время он что-то все навеселе и песни распевает. Что у него за радость такая, не знаю. С ним о таких делах я бы не советовал вам говорить.
Я забеспокоился. Ведь Ларчику-то был известен тайник с моим портвейном в курятнике!
На другой день я зашел к Ларчику. Вместе с сынишкой он лежал на кровати и громко пел. Увидев меня, он сразу умолк.
— Слушай, друг мой: ты что-то часто стал песни петь.
— А что же делать? Жена белье ушла стирать, а я ребенка забавляю.
— А ты у меня бутылочки не тянешь для забавы?
— Ну что вы, разве я себе позволю!
— А ты все-таки скажи по-честному: если сосчитать, сколько не досчитаюсь бутылок?
Он смутился и, видимо испугавшись, что я действительно хочу проверить его, признался:
— Знаете, Петр Иванович, признаюсь вам по-честному: что хотите делайте, но не могу, ей-богу не могу проходить спокойно мимо курятника. Магнит, понимаете, прямо магнит, так и тянет!
— Мало ли куда может тянуть! — сказал я укоризненно. — Надо же выдержку иметь. Ты же человек честный, иначе бы я тебе не доверил такое дело. Кроме того, я же тебя не обижаю, сам даю.
— Не сердитесь, Петр Иванович, я прошу простить меня. Больше не буду, ей-богу не буду! Вот увидите.
И хотя Ларчик уверял меня очень горячо, я решил при первой же возможности избавить его от этого «магнита».
Тогда же мы начали приводить в исполнение план, который зародился у меня давно.
Пора было налаживать связь с другими районами Крыма. Самой лучшей формой для этого я считал комиссионный магазин.
«Семен» и «Маша» слыли бывшими состоятельными людьми, я судился за кражу. Словом, никто не сомневался в том, что деньжата у нас водятся. И когда «Семен» заговорил с братом хозяйки, спекулянтом, что неплохо бы через переводчика выпросить разрешение и открыть магазинчик, тот охотно согласился.
Парень он был опытный и мог по-настоящему поставить дело. Для скупки и перепродажи вещей необходимы были разъезды.
По нашему плану, я оставался в Керчи, а «Маша», как жена Костенко, хозяина магазина, могла поехать в Старый Крым, где раньше работала, и установить связи с подпольщиками, которых она там оставила. Во время этой же поездки «Маша» должна была нащупать связь с лесом, с партизанами Мокроусова. «Семен» должен был направиться в Симферополь. Ему поручалось найти там старика Ланцова, которого Владимир Семенович оставил под видом больничного сторожа в психиатрической больнице.
Спекулянт добился разрешения на открытие комиссионного магазина и со всей энергией взялся за дело.
Теперь оставалось подыскать домик для будущей типографии.
Столярная мастерская наша уже работала. Народу к нам заходило немало, о всех городских новостях мы узнавали довольно быстро и так же быстро распространяли все, что считали нужным. В мастерской же мы узнали о продающемся домике и тотчас же пошли с Лидией Николаевной его смотреть.
Домик стоял на краю города. Одна маленькая комната и прихожая с земляным полом. Из окон была видна железная дорога, проходившая метрах в ста пятидесяти. При доме имелся сарай, небольшой огород и несколько фруктовых деревьев. Под домом — погреб.
Хозяин произвел на меня отвратительное впечатление. Еще молодой, невысокий человек, аккуратно подстриженная бородка и елейная манера все время монашески-смиренно складывать руки на груди.
Он осведомился, кто я.
— Вы, значит, знакомы с германцами?
— Ну как же. Я хорошо говорю по-немецки и имею знакомство с немецкими офицерами. Один из них ухаживает за моей дочкой. Подарил ей карточку, а мне вот эту книжечку на память, — я показал ему словарик с надписью Отто.
— Прекрасно, с вами можно иметь дело! — сказал он менее елейным и более деловым тоном. — Дом стоит на русские деньги десять тысяч рублей, на немецкие — тысячу марок. Но мне бы хотелось получить немецкими. Я еду в Белоруссию, там у меня родители и приличное хозяйство.
— Зачем же вы от своего хорошего хозяйства уехали в Крым, в такую хибарку? — спросила Лидия Николаевна.
— Я бы не уехал, да товарищи большевики выгнали, — ответил он сдержанно, пощипывая усики. — Я был осужден на двадцать лет по пятьдесят восьмой, из тюрьмы удалось бежать. Пробрался в Крым. Тут все время и скрывался. Сначала у соседей, а потом уже собственными руками выстроил этот домик и жил, как в монастыре, со своими голубками.
— Какими голубками?
Он повел нас на чердак. Там ворковали и охорашивались десятка полтора голубей.
— Приятные птички, — прищурился он, — дух божий! Купите голубков. Где голубки, там и благодать божия. Один погиб. Он похоронен мною во дворе, в урне. Сохраните могилку.
Я решил обязательно купить дом с этой «божьей благодатью».
Когда мы спустились с чердака, хозяин разоткровенничался и сообщил мне, что сотрудничает в полиции.
— Вон что? Хорошая работа! Чего же вам уезжать отсюда?
— Знаете, — он пожал плечами, — там, в Белоруссии, спокойнее будет. Тут море, корабли большевистские показываются. Нервирует, знаете. Беспокойство создают, и мысли разные лезут. А у вас такие мысли не появляются?
— Нет, — отрезал я. — Чего же бояться? У немцев положение прочное.
— Я знаю, что прочное, но слухов больно много.
— Ну, а если бы что случилось, — заметила Лидия Николаевна, — Отто очень любит нашу дочь. Он обещал нам: в любой момент, хотим — на машине, хотим — на самолете, прямо в Германию, в его имение.
— У вас хорошие связи. Если вы поможете мне поскорее получить в комендатуре пропуск на выезд, я, пожалуй, уступлю тысячи две.
— Как же так? — удивился я. — Сотрудничаете в полиции и не можете получить пропуск!
— Видите ли, — не без гордости сказал он, — я уже проявил себя на работе. Сделал для них кое-что полезное. Меня не хотят отпускать.
Переводчик, у которого «Маша» брала уроки, получив солидную взятку, обещал устроить этому голубеводу пропуск вне очереди. Он ничем особенно не рисковал, потому что у голубевода действительно оказалась бумажка из полиции.
Но мне не хотелось так просто его отпустить.
— Все сделано, — важно сказал я ему. — Завтра в шесть часов вы пойдете вместе с переводчиком в комендатуру и там получите пропуск вне очереди. Но нам нужно доказательство, что вы благонадежный человек и нас не подведете.
— Я же сказал, что служу в полиции!
— В полицию тоже могут пробраться разные люди. Есть ли соседи, которые вас хорошо знают?
— Ну как же! Укрывали меня от большевиков. Один рядом живет, другой — вон, напротив.
— Пусть напишут, что знают вас с хорошей стороны, и подпишуться.
Он написал себе соответствующую характеристику и побежал собирать подписи.
Вскоре хозяин вернулся и радостно вручил мне рекомендацию, подписанную тремя соседями, которые прятали его при советской власти.
— Вижу сразу, что вы люди достойные. Очень хотелось бы мне с вами выпить бутылочку вина по случаю продажи дома.
— Почему же не выпить, с удовольствием, — сказал я.
— А вино у вас есть? — спросил он.
— У нас вина нет, но, может быть, жена найдет у кого-нибудь из знакомых, — я предупредительно подморгнул Лидии Николаевне.
— Не знаю как… — она пожала плечами, — конечно, можно поискать. Только имейте в виду: вино очень дорогое и продают только за марки.
— Марки у меня есть, — оживился хозяин, доставая бумажник. — Пожалуйста, сколько может стоить?
— По сто марок за бутылку.
— Вот возьмите на три бутылки.
— Раз вы такой щедрый, так и я со своей стороны ставлю две бутылки. Покупай, Лида, пять бутылок. Завтра часов на двенадцать пригласите сюда свидетелей, с которыми вы меня заодно и познакомите.
На другой день все устроилось так, как мы намечали. Агент через переводчика получил пропуск. К тремстам маркам, полученным от него на вино, мы достали еще тридцать марок. Большое затруднение возникло с советскими деньгами.
Я получил от Сироты деньги прямо из банка.
Это были сплошь десятирублевки и притом совершенно новые. У любого сразу бы возникло подозрение, откуда у меня такое огромное количество новеньких бумажек. И вот мы с Лидией Николаевной почти всю ночь мяли, пачкали и терли об пол эти десятки, чтобы придать им потрепанный вид.
С этими деньгами и пятью бутылками вина мы и явились к хозяину, который нас встретил, как хороших и уважаемых знакомых. Составили договор на имя Лидии Николаевны. Подписала она, он и три соседа-свидетеля. Хорошо выпили и разговорились. Приглашенные соседи оказались «бывшими людьми»; все они были озлоблены против советской власти и занимались разными темными делами.
Клава очень огорчилась, узнав, что мы переезжаем. Она кормилась за нашим столом, да и привыкла к нам.
Вечером, когда Лидия Николаевна и Клера понесли на новое место наше имущество, Клава сказала, что ей нужно поговорить со мной.
— Вот теперь уже дело прошлое, Петр Иванович, уезжаете. А какая-то у вас странная дочка: то она вас на «ты», а то на «вы» называет…
Клера, действительно, долго не могла привыкнуть называть меня на «ты», несмотря на все предупреждения.
— Я ведь недавно женился, — вывернулся я. — Клера не моя дочка.
— Я так и думала. — Клава глядела на меня с состраданием. — Вы хоть мне и не говорили о своих семейных делах, но я догадываюсь. Вы очень несчастный человек.
— Почему вы так думаете?
— Ну как же, я женщина наблюдательная. Вы очень несчастный человек.
— Что же вы все-таки заметили?
— Лидия Николаевна у вас ненадежная. Она вам изменяет.
— Что вы говорите! — вскрикнул я, сделав испуганное лицо.
— Я давно вам хотела сказать, да думала, вы сами догадываетесь.
— Нет, я пока за Лидией Николаевной ничего не замечал.
— Ну что вы, Петр Иванович! Как вы только уйдете, так к ней то Семен, то Николай. Закроются, и все тайком, тайком от меня.
Я насторожился. Мне не приходило в голову, что эта трусиха, которая, казалось, только разрывы бомб и слышала, многое замечает.
Надо было немедленно как-то реагировать. Закрыв лицо руками, я притворился очень огорченным.
— Я думала, вы знаете, — утешительно продолжала Клава. — Если вы не знали, так о чем же вы тогда так часто задумывались?
Высказанные ею подозрения сослужили мне службу. Под видом размолвки с Лидией Николаевной я часто оставался ночевать в доме Клавы и пользовался, таким образом, двумя квартирами.
Но, конечно, самая тщательная конспирация все-таки не гарантировала от всяких неприятностей.
Особенно опасны были случайные встречи с людьми, знавшими нас по прежней работе. Я принял некоторые меры предосторожности. Отпущенная мною густая борода и большие усы совершенно изменили мое лицо. Костюм, разумеется, тоже изменился. Было несколько случаев, когда знакомые симферопольцы, столкнувшись со мной на улице, совершенно равнодушно проходили мимо.
Товарищи же сохранили свой прежний вид, и это доставляло немало тревог. Особенно не везло «Николаю». Как-то у водопроводной колонки он столкнулся с одним знакомым из Симферополя. Тот узнал «Николая» и начал расспрашивать, как он живет, что делает. Особенно неприятно было то, что симферополец знал «Николая» по его настоящей фамилии — Скворцов, а теперь «Николай» жил по подложному паспорту на имя Воробьева. «Николаю» пришлось всячески изворачиваться, и после этой встречи ему опасно было не только ходить за водой, но и вообще показываться в этом районе.
Мы работали в мастерской. Во двор вошел плотный человек в меховом пальто, в высокой барашковой шапке и по-хозяйски оглядел двор. «Николай» вышел узнать, в чем дело. Я был изумлен, когда увидел, что человек панибратски хлопнул «Николая» по плечу.
— И вы здесь? Признаться, не ожидал. А я теперь в городской управе. Вот вещи теплые для нашей армии собираю.
— Для какой армии? — машинально спросил «Николай».
— Для немецкой, разумеется.
Не спрашивая нашего согласия, человек в барашковой шапке записал «Николая» и меня на две пары теплого белья и ушел, пообещав, что за вещами заедет попозднее.
— Знает меня по Феодосии, — сказал расстроенный «Николай». — Я был зампредгорсовета, а он следователем в прокуратуре. Но это было пять лет назад. Может быть, забыл, мерзавец, мою фамилию.
Нас очень встревожила встреча с этим ревностным немецким служакой. Мы даже думали переправить «Николая» куда-нибудь в другое место, но тут разыгрались события, перевернувшие все наши планы.
К рождеству погода резко изменилась. Ударил мороз, подул холодный ветер, хлопьями повалил снег. На море бушевал свирепый шторм. Немцы не допускали и мысли, что в такую погоду большевики смогут начать какие-либо боевые операции. Переводчик рассказал, что гестаповцы готовятся праздновать рождество и даже очередные расстрелы крымчаков перенесли на новый год.
Наша авиация всю ночь бомбила военные объекты немцев. К этому мы уже привыкли, но вдруг перед рассветом в реве шторма послышались выстрелы и началась канонада с моря. Немцы тоже открыли огонь.
Происходило что-то важное. Никто у нас, конечно, не спал, и на осторожный стук в дверь я тотчас выбежал наружу.
Вошел взволнованный «Семен».
— Десант!
— Откуда ты знаешь?
— Только что вернулся из комендатуры переводчик. Перепуган насмерть.
Из дома в дом передавались самые противоречивые слухи. И только позднее, когда город был уже очищен от немцев, я узнал, как все происходило в действительности.
Пока немцы веселились, справляли рождество, корабли Черноморского флота незаметно подошли ночью к берегу и начали высадку десанта в разных пунктах Керченского полуострова. Шторм достигал одиннадцати баллов. Волны грозили выбросить корабли на берег, а высаживающихся десантников унести в море.
Но моряки прыгали в ледяную воду, под немецким огнем выходили на берег и, мокрые, на десятиградусном морозе вступали в бой.
27 декабря шторм продолжал свирепствовать. Десантные группы в Камыш-Буруне, ожидая подкрепления, засели в развалинах железорудного комбината и заняли оборону. Перешли к обороне и части, высадившиеся в районе Ене-Кале, по другую сторону Керчи.
Немцы воспользовались временным ослаблением нажима, пустили провокационный слух, будто десант уничтожен. Под угрозой расстрела они запретили жителям выходить из домов не только ночью, но и днем. Запретили подходить к окнам. Расстреливали тут же на улицах. Был убит вместе со своей женой старейший врач города Керчи — семидесятилетний Серетенский.
28 декабря немцы обстреляли из минометов поселок Самострой, расположенный на берегу Керченского пролива, подожгли его и начали расправу с мирным населением.
К счастью, шторм стал стихать, возобновилась высадка десантных частей, и снова разгорелись ожесточенные бои.
К моменту высадки десанта немцам удалось зацементировать и заминировать все входы и выходы в старокарантинских каменоломнях. Партизанский отряд был полностью изолирован и не мог оказать помощь десанту.
Лучше обстояло с партизанским отрядом в аджи-мушкайских каменоломнях. Как я и предполагал, Пахомов сумел сохранить несколько тайных выходов.
26 декабря партизаны услышали стрельбу. Боясь провокации, штаб отряда ночью выслал разведку во главе с комиссаром отряда Сергеем Черкезом. Разведка добралась до крайних домов, но вернулась, ничего не выяснив.
На другой день бои на берегу пролива продолжались. Услышав канонаду с моря, штаб решил выйти всем отрядом на помощь десанту.
Партизаны выбрались из каменоломни и стали действовать вдоль шоссе, срывая немцам доставку боеприпасов.
29 декабря партизаны вели бои целый день, уничтожили до сотни немцев, шесть автомашин, две радиостанции, захватили много оружия, заняли деревню Аджи-Мушкай, захватили ценные документы и освободили двадцать заложников — жителей Аджи-Мушкая, которых немцы не успели расстрелять.
Немецкое командование поспешно стянуло на Керченский полуостров резервы из ближайших районов, в том числе из Феодосии. Советское командование только этого и ждало. В ночь с 28 на 29 декабря был высажен десант в Феодосии. Для немцев создалась угроза быть отрезанными на Керченском полуострове, и они в панике бежали.
На рассвете 30 декабря стрельба прекратилась. Наступила тишина. Я вышел на улицу. Город казался пустым. Немецких солдат не видно, даже жандармы исчезли с постов. Я решил пойти к зданию горкома партии, где помещалось гестапо: если и там нет немцев, значит они все удрали.
Из-за угла пустынной улицы выехал всадник — моряк в бушлате, с автоматом за спиной.
— Вы кто будете, милый человек? — Я попросил его остановиться.
— Моряк из десанта.
— А куда же немцы девались?
— Удрали, дедушка.
— Значит, город свободен, ходить можно?
— Свободен! Ходи, дедуля, куда хочешь. Город наш!
Из калитки соседнего дома к нам подошла сгорбленная седая старушка. Она жадно прислушивалась к нашему разговору.
— Батюшка, неужто этих аспидов больше нету? — Оглядываясь, она перекрестилась.
— Нет, бабушка, нет, не бойся больше никого.
Старушка бросилась к краснофлотцу, обхватила его ногу, начала целовать и не своим голосом закричала:
— Феня! Люди! Выходите, наши тут! Наши! Немцев больше нету!
На ее крики из домов начали выбегать люди. Они обнимали, целовали моряка и его лошадь. Женщины от радости рыдали и смеялись.
Я насилу выбрался из толпы и пошел дальше. У здания, где прежде был штаб военно-морской базы Черноморского флота, опираясь на винтовку, стоял пожилой, давно не бритый красноармеец в полушубке, в ушанке. Около него тоже собрался народ, Спрашивали наперебой:
— А Москва наша?
— Наша. Стоит, как всегда.
— А Ленинград?
— Тоже наш.
— А не знаете, где мой муж? Он во флоте служит, на крейсере «Красный Кавказ».
— «Красный Кавказ»? Постой. А-а, знаю! Он в Новороссийске стоит.
Каких только вопросов не задавали, и он терпеливо старался каждому ответить как мог.
На здании гестапо каким-то чудом уцелела вывеска горкома партии. Я вошел во двор и через черный ход поднялся на второй этаж. Обошел все комнаты, заглянул в ящики с голов, в шкафы. Гестаповцы удрали поспешно, оставив мною документов. В папке начальника гестапо, палача Фельдмана, сохранились последние доносы.
Собрав документы, я запрятал их в кладовку под разный хлам и вышел. Во дворе уже шуровали какие-то подозрительные типы.
По дороге домой я узнал, что всех политических заключенных гитлеровцы перед уходом расстреляли, а уголовников выпустили из тюрьмы. В городе начались грабежи, а красноармейцев на улицах почти не было видно.
Дома я рассказал обо всем «Семену» и «Маше», и мы решили переговорить с командованием десанта об обстановке, узнать, прибыл ли кто-нибудь из партийных и советских работников. Если срок их прибытия неизвестен, нам придется самим выходить из подполья и браться немедленно за работу.
Я пошел в город разыскивать командира десантников.
Вокруг красноармейца в полушубке попрежнему толпился народ, и я с трудом к нему протиснулся. Мне пришлось долго уговаривать его, пока он сказал, где найти старшего.
В одной из комнат я нашел моряка, осматривающего трофейное оружие.
— Вам что, папаша?
— Начальника ищу.
— Командира пока нет. Я заменяю. А вы по какому делу?
Я объяснился и представился.
— Очень приятно познакомиться. — Моряк встал и, одернув бушлат, крепко сжал мне руку. — Я — Калинин, комиссар десантной группы моряков.
Выяснилось, что никто из гражданских с ними не прибыл.
— В Керчь вошла только моя группа — восемнадцать человек, — с гордостью сказал Калинин. — Пятнадцать моряков и три красноармейца. Из Камыш-Буруна мы ждем десантные части. Но тут надо раненых устроить, выпечку хлеба наладить. Хорошо, если бы вы сами за это взялись.
Так и решился наш выход из подполья.
В то же утро в помещении горкома партии я собрал подпольщиков. Туда же скоро приехали Пахомов и члены штаба аджи-мушкайского отряда — Сергей Черкез и Андрей Бандыш.
На заседании подпольного комитета было организовано оргбюро обкома партии по городу Керчи: Козлов — секретарь, Ефимова — секретарь по кадрам, Колесниченко — председатель оргкомитета городского Совета депутатов трудящихся, Скворцов — заместитель председателя и Пахомов — начальник милиции. Мы создали также оргбюро районных комитетов партии по Маяк-Салынскому и Ленинскому сельским районам. В городе Керчи были организованы оргбюро райкомов партии по Кировскому, Сталинскому и Орджоникидзенскому районам.
Партийные и советские органы, партизаны и подпольщики энергично взялись устанавливать революционный порядок, налаживали хозяйственную и культурную жизнь города и районов.
Директором завода Войкова был назначен партизан — инженер Андрей Кущенко. За очень короткий, срок он сумел восстановить, ремонтный цех, и одним из первых выстрелов с бронепоезда, отремонтированного в этом цехе, был сбит немецкий «юнкерс».
Мы все ходили, совершенно опьяненные ощущением свободы.
Пахомов приехал грязный, оборванный, прямо из каменоломни. Он очень похудел, черты лица его еще больше заострились.
После заседания комитета мы долго сидели вдвоем и никак не могли наговориться. Пахомов кашлял. Когда он сплюнул, я заметал, что мокрота совершенно черная.
— Почему черная? — усмехнулся он. — Друг, ты не знаешь, чем мы там дышали. Ведь почти все замуровано, коптилка постоянно чадит, ни глотка чистого воздуха. Нам теперь, наверное, до смерти не выплевать эту сажу!
Пахомову было поручено немедленно разминировать входы в старо-карантинские каменоломни и освободить замурованных там партизан. Командование выделило минеров.
Освободить партизан помог их же разведчик, пионер Володя Дубинин, который из последней разведки не смог вернуться в каменоломни и остался в городе. Партизанский отряд в тот же день был освобожден из своего подземного заключения. Все партизаны оказались живы. Когда немцы их замуровали, партизаны не упали духом и сразу начали прокладывать новый выход в таком месте, о котором оккупанты и не догадывались. К моменту освобождения до поверхности оставалось не больше трех метров.
Но радость освобождения партизанского отряда омрачилась большим несчастьем. При разминировании погиб Володя Дубинин. Советское правительство оценило его самоотверженность и храбрость. Володя был посмертно награжден орденом Красного Знамени. В городе Керчи его именем названа школа № 11, где он учился, и бывшая Крестьянская улица, где он жил со своей матерью.
На другой день мы выпустили обращение к населению города с призывом дружной энергично работать по восстановлению разрушенных врагом фабрик и заводов и оказывать всемерную помощь Красной Армии. Возобновился выпуск газеты «Керченский рабочий». Была создана комиссия для расследования злодеяний немцев и организации похорон жертв фашистского террора.
Тогда впервые открылась советским людям страшная правда Багеровского рва.
Что собой представлял Багеровский ров? Длина его была равна километру, ширина — четыре метра, глубина — два. И вот весь этот огромный роз забит трупами людей — от дряхлых стариков до грудных детей.
У края рва лежит истерзанная молодая женщина. В ее объятиях — аккуратно завернутый в белое кружевное одеяло грудной младенец. Рядом с ней лежат девочка восьми лет и пятилетний мальчик. Их ручки вцепились в платье матери. Тут же рядом лежит труп другой женщины. Как бы ища спасения, в ее колени уткнулся лицом мальчик лет десяти с пробитой головой.
И сколько таких мучеников!.. Мороз сковал каждого убитого в той позе, в какой он принял страшную смерть.
Жуткая картина Багеровского рва дополнялась скорбными лицами живых людей, в слезах и горе ищущих своих родных и знакомых. И я ходил. Думал найти Полю Говардовскую. Но так и не нашел: слишком смерзлись трупы.
У Багеровского рва я встретил Белоцерковскую — маленькую, худенькую женщину лет тридцати. Когда гестаповцы бросили ее с двумя детьми в тюрьму, она была беременна третьим и родила уже в тюрьме. Соседка по камере попыталась оказать ей помощь, но немецкий охранник закричал: «Прекратить! Буду стрелять!»
Новорожденного у матери отняли и бросили в парашу, она вытащила его и спрятала.
Ее продержали в тюрьме девять дней. Кормили только солеными бычками, а детей — гнилой картошкой. Их мучила страшная жажда, но пить не давали.
Тюремщики издевались: «Жить вам осталось недолго, обойдетесь без воды».
Затем Белоцерковскую вместе с другими женщинами раздели, разули и повезли с детьми ко рву. Их выстроили возле ямы, раздались выстрелы. Белоцерковская упала в ров.
Придя в себя и увидев своих мертвых детей, она опять потеряла сознание. Поздно вечером очнулась, поцеловала детей и, высвободив ноги из-под трупов, поползла и деревню Багерово, оставляя на снегу пятна крови. Ее подобрал и спрятал старик-колхозник. По соседству с ним жили немцы. Рискуя собственной жизнью, он спас Белоцерковскую и жену коммуниста-партизана, которой тоже угрожал расстрел.
Теперь Белоцерковская бродила по рву в поисках своих детей.
Тут же я встретил пожилого рабочего Ткачева из поселка Самострой. 28 декабря он и его брат вместе со всеми мужчинами поселка были схвачены немцами. Их повезли на расстрел. Когда раздался первый залп, Ткачев прыгнул в яму. Ночью он выбрался из рва и спрятался в селе Катерлез.
Я видел, как он со слезами бросился на обезображенный труп своего брата Максима, только что извлеченный из ямы.
Худенький мальчик в ватнике, ученик седьмого класса школы № 21, Изя Гофман разыскивал отца, мать и двух сестер.
Вопреки приказу немцев, Изя не пошел с родными на Сенную, а скрывался долго у знакомых товарищей по школе. Но однажды он решил заглянуть в свою квартиру и в ней был схвачен полицейским, брошен в тюрьму, а затем вывезен на расстрел. При первом залпе он, так же как и Ткачев, прыгнул в яму и спасся. Ночью выбрался из-под трупов и до прихода наших войск скрывался в городе.
Глядя на ров и слушая рассказы очевидцев, бойцы, видавшие виды на фронте, содрогались и плакали.
На третий день после освобождения города пионеры обнаружили в какой-то квартире под кроватью немецкого городского голову Токарева. Он был арестован. При обыске у него нашли чемодан награбленных ценностей: золотые часы, бриллианты, золотые брошки.
Были пойманы и члены управы.
Из допроса арестованных выяснилось, что 29 декабря, в день бегства немцев, комендант города предоставил одну грузовую и одну легковую машину «для эвакуации господ из управы и полиции». Но так как «господ и их домочадцев» оказалось гораздо больше, чем могли вместить эти две машины, и каждый хотел обязательно захватить с собой награбленное добро, то они передрались между собой и в конце концов решили погрузить на машины вещи, детей, а самим итти пешком. Когда они выбрались было за город, немцы отобрали у них машины с вещами, сняли с них теплую одежду, избили их самих, а некоторых расстреляли. Уцелевшие бежали обратно в город.
В числе других был пойман и елейный любитель голубков, у которого мы купили дом. Он так и не успел бежать в Белоруссию.
Когда я сообщил, что знаю этого человека, ко мне пришел сотрудник НКВД и стал расспрашивать о доме и о том, не заметил ли я рации. Я рассказал ему все, что знал, в том числе и про голубей.
Сотрудник удовлетворенно свистнул и сразу пошел в дом.
«Духи» оказались почтовые.
Но не все изменники, по примеру Токарева, укрылись под кроватями. Некоторые быстро перекрасились под советских патриотов. Один из членов управы в первый же день прихода наших войск вывесил на здании управы объявление, в котором предлагал всем депутатам городского Совета, оставшимся в Керчи, немедленно явиться в помещение управы на совещание по вопросу о возобновлении работы городского Совета. Когда мне об этом доложили, я послал Пахомова, и он арестовал этого рьяного «активиста».
Вскоре в городе был организован открытый судебный процесс, и все предатели и изменники родины понесли заслуженную кару.
Трудно представить себе, как были поражены Клава и Ларчик, узнав, кто жил с ними во время немецкого нашествия.
— А ты знаешь, что у тебя в комнате с мануфактурой было зарыто? — сказал я как-то Ларчику. — Мешок, а в мешке триста пятьдесят тысяч.
Ларчик поглядел на меня, потом, видно, понял, что я не шучу.
— Триста пятьдесят тысяч?!
— Точно.
— У меня?!
— У тебя.
Ларчик схватился за голову.
Квартирный хозяин, у которого мы держали столярную мастерскую, решил использовать «знакомство»: он явился ко мне в горком просить пенсию на сыновей.
Я напомнил ему об Анапе и о том, как он клял сыновей за то, что они ушли с «бесполезными теперь» красными, и выгнал его вон.
Через несколько дней к нам приехал Владимир Семенович. Я отчитался о проделанной в подполье работе. Владимир Семенович слушал, слушал, а потом сказал:
— А ведь, строго-то говоря, Иван Андреевич, вы рассказываете о том, как не выполнили моего совета — два месяца только выжидать, — лукаво улыбнулся секретарь обкома.
Тогда Владимиру Семеновичу и многим казалось, что немцам в Крыму долго не усидеть и подполье нам больше не понадобится.
Севастополь продолжал героически обороняться. Через пролив по льду непрерывным потоком двигались в Керчь люди и техника.
Как только мы вышли из подполья, я списался со своей семьей. Первого мая жена моя с сыновьями приехали в Краснодар, и я, получив десятидневный отпуск, на самолете вылетел к ним. Мы договорились с Владимиром Семеновичем, что я отдохну дней пять, а потом вместе с семьей вернусь в Керчь. И вдруг, как обухом по голове, ударило известие: в ночь на 8 мая немцы прорвали нашу оборону на Ак-Монайском перешейке, и под напором превосходящих сил противника наши войска временно оставили Керчь.
Обком партии обосновался в Краснодаре. Подпольный центр был ликвидирован. «Маша», «Семен» и Лидия Николаевна с Клерой эвакуировались. Из работников керченского подполья при обкоме остался только я.
Вместе с Сиротой я стал подготавливать кадры подпольщиков, которых обком предполагал забросить в Крым.
Вот когда нам пригодился опыт керченского подполья и непосредственного знакомства с немецким «новым порядком». Я составил специальную программу подготовки кадров подпольщиков, работал с каждым из них в отдельности, инструктировал их во всех мелочах: как лучше одеться, какие инструменты и предметы иметь при себе, обучал их технике подделки документов.
На примере Керчи все мы убедились в необходимости регулярной связи подпольного комитета со штабом партизан, и в Краснодаре я постарался как можно подробнее ознакомиться с партизанским движением в Крыму.
К ноябрю 1941 года в крымских лесах существовало двадцать семь партизанских отрядов численностью около четырех тысяч человек. Оперативное руководство осуществлялось штабами пяти партизанских районов, а общее руководство — командующим партизанским движением Алексеем Васильевичем Мокроусовым.
Природные условия Крыма, небольшие леса, густо пересеченные дорогами, чрезвычайно затрудняли действия партизан. Но не только природные условия осложняли борьбу партизан. Вокруг лесов находились главным образом татарские деревни, а многие татары с самого начала войны переметнулись в стан врага и стали предателями. Таким образом, крымские партизаны были почти лишены поддержки близ находящегося населения.
Все же, несмотря на это, партизаны провели 631 операцию: уничтожили 7964 немца, 787 грузовых и 36 легковых машин, 3 танкетки, 23 мотоцикла, взорвали 25 мостов, уничтожили 400 метров железнодорожного полотна и около 40 километров телефонного кабеля. Расстреляли 441 предателя.
В боях погибло 341 партизан, ранено было 241 и пропало без вести 110.
Партизанам пришлось пережить сильный голод. Думали, что немцы в Крыму дольше мая 1942 года не продержатся, и поэтому продовольствие было завезено в лес с расчетом на шесть месяцев. Продовольствие это завозилось главным образом при помощи татар. Они знали партизанские базы и выдали их немцам.
Добывать же продовольствие у врага было очень трудно, потому что хорошие дороги давали немцам возможность усиленно конвоировать свои обозы, сопровождать их танкетками и даже танками. Основная масса русского населения Крыма, сочувствующая партизанам, располагалась более чем в ста пятидесяти километрах от леса, в открытой степной части. Можно ли было рассчитывать на их помощь?
Оставалась надежда на установление воздушной связи с Большой землей и получение помощи оттуда, но зимние месяцы были очень неблагоприятны для полетов.
За одну трудную зиму у партизан умерло от голода двести пятьдесят человек, а те, что выжили, были истощены до крайности.
Действуя в труднейшей обстановке, партизаны все же оказали большую помощь севастопольцам: они всячески мешали движению по железной дороге из Симферополя в Севастополь и по дорогам южного берега Крыма.
Севастополь тоже чем мог помогал партизанам. Штаб партизан послал в город связных. Преодолевая различные препятствия, голодая в течение пяти суток, эти люди пробрались в Севастополь и сообщили координаты партизан. Командование Черноморского флота послало самолет «уточку», и с этого момента наладилась связь партизан с Большой землей.
Нелегко было найти заброшенный в лесу партизанский лагерь и суметь благополучно приземлиться в нем. Недаром за одну эту операцию летчик получил звание Героя Советского Союза.
В связи с тяжелым положением в Севастополе я выдвинул перед обкомом план организации в этом городе партийного подполья и просил перебросить меня туда с группой подпольщиков.
Предложение мое одобрили. Но переброска все время затягивалась: то нет самолетов, то нелетная погода. Наконец 3 июля утром мне сообщили, что самолет готов и вечером мы вылетим.
Я собрал все, что нужно в дорогу, и уже попрощался с семьей, когда в обкоме партии мне сообщили печальную весть: наши оставили Севастополь.
Этот новый тяжелый удар сильно подорвал мое здоровье. Сказалось все пережитое за последний год. Нервы мои не выдержали, болезнь осложнилась, временами я совершенно переставал видеть.
Когда немцы приблизились к Кубани и началась эвакуация крымских работников из Краснодара, я с семьей выехал в город Бийск Алтайского края. Тогда мне казалось, что я уже никогда не вернусь к подпольной работе.
30 августа 1942 года я был уже в Бийске. Жена начала работать в госпитале, сыновья — учениками в токарном цехе завода, я же, после непродолжительной работы в аппарате горкома, был избран секретарем комитета партийной организации большого завода, эвакуированного сюда из Московской области.
После всего пережитого в Крыму — глубокий тыл. Местные люди даже не представляли себе, что такое светомаскировка, воздушная тревога, налеты. Я отдыхал. Расшатанные нервы успокаивались.
Но меня часто мучила одна и та же мысль: я здесь в безопасности, а в Крыму остались подпольщики и партизаны…
И как только зрение мое немножко улучшилось, я написал в Крымский обком, что готов приехать в любое время и на любую работу.
После долгого молчания пришло, наконец, письмо от Владимира Семеновича. Он сообщал, что обком находится в Сочи, в моем приезде пока нет необходимости, но предупреждал: «Будьте готовы к отъезду и ждите вызова».
Я очень обрадовался. Время, однако, шло. Настало лето 1943 года, а вызова из обкома не было.
В конце июля, когда я и надежду было потерял на вызов, позвонил секретарь горкома по кадрам:
— Крымский обком партии просит откомандировать вас в его распоряжение.
Я, не задерживаясь, выехал на юг.
Глава пятая
В Сочи все крымское руководство помещалось в небольшой двухэтажной гостинице, закрытой с улицы густой зеленью тополей и кипарисов. Там я встретил много друзей и знакомых по работе в Крыму. Они жили здесь на положении «командированных», по нескольку человек, в комнате, храня свои «канцелярии» в карманах и портфелях.
Обком деятельно готовился к возвращению в Крым, освобождение которого быстро приближалось.
По вызову обкома уже съехалось много партийных и советских работников, ответственных и технических. И все они, как говорят, «сидели на колесах».
Комплектовались партийные и советские органы для городов и районов Крыма. Устанавливалась связь с эвакуированными из Крыма заводами и фабриками. Разыскивались по Кубани и Кавказу скот, тракторы, сельскохозяйственные машины и другое эвакуированное имущество совхозов и колхозов.
Владимир Семенович встретил меня очень тепло, расспросил о здоровье, о семье. Разговор быстро перешел на волнующую обоих нас тему — о положении в Крыму.
— Там дела жаркие! — Владимир Семенович потирал руки. — Партизаны крепко лупят фрицев.
— Вы связаны с Крымом?
— А как же! Имеем с партизанами регулярную связь по радио и самолетами. Снабжаем отряды продовольствием, обмундированием, оружием и боеприпасами. Из леса вывозим на самолетах раненых, больных и лечим их здесь в госпиталях.
— А как с подпольем?
Он нахмурился.
— С подпольщиками хуже. В некоторых местах есть патриотические группы, которые самоотверженно борются с оккупантами. Кое-где удалось установить с ними связь, но за последние месяцы много провалов. Народ горячий, неопытный, к конспирации относится пренебрежительно, в результате в организации проникли непроверенные люди, даже провокаторы. Много подпольщиков попало в гестапо и погибло. Недавно мы слушали на бюро обкома сообщение о работе подпольных организаций. Сделали серьезные выводы. Теперь нужно подобрать способных руководителей, установить строгую конспирацию, исключить возможность проникновения провокаторов.
Он встал, прошелся по комнате и добавил:
— Но это наше хорошее решение пока только на бумаге.
— Почему?
— Все дело в людей упирается! — ответил он с раздражением. — Сюда к нам народу съехалось хоть отбавляй. А вот нужно дозарезу послать опытного работника и Симферополь для организации партийного подполья, — пересмотрели весь наш актив, перебрали каждого работника по косточкам и такого человека не нашли.
Я ждал, что он скажет дальше. Но Владимир Семенович молчал.
— Если вы не возражаете, я согласен еще раз побывать в подполье, — не выдержал я.
Владимир Семенович улыбнулся.
— Никогда не сомневался в вас, — проговорил он. — Лучшего подпольщика нам не найти. По секрету сказать, в ЦК меня ругали, что мы вас расконспирировали в Керчи.
— Ну вот, давайте я и проберусь в Симферополь.
Владимир Семенович задумался.
— Но ведь в Симферополе вас хорошо знают.
— А я после Керчи себя горазда увереннее чувствую. Немцев мы перехитрим. Они нас недооценивают. Кстати, сколько населения теперь в Симферополе?
— Говорят, уменьшилось наполовину — осталось около пятидесяти тысяч. А что?
— Я думаю, Владимир Семенович, если там найдется даже тысяча предателей, то сорок девять тысяч наших советских людей всегда помогут мне укрыться от врага и делать то, что нужно.
Он засмеялся.
— Раз так, давайте готовиться. Здесь сейчас Павел Романович. Он был представителем обкома у партизан и хорошо знает обстановку в Крыму. Мы его утвердили секретарем нового областного подпольного центра. На-днях он опять летит в лес. Повидайтесь с ним, поговорите, а потом все решим.
В тот же день я встретился с Павлом Романовичем. Мы хорошо знали друг друга по работе в обкоме. Он мало изменился: все такой же тяжеловесный, говорит обстоятельно. Только в черных волосах стала заметна седина да в приветливых карих глазах появился оттенок печали. Сидя на кровати, он простуженно кашлял и тяжело дышал.
Я рассказал ему о беседе с Владимиром Семеновичем.
— Ты, старина, хорошо сделал, что приехал, — сказал Павел Романович. — Полетим вместе. В лесу ребята замечательные. Я там был с сентября 1942 по июль этого года. Вызвали меня с докладом в обком, потом в Москву, в ЦК, потом поехал в Среднюю Азию повидаться с семьей. Недавно только вернулся из этого кругосветного путешествия. Что там, в Симферополе, произошло с подпольщиками за последнее время, толком не знаю. Ознакомься с материалами. В обкоме имеются докладные мои и командира бригады Лугового.
— Какой Луговой? — спросил я. — Не тот ли, который был секретарем Зуйского райкома партии?
— Он самый, с первых дней оккупации там партизанит.
— Я знаю его хорошо. Когда полетим?
— На-днях.
— Болезнь твоя не задержит?
— Думаю, нет. Готовься. Все, что нужно тебе для подполья, добывай здесь. На лес не надейся.
Я стал спешно готовиться. Из материалов обкома я узнал, что в Крыму существуют три основных подпольных центра: Феодосийский, которым руководит Нина Михайловна Листовничая, беспартийная, до войны заведывавшая детскими яслями; Сейтлерский — во главе с Иваном Сергеевичем Дьяченко и, наконец, Симферопольский — с уполномоченным обкома Иваном Яковлевичем Бабичевым. В Симферополе ранее существовали подпольные организации «Дяди Вани», «Дяди Яши», «Димы», «Дяди Володи» и другие. Каждая из упомянутых организаций объединяла несколько патриотических групп, возникших в течение 1942 года. Эти подпольные организации долгое время не имели никакой связи с партизанами, не были объединены на месте общим руководством и работали кто как мог. Лишь в марте 1943 года подпольщикам удалось связаться с лесом, но уже в июне начались провалы, аресты. В гестапо попали и отважные связные симферопольской подпольной организации коммунист Беспалов и комсомолец Сбойчаков, которые впервые установили связь с лесом. Они же являлись проводниками Бабичева, который сам в городе не жил, а приходил из леса на несколько дней к подпольщикам и возвращался в лес.
Когда начались провалы, Бабичев вынужден был остаться в лесу, так как провокатор знал его в лицо. Потом Бабичев заболел, и его эвакуировали в тыл.
Этого Бабичева я и должен был заменить, но с тем, чтобы постоянно жить в Симферополе, на месте руководить подпольем и держать связь с лесом.
Штаб партизан попытался связаться с подпольщиками через представителя симферопольской молодежной организации Семена Кусакина. Из этого ничего не вышло, так как Кусакин был схвачен гестаповцами и погиб.
Создалась чрезвычайно сложная обстановка.
Меня предупредили, что к партизанам просачивается немецкая агентура и что в лесу мне нужно сохранить строгую конспирацию. Кроме командования, никто не должен знать, кто я и зачем попал в лес.
В керченском подполье я был столяром-хозяйчиком. Для Симферополя требовалась другая профессия. Я умел чинить обувь и решил стать рабочим-сапожником. Купил на базаре засаленную и заплатанную одежду, сапожные инструменты, гвозди и обрезки кожи.
Мне изготовили фиктивные документы. Из кладовой обкома я получил на дорогу продукты. Все свои вещи уложил в купленный на базаре старый мешок. Написал письмо жене.
Владимир Семенович записал мои новые «позывные»: в лесу я буду Василий Иванович, сапожник-партизан, а в Симферополе — по паспорту Иван Андреевич Бунаков, по кличке «Андрей».
Чтобы лучше замаскировать свой отъезд, я взял командировку в Краснодар.
И вдруг я заболеваю малярией. Температура поднялась до сорока.
16 сентября вечером я лежал в постели и обливался потом. Зашел Павел Романович:
— Что с тобой, старина?
Я рассказал.
— Погода устанавливается летная. Завтра нам дают самолеты. Как быть?
— Конечно, полетим, — ответил я.
— В таком состоянии тебе в лес нельзя. Я полечу один, а ты прилетишь, когда поправишься.
Я решительно запротестовал:
— Где я тебя там буду искать! Летим вместе. Завтра у моей малярии выходной день.
— Не советую, — настаивал он. — Условия в лесу тяжелые, спать придется на земле и под дождем. Хуже может быть.
— Ничего. Захвачу с собой побольше хины. Перемена климата хорошо действует на малярию.
Он пожал плечами.
— Ну, смотри, как бы тебя из леса не пришлось обратно перебрасывать сюда.
— Не бойся.
На малярийной станции мне сделали два вливания, снабдили хиной и еще какими-то порошками.
— Куда вы собираетесь? — спросил один из работников обкома, глядя на мой мешок.
— Посылают в командировку.
— Надолго?
— Пока не выполню задания.
На аэродроме меня и Павла Романовича провожали секретари обкома партии и несколько руководящих работников, связанных с партизанским движением в Крыму.
Погода стояла тихая, теплая. Небо ясное. Я думал, что мы полетим в закрытом военном самолете, и оделся по-летнему. Владимир Семенович удивленно оглядел меня:
— Разве у вас нет теплой одежды и шапки?
— А зачем она?
— Как зачем! Вы полетите вон на тех «уточках». Замерзнете.
И он подвел меня к двум маленьким учебным самолетам «У-2» с открытыми кабинами.
— Неужели на этих полетим? — спросил я, с недоумением и некоторой тревогой осматривая самолеты.
— А что вы думали? Это замечательные машины. Они уже сослужили большую службу партизанам.
Тут же на аэродроме он достал для меня меховую жилетку, кожаный шлем и шерстяные перчатки. Мне пришлось расконспирировать свои «секретные фонды», приготовленные для подполья: вытащил из мешка купленные на базаре брюки, пиджак, тужурку и все это натянул на себя. Вид у меня получился, очевидно, довольно комичный и для воздушного путешествия неподходящий. Наблюдавшие за моим переодеванием товарищи смеялись.
Я начал прощаться.
— Смотрите, не подкачайте. — Владимир Семенович крепко обнял меня.
— Постараюсь оправдать доверие партии.
Взобравшись на самолет, я с трудом уселся в открытой, тесной кабине. Кое-как затолкал свой мешок под ноги, а фляжку с вином сунул себе в карман для подкрепления в необычной дороге. «Уточка» наша зашумела, быстро запрыгала по полю и незаметно оторвалась от земли. Глянул вниз. Товарищи дружно махали носовыми платками и головными уборами.
— Прощайте, дорогие друзья! — крикнул я им и бодро замахал перчаткой.
Ветер остервенело рванул ее из моей руки, и она мгновенно исчезла за самолетом.
Я смущенно посмотрел на летчика, спрятал зябнувшие пальцы в рукава и плотно прижался к стенке сиденья. Под нами ползли зеленые горы, пестрые поля и деревни. Я любовался густой синевой безоблачного неба. О том, что ждет меня впереди, в эти часы как-то не думалось.
Начинало темнеть, когда мотор вдруг замолк и самолет начал снижаться и приземлился где-то в открытом поле. Летчик поспешно вылез из кабины и подошел ко мне:
— Выходите, отдохнем.
— Где мы?
— В Краснодаре на аэродроме.
Он пояснил, что здесь мы должны запастись горючим и, когда стемнеет, полетим прямо в Крым. На поле стояли величественные четырехмоторные бомбардировщики, около них мелькали люди с факелами.
— Скажите, нас немцы будут обстреливать? — спросил я у летчика.
— Всяко бывает.
— Почему же у нас нет парашютов?
Летчик улыбнулся:
— Вы не беспокойтесь, не в первый раз доставляю туда кого нужно. Сидите спокойно, можете спать, — все будет в порядке.
— А где же мы будем садиться?
— Найдем место. По сигналам будем садиться.
— По каким сигналам?
— Увидите сами, — ответил он сухо.
Я понял, что мое любопытство неуместно, и прекратил расспросы.
Подошел Павел Романович.
— Ну как, старина, жив?
— Жив. А ты знаешь, где мы будем садиться?
— Знаю. Большой наш аэродром заняли немцы. Сядем у Иваненковой казармы.
Я не знал ни Большого аэродрома, ни Иваненковой казармы, но расспрашивать не стал. Мы зашли в землянку, освещенную коптилкой. Сидевшие за столом пилоты оборвали разговор. Узнав, что мы летим к партизанам, они оживились, хорошо угостили нас и рассказали несколько интересных эпизодов из своей боевой жизни.
Задержавшись в ожидании подвоза горючего, из Краснодара мы вылетели в Крым с запозданием на три часа, то есть как раз в то время, когда по расчетам летчика наши «уточки» уже должны были быть у партизан.
Мы беспокоились, полагая, что высланные для приемки наших самолетов партизаны не дождутся и уйдут с аэродрома.
Ночь была темная и холодная. Мы летели с предельной скоростью. Земля погрузилась в глубокий мрак. Лишь изредка виднелись вдали приветливые одиночный огоньки на нашей земле, служившие, как мне казалось, маяками для наших самолетов. Недалеко от самолета впереди я заметил красную звездочку. Она то опускалась, то поднималась. Первый самолет, предупреждавший лампочкой о своем местонахождении, словно указывал нам путь.
Справа позади нас появилось небольшое зарево. Оно быстро краснело, расширялось, и из-за горизонта показалась огромная луна. Стремительно поднимаясь, она быстро становилась меньше, но свет ее усиливался, и я с тревогой поглядывал то на луну, то на море, над которым мы уже летели, и опасался, как бы эта неожиданная небесная спутница не выдала нас врагу.
Вдали зачернели берега. Не отрываясь смотрел я вниз, на силуэты родных крымских гор, ища таинственные сигналы партизан, о которых говорил летчик. Вдруг недалеко под нами вспыхнул один костер, за ним второй, третий. Они образовали букву «Т». Один из костров то ярко вспыхивал, то затухал. Сердце усиленно забилось. Наши самолеты, сделав круг, пошли на посадку и приземлились на небольшой лужайке.
Нас окружили вооруженные люди. Мне помогли выбраться из кабины, вытащили мой мешок и привезенную нами почту. Костры сразу потухли.
— Как обстановка? — тихо спросил летчик.
— Противник недалеко.
Летчик заторопился; он осмотрел самолет и, попрощавшись, вскочил в кабину.
Как только «уточки» поднялись в воздух и скрылись за горами, ко мне подошел Павел Романович и коренастый, в кожаной куртке партизан. Это был Луговой.
— Ну, партизанский командир, вот тебе новое пополнение, — сказал Павел Романович Луговому и, обращаясь ко мне, добавил: — Сейчас пойдем на отдых. Держись, ребята, не отставай, чтобы не заблудиться.
Луговой крепко пожал мне руку, и они ушли вперед. Партизаны, а с ними и я, двинулись к лесу. Ко мне подошел какой-то человек.
— Вы товарищ Козлов? — шопотом спросил он.
Я вздрогнул:
— Нет!
Ярко светила луна. Приглядевшись, я узнал знакомого партизана из керченских каменоломен.
— Я — Кущенко из Керчи. Помните?
— Хорошо помню и узнаю тебя, Андрей. — Я взял его под руку. — Только запомни: в лесу я не Козлов, а Василий Иванович. Никого не знаю, и меня никто не должен знать.
— Понятно. Давайте ваш мешок, помогу.
Начался густой лес. Я шел позади Андрея, держась за его вещевой мешок. Плохо видя, я то и дело спотыкался. В темноте пришлось спускаться в глубокую балку по крутой каменистой тропинке, потом взбираться на высокую гору. Казалось, сердце у меня вот-вот разорвется.
На горе сделали привал. Я повалился на траву.
«Вот тебе и „никакого физического напряжения“, — вспомнил я совет врачей и подумал:
— Если выдержу я эти путешествия, значит врет медицина».
Вспомнил о фляжке с вином, с удовольствием выпил сам и угостил Андрея.
— Хорошее вино. Я уже забыл, как оно пахнет, — сказал он.
— Далеко лагерь?
— Весь штаб здесь. Где прикажут, там и лагерь будет. Думаю, недалеко, километров пять.
— И все по таким дорогам? — вздохнул я.
Он сочувственно улыбнулся:
— Партизанские тропы все такие.
Растянувшись на траве, я с наслаждением отдыхал.
Вдруг вверху недалеко от нас раздался пронзительный протяжный крик: «У-у-у! У-ху-ху! Ху-у-у-у!»
Эхо странного, пугающего крика прокатилось далеко по лесу к вершинам гор. Крик повторился.
— Молчи, гадюка! — послышался раздраженный шопот. — Накличешь опять прочес.
Кто-то сдержанно засмеялся.
— Что такое? — спросил я у Андрея.
— Это наш ночной спутник — филин. Неприятная птица.
Минут через пятнадцать мы бесшумно поднялись и двинулись дальше. Снова спустились в балку, где весело журчала по камням горная река Бурульча, набрали в фляжки холодной воды, освежились и начали взбираться на гору. Часа через два изнурительного пути до нас по цепочке дошла команда:
— Располагаться здесь.
— Где мы находимся? — спросил я у Андрея.
— Кажется, в Стреляном лагере.
— Почему «Стреляный»?
— Здесь мы давали салют, когда наши взяли Харьков.
Люди чувствовали себя здесь свободнее. Послышались разговоры, смех. Огоньки цыгарок освещали молодые лица.
— Немцы ночью ходят по лесу? — спросил я у Андрея.
— Нет. Ночью мы в лесу хозяева. Но всегда, когда идешь по лесу — и днем и ночью, — приходится быть настороже, к каждому кустику приглядываться и заметать следы. Бывают засады, встречается разведка противника. Недавно был такой случай. Ночью мы возвращались с Большого аэродрома в лагерь. Разведка противника проследила нас. За ночь мы сделали в два конца около пятидесяти километров. Представляете, как мы измучились. Ну, конечно, добрались до лагеря и заснули как убитые. На рассвете противник неожиданно напал на нас. Мы вскочили. Принять бой уже поздно было: противник подошел слишком близко. Пришлось удирать. Кубарем скатились по крутому обрыву. Словом, «весело было нам». Но мы быстро привели себя в порядок, обошли немцев с другой стороны, устроили засаду и дали жару. Немногим фрицам посчастливилось удрать. Вернулись мы тогда в лагерь, забрали свои вещи, продукты, которые немцы не успели разграбить, и ушли на другое место.
— А охрана лагеря имеется?
— Имеется. Все в наряды ходим. Кроме того, кругом штаба в балках стоят наши отряды и заставы.
Мы поговорили немного и заснули, но спать пришлось недолго. Чуть светало, когда меня разбудил Андрей:
— Вставайте.
Он уже умывался из фляжки.
— Что случилось?
— Ничего. Но мы, лесные жители, поднимаемся с рассветом. В эту пору нас чаще всего посещают фрицы. Все вещи держите наготове. Сейчас, Василий Иванович, Москву послушаем, последние известия узнаем. Я ведь радистом при штабе. Вот в этих двух чемоданах наша радиостанция.
Мы находились на отлогом склоне горы. Зеленые кусты и ветви огромных деревьев закрывали нас со всех сторон. Партизаны приводили в порядок вещевые мешки, осматривали оружие. Одеты они были пестро: в ватники, пальто, шинели. Но, видно, следили за собой: одежда помятая, однако чиненая, все побриты, подстрижены. Несколько товарищей с котелками и фляжками спустились под гору и вернулись с водой. По три — пять человек садились на траве в кружок завтракать. На завтрак были лепешки, испеченные на костре, натертые чесноком. Запивали водой.
Зуйские леса, где мы теперь находились, небольшие, изрезанные вдоль и поперек дорогами, были густо окружены татарскими селами, где стояли гарнизоны из румын, немцев и добровольцев-татар. Они часто прочесывали леса, и партизанам приходилось маневрировать. Тесное вражеское окружение и частые переходы по труднопроходимым тропам не давали им возможности обзаводиться транспортом. В этих условиях общая кухня была неудобна, и ее пришлось ликвидировать. Каждый партизан получал паек на пять дней, сам пек лепешки и готовил себе пищу.
— Вчера из-за приема ваших самолетов вечером не разводили костров и ничего не смогли приготовить, — рассказывал мне Андрей. — Поэтому и завтрак у нас сейчас такой скудный. А днем зажигать костры не разрешается: над лесом то и дело летают немцы.
Чтобы не привлекать к себе внимания, я держался вдали от штаба. В лагере я был человек новый, и партизаны очень интересовались мною.
Особенно их смущал мой возраст, плохой слух и зрение.
Некоторые говорили сочувственно:
— Ну, зачем такого старика посылать в лес! Дали бы уж ему спокойно дожить свой век.
Партизан Гриша Костюк, в гимнастерке с распахнутым воротом, сумрачно поглядывая на меня, спросил:
— Что же, отец, не могли тебя там, на Большой земле, получше одеть?
— Не было одежды на складе.
— Ну, не было! Ты кто будешь?
— Я-то?
— Да, ты.
— По сапожной части работал.
— А-а! Потому-то тебя и прислали! — обрадовался Костюк. — Нам сапожник, брат, дозарезу нужен. Гвоздочков не догадался захватить?
— Немножко привез.
— Добро! Будь другом, почини ботинок. Видишь, какая авария. Вчера чуть ногу не сломал.
Я осмотрел его ботинки. На одном отстала подметка.
— Что ж, можно. Отдохну только немножко.
Андрей, поморщив лоб, молча посматривал то на меня, то на моего собеседника и, ухмыльнувшись, отвернулся в сторону.
К нам подошел Луговой.
Он мало изменился: коренастый, на редкость крепко сбитый, светловолосый, с яркими голубыми глазами и упрямо выпяченной нижней губой. Ему было около тридцати лет, но выглядел он старше.
— Где тут новое пополнение? — спросил он, лукаво глядя на меня.
Я встал:
— Я, товарищ командир, новое пополнение.
— Хорошо, нам пополнение нужно. Правда, у нас в отрядах все молодые ребята. Но ничего, поживете с нами — и вы помолодеете. А дорожки наши как вам понравились?
— Тяжеловаты немножко, — сознался я.
— Я думаю… Ну, ничего, не падайте духом. Обживетесь, легче будет. Ребята у нас — орлы, помогут вам. Поскольку вы еще пайка не получили, приходите к нам в штаб завтракать.
Предупредив радистов, чтобы не задерживали сводку Совинформбюро, он пошел дальше по лагерю, хозяйственно осматривая стоянку и переговариваясь с партизанами.
Штаб размещался в центре лагеря, под огромным развесистым дубом. Из плащ-палаток, разостланных на траве, получился стол, вокруг которого расположились командиры, политработники отрядов, диверсанты и разведчики. У многих были ордена и медали.
Павел Романович вручил некоторым из присутствующих поздравительные письма и подарки от обкома партии за боевые дела. Письма прочитывались вслух, а содержимое посылок — вино, консервы, папиросы — выкладывалось на стол для общего угощения.
Принесли привезенный нами бидон со спиртом. Командир бригады сам не пил никаких спиртных напитков, но товарищей угощал охотно и был самым веселым человеком за столом.
— Ну, дорогие гости, — сказал он, — мне, как лицу нейтральному, разрешите быть виночерпием. Миша, мерку!
— Сейчас разыщу, — ответил Миша, повар, молодой партизан с большим шрамом на лице. — Во время прочеса куда-то запихнул ее.
— Разыскать немедленно! Иначе можно учинить несправедливость и кое-кого обидеть. — И, обращаясь к Павлу Романовичу, продолжал в шутливом тоне: — Видимо, в связи с вашим прибытием противник прекратил позавчера прочес леса. Можно предполагать, что завтрак пройдет в спокойной и дружеской обстановке.
— А Гитлер читает сейчас очередное донесение о том, что крымские партизаны уничтожены, — заметил с усмешкой комиссар бригады Мирон Миронович Егоров.
— Точно! — раздался дружный смех.
— Безусловно так, — подтвердил Луговой. — Приказ немецкого командования был краток и категоричен: «Партизан, имеющих площадку для самолетов, уничтожить».
Миша поставил на стол две алюминиевые миски с нарезанной колбасой, лепешки, несколько кружек, а мерку на сто граммов передал Луговому. Тот вытер ее бумагой и, разливая спирт по кружкам, шутил:
— Итак, друзья мои, выпьем за упокой наших грешных душ. У нас шесть кружек на сорок персон. Прошу посуду не задерживать.
Партизаны выпивали, вытирали губы рукой и, поддевая на кинжалы куски колбасы, принимались за завтрак.
— Последний прочес большой был? — спросил Павел Романович.
— Подходящий, — ответил Егоров. — Фрицы бросили в лес восемь тысяч татар и румын на автомашинах. Командовали, конечно, немцы. Прочесывали одновременно все участки нашего района.
— Ну и что же?
— Мы решили боя не принимать, — сказал Луговой, принимаясь за колбасу. — Пока немцы чесали лес, наши диверсанты работали у них в глубоком тылу; подорвали двести двенадцать рельсов на участке Сарабуз — Биюк и сто рельсов в районе Колай-Сейтлер, Ички и Ислам-Терек, взорвали четыре воинских эшелона, основательно разрушили пути и на несколько дней остановили движение. Немцы, потеряв наши следы в лесу, начали хвастать, что партизаны уже уничтожены. Теперь фрицы охотятся за нашими диверсантами в тылу, а ребята, выполнив задание, вернулись без потерь и сейчас выпивают вместе с нами. Сакович, расскажи, как ты со своей группой поработал.
Поднялся молодой стройный парень с добродушным открытым лицом, в широких шароварах из плащ-палатки.
— Разрешите доложить: вражеский эшелон пустил под откос путем применения колесного замыкателя и использования двойного заряда тола. Задание командира бригады выполнил. Все.
— Нет, не все! — весело заметил Луговой. — Ты брось смущаться! Расскажи подробней, как оно там было.
— Оно было так. Меня назначили командиром диверсионной группы и дали задание. Со мной отправились бойцы Рак, Парфенов и Курсаков. Шли по компасу, плутали. Только на пятые сутки нашли железную дорогу около станции Желябовка. Днем окопались и залегли. Я говорю: «Лежите здесь, ребята, а я пойду на разведку». Пошел пригнувшись, потом ползком, ползком, и добрался до железной дороги. Вижу, в стороне кустик. Решил проверить его. Если, думаю, за кустиком немца нет, пойду за ребятами, и начнем работать. Только я поднялся — бабах!.. Я упал. Стрельбы не поднимаю. Потихоньку приполз к своим. Бойцы обрадовались: «Мы думали, тебя убили. Что бы мы без тебя стали делать?» Я им говорю: «Сегодня мы не будем операцию проводить. Если теперь поставить мины, фриц будет проверять пути и найдет их». Только мы поговорили, видим — идет поезд. Взлетела красная ракета. Поезд остановился. Ясно — тревога, нужно удирать. Берем свои мины, тол и уходим обратно в степь. Отошли от полотна километров так с пятнадцать. Залегли и сделали дневку. На другой день, только стемнело, опять пошли к железной дороге. Подползли к полотну и давай работать. Я заложил под рельсы мину замедленного действия, пошел минировать другой участок. Вдруг слышу гудок паровоза. У нас, кроме мин, был колесный замыкатель. Мне в отряде сказали: если будет итти поезд, ставь колесный замыкатель. Но ставить его вместе с миной нельзя: он взорвется, взлетит и мина. Нужно его поставить подальше от мины и сохранить ее для другого эшелона. А поезд уже показался. Бегу сломя голову вперед по ходу поезда. Испугался: вот-вот нагонит меня поезд и промчится целехонек мимо! Успел поставить колесный замыкатель и шестнадцать килограммов толу. Только я отскочил от полотна, как рвануло! Меня подбросило в воздух и оглушило. Ребята подхватили меня — и бежать в степь. Опомнился я скоро. Только в ушах долго звенело. В общем все в порядке.
— А в результате этой операции, — заключил Луговой, — они взорвали не один, а два эшелона. Колесным замыкателем уничтожили восемнадцать вагонов с немцами, а через два дня от мины слетели под откос четырнадцать вагонов с танками и артиллерией и четырнадцать вагонов с войсками.
После Саковича о своих боевых делах рассказывали другие диверсанты. Отважные вылазки партизан в глубокий тыл врага не Всегда проходили благополучно, были и неудачи и тяжелые потери.
— Помнишь Бартошу? — спросил Егоров у Павла Романовича.
— Ну как же не помнить! Весельчак такой, огневой парень. Где он?
— Погиб. Мы поручили ему большую, сложную операцию на важной коммуникации немцев. Задание он выполнил, но был замечен. Чтобы дать возможность спастись своим товарищам, он начал прикрывать их отход, был тяжело ранен и зверски замучен.
Наступившую тяжелую тишину прервал сияющий Андрей с только что принятой сводкой Совинформбюро.
— Вчера радисты порадовали нас освобождением Новороссийска, — сказал комиссар бригады, — сегодня Андрей тоже что-то приятное принес.
Форсирование Красной Армией реки Десны и взятие городов Брянска и Бежицы, разгром семи немецких пехотных дивизий под Брянском вызвал всеобщий восторг. С особым вниманием партизаны следили за успехами Красной Армии на Мелитопольском направлении и на побережье Азовского моря. Известие об овладении нашими войсками городом и портом Осипенко (Бердянск) на Азовском лоре вызвало новый взрыв радости.
Подсчитывали, сколько Красная Армия за день освободила наших городов, населенных пунктов, сколько на всех фронтах уничтожено войск противника и захвачено трофеев.
Строились предположения, когда Красная Армия подойдет к Крыму и с какой стороны начнутся боевые действия: со стороны ли Перекопа или с моря. Некоторые уверенно говорили, что третью зиму в лесу голодать не придется и что двадцать шестую годовщину Октябрьской революции они будут встречать в Симферополе.
Зашел разговор и о том, что с приближением фронта в Крыму возрастает ответственность партизан, надо активизировать подрывную работу в немецком тылу, смелее уничтожать немецкие коммуникации и гарнизоны и ни днем, ни ночью не давать противнику покоя.
— А как у вас с пополнением? — спросил Павел Романович Лугового.
— Пополнение прибывает и из гражданских и из военнопленных. Пришла даже группа словаков из организованной немцами чехословацкой дивизии «Быстрица». Мы ее называем «Быстрая». Вот познакомьтесь — Бэлла, — он указал на молодого красивого парня в кожаной куртке. — Недавно он ходил в Симферополь и вернулся оттуда на грузовой машине с пятнадцатью словаками. Скоро мы из словаков самостоятельный отряд организуем. Они хорошо дерутся. А за голову Бэллы немцы назначили пять тысяч марок.
— Как настроение в вашей «Быстрой»? — спросил Павел Романович у Бэллы.
Тот говорил по-русски неплохо, короткими рублеными фразами.
— Немцев наши не любят. Немец боится словаков. Держит «Быструю» в тылу. Много словаков хотят в лес, только дороги не знают.
— Бэлла скоро опять пойдет в Симферополь за пополнением, — сказал Федоренко, командир второго отряда.
К столу торопливо подошел связной и доложил Луговому:
— Товарищ командир бригады, недалеко от лагеря показалась группа противника на лошадях.
— Это уже нахальство! — возмутился Луговой. — Прямо к штабу.
Поднялся Федоренко.
— Товарищ командир, разрешите проучить?
— Разрешаю. Румын, если сдадутся, привести в лагерь.
— Будет исполнено! — И Федоренко крикнул своему помощнику: — Сорока! Двадцать бойцов на операцию.
— Есть, товарищ командир, двадцать бойцов на операцию! — живо отозвался низкорослый плотный парень, скрываясь за деревьями.
Отряд комсомольца Федоренко, или, как его все называли, Федора Ивановича, считался лучшим в бригаде. Самые опасные и дерзкие налеты на противника поручались Федоренко, и отряд возвращался всегда в лагерь с трофеями и без потерь.
Со всех сторон сбегались к Федоренко его молодцы — комсомольцы. На ходу застегивая гимнастерки, затягивались ремнями и осматривали автоматы и пистолеты. Группа выстроилась. Федоренко подошел к Луговому.
— Товарищ командир бригады, отряд готов к движению.
— Хорошо. Ждем с трофеями.
И Федоренко со своими бойцами быстро исчез за деревьями.
Признаюсь, я нервничал, чутко прислушивался к каждому шороху. Раздались одиночные выстрелы и короткие автоматные очереди. Затрещал пулемет.
— Это Капшук строчит, — тихо сказал Костюк. — Ой, и бедовый!
Стрельба быстро прекратилась. Все молчали, очень долго тянулись минуты.
Вдруг из-за кустов послышался чей-то голос:
— Идут! Идут!
Показался Федоренко с бойцами.
— Товарищ командир! — отрапортовал Федоренко. — Задание выполнено. Противник разбит. Убито шесть, взято в плен пять. Убежал один. Взяты трофеи: одиннадцать лошадей, шесть повозок, десять винтовок, пятьсот патронов. Отряд потерь не имеет.
Я пошел поглядеть на пленных. Румыны стояли со связанными назад руками. Один из них был ранен в ногу. Около него возился врач. Румын жалобно улыбался, надеясь вызвать сочувствие.
Бойцы, потные, возбужденные, рассказывали подробности. Часть румын при первых же выстрелах подняла руки вверх. Другие пытались отстреливаться. Их перебили. Удалось убежать только одному румыну, ехавшему на головной подводе.
— Зачем стрелял? — укоризненно сказал партизан раненому. — Лучше вот так — руки вверх.
Криво улыбаясь, пленный что-то забормотал. Партизан понимал по-румынски.
— Он говорит, что надо было хоть для виду сделать несколько выстрелов, но что он, мол, стрелял вверх.
Пленных начали допрашивать. Все они были крестьяне средних лет. Все плакали, ругали Гитлера и Антонеску, подробно рассказывали о своей части и о порядках в армии.
Кое-кто из партизан тут же начал «просвещать» пленных. Им показали на карте положение на фронтах, сообщили о приближении Красной Армии к Крыму.
Стоя за деревом, я наблюдал за румынами. Они были настолько забиты и невежественны, что, кроме собственной судьбы, их ничто не интересовало.
Павел Романович сидел на траве неподалеку. Я подошел к нему:
— Что думаете делать с пленными?
— Решили после допроса отпустить.
Это меня удивило. Фашисты беспощадно расстреливали партизан, а тут такое великодушие.
— Тупы, как волы, — вздохнул Павел Романович. — Начинены геббельсовской брехней. Может быть, после встречи с нами они кое-что поймут и расскажут своим.
— А их командира тоже отпустите?
— Какой он командир! Замызганный ефрейтор. Когда наши обстреляли их, он первый бросился бежать, вскочил в канаву, закопал свой пистолет в землю, лег врастяжку и закрыл глаза. К нему подбежал Федоренко, командует: «Встать!» Ефрейтор молчит. «Встать!» кричит Федоренко. Ефрейтор открыл глаза и пробормотал по-румынски: «Я мертвый». Вот горе-вояки! — засмеялся он и сказал подошедшему к нему Луговому: — После окончания допроса дай команду привести румын сюда, пусть с нами поужинают. Скажи им пару теплых слов на прощание, и всех отпустим.
Ординарец опять накрыл стол. Привели румын, они дрожали, плакали, полагая, очевидно, что их будут сейчас расстреливать или вешать. Но вот, по приказанию Лугового, пленным развязали руки, возвратили документы и фотографии. По их лицам пробежала робкая улыбка. Дрожащими руками они поспешно прятали в карманы истрепанные документы и фотографии, где они были сняты со своими женами и детьми.
— Все получили? — спросил Луговой через переводчика.
— Все, все! — румыны дружно кивали головами.
Только один что-то несмело сказал переводчику, но на него строго прикрикнул румынский ефрейтор.
— В чем дело? — спросил Павел Романович.
— Он говорит, что у него был еще перочинный ножик, — улыбнулся переводчик.
— Какой-то ножичек я нашел на месте боя, — сказал один партизан, передавая ножичек Луговому.
— Это мы не считаем трофеями. — Луговой вернул ножичек владельцу и предложил румынам садиться.
На столе — колбаса, сыр, лепешки. Луговой налил в кружку спирту и протянул ефрейтору. Ефрейтор испуганно замотал головой.
— Боится. Думает, травить их хотим, — догадался Федоренко. — А ну-ка, дайте мне кружку!
Он потряс ефрейтора за плечо и, крикнув: «Смотри!», залпом выпил спирт. Румыны засмеялись, выпили и начали жадно закусывать. Один отказался от спирта, заявив, что он водки не пьет.
— А портвейн пьешь? — спросил Луговой.
Тот утвердительно закивал. В штабе нашлось немного вина, и Луговой угостил румына.
Такое отношение потрясло пленных. Они смеялись и плакали от радости.
— Мы будем всем говорить, какие хорошие партизаны. Всем будем говорить!
Луговой произнес небольшую агитационную речь через переводчика и закончил ее так:
— Передайте вашим людям, что если их будут посылать в лес, пусть в нас не стреляют, и мы их трогать не будем. Старайтесь предупредить нас заранее о планах немцев. Нам будет известно, как вы выполните свое обещание. Если вы окажетесь обманщиками — пеняйте на себя. Если вы честные люди — помогайте нам бить немцев.
Пленные слушали внимательно. Потом, приложив руки к груди, протянули их к партизанам ладонями вперед, показывая, что благодарят от всего сердца.
Три партизана повели румын на дорогу. Пленные кланялись во все стороны.
Проводники потом передавали, что, прощаясь, румыны бросились их целовать и твердили, что всем расскажут правду о партизанах.
— Вот люди! — удивлялся один из проводников. — На убитых товарищей даже не обратили внимания. А когда увидели убитых лошадей, начали плакать: «Ой, ой, как жалко лошадь!»
Наступил вечер. Штаб принял решение перейти на новое место, поскольку здесь побывали румыны.
Луговой выслал вперед Федоренко с группой бойцов для уничтожения румынского обоза, сбора трофейного инвентаря и для разведки.
Миша с бойцами уже разделал убитую лошадь. Все запаслись мясом и двинулись в путь.
Стемнело. Мы вышли на опушку леса. Вдруг тишину нарушил одиночный выстрел и недалеко затрещал пулемет. Наперерез нам летели трассирующие пули, и целый сноп их был направлен в нашу сторону. Мы залегли и под огнем начали отползать назад.
Остановились в балке, пристально вглядываясь в темноту. Выслали разведчика, который вскоре вернулся с бойцом из отряда Федоренко. Тот рассказал, что он чуть не попал в лапы румын. Он подошел к повозкам, а том люди. Темно. Раздались голоса: «Немец?.. Румын?.. Русс?..» Он понял, что напоролся на врага, и молча начал отходить. Застрочил пулемет. А в лесу у румын прикрытие, оттуда тоже открыли огонь.
Мы решили обойти стороной то место, откуда обстреляли нас румыны, и соединиться с Федоренко. Только стали подниматься по скату балки, опять затрещал пулемет, но теперь трассирующие пули летели уже в противоположную от нас сторону. Во главе колонны стал Костюк, как лучший проводник, прекрасно ориентирующийся в лесу в любое время. К Федоренко направили связного с указанием, где ему с нами встретиться.
Снова начался ночной партизанский марш: с кручи на кручу, без дорог шагали напролом, спотыкались, падали.
Через некоторое время тяжелого пути соединились с Федоренко и остановились передохнуть. Все живы и невредимы. Я поражен был удивительным мастерством наших проводников. По каким-то неуловимым признакам находили они просеки и приводили точно в то место, куда нужно.
При выходе из Кипчакского в Тиркинский лес нам пришлось пройти по вершине горной площадка длиной километров в десять, называемой по-местному Джелява.
Возле этой каменистой пустоши, тут же на горе, находился партизанский аэродром. Его недавно захватили немцы и поставили там батальон солдат с пулеметами и минометами.
Поэтому по Джеляве мы шли цепочкой быстро, без отдыха, соблюдая строжайшую тишину.
Только в четыре часа утра, пройдя опасное место, мы снова вошли в лес и устроили привал. За ночь мы сделали около двадцати пяти километров.
Но усталость, казавшаяся мне порою предсмертной истомой, странным образом прошла. Я, к удивлению своему, почувствовал себя даже несколько свежее. Очевидно, в условиях огромного нервного напряжения утомление быстро проходит. Быть может, имел благотворное влияние и чистый горный воздух. Во всяком случае, я до сих пор не могу понять, как я тогда не умер от разрыва сердца или не простудился, как не поломал ноги на скользких крутых спусках.
Наконец мы достигли вершины горы.
— Ну, вот мы и в новом лагере, «Седло», — сказал мне Андрей, вытирая пот и кладя на траву свои чемоданы с радиоаппаратурой.
— Вы бывали тут раньше? — спросил я.
— Много раз. Эта высота очень удобна для обороны.
— Далеко от Симферополя?
— Километров сорок.
Мы находились на небольшой площадке, с двух сторон закрытой скалами, под зеленой крышей деревьев. Глубокие балки отделяли нас от соседних гор, в том числе и от высокой, продолговатой, с оголенной вершиной горы Тирке, именем которой назывались леса этой местности. Мне никогда не приходилось раньше бывать в глубине крымских лесов, и я понятия не имел об их удивительной красоте.
Федоренко расположил свой отряд на склонах горы. На вершине при штабе остались радисты, спецработники и комендантский взвод. Кое-кто уже брился, несколько человек взялись организовать баню и стирку белья. Радисты ставили антенну, готовясь слушать Москву и передавать радиограмму обкому партии в Краснодар.
Начальник снабжения, старый боевой партизан, Жора, доставил с тайной базы три мешка пшеничной муки, соль, другие продукты и, отмеряя котелком, раздавал их завхозам отрядов.
В балке возле реки разжигали костры, подбирали валежник таких пород, которые горели жарко и выделяли мало дыма. Месили тесто, варили суп, жарили шашлык из конины.
Кто-то запел под губную гармошку:
Партизаны тихо и стройно подхватывали переделанный на свой лад припев:
Легко и уверенно чувствовалось среди этих жизнерадостных, неунывающих людей. С ними действительно можно помолодеть!
В лагере я встретился с редактором газеты «Красный Крым» Степановым, которого до войны знал хорошо. Он рассказал, что в лесу имеется типография. Регулярно выходит газета «Красный Крым» и печатаются листовки.
— Где же типография?
— В скале, в надежном месте. Во время прочеса я со своими работниками был в типографии, готовил листовку. Около скалы рыскали румыны, разыскивали наши продбазы. Все кругом обшарили, а нас не нашли. А ты что думаешь здесь делать?
Я сказал, что собираюсь в Симферополь на подпольную работу.
— Это хорошо! — обрадовался Степанов. — Будешь для газеты материал присылать.
— В городе мне потребуется ручная типография для выпуска листовок, — сказал я.
— У меня есть такая в запасе. Могу тебе подарить.
Степанов рассказал, что румыны, отпущенные из лесу, оказались неплохими агитаторами. Уже на другой день все части знали, как партизаны угощали пленных. Когда вся эта история дошла до немцев, румын арестовали, но разговоры о партизанах не прекратились. Донесли об этом наши разведчики.
Условившись с ним о типографии, я подошел к Павлу Романовичу, который сидел неподалеку под скалой и что-то писал.
— Как обстоит дело с моей работой? — спросил я его.
— Выясняю обстановку в городе. Пока поживешь с нами. Никуда не уходи. Кормить тебя будет Миша из штабной кухни.
Партизаны узнали, что с Большой земли прибыл старичок-сапожник, и как только мы расположились лагерем, ко мне явились заказчики. Один сказал:
— Вот это правильно, папаша! В вашем возрасте тяжеловато стоять на посту и ходить на операции, а обувь чинить нам дозарезу нужно. Будете сидеть тут и постукивать. Только стучите тише, о фрицах не забывайте.
И я начал «постукивать», ожидая отправки в город. В партизанской бригаде я был единственный старик, и ребята часто со мной откровенничали.
Однажды пришел Костюк. У него отлетела вторая подметка. Он только что вернулся с задания, очень устал и пожаловался на тяжелую лесную жизнь.
Возясь с ботинком, я рассказал ему один случай из моей жизни.
В 1908 году я был арестован по делу орехово-зуевских рабочих и два с половиной года сидел во Владимирской тюрьме под следствием.
В тюремной башне нас было пять человек. Башня сырая, со стен текло, пол асфальтовый. Круглое окно с решеткой находилось под самым потолком, и в камере было почти темно.
Уж очень всем нам хотелось поглядеть на волю. Мы ставили топчан на топчан, потом стол, а на него последний топчан лестницей. Четверо держали, а пятый — счастливец! — лез к окну. И мы с жадностью его спрашивали:
— Ну, как там, на воле?
А он отвечал с восторгом:
— Ребятишки играют! Коза прошла! Баба, баба прошла!
А потом, когда я сидел уже в цепях в каторжном централе, мы чуть не дрались из-за солнечного света. К окну подходить не разрешалось. Солнце попадало к нам узенькой косой полоской и не больше чем на час. Каторжане спорили, кому посидеть на этой полоске.
— Мне двадцать лет сидеть, а ты через полтора года выйдешь.
— Что ты! Я кровью харкаю, мне до срока не дожить!
Я думал тогда не раз: «Как не ценили мы жизнь, когда были на воле! Побежал бы я сейчас в поле за нашей деревней, лег бы на траву, смотрел бы в небо и слушал жаворонка. И ничего, кажется, больше не надо…»
Мы с Костюком долго беседовали. Он слушал внимательно.
Уходя, Костюк подарил мне кусок сахару. Я взял, чтоб его не обидеть.
Вскоре Павел Романович устроил заседание подпольного центра. Это было очень легко сделать, так как все члены нового состава подпольного комитета находились в лесу, в бригаде, на командных должностях.
Он ознакомил присутствующих с решением обкома партии о работе подпольных организаций. Все сознавали, что из леса руководить подпольем трудно, нужно кому-то быть на месте, среди подпольщиков, в особенности в Симферополе, где находятся все важные фашистские учреждения и штабы немецкой и румынской армий.
Но как и с кем начинать строить там партийное подполье? Старые подпольные организации провалены, провокаторы не все раскрыты и продолжают действовать. Сошлись на том, что партийное подполье нужно строить заново, установить связи с проверенными на практическом деле патриотами, ничем не связанными с теми подпольными организациями, которые уже провалены.
— Какие новые люди имеются сейчас в Симферополе? — спросил Павел Романович у Лугового.
— За последнее время мы нащупали в городе несколько новых патриотических групп и одну комсомольскую организацию. Сейчас изучаем их. Послали на связь с ними нашего нового связного. Он должен скоро вернуться.
— А как с «Серго»?
— Недавно я получил от него письмо. Он устроился в Симферополе как будто неплохо. Имеет связь с патриотами. Обещал нам помочь в организации подполья.
Слушая товарищей, я обдумывал, как поступить в этой обстановке. Мне казалось, что единственно правильным будет пробраться самому в Симферополь и там на месте решить, с кем и что нужно делать. Но для того чтобы осесть в Симферополе и ориентироваться в обстановке, мне нужна была конспиративная квартира, на которой я мог бы устроиться с фиктивными документами. Так я и высказался на этом заседании.
В тот же день в Симферополь были отправлены связные с заданием найти для меня конспиративную квартиру.
Через десять дней они вернулись.
Квартира для меня была найдена у одного из подпольщиков, который вместе со связными и пришел сейчас в лес.
— Что за человек? — спросил я у Павла Романовича.
— Я сам его еще не знаю, — ответил он. — Вот иду с Луговым к нему на свидание. Познакомимся, посмотрим.
Они вернулись поздно вечером.
Вид у Павла Романовича был мрачный. Он отвел меня в сторону:
— Этот «подпольщик» оказался самым махровым шпионом. Вот влипли бы! Уж очень наши ребята доверчивы. Думают: раз хорошо ругает немцев, значит свой, патриот.
— Как же это выяснилось?
— Начали беседовать. Он и запутался. Говорит, учился в Ленинграде в военной академии, а кто тогда был начальником академии — не знает. В Симферополе прикинулся бежавшим военнопленным, вошел в доверие к одной нашей подпольщице, которая укрыла его, женился на ее сестре. Встречался с нашими связными, брал для распространения листовки. Чем не «патриот»!
— Как же теперь будет с моей отправкой?
— Не спеши, отправим. Сам видишь, что получилось.
Придется, старина, ждать «Серго». Это наш подпольщик. Я его лично знаю, и, думаю, он поможет нам.
Мне пришлось задержаться в лесу еще и по другой причине. Штаб получил сведения, что противник готовит новый большой прочес. Партизан обстреляли в районе Суата. Немцев обнаружили и в районе Иваненковой казармы, где я приземлился. Значит, немцы уже вошли в лес.
Штаб решил встретить противника активно и выделил несколько боевых групп. Вечером собрались командиры и комиссары отрядов. Луговой коротко доложил обстановку и изложил план командования. Штаб бригады менял место стоянки.
Поздно ночью мы тронулись в путь. Опять подъем и спуск, Джелява… лес и лес…
Я уже несколько втянулся в эти ночные переходы и не чувствовал такой усталости, как в первое время. Но в темноте я был совершенно беспомощным, и это пугало меня. Выручал Андрей, который бережно следил за мной, а белый лоскут, прилаженный ему на спину поверх вещевого мешка, служил мне ориентиром.
— Окурки базируйте! — предупреждал на привалах командир.
Слово «базировать» совершенно вытеснило у партизан много других слов разного значения: «прятать», «укрывать», «закапывать». Никто не говорил «надо спрятать», а обязательно «надо забазировать» — безразлично, шла ли речь о тоннах груза, об оружии или какой-либо мелочи, вроде окурка.
Около часа ночи над лесом появился вражеский самолет. Он долго кружился над нами, видимо высматривая партизанские костры.
— Дудки! — тихо сказал кто-то.
Через несколько часов мы вошли в мелкий густой лес. Входили развернутым строем, чтобы не проторить тропы.
Мы пробыли в этом лесу три дня. Противник, получив отпор, ушел из лесу. Ночью мы перешли в Баксанские леса на гору Яманташ, в лагерь, прозванный партизанами «Козырек». Штаб разместился на площадке, защищенной с трех сторон глубокими балками. С четвертой «Козырек» лепился к многоярусной горе с большими скалами. Там стояли наши посты.
Я поселился рядом с радистами и занялся устройством своего быта. Из парашюта сделал себе «домик», на случай дождя и холода получил зеленую плащ-палатку, обзавелся котелком, ложкой и автоматом. Для будущей маскировки в Симферополе я набрал с собой разных инструментов — и слесарных и сапожных. Сапожные принадлежности сразу пригодились, да и за другими инструментами ребята прибегали частенько:
— Василий Иваныч, у вас, говорят, плоскогубцы есть?
— Нет ли шильца, Василий Иваныч?
Но беда была в том, что все это хозяйство мне приходилось таскать на себе. Да еще автомат, а в нем семь с половиной килограммов. Да еще постель, — я очень боялся простудить почки: ведь меня бы тогда отправили на Большую землю.
Луговому, Павлу Романовичу хорошо! Они идут себе налегке, с одним оружием, а за ними ординарцы с поклажей. А мне надо соблюдать конспирацию. Да и слабость свою тоже не хочется показывать.
Я попробовал инструменты базировать. Запрячу часть, потом на меня нападает страх: вдруг понадобятся! Как придем на место, возьму и таскаю опять.
Наконец мочи моей не стало. На одном ночном переходе мои инструменты поручили тащить Грише Гузию.
А Гриша — моряк, щеголеватый парень, не любил обзаводиться «барахлом». Автомат, маленькая сумка с хлебом — и все. Он был очень недоволен.
Его спросят:
— Что это ты, Гриша, оброс?
— Да вот, старый чорт набрал. Таскай за него…
Тут я рассердился: как на привалах, так все ко мне, а носить никто не хочет!
И когда мы первый раз были на «Козырьке», я разбросал все, кроме самого необходимого.
Вернулись мы на то же место — болит моя душа: а вдруг в Симферополе понадобятся? Да и вообще я очень люблю инструменты, дома у меня целая мастерская, всякую мелочь всегда сам исправляю.
Полез по скалам. Полдня собирал свои инструменты.
Павел Романович меня хватился:
— Куда девался старик?
А Костюк хохочет:
— Да вон он карабкается по скалам.
— Дались тебе эти инструменты! — с досадой сказал Павел Романович, когда я выбрался наверх, обливаясь потом.
Но все-таки с этого момента я уже больше инструменты не разбрасывал и безропотно таскал на себе.
Однажды вечером Луговой сообщил мне, что от «Серго» получено письмо.
— Завтра он будет в лесу на грузовой машине. На свидание с ним пойдем вместе и подробно обо всем договоримся.
Мы должны были встретиться с «Серго» в пятнадцати километрах от штаба. Пользуясь плохой погодой, мы отправились днем. Вел нас Костюк, охранял Сакович с бойцами. Дорога была тяжелая, скользкая. Я забыл захватить плащ-палатку и скоро промок насквозь. Недалеко от места встречи шедший впереди Сакович остановился:
— Едет кто-то!
Мы спрятались за деревьями. В нескольких метрах от нас на дороге показался обоз. На телегах сидели вооруженные татары. Они ехали за дровами.
Мы отошли в мелкий лесок и залегли там. До нас доносились голоса и стук топоров.
Решили ждать «Серго» здесь, выставили охрану. Дождь все продолжался, холодный, безжалостный. Я озяб, зубы стучали.
Луговой послал Саковича на место явки.
Вскоре мы услышали шум автомашины. Но Сакович привел только связного «Серго», молодого парня Тиму, и солдата-словака.
Тима доложил Луговому, что он приехал со станции Воинка с двенадцатью словаками, которые дезертировали из дивизии «Быстрица».
— А «Серго» приедет?
— Не знаю. Он застрял где-то в районе, я его не видел несколько дней.
Тиму и словаков Луговой отправил с проводником в отряд, а мы остались ждать «Серго».
Шел шестой час, уже темнело — «Серго» не появлялся. Мы медленно побрели в лагерь. Стояла жуткая темень, хлестал дождь, шумели ручьи с гор; при спуске легко можно было искалечиться. Добрались мы до лагеря только под утро. Развели костер, стали сушиться. Безуспешно. Дул порывистый ветер, и ветви деревьев то и дело сбрасывали целые потоки воды. Просушишь одежду спереди, а сзади холодная вода стекает по спине в брюки. Начинаешь сушить спину — моментально промокает немного, обсохшая одежда спереди.
Кое-как натянув между деревьями свою палатку, я лег на мокрую траву, завернувшись в мокрый плащ. Дрожал, как в лихорадке. Но усталость взяла свое, и я заснул. Спал так крепко, что не слышал, как поднялись партизаны и Андрей осторожно, чтобы не разбудить меня, снял мою палатку.
Велико было мое удивление, когда, проснувшись, я увидел приветливое солнце. Одежда на мне почти просохла, и я был совершенно здоров.
Такая чудная погода в октябре бывает только в Крыму.
На явку с «Серго» мы ходили еще два раза, но он не появлялся, и я решил пробираться в Симферополь пешком под видом мастерового или крестьянина.
В проводники мне выделили испытанного, надежного связного — Гришу Гузия, того самого, которому не хотелось таскать мой мешок.
Гриша Гузий ходил на задания вместе со своей женой — Женей Островской. Поженились они недавно, уже в лесу, и не делали шагу друг без друга. Задания выполняли очень ответственные. В Симферополе были несколько раз и хорошо знали обстановку.
Гриша — моряк Черноморского флота. Высокий, статный, красивый парень с отличной мускулатурой. Человек прямой, но горячий и вспыльчивый. А веселая, общительная Женя Островская совершенно не напоминала партизанку. В ее житейско-практической смекалке было что-то мирное, домашнее. Она боялась мышей и лягушек, любила полакомиться сладеньким, понежиться, пела любовные песни. Но притом выполняла очень сложные и опасные задания.
О нашей предстоящей дороге и устройстве моем в Симферополе Гриша говорил уверенно и просто, как будто мы шли в гости к родным.
— Ну как, Гриша, пройдем к немцам? — расспрашивал я.
Гриша мило улыбался:
— Что за вопрос!
— Квартира найдется?
— Безусловно.
— А люди как?
— Замечательные.
— Расскажите, как вы попали в лес и связались с Симферополем.
— Вообще-то, — сказал Гриша, — мы всех подпольщиков держим в строгом секрете. Но вам я обязан сказать, поскольку я имею такое задание от Павла Романовича.
— Приключений у нас было много, — спокойно заметила Женя. — В Симферополь в десятый раз идем, и каждый раз что-нибудь новое с нами случается.
— Бывают разные переплеты, — сказал Гриша, — без этого нельзя.
— Вы крымчане?
— Да, местные. До войны я работал секретарем Ичкинского райисполкома. В начале войны я был призван в армию. Здоровье и комплекция у меня подходящие. Я был зачислен моряком в Черноморский флот. Служил в Севастополе. Когда немцы ворвались в Крым, Седьмую морскую бригаду, где я служил, бросили на Перекоп для обороны. На станции Княжевичи мы столкнулись с противником, вступили в бой, который продолжался восемь часов. Дрались отчаянно. В рукопашной схватке мы разбили наступающую на нас группировку противника, но пришлось отступить — другие части противника уже заняли Сарабуз. Бригада попала в окружение. Решили прорваться. Завязался опять тяжелый бой. Противник занял выгодные позиции и стрелял в упор. Над головами шумели немецкие бомбардировщики и засыпали бомбами. В этом бою пятый батальон, в котором я находился, почти весь погиб. Только мне с двадцатью семью товарищами удалось прорваться из окружения. В Сарабузе мы захватили вражескую машину и проскочили в Симферополь. Бахчи, сарай уже был занят немцами. Наши части отступали через Ялту на Севастополь, куда прибыли и мы. Из остатков Седьмой морской бригады был организован Второй морской полк. В этом полку я участвовал в обороне Севастополя до четвертого июля 1942 года. Когда противник прорвал линию обороны города, командир полка дал мне задание пробраться в тыл врага для подпольной работы. Обстановка была сложная. Четвертого июля ночью я с группой моряков, переодевшись в гражданскую одежду, пробрался в тыл врага, но около Бахчисарая мы были задержаны. Нас привели в Симферополь и бросили в лагерь. Через несколько дней мне удалось бежать из лагеря в деревню Бештерек, в двенадцати километрах от Симферополя. Немцы превратили колхоз в общину с круговой порукой. Над общиной стояли староста, полицейский и участковый комендант. Шпионаж, доносы. Словом, того гляди схватят. Там я познакомился с Женей. Она помогла мне укрыться, а потом мы ушли в лес.
Женя Островская до войны работала учительницей. В Бештереке ее родители. Оставленная на подпольную работу, она долго оставалась в одиночестве. Обещанные связные к ней не приходили. После долгих поисков ей удалось установить связь с симферопольской комсомольской подпольной организацией, а потом, вместе с Гришей, и со штабом партизан. Когда они пришли в лес к партизанам, их там никто не знал и взяли под подозрение: не шпионы ли? Женю оставили при штабе вроде заложницы, а Гришу с двумя опытными партизанами Луговой послал в тыл врага на диверсию.
Гриша пустил под откос эшелон противника и взорвал железнодорожный мост.
Только после этого ему и Жене было оказано доверие, и они стали работать связными подпольного центра с Симферополем.
Беседуя с ними об их опасной работе и о подпольщиках, я убедился в том, что довериться им можно.
Мы начали спешно готовиться в дорогу.
Я осмотрел свои вещи, карманы. Выбросил все, что при обыске могло послужить уликой: клочки советских газет, носовые платки и портянки, сделанные мною из парашюта.
Для города я решил использовать одежду, купленную в Сочи. Положил в мешок и в карман обрывки издаваемой немцами газеты «Голос Крыма» и две фашистские книжонки, найденные мною в штабе.
Вещи, которые мне не понадобятся, я передал Андрею.
— Уходите? — спросил он тихо.
— Я буду откровенен с тобой, Андрей: ухожу в Симферополь на подпольную работу. Мне нужен будет радист. Как ты?
— С удовольствием! Радио я освоил хорошо, вполне справлюсь.
— Пока поработай здесь, я там устроюсь — и ты придешь ко мне. Рацию обещал дать обком партии.
— Хорошо. Буду ждать.
27 октября меня позвал к себе Павел Романович.
— Как строить подполье, тебя нечего учить, — сказал он. — Гузий познакомит тебя с руководителем молодежной организации комсомольцем Борисом Хохловым. У них есть примитивная типография, радиоприемник. С молодежью держи связь покрепче. Ребята энергичные и помогут тебе. Остальные же руководители патриотических групп, с которыми связан Гузий, пока не должны тебя знать. Изучи их сначала. Мы с ними плохо знакомы. Подбери себе хорошего связного. Гриша придет к тебе через две недели, приведет к нам твоего связного, и мы укажем ему место встреч с нашим связным. Если Гузий долго не придет, присылай связного к нам в штаб. Курс держать на гору Тирке, там у нас всегда имеется пост. А пароль такой: «От Андрея к Мартыну». «Мартын» — это моя кличка.
Я попросил ускорить переброску мне рации, а радистом прислать Андрея Кущенко.
В палатку вошел Луговой.
— Заявку Гузия удовлетворил почти полностью, — сказал он Павлу Романовичу. — Даю пятьдесят шашек тола, двадцать гранат, десять магнитных мин и два пистолета. Просит больше, но больше я дать не могу. К нам новое пополнение все время прибывает, оружия нехватает.
Мы получили, кроме того, пачку газет и листовок.
— Этот багаж потащим в город? — спросил я.
— Да, для патриотических групп. Но не сразу. Гузий забазирует все это в степи, а когда он будет уходить из города, пошли с ним комсомольцев, и они тебе быстро доставят этот груз.
Глава шестая
По маршруту, разработанному Гришей Гузием, нам предстояло пройти около шестидесяти километров. Три партизана сопровождали нас, чтобы помочь перенести тяжелый груз до места базировки в степи. Наши помощники были одеты в свою обычную одежду, вооружены пистолетами, гранатами и автоматами. У нас же были только пистолеты. Оделись мы с расчетом на маскировку. Женя — в коричневом драповом пальто, в белом шерстяном платке и новых сапогах. Гриша — в черном пальто, в кепке. Я же облачился в свою нищенскую одежду, купленную в Сочи.
У каждого из нас за плечами висел вещевой мешок с литературой, боеприпасами и другими вещами, необходимыми для подполья. Женя захватила корзинку и сетку, с которыми она обычно ходила на задания.
Погода была пасмурная.
С деревьев падали пожелтевшие листья — вестники наступавшей осени. Из лагеря мы вышли в четыре часа дня с таким расчетом, чтобы до ночи подальше уйти от партизанских отрядов.
Вскоре мы подошли к знакомой нам Джеляве. Остановились на опушке леса. Вдали справа от нас чернела гора с затянутой туманом вершиной. Там находился противник.
Проходить по Джеляве засветло опасно, а ждать, пока стемнеет, нельзя: ночью легко сбиться с маршрута. Понадеялись, что в тумане нас не заметят. Но как только мы вышли на открытое место и, пригибаясь, начали перебегать, затрещал пулемет. Мы залегли. Прогремело несколько выстрелов из миномета.
— Наугад бьет, — сказал партизан Коля-словак.
Стрельба, однако, усилилась, и две мины разорвались недалеко от нас.
— Драпать нужно. — Гриша поднялся. — Окружить могут. Осторожнее — за мной.
Мы перебрались за холм, поросший кустарником, и побежали в противоположную сторону. Когда гора скрылась от нас и стрельба начала утихать, мы остановились передохнуть.
— Ребята, — обратился к партизанам Гриша Гузий, — кто хорошо знает эти места?
— Я, — ответил Коля-словак. — Мне пришлось бродить здесь три дня.
— На Иваненкову казарму дорогу знаешь?
— Ну, как не знаю!
— Будь за проводника. Я этих мест не знаю. Полагаюсь на тебя.
И Коля повел нас по каменистой открытой местности, по бугоркам и оврагам, забирая все влево и влево.
Коля был небольшого роста, круглолицый, курносый, с живыми прищуренными глазами. Он один из первых дезертировал из словацкой дивизии, пробрался к партизанам, активно участвовал во многих операциях, заслужил любовь партизан и своих сослуживцев солдат-словаков, которым он помог бежать из части в лес.
Шли мы долго. По расчетам Гриши, надо было уже быть в лесу, а леса еще не видно. Стемнело. Пошел мокрый снег. Ветер превратился в буран, остервенело хлестал в лицо, залепляя снегом глаза и пронизывая до костей. Мы потеряли направление и заблудились. Спасаясь от ветра, зашли в овраг.
— Куда ты, курносый леший, нас завел? — сердито наступал на Колю Гриша.
Коля виновато посмотрел на него, сбросил с себя вещевой мешок, молча выскочил из оврага и исчез в темноте.
— И нужно же было мне ему довериться! — с досадой ворчал Гриша, вытирая платком мокрое лицо. — Я говорил Луговому, что до Иваненковой казармы дороги не знаю. Просил дать опытного проводника.
— Почему же он не дал?
— Все проводники, говорит, ушли на задание. Вот теперь и путайся!
— А ты не волнуйся, — успокаивала его Женя. — Теперь что об этом говорить!
— Вы тоже хороши! — набросился Гриша на двух наших спутников. — Старые партизаны, неужели вы не знаете своего леса?
— Если бы пораньше об этом подумать, глядишь — и не заблудились бы, — виновато ответил один из них. — Коля сбил с толку.
Вскоре Коля вернулся.
— Дорогу нашел. Нужно забрать еще немного влево.
— Ну-ну! — погрозил ему пальцем Гриша. — Опять влево.
— Гриша, ей-богу, влево. Тут недалеко знакомый бугорок нашел.
Мы тронулись за Колей дальше. Я не отставал от Жени, стараясь не потерять из виду ее белый платок. Шли больше часа. Вдруг наткнулись на какое-то строение. Затявкала собачонка, ее поддержал дружный лай других собак.
— Что за деревня? — тихо спросил Гриша, вглядываясь в темноту. — Кажется, Ангара. Посмотри получше, Женя.
— Мне тоже кажется, что это Ангара, — ответила та. — Скорее обратно! Тут большой гарнизон.
Мы круто повернули. Позади послышались крики, шум, но погони не было. Часа через два мы пересекли какую-то широкую шоссейную дорогу. Гриша осмотрел ее и молча повел нас дальше. Вскоре показался лес. Мы вошли вглубь и повалились на траву. Было два часа ночи. Все так измучились, что не хотелось ни есть, ни курить, ни думать, ни разговаривать.
Когда я проснулся, было уже светло. Ветер стих, вершины деревьев ярко освещало восходящее солнце.
Гриша, лежавший рядом со мной, приятно потянулся, но, увидев сидящего на валежнике Колю, нахмурился.
— Виноват, товарищ командир! — Коля, краснея, приподнялся с валежника. — Не знаю, как это вышло.
— Подкачал, Коля, подкачал! — пожурила его Женя.
— Вот теперь и выводи нас на дорогу, — приказал Гриша. — Пойдем-ка осмотримся, а вы, Василий Иванович, пока подождите здесь и закусите.
Они пошли осматривать местность и скоро вернулись.
— Места незнакомые, — с огорчением признался Гриша. — Нужно быстрее найти дорогу, а то и вторая ночь пропадет.
— Не знаю, что делать с сапогами, — собираясь в дорогу, пожаловалась Женя. — Ноги, наверное, натерла. Встать не могу.
— Терпи, — Гриша помог ей встать. — Разойдешься, может лучше будет.
Долго мы бродили в тот день по горам и балкам в поисках знакомых мест. Знакомых мест не было. Коля несколько раз залезал на высокие деревья в надежде ориентироваться и спускался обратно опечаленный и молчаливый. Взбираясь на крутые горы, Женя проклинала свои новые сапоги, плакала, но не отставала от нас.
В середине дня мы достигли вершины какой-то горы. Гриша снял пальто, сапоги и полез на дерево. Он взобрался на высокий клен, долго всматривался то в одну, то в другую сторону и, наконец, радостно крикнул:
— Есть! Есть!
— Что есть? — спросил я.
— Иваненкову казарму нашел. По солнцу место нужно только запомнить. Все в порядке! — повторил Гриша, спустившись с дерева. — Теперь я знаю дорогу. Идемте отдыхать!
Он привел нас в молодой сосняк, посаженный длинными рядами, отделенными один от другого узкими проходами. Этот сосняк находился на отлете от леса, окруженный полями. Вблизи проходила дорога, и до нас даже доносился собачий лай из деревни.
— Разве здесь не опасно? — невольно спросил я у Гриши, усаживаясь под сосну и следя за тем, чтобы меня не заметили с дороги.
— Здесь-то как раз и безопасно. Немец обычно ищет нас в больших лесах, а на такие кустики не обращает внимания. Кто ж подумает, что рядом с деревней — партизаны? Теперь можно закусить и поспать, а к вечеру — дальше.
Он кинжалом открыл консервную коробку, каждому из нас дал по куску колбасы с лепешкой. Мы с удовольствием позавтракали.
— Когда же мы будем в Симферополе? — спросил я.
— Если все пойдет благополучно, завтра часика в три дня будем в городе.
Гриша осторожно снял с Жени сапоги. Она морщилась, стонала; ноги ее были растерты до крови и опухли.
— Не знаю, как я пойду, — сказала она сквозь слезы.
— Да, плохо дело. — Гриша покачал головой. — Но до города дотянуть надо, а там что-нибудь придумаем.
Наши провожатые, подложив сумки под голову и намотав на руки ремни автоматов, заснули.
Гриша лежал с закрытыми глазами, но при каждом шорохе поднимал голову и прислушивался.
В такой непривычной обстановке уснуть я не мог.
— Василий Иванович, — прошептала Женя, — спите. Когда нужно будет — разбужу.
— А вы сами почему не спите?
— В дороге днем я всегда бываю за сторожа и никому эту должность не доверяю.
Я немного забылся. В четыре часа Гриша поднялся, прошел к дороге и осмотрел местность. Прислушался. Дал команду готовиться. Женя сняла чулки и, обернув ноги тонкой портянкой из парашюта, с трудом натянула сапоги. Мы пошли.
Быстро перебегая открытые поляны, мы вышли на хорошую дорогу в лесу и зашагали по ней.
Приходилось итти с большими предосторожностями, чтобы не столкнуться с врагом. Гриша шел впереди нас метров на двадцать, держа пистолет наготове. На повороте дороги он останавливался, осторожно всматривался вперед и, сделав нам знак следовать за ним, шел дальше.
На одном из поворотов он дал нам знак укрыться в лес.
— Противник! — проговорил он, подбежав к нам. — Обойдем-ка его тихонько.
Углубившись в мелкий орешник, мы свернули налево и, прячась за кустами, тихо пошли параллельно дороге, по которой навстречу нам двигались оккупанты.
Когда голоса затихли, мы снова вышли на знакомую дорогу и, прячась за деревья, продолжали наш путь. Лес становился реже, пролеты увеличивались, и, наконец, впереди себя мы увидели широкую степь. Залегли, ожидая, когда стемнеет.
— Ну, ребята, — шопотом предупреждал нас Гриша, — лес кончился. Противник особенно бдительно охраняет эту дорогу, чтобы не выпускать нас из леса. Будьте настороже. Не кашлять и не курить. В случае появления ракеты или прожектора немедленно ложитесь врастяжку и не двигайтесь. Тут, имейте в виду, очень опасно.
Когда стало совсем темно, мы вышли на знакомую нам дорогу и снова гуськом зашагали по направлению к Феодосийскому шоссе.
Кругом было тихо, небо звездно. Небольшой встречный ветер хорошо освежал нас. Сердца тревожно колотилось. Впереди шел Гриша, за ним Женя и я. Колю, обладающего хорошим зрением и слухом, Гриша выслал вперед как разведчика, а остальные два партизана шли за мной.
Начали взлетать ракеты. Мы падали на дорогу и следили за ними. Одни ракеты, быстро взлетая вверх, превращались в огневой фонтан, освещая окрестность. Другие повисали в воздухе, ослепляя, как большой электрический фонарь. Огни потухали, мы с минуту еще оставались лежать. Потом поднимались и быстро шли дальше. В это время я не думал, дойду или не дойду. Все мои мысли были целиком поглощены самим процессом движения.
Послышался конский топот. Мы сбежали с дороги и залегли в ковыль. Проехал конный патруль. Мы выждали, пока топот затих, и снова зашагали по дороге. Около трех часов ночи я заметил кпереди огоньки; в темноте они, казалось, налетали друг на друга и поспешно разбегались в разные стороны. Это двигались автомашины по Феодосийскому шоссе. Наконец-то!
Мы свернули в кукурузное поле и сели, следя за горящими фарами. До места базировки грузов было еще далеко, но мы решили отпустить партизан; они опасались, что до рассвета не успеют снова пройти открытую местность.
Груз, который несли партизаны, мы сложили в наши мешки и, тяжело навьюченные, перешли Феодосийское шоссе. Километров через пять Гриша отыскал заросшие бурьяном окопы, где мы и устроились на ночевку. Было ветрено, морозно. После утомительной дороги мы сильно вспотели и сейчас быстро начали мерзнуть. Партизанские лесные лагери вспоминались на степном ветру как теплый рай.
Поднялись чуть свет. Вокруг нас расстилалась покрытая инеем степь. Гриша раздвинул бурьян: обнаружилась неглубокая яма. Он высыпал в яму толовые шашки. На них сложил магнитные мины, гранаты и тщательно укрыл все травой. Газеты, запальники для мин и пистолеты мы взяли с собой — в земле запальники могли отсыреть, а литературу и пистолеты с нетерпением ожидали в городе подпольщики.
— Без «подарков» от штаба партизан, — сказал Гриша, — к подпольщикам лучше не показываться.
В случае расспросов решили говорить, что идем в Симферополь из деревни Кирке. Деревню эту Женя хорошо знала. До ухода в лес она работала там учительницей. Я возвращаюсь в город от своего зятя, районного агронома. Женя мне подробно описала его. Гриша и Женя идут в Симферополь на базар. Меня они не знают. Встретились мы на дороге случайно.
— Все хорошо, — сказал я, — но тут пропуска требуются?
— А как же! — ответил Гриша. — У немцев без пропуска шагу нельзя шагнуть.
— У вас они есть?
— Нет.
— Как же быть?
— Ничего, проскочим, — успокаивал меня он. — Мы всегда ходим без пропусков. Если засыплешься с нашим грузом, все равно никакой пропуск не поможет. Будем отстреливаться.
— Надо не засыпаться.
— Конечно. Это я так, на всякий случай. Мы пойдем проселочными дорогами, где редко кто бывает.
И мы двинулись в Симферополь. Вскоре вышли на широкую дорогу, ведущую прямо в деревню, раскинутую в лощине по обеим сторонам небольшой реки. Гриша предупредил меня, что нам придется пройти через эту деревню, так как при обходе стороной можно вызвать подозрение.
В это время нас догнал румынский обоз с сеном. Дорога шла под гору, и лошади бежали рысью. Румыны по одному-два лениво лежали на возах и, обгоняя нас, пристально посматривали на наши мешки, корзину. Кто-то из них попросил яблок. Мы отрицательно качали головами и отвечали, что яблок у нас нет. Румыны быстро спустились под гору, проехали через мост к начали медленно подниматься из деревни на противоположную от нас горку.
Мы в это время только входили в деревню. Людей на улицах не было. Встретился лишь один старик. Мы поздоровались с ним, он мельком взглянул на нас, приподнял фуражку и пошел дальше. Это обрадовало меня. Раз крестьянин не обратил на нас внимания, значит мы хорошо замаскированы и не вызываем сомнений. Пройдя деревню, мы поднялись на горку и тихо пошли той же самой дорогой, по которой впереди нас двигался румынский обоз. Вдруг обоз остановился. Румыны слезли с возов, сгрудились у дороги и посматривали в нашу сторону.
— Чорт их возьми, — сказал я, — зачем они, дьяволы, остановились?
— Неприятно, — согласился Гриша. — Не останавливайтесь. Спокойно вперед.
— Как бы они у нас яблок не стали искать, — высказал я опасение.
— Ничего, — ответил Гриша. — Идем прямо на них. И мы с пистолетами и литературой стали смело сближаться с румынскими солдатами.
Было их человек двадцать. Женя, опередив нас, первая подошла к солдатам и кокетливо улыбнулась:
— Возьмите меня с собой на телегу, а мужики пусть одни идут.
Румынам шутка понравилась, они засмеялись.
— Садись, садись! — крикнул один из них, с нашивками на рукаве.
Женя продолжала болтать с солдатами, а мы с Гришей не спеша прошли мимо и остановились поодаль. Гриша крикнул:
— Пойдем! На базар опоздаем.
Как бы нехотя, Женя подошла к нам, мы свернули на другую дорогу и скрылись от румын за холмом. Солнышко поднималось из-за горизонта, теплело, иней исчез. Зазеленела просторная степь. Странно чувствовал я себя. Несколько часов назад мы прятались за каждый кустик, прислушивались к каждому шороху. А теперь идем днем по открытой местности, точно нет никакой опасности. За пазухой у нас — оружие, а за спиной — советская литература.
Шли мы степью довольно долго. Смеялись над нашими лесными приключениями в Джеляве, над Колей, вспоминали румын, которых Федоренко захватил в плен. Нам было весело, мы радовались, что пока все у нас проходит благополучно.
Подошли ко второй деревне, расположенной, как и первая, в лощине, по берегам реки.
— Лучше бы все-таки обойти эту деревню, — предложил я Грише.
— Не можем обойти, да и не к чему. Здесь у меня знакомые. Зайдем, узнаем об обстановке в городе. Немцев тут нет.
Подойдя ближе, мы с горы увидели посреди улицы грузовую машину. Возле нее копошились люди.
— В чем дело? — Гриша пристально вглядывался. — Складывают на грузовики вещи и сажают людей. Очень странно.
Останавливаться на горе было невозможно, так как нас уже видели из деревни. Мы продолжали путь.
Машина проехала мимо нас и скрылась. Сидевшие в ней немцы не обратили на нас внимания. Это еще раз убедило меня в том, что замаскированы мы хорошо.
Мы присели на крыльце крайнего домика, положив мешки на землю. Из дома вышла пожилая женщина.
— Здорово, хозяйка! — приветливо сказал Гриша.
— Здравствуй, касатик. Будто знакомый?
— Забыла? В городе у сапожника встречались.
— Теперь помню. Подметку он тебе подбивал.
— Вот, вот. А мужик-то где?
— Придет сейчас.
— Как живете? — спросила Женя.
— Ох, родные мои, плохо! Машину-то видели? Сам комендант приехал и объявил, что всех жителей будут куда-то вывозить из села.
— Почему?
Женщина нагнулась к нам:
— Красные, говорят, к Перекопу подходят, — прошептала она. — Немцы боятся. Утром лошадей со всей упряжью забрали. Говорят, народ вывозить.
— Вот как! — изумился Гриша. — Ну, и что ж вы думаете?
— Известно что: кому охота из родного дома уходить!
Я спросил:
— А кого они повезли в машине?
— Это семейство старосты, полицейского и других, кто оставаться боится.
— А вы не боитесь?
— У меня два сына в Красной Армии. Чего нам от своих детей бежать!
Гриша засмеялся:
— Это правильно, мамаша. Дай-ка водички, пить хочется.
Через раскрытую дверь видна была груда спелых помидоров, лежавших в сенях, на полу. Давно мне не приходилось их пробовать. Я вошел в сени вслед за хозяйкой и попросил продать мне немного.
— Чего продавать-то! — Она искоса оглядывала меня. — Кушай на здоровье. Чай, они у нас не купленные.
Она подала мне соль, кусок хлеба. Я с жадностью начал уплетать сочные, яркокрасные помидоры, а несколько штук положил в карман для своих спутников. Хозяйка молча поглядывала на меня, забрала кружку, ведро с водой и пошла поить Гришу.
Скоро пришел и хозяин, мужчина лет пятидесяти, плотный, сумрачный, обросший бородой. Он сразу узнал Гришу и Женю. Начал осторожно говорить о положении в селе. Народ с немцами ехать не хочет. Ушли бы в лес, да как семью бросишь?
— Придем в город, узнаем, что там делается. На обратном пути скажем, — уходя, пообещал Гриша.
За деревней Женя, лукаво улыбаясь, спросила меня:
— Что вы там с помидорами натворили?
— А в чем дело? — Я не понял ее вопроса. — Я просто обрадовался, что увидел помидоры, с удовольствием поел их и вам захватил.
Женя и Гриша расхохотались.
— Что тут смешного?
— А вы знаете, что получилось? — сказала Женя. — Хозяйка принесла нам воды и говорит: «Что это за крестьянин, ваш старик? Сам в деревне живет, а меня просит помидоров продать. Накинулся на них, будто сто лет их не едал». Я сказала ей, что старик с причудами, просто из ума выжил.
Тут только я понял свою оплошность. Вспомнил, как в Керчи я не учел наблюдательности Клавы, и мне стало очень неловко перед моими молодыми друзьями.
По дороге мы нагнали пожилого крестьянина. Он вел на поводу хромую лошадь.
Мы присоединились к нему, чтобы больше походить на местных жителей. Мужчина оказался словоохотливым. Осторожно, но очень ясно выражал он свое недовольство немцами.
— Конечно, — поддакивала Женя, — зачем нам с немцами уходить, хозяйство разорять.
— Если бы дорогу в лес знали, — сказал крестьянин, вопросительно посматривая на нас, — кое-кто ушел бы.
— А разве партизаны еще есть? — спросил Гриша. — Говорят, что всех уничтожили.
— Брешут! — ответил тот. — У меня румыны стоят в доме. Как в лес итти, в штаны напускают. А полицаи только о партизанах и говорят! Недавно в одной деревне старосту убили и надпись приклеили: «То же будет с каждым предателем». Не мешало бы и нашего убрать: сука первейшая!
— Раз он такой, — заметил Гриша, — сами бы с ним рассчитались. Вас много, а он один.
— Нельзя самим-то. Немцы узнают, всех постреляют.
— А я знаю такой случаи, — сказал Гриша. — В одной деревне был староста, похожий на вашего. Вдруг пропал. Никто не, знает, куда он девался. Приехали немцы, начали следствие. А мужики говорят — сбежал куда-то, в последнее время у него, мол, только и разговор был: «Не хочу служить немцам!»
— Может быть, он и вправду сбежал? — спросил крестьянин.
— А кто его знает! Немцы потолкались, потолкались и ушли ни с чем. Так и не нашли старосту.
— Понятно, — протянул крестьянин задумчиво. — Там, значит, народ дружный.
Мы подошли к Симферополю со стороны Красной горки.
Попрощавшись с нами, крестьянин свернул на узенькую безлюдную тропинку и побрел дальше.
— Где наша квартира? — спросил я у Гриши.
— Здесь недалеко, на краю города.
Тут я рассказал Грише и Жене, что в связи с предстоящей работой я в лесу маскировался. Теперь меня нужно звать не Василием Ивановичем, а Иваном Андреевичем и по возвращении в лес пустить слух, что я убит при выполнении задания.
Мы решили послать Женю вперед. Если на конспиративной квартире все благополучно, пусть выйдет к воротам кто-нибудь из хозяев дома. Если там неблагополучно, то мы пройдем к другому подпольщику. Женя передала нам свой пистолет, корзину, мешок и быстро зашагала вперед. Мы присели на траву у дороги. Я начал переобуваться. Гриша свернул цыгарку и закурил. Мимо нас пробегали машины и мотоциклы с немцами.
— Есть ли у немцев посты при входе в город? — спросил я.
— Центральные дороги все патрулируются, и там обязательно проверяют документы. А на этой дороге раньше никакого поста не было. Обычно мы с Женей входили в город на рассвете, когда немцы спят. Завтра базар, из деревень кое-кто приезжает в город, пройдем и мы.
Через полчаса мы двинулись дальше. Гриша пошел впереди меня, а я заковылял с палочкой по другой стороне дороги, следя за ним.
Вошли в город. Возле небольшого домика у калитки стояла девочка. Гриша подошел, поцеловал ее и скрылся вместе с ней во дворе.
У меня отлегло от сердца. Значит, все в порядке. Следом за ними вошел во двор и я. Там меня поджидала встретившая Гришу худенькая девочка лет двенадцати с не детски серьезными карими глазами. Около калитки лежала лохматая собака на цепи.
— Не бойтесь, дедушка, — сказала девочка. — Шарик русских не трогает. Он только на немцев бросается.
— Вот какой! Кто же его этому обучил?
— Сами немцы. Ногу ему перебили, он и не любит их.
— Как тебя звать-то?
— Саша. Идемте за мной. Голову не разбейте.
Через темные сенцы она ввела меня в дом. В маленькой кухне без окон при свете коптилки пожилая женщина разжигала лучинами плиту. Через открытую дверь я увидел вторую комнату, похожую на сапожную мастерскую.
— Вот и дедушка! — сказала весело Саша.
— Милости просим! — Женщина внимательно поглядела мне в лицо. — Проходите в горницу. Саша, пойди погуляй возле хаты. Заметишь что, приди сказать.
— Знаю без тебя, — серьезно ответила та и вышла из дому.
Итак, я был в Симферополе.
Глава седьмая
Хозяйка распахнула дверь, и я вошел в небольшую комнату с окнами, наполовину забитыми фанерой. Сидя за столом, Гриша оживленно разговаривал с худощавым рябым мужчиной лет сорока, в фартуке, с засученными рукавами. Женя уже свернулась клубочком на кровати, прикрывшись своим пальто.
— Ну, вот мы и дома, Иван Андреевич! — весело сказала она.
Гриша совал своему собеседнику деньги, прося купить для нас продукты. Тот добродушно, но решительно отмахивался:
— Говорю, не возьму и не возьму! Спрячь. Пригодятся. У меня вы — дорогие гости. На дворе три курицы и петух. Хватит вам и покушать, да еще и на дорогу останется.
— Ну, ладно, — сказал Гриша, убирая деньги и раздеваясь, — потом сосчитаемся. Вот познакомься: наш старичок Иван Андреевич, тоже мастер по сапожной части.
— Да, да! — поздоровался я с хозяином. — Не смотрите, что я плохо одет, мастерскую свою хочу открывать, конкурентом вашим буду.
— А зачем нам конкурировать? Работы хватит, — лукаво улыбнулся хозяин. — Садитесь рядом со мной в моей мастерской, веселее будет.
— Что нового в городе? — спросил Гриша.
— Тревожно, очень тревожно. Говорят, немцы хотят город взорвать, а население — в Германию. Я уж и на улице стараюсь пореже показываться, боюсь в облаву попасть.
— Вот что, Филиппыч, — сказал Гриша. — Иван Андреевич останется в городе. Надо устроить его здесь у надежных людей. Помогите это сделать.
— Устроим, — уверенно кивнул тот.
Вошла хозяйка — маленького роста, худенькая, с бескровным, болезненным лицом.
— Ну, чего ты людям отдохнуть не даешь? Прилягте на постель. Обед-то запоздает немножко. Усните пока, а я нагрею воды, помоетесь, белье смените — и легче будет.
— Курицу пойду резать, — сказал хозяин.
— Опоздал, она уже в кастрюле. Лучше воды натаскай.
Радушный прием этих простых людей глубоко тронул меня. Они хорошо знали, что за укрытие партизан рискуют жизнью, и старались дать нам почувствовать, что мы им не в тягость.
— Как зовут хозяина? — спросил я Гришу.
— Семен Филиппович Бокун. Замечательный человек! И семья у него такая же. Он числится рабочим-сапожником обувной фабрики, но часто остается дома — знакомый врач дает больничные листки. Филиппыч нам хорошо помогает. Дочку его Марусю немцы в Германию угнали. Кроме вот этой девочки, Саши, есть еще сынишка Ваня…
Женя заснула. Разговаривая, Гриша по привычке настороженно поглядывал на улицу. Мимо окна, грузно топая коваными сапогами, то и дело проходили немцы, румыны и полицейские в черных шинелях. Саша с какой-то девочкой играла около дома, оглядывая людей.
— Оставайтесь пока у него, — посоветовал Гриша. — Надежнее человека не найти. Тут у меня явочная квартира. Завтра будут все руководители групп, посмотрите.
Конечно, мне лучше было бы поселиться не на явочной квартире, которую знали все подпольщики, но пока другого выхода не было. Гриша обещал поговорить с ребятами, чтобы мне помогли обзавестись двумя-тремя конспиративными квартирами.
В полутемной комнатке-кладовой мы распаковали свои мешки. Газеты и брошюры Гриша разложил по пачкам, перевязал и на каждой сделал пометку карандашом. Пачки убрал в мешок. Приподнят половицу, он спустился в подвал и спрятал там мешок с литературой.
— Это место очень удобное. В случае чего, можете там забазироваться.
Запальники для магнитных мин мы спрятали за икону, а пистолеты Гриша сунул в мешок с кукурузой.
Мы сидели за столом, и Гриша сообщал мне клички подпольщиков, которые придут завтра, когда в комнату неожиданно вошел молодой человек, высокий, широкоплечий, в черном костюме и серой кепке.
— У меня нюх особый, — улыбнулся он Грише. — Дай, думаю, зайду к сапожнику, не пришел ли Григорий.
— Это наш комсомол, — здороваясь с ним, сказал Гриша. — А это, — кивнул он на меня, — Иван Андреевич, присланный обкомом партии для руководства подпольными организациями.
— Борис? — пожал я юноше руку.
— Нет, Анатолий.
Гриша пояснил, что молодежная организация недавно перестроилась по типу краснодонцев, брошюры о которых они получили из леса. Секретарь комсомольской организации и комиссар — Борис, а командир — Анатолий.
Толя оглядел меня испытующе. Это даже мне понравилось. Он произвел на меня впечатление энергичного парня, только держался, пожалуй, несколько развязно.
— Вот что, Толя, — сказал Гриша: — завтра к вечеру приготовь парочку ребят со мной в дорогу. На базу. Литературу для своей организации забери сейчас.
— Ладно. А мы тут свою листовочку отпечатали.
— Очень хорошо! — порадовался я.
— А как же? — улыбнулся Толя. — От жизни не отстаем. Сегодня юбилей Ленинского комсомола. Мы напечатали листовку к молодежи Крыма. Вот, горяченькая, только что из типографии.
Он вытащил из кармана несколько листовок и протянул Грише:
— Покажи штабу. Пусть знают нашу работу.
Я внимательно прочитал листовку. Молодежь Крыма поздравляли со славным юбилеем Ленинского комсомола; затем шло обращение к молодым патриотам, к каждому комсомольцу.
«Товарищ! В дни, когда решается судьба Крыма, Родина приказывает тебе: за муки и страдания нашего народа, за сожженные города и села, за слезы матерей наших — бей немцев! Бей повсюду, где только можешь. Бей жестоко и беспощадно! Мсти!» Заканчивалась листовка призывом: «Смерть за смерть! Кровь за кровь!»
Стояла дача: «29/Х 1943», и подпись: «СПО» (симферопольская подпольная организация).
— Молодцы! — от всей души похвалил я. — Хорошая листовка, с огоньком. Сколько отпечатали?
— Штук шестьсот. Работали целые сутки без еды и сна.
— А как распространите?
— Ребята расклеят, разбросают. Завтра утром весь город будет знать.
— В патриотические группы эти листовки попадают?
— Зачем давать наши листовки в патриотические группы? Мы работаем самостоятельно. Листовки расклеиваем по городу, пусть все читают.
— Зачем же руководителям групп бегать по городу и разыскивать ваши листовки? — удивился я. — Они же ведут агитацию среди населения, разоблачают фашистскую демагогию. Они в первую очередь должны получать все наши газеты и листовки.
— Ну и засыплют нас! — недовольно бросил он. — Будут передавать друг другу и наскочат на провокатора или болтуна.
— Но ты ведь не думаешь, что я или Гриша будем раздавать листовки непроверенным людям?
— Этого я не думаю.
— А в чем же дело?
— Мы сами сделали типографию, сами печатаем листовки и сами хотим их распространять.
Я засмеялся и похлопал его по плечу.
— Все, что вы сделали и делаете на благо Родины, прекрасно, но не нужно кустарщины. Цель у всех патриотов — и молодых и старых — одна. Мы должны помогать друг другу.
— С этим-то я согласен.
— Вот так и будем работать. Как твоя кличка?
— Толя.
— А звать?
— Анатолий.
— Так это одно и то же. Тебе нужно иметь кличку, под которой тебя должны знать только подпольная организация и штаб. Какую кличку хочешь иметь?
— Мне все равно.
— Назовем тебя «Костя». А моя — «Андрей». Проводим Гришу, заходи ко мне с Борисом, и поговорим обо всем.
Гриша принес из подвала пачку газет и передал их Толе. Тот засунул газеты за пояс брюк сверх рубашки и, застегнув пиджак, ушел.
Я немного удивился такой неосторожности, но для первой встречи не стал докучать наставлениями. А Гриша заметил мой взгляд и, видимо, понял.
— Толя живет недалеко, — пояснил он, когда тот ушел. — Но вообще-то молодежь наша — народ горячий, бравирует немножко.
Вбежала Саша:
— Румыны ходят по домам!
Гриша встревожился:
— Зачем?
— Не знаю. Кажется, устраивают своих на квартиры.
Она опять ушла на улицу. Через некоторое время остервенело залаяла собака.
— Показался неприятель. — Гриша быстро достал табак. — Садитесь. Закурим. В случае расспроса — знакомые, сапоги пришли чинить…
Вошел Семен Филиппыч, за ним — румынский фельдфебель.
— Видите, — хозяин указал на нас, — гости из деревни, ночевать будут. Где ж я ваших солдат размещу?
— Ничего. Можно тесно, — сказал фельдфебель на ломаном русском языке. — Не так долго.
Четыре румынских солдата устроились на кухне. Семен Филиппыч стал расспрашивать, откуда они, но румыны только трясли головами.
Гриша тоже пытался заговорить. Безуспешно. Тогда он взял палку, приложил к плечу, как ружье, и сказал:
— Большевик. Пуф, пуф!
Румыны засмеялись и закивали. Вернувшись в комнату, Гриша оставил дверь открытой: меньше подозрений.
— Нелегкая их принесла, проклятых! — громко ругалась хозяйка, собирая обед. — Грязные, вшивые. Как ни следи, непременно что-нибудь стащат, хоть луковицу, хоть картошку.
— А немцы? — спросил я.
— Немец, тот тайком не ворует, — покачал головой Семен Филиппыч, садясь за стол. — Что понравится, он положит в карман, скажет «гут» — и до свиданья!
Рано утром румыны собрались в дорогу. Настроение у солдат было подавленное. Они вели себя очень тихо, угощали хозяина табаком, один хотел подарить Саше кусочек сахара, но та строго взглянула на него и спрятала руки за спину.
Против нашего дома собрались солдаты со всей улицы. Саша с другими детьми крутилась около румын.
Молоденький офицер разогнал ребятишек, построил солдат, произнес речь, те что-то недружно прокричали и затопали в город.
Саша рассказала, что солдаты часто повторяли слова «большевик» и «Перекоп». Мы решили, что часть отправляют на Перекопский фронт. Наши наступали, и дела у немцев шли неважно.
Женя, захватив с собой корзину, с утра ушла в город. Она знала явочную квартиру «Серго» и должна была выяснить, что с ним, почему он молчит.
Филиппыч пошел извещать подпольщиков о приходе Гриши. Саша все время играла с подругой около дома.
Филиппыч скоро вернулся, а за ним стали поодиночке приходить руководители подпольных групп.
Филиппыч говорил приходившим, что я его родственник, глухой. А я, лежа на постели, внимательно слушал и присматривался. Подпольщиков было четверо: худощавый, с болезненным лицом и живыми глазами, брат хозяйки дома — Василий Брезицкий, по кличке «Штепсель»; высокий седой старик — рабочий хлебозавода Топалов, по кличке «Дядя Юра»; часовщик Лабенок, по кличке «Валя», и сапожник Василий Григорьев, по кличке «Фунель».
Они говорили с Гришей торопливо, чтобы не задерживаться, литературу тщательно прятали под одежду, в сапоги, за брюки и просили не забывать их. Гриша предупредил, что в скором времени в город придет уполномоченный подпольного центра по кличке «Андрей», под руководством которого они и будут работать.
Подпольщики произвели на меня хорошее впечатление.
К концу дня пришла Женя с молодой красивой женщиной — Марией Лазоркиной, хорошо знавшей «Серго». Оказалось, что он в середине октября выехал в Красно-Перекопский район и до сих пор не вернулся.
— Если у «Серго» все благополучно и он вернется в город, — сказала Женя, — то Мура приведет его к нам.
— На Муру можете положиться, — добавил Гриша. — Один брат ее расстрелян немцами, а другой, Алексей, с семьей бежал в лес и теперь партизанит.
Между прочим, Мура оказалась фармацевтом и, узнав о моей болезни, достала мне глазные капли.
Вечером Мария Михайловна собрала Гришу и Женю в дорогу. Они ушли, захватив с собой двух комсомольцев — Васю Бабий и «Павлика», которым было поручено перенести в город забазированные в степи боеприпасы. Мы тепло попрощались с Гришей и Женей. У меня было такое чувство, будто близкие мне люди возвращаются в мой дом, а я бог весть когда смогу вернуться.
На третий день моего пребывания в Симферополе мы услышали долгожданную весть: на Перекопском перешейке Красная Армия опрокинула противника и прорвалась к Армянску. Таким образом, для немцев, находившихся в Крыму, путь отхода по суше был отрезан.
В городе об этом стало известно через железнодорожников, прибывших с севера. Кроме того, немецкие и румынские солдаты спешно отправлялись на Перекопский фронт, а оттуда прибывали эшелоны с ранеными.
Можно представить себе, как встревожились немцы, когда в городе появилась молодежная листовка!
Я старался пока что на улицу не выходить и все новости узнавал через Филиппыча. Дня через два после выхода молодежной листовки к Бокуну неожиданно прибежал «Штепсель», надеясь еще застать Гришу.
— Как же так! — возмущался он, вынимая из кармана листовку. — Гриша давал одну установку, а тут — совсем другое…
Бокун под каким-то предлогом принес эту листовку мне в кладовую.
Выяснилось, что после выхода молодежной листовки немцы тут же выпустили провокационную листовку — тоже за подписью симферопольской подпольной организации.
Фальшивка была совершенно такого же формата, как наша листовка, отпечатанная таким же шрифтом, с лозунгом наверху: «Смерть немецким оккупантам!» Начиналась листовка также с поздравления молодежи с днем двадцатипятилетия комсомола, также говорила о победах Красной Армии и даже призывала «бить немцев и мстить им за их мерзости, за их издевательства над нашим народом».
Разница была лишь в том, что подпольная организация призывала молодежь к активным действиям против врага, а немцы в своей фальшивке советовали воздержаться.
«Комсомольцы! — говорилось в фальшивке. — Еще не настал час освобождения Крыма от фашистских извергов. Враг всеми силами старается остановить наше победоносное наступление. Здесь и там ему удалось, стягивая подкрепления, замедлить наше движение.
Еще не настало время действовать с вашей стороны. Приостановите пока еще вашу подпольную диверсионную работу, к которой вы призывались в нашей листовке от 29/Х 1943. Враг и его наемники, фашистские холуи, особенно теперь зорко следят за вашими действиями.
Не давайте еще немцам повода принимать какие-нибудь меры против вас. Пускай они чувствуют себя здесь в безопасности.
В данный момент ваши вполне понятные стремления вредить немцам никакой пользы не принесут. Настанет час, и вы будете действовать».
Провокационный характер своей листовки немцы старались прикрыть общими фразами о долге комсомольцев перед народом, о дисциплине и даже лозунгом «Кровь за кровь! Смерть за смерть!»
За «Штепселем» пришел «Фунель» (Вася-сапожник), малограмотный, доверчивый человек. Он никак не мог понять, что сами немцы могут писать в листовках «Смерть немецким оккупантам!»
Мне пришлось через Филиппыча разъяснить подпольщикам причины появления фашистской фальшивки, а 2 ноября молодежь срочно выпустила и распространила по городу составленную нами вторую листовку, в которой мы разоблачали методы и цель немецкой пропаганды.
«Сейчас извивающийся в предсмертной судороге враг бросился на новый трюк. Под видом советских листовок он распространяет свои, при помощи которых думает приостановить активную борьбу советских патриотов. Такова цель выпущенной врагом фальшивки „К молодежи Крыма“ за 31/X 1943, — писали мы в листовке. — Фальшивка призывает прекратить борьбу с захватчиками — мол, еще рано. Освобождение Крыма задерживается.
Ложь! 1 ноября наши войска на Перекопском перешейке опрокинули противостоящего противника, преодолели Турецкий вал и вышли к Армянску. Немецкие войска в Крыму остались в мешке. Их ждет судьба Сталинграда.
Сейчас особую роль приобретают ваши действия — действия советских патриотов, работающих в немецком тылу.
Так сильней же удары по врагу!»
Когда фашистские писаки в газете «Голос Крыма» от 5 ноября напечатали передовицу под названием «Признание врага», в которой приведенную выше немецкую фальшивку о приостановке патриотами активных действий выдавали за призывы «самих большевиков из Москвы», подпольщики сразу поняли, в чем дело, и разъяснили населению провокационный замысел врага. Как только положение немцев на фронтах ухудшалось, террор в тылу усиливался.
Семен Филиппыч очень за меня беспокоился:
— Они ищут подпольную типографию и ловят партизан. Вокруг города и по всем дорогам в лесу — усиленные патрули. И около нашего дома появилась фигура.
Оказывается, совсем недалеко от дома Бокуна поставили патруль, наблюдавший за входящими в город. Если русский появлялся теперь на улице после пяти часов вечера без немецкого конвоира, его расстреливали.
Я условился с Филиппычем, что буду считаться его помощником по сапожной части. Бокун охотно согласился на мое проживание, но торопил с пропиской. Он опасался, как бы не донес в полицию сосед, друживший с немцами.
В условиях постоянных облав и проверки документов на улицах и по домам прописка по домовой книге, отметка в паспорте, регистрация на бирже труда являлись вопросом жизни и смерти не только для меня, но и для моего квартирного хозяина и всей его семьи.
— Где у вас находится домовая книга? — спросил я, когда мы обо всем договорились.
— У меня в сундуке. Я же отвечаю за дом.
— Мне лучше прописаться нелегально, минуя полицию. У меня фальшивый паспорт.
— Не беда. Есть знакомый надзиратель. Можно через него.
— Он подпольщик?
— Нет, но за взятку что угодно сделает.
— Лучше прописаться самим, спокойнее будет. К тому же в адресном столе я не значусь и сразу могу провалиться.
Он задумался. Потом, положив руку мне на плечо, сказал просто:
— Я перед штабом партизан отвечаю за вашу жизнь. Вы старше и опытнее меня. Делайте все, что считаете нужным. Только как вы это устроите без полиции? При прописке в домовой книге они наклеивают марку, накладывают штамп нашего участка, а подписывает начальник полиции. В паспорте тоже ставят штамп.
— Ничего, все сделаем, — успокоил я его. — Дети у вас надежные?
— Можете не беспокоиться. Что скажу, то и сделают.
— Не болтливые?
— Ванюшку, сына моего, летом в деревне арестовали, — помолчав, сказал Филиппыч. — Он за продуктами ходил, а его задержали. Три недели просидел в гестапо. С тех пор кровью харкает… Ваня! — позвал Бокун.
Мальчик вошел. Филиппыч повернул его спиной к нам и поднял рубашку. Худенькую спину с острыми лопатками покрывали свежие рубцы.
— Иди! — Бокун мягко подтолкнул сына к двери и, когда тот ушел, добавил гордо: — Никого не выдал!
Ване было шестнадцать лет. Почти ровесник моим сыновьям…
К нам вбежала Саша:
— Дедушка! Немцы ходят по домам, паспорта проверяют.
— Где они?
— Уже недалеко.
Наскоро посоветовавшись, мы решили сказать, что я помощник Филиппыча, живу в городе, на Дворянской, 20, согласно прописке в паспорте, который мне изготовили в Сочи.
И тут только выяснилось, что в Симферополе Дворянской улицы нет. Улица Горького, которую имел в виду сочинский паспортист, Дворянской называлась в царское время. В начале же революции она была названа Таврической. Так она называлась и теперь, при немцах.
Недобрым словом помянул я тут товарища, который делал мне паспорт.
— Придется прятаться, — торопливо сказал Филиппыч, — а то нехорошо может получиться.
Он открыл половицу, и я спустился в подвал.
— Не зажигайте спичек, — предупредил он, — пол просвечивает.
Я присел за какую-то кадку, чутко прислушиваясь.
Наверху скрипнула дверь, раздался топот немецких сапог и невнятный разговор. Я затаил дыхание и прирос к стенке.
Наконец поднялась половица. Раздался спокойный голос Филиппыча:
— Вылезайте. Все благополучно.
— Кто был? — спросил я, вылезая.
— Немец с татарином-добровольцем. Проверили документы. Немец в русском паспорте ничего не нанимает, смотрел только на фотографию и на печать. А вот в прошлый раз жандарм-татарин был… Ну и собака! У меня два заказчика сидели. Он вертел, вертел их паспорта. К одному придрался, почему отметка биржи труда не по форме — в середине, а не на последней странице.
Я посмотрел паспорт Филиппыча и карточку явки на биржу труда. Паспорт у него был такой же, как и у меня — временный вид на жительство взамен утерянного.
— Через Гришу в лес передал, для штаба, — пояснил Филиппыч.
Но на паспорте Филиппыча печать была несколько иная. Под пропиской стояла подпись начальника полиция, а не начальника паспортного стола, как у меня.
У меня голова кругом пошла:
— Неужели наши не знают, как немцы оформляют документы?
— За ними очень трудно уследить, — объяснил Филиппыч. — Чтобы ловить партизан, они постоянно меняют печати, штампы и подписи. И в каждом участке по-разному устанавливают порядок регистрации. У нас как раз недавно все изменили.
В общем, было ясно одно: мне нужно немедленно сделать другой паспорт, в соответствии с немецкими требованиями.
Полагаться на знакомого Бокуна — взяточника-надзирателя — я не хотел. Но где найти человека, умеющего подделывать документы, и, главное, такого, кому бы я мог довериться?
Из этого почти безвыходного положения меня совершенно неожиданно выручил секретарь комсомольской организации Борис Хохлов.
С первой же встречи этот юноша произвел на меня необычайно светлое, обаятельное впечатление. Он, в отличие от Толи, был чрезвычайно мягок в обращении, даже застенчив, если можно так выразиться, органически скромен. Он искренне смутился, даже покраснел, когда однажды, говоря об их деятельности в немецком тылу, я произнес слово «героическая». Все, что они делали, казалось ему совершенно естественным, само собой разумеющимся. Боря был совершенно спокоен: скоро эта «чума» пройдет, наступит опять «нормальная», как он любил говорить, жизнь, нужно только хорошенько поработать.
Мы с ним сразу подружились. Он обрадовался, узнав, что может мне серьезно помочь.
Боря прекрасно рисовал. Когда немцы начали угонять советских людей в Германию, он тотчас же нашел практическое применение своим способностям: он научился подделывать документы и многих спас от немецкой каторги. Одних снабдил служебными удостоверениями немецких учреждений, другим в карточке биржи труда поставил штампы об инвалидности, третьим выдал фиктивные справки о туберкулезе и прочих тяжелых болезнях (в Германию немцы отправляли только здоровых).
Борис принес готовальню, линейку, чернила, химические карандаши и, ухмыляясь, стал вытаскивать из ботинок, из-за пазухи, из дыры в подкладке целую коллекцию всевозможных печатей, штампов и подписей.
Он был прекрасно осведомлен, в каком участке как прописывают и какие там произошли изменения.
Боря изготовил штамп полицейского участка, в котором я проживал, сделал в моем паспорте прописку и поставил под ней какой-то витиеватый крючок, очень похожий на подпись начальника полиции.
— А круглые печати делаете? — спросил я, с восторгом рассматривая желанную прописку.
— Какую вам нужно?
— Такую, как в паспорте Фплиппыча.
— Конечно, сделаю. Времени только побольше потребуется.
— Сколько?
— Часа два-три.
Каждая минута была дорога. Боря тут же принялся за работу.
Поскольку мой немецкий паспорт, сделанный в Сочи, был неточен, мы решили его заменить. Но чистого паспортного бланка ни у кого из нас не было. И тут мне пригодился опыт, приобретенный в царском подполье, — умение превращать старые документы в чистые бланки. Материалы для этого требовались несложные; они продавались и в аптеке и на базаре.
Филиппыч очень легко достал для меня карточку биржи труда. Он заявил на бирже, что свою карточку утерял, уплатил штраф в пятьдесят рублей и получил новую.
Через два дня Боря сделал все штампы и печати, а поздно ночью, когда жандармы обычно на несколько часов оставляли население в покое, я оформил себе документы в соответствии с требованиями полиции.
Для прописки в домовую книгу у нас не было марки, которая наклеивалась в полицейском участке. С согласия Филиппыча разрешился и этот вопрос. Поскольку дочь его уже давно была угнана в Германию, а в полиции об этом давно забыли, я смыл ее прописку в домовой книге и на это место вписал себя, использовав, таким образом, освободившуюся полицейскую марку. В Симферополе я значился проживающим безвыездно с 1937 года, а на квартире Бокуна — пятый месяц.
На другой день после оформления моих документов ночью пришел немецкий патруль. Филиппыч еще работал в своей мастерской, а я спал на сундуке в кухне около выходной двери. Имея, наконец, на руках все бумаги; я в эту ночь заснул так крепко, что не слышал, как немцы вошли в дом. Проснулся, когда они уже стояли около Филиппыча и допрашивали его, почему он так поздно работает. Он объяснил, что днем занят на фабрике, зарабатывает мало, а семью кормить нужно.
— Посторонние есть в доме? — спросил один из них по-русски.
— Никого нет, — ответил Филиппыч, — только старик больной.
— Где он?
— Спит.
— А ну, буди его.
Притворившись спящим, я прислушался к разговору. Неприятный холодок пробежал по телу.
Филиппыч толкнул меня:
— Вставай, старик!
Сгорбившись и прихрамывая, я вышел к немцам в нижнем белье.
— Документ! — потребовал один из них, оглядывая меня.
— Документ? — протянул я, сонно глядя на немца. — Паспорт, значит? Сейчас принесу.
Я вынес к ним свое замасленное, в заплатах полупальто, из кармана достал документы, завернутые в грязную тряпочку и заранее замазанные и измятые. Второй немец, в белых перчатках, при виде моих бумажек поморщился:
— Арбейтен?
— Что он говорит? — спросил я у хозяина.
— Где работаешь.
— Инвалид, больной.
— Инвалид! — немец внимательно осмотрел мой биржевой листок. Там по-немецки и по-русски было отмечено: «Снят с учета как нетрудоспособный».
Он еще раз взглянул на меня и вернул документы. Засветив электрический фонарик, они осмотрели кладовку, заглянули в сундук. В комнате на одной кровати спала Мария Михайловна с Сашей, а на другой — Ваня. Немцы проверили их документы и ушли.
Когда шаги затихли, мы с Филиппычем переглянулись и перевели дух. Мои документы выдержали испытание. Случись проверка на день раньше, могли бы произойти крупные неприятности.
— Надо Боре рассказать, — сказал Филиппыч, — пусть порадуется. Хороший парень!
Глава восьмая
Моя дружба с Борей Хохловым началась именно с этой подделки документов, когда он просидел у меня несколько часов, изготовляя штампы. Боря рассказал историю возникновения их молодежной организации. От него я впервые услышал и о семье Долетовых.
Николай Долетов, школьный товарищ Бори, жил с ним в одном доме. Когда немцы ворвались в Крым, отец Бориса вместе с частями Красной Армии ушел в Севастополь, а отец Николая, Георгий Яковлевич Долетов (Борис называл его «дядя Гриша»), ушел в партизаны. Дядя Гриша, старый член партии, партизанил еще в гражданскую войну, потерял ногу и носил протез. Но крымские леса он прекрасно знал и надеялся быть полезным. Семью свою он оставил в городе для связи.
— Дядя Гриша особенно полагался на Николая, — рассказывал Боря. — Николай, действительно, был молодцом. Никто не подозревал, что дядя Гриша, калека, — в партизанах, и Николай устроился у немцев в мастерскую по ремонту радиоприемников. Он еще в начале войны прошел школу радистов. Первое время Николай ухитрялся в мастерской слушать Москву, а потом стал приносить приемники на квартиру как будто для ремонта. Ребята записывали сводки Совинформбюро и передавали «вести с Родины» своим самым надежным друзьям и знакомым.
Потом Долетов и Хохлов связались с другими комсомольцами их школы: Женей Семняковым и Лидой Трофименко. Сначала ребята не собирались оставаться в городе. Они хотели только дождаться дяди Гриши и уйти с ним в лес, а пока распространяли сводки и старались раздобыть побольше разведданных.
У Николая был фотоаппарат. Спрятав его под пиджак, он ходил вместе с Борисом и Женей за город и фотографировал немецкие военные объекты, а однажды, подобравшись к симферопольскому аэродрому, заснял и аэродром.
— А вы знаете, где мы собирались? — Боря рассмеялся. — У немецкого репродуктора. Наш дом на углу Пушкинской и Карла Маркса. По соседству с нами и немецкая комендатура, и городская управа, и румынское гестапо, и отдел немецкой пропаганды. На балконе этой пропаганды появился репродуктор, и это было единственное место в городе, где нашим людям разрешалось собираться: два раза в день передавали сводку главной квартиры фюрера. Ну, мы там и встречались. Дядя Гриша приходил раз в две-три недели и скрывался у своей старухи-матери на Петровской балке. Он приносил нам листовки, а мы рассказывали все, что успели узнать. Я помню, при первой встрече с ним Николай стал проситься в лес: «Город стал какой-то чужой. Ни на что глаза не глядят, ни за что браться не хочется». — «Город наш! — сказал дядя Гриша. — Начали вы неплохо, ну и работайте. Тут тоже дела много». Мы огорчились, но ничего не поделаешь. Так и начали постепенно работать.
Радостно и странно было мне слышать, как этот молоденький юноша, вчерашний школьник, просто и естественно называет «работой» героические без преувеличения подвиги комсомольцев.
Письма и деньги, принесенные дядей Гришей для партизанских семей, разносил его племянник, шустрый шестнадцатилетний паренек Витя Долетов. Из десяти партизанских семей письма и деньги приняли лишь три семьи. Остальные отказались, опасаясь провокация немцев.
Когда Боря рассказал о конце семьи Долетовых, он даже в лице изменился. Видно было, что мальчик тяжело переживал эту потерю.
В середине апреля дядя Гриша, по обыкновению, пришел из леса к своим родным на балку. Нога под протезом была растерта до крови. Рана загноилась. Его лихорадило, временами он впадал в забытье. На Петровской балке ему нельзя было оставаться: о его неоднократных приходах к матери узнали посторонние, это могло стать известным полиции.
Николай и Борис приняли отчаянное решение: спрятать больного у Долетовых и подлечить его.
Вечером они тайком перевезли Георгия Яковлевича.
Рану промыли и забинтовали.
Напротив Долетовых жила татарская семья Семирхановых. Сын Семирхановых, семнадцатилетний Шамиль, учился в одной школе с Николаем и Борисом. Он держался с товарищами по-советски, говорил, что тоже мечтает уйти в лес.
Старик Семирханов состоял в свое время в партии и был исключен из нее за морально-бытовое разложение. Эвакуироваться он не захотел. При немцах открыл ларек на базаре и завел дружбу с татарами-карателями.
Семирханов каким-то путем узнал о том, что Георгий Яковлевич дома. Старик Имам сейчас же пришел к Долетовым по-добрососедски навестить больного.
Старик, видимо, догадывался, что Долетов пришел из леса, и, выражая дяде Грише сочувствие, довольно настойчиво расспрашивал его, как живут партизаны, сколько их, где они находятся, имеют ли пушки, кто у них командиры.
Дядя Гриша был в бреду, что-то неясно отвечал Имаму, но тот крутился около больного, как назойливая муха.
На четвертый день дядя Гриша, несколько оправившись, собрался в обратный путь. Николай провожал его за город.
Опять зашел Имам. Узнав, что Долетев уходит, он вызвался помочь проводить его. Тот не мог отказаться — делать-то было нечего! — и они вышли из дома.
Николай вернулся часа через два, сильно взволнованный. Он рассказал матери и Борису, что отца проводили за город и следили за ним, пока он, спустившись под гору, не скрылся из виду. Но вскоре в том направлении, куда ушел отец, раздался выстрел. Старик Семирханов посоветовал Николаю итти домой, сам же он пойдет и узнает, в чем дело.
Семирханов вернулся к вечеру и сказал, что все благополучно.
— Но все-таки, — при Борисе предупредил Долетову Имам, — вас за мужа могут потянуть. Лучше быть готовыми. Отберите что получше из вещей и перенесите к нам. В случае чего — сохраним.
Долетова собрала в узлы наиболее ценные вещи и отнесла к Семирхановым.
6 мая Борис с Женей Семияковым пошли купаться на ставок, а когда вернулись, Николай вместе с матерью я двухлетней сестренкой Томой были уже арестованы.
Соседи Долетовых рассказали, что во время обыска маленькая Томочка находилась у Семирхановой. Узнав, что Николай и его мать арестованы, Семирханова принесла девочку:
— Заберите свою дочку.
Долетова возмутилась:
— Вы считаете, что она партизанская дочка, и поэтому, мол, пусть пропадает вместе с матерью!
Испугавшись, что Долетова будет, чего доброго, навязывать ей ребенка, Семирханова убежала.
На другой день вечером Боря и Женя видели, как гестаповцы вывезли на машине Долетову с Николаем и Томой по Алуштинскому шоссе к месту, где обычно расстреливали.
В тот же день на Петровской балке были арестованы бабушка Коли и дядя с женой, дочерью и двумя внучками — десяти и двенадцати лет. Они также были расстреляны.
Спустя некоторое время ребята узнали, что дядя Гриша убит татарами-добровольцами возле деревни Тавель, в тринадцати километрах от Симферополя.
В качестве трофея татары принесли в город его протез.
Боря очень часто говорил мне о секретаре школьной комсомольской организации Лиде Трофименко, о ее смелости и выдержке. По всему, было видно, что она ему очень дорога.
Позднее я познакомился с Лидой Трофименко. Мне было приятно убедиться в том, что она именно такая, какой описывал ее Боря. Он, правда, не сказал мне, что Лида еще отличалась и настоящей русской красотой.
Впоследствии Лида поведала мне, как она встретилась с Борисом.
Лида Трофименко не успела эвакуироваться из Симферополя с частями Красной Армии.
Когда немцы заняли город, Лида до 13 декабря не выходила из дома. Но 11 декабря 1941 года, по приказу немцев, все евреи должны были явиться на сборные пункты якобы для отправки из города.
Пошел туда и школьный товарищ Лиды, Марк, со своей семьей, проживавшей в одном доме с Трофименко.
На другой день мать Марка прислала семье Трофименко записку с просьбой принести что-нибудь из продуктов: все, что они захватили на дорогу, немцы отобрали.
Лида с соседкой наварили кукурузной каши и понесли к бывшему зданию обкома партии, где помешался сборный пункт.
Евреи находились в здании и на улице, за проволокой. У проволочных заграждений толпилось много русских, преимущественно женщин и детей, пришедших узнать о судьбе близких и знакомых. Немцы разгоняли собравшихся, но толпа не расходилась. Тогда солдаты начали стрелять вверх и избивать людей плетками. Народ стал разбегаться. Побежала и Трофименко со своей соседкой. Вдруг окрик по-русски: «Стой!»
Лида оглянулась. За ними гнался немецкий офицер с пистолетом в руке. Подбежав к девушкам, немец потребовал у них паспорта.
Документы были в порядке.
_ Это что? — Офицер указал пистолетом на ведро.
— Каша! — ответила соседка Лиды.
— А под кашей что?
— А под кашей дно ведра, — спокойно улыбнулась девушка.
— Врешь! — взбесился немец. — Куда несешь?
— Матери на работу. А вы не грубите.
Это замечание взбесило офицера.
— Я с тобой поговорю! — Он подозвал автомашину и увез соседку Трофименко вместе с ведром и кашей.
Потрясенная Лида осталась на улице.
Возвращаясь домой, она встретила Женю Семнякова и сама подошла к нему:
— Ты, оказывается, тоже здесь. Как живешь?
— Как и все, — неопределенно ответил Жекя. — А как ты?
Лида коротко сказала ему о себе и спросила, кто из знакомых ребят остался в городе и что нового.
Кивнув в сторону сборного пункта, Женя сказал:
— Вот новое. Всех их вывозят на машинах за город и расстреливают. Завтра в три часа приходи на улицу Маркса к немецкому радио. У Бориса Хохлова кое-что есть.
— Где он живет? — обрадовалась Лида.
— На старой квартире.
Лида не стала откладывать встречу с Борисом до завтра. В тот же вечер она сама побежала к нему, но столкнулась с Борисом на улице.
— А мы тебя давно разыскиваем. — Борис крепко пожал ей руку.
Они зашли в ворота разрушенной фабрики. Борис снял фуражку, вытащил из-под подкладки листовку.
— Спрячь подальше. Почитай своим дивчатам, но будь осторожна, — предупредил он Лиду.
Дома у Лиды уже волновались. Дожидалась ее и двоюродная сестра, комсомолка Зоя Рухадзе. Лида любила Зою за ее неиссякаемый задор, веселость и доверяла ей свои самые сокровенные тайны. Но с приходом немцев Зоя стала печальна, раздражительна. Она металась, не зная, что предпринять.
Лида тут же позвала Зою в другую комнату и, усадив рядом с собой, сказала тихо:
— Есть новости.
Она достала листовку и с радостным волнением начала читать ее вслух.
Партизаны призывали население активно бороться против оккупантов, не давать себя грабить, всячески уклоняться от мобилизации, срывать все мероприятия немцев.
«Ожившее кулачье и их охвостье, — говорилось в листовке, — по указанию немецких пропагандистов-лжецов, сеют всякие ложные слухи и призывают к дружбе с немцами. Не верьте провокаторам! Красная Армия разгромила немцев под Москвой, Тихвином и нанесла врагу тяжелые поражения на ряде других участков фронта. Бейте фашистов, помогайте Красной Армии и партизанам! Крым скоро снова будет советским!»
На листовке стояла подпись: «Крымские партизаны».
Зоя слушала, как зачарованная. Она не выдержала и заплакала.
— Мы обе тогда плакали от радости, — вспоминала Лида. — У нас сразу исчезло гнетущее чувство одиночества.
Девушки быстро переписали по четыре экземпляра этой листовки и тут же пошли распространять ее по городу. Шесть листовок они роздали знакомым, одну подбросили в подъезд большого дома и одну наклеили на углу улиц Ново-Садовой и Севастопольской среди немецких объявлений и приказов.
Так началась их подпольная работа.
Лида Трофименко ежедневно встречалась с Хохловым и Женей Семняковым около немецкого репродуктора. Она привлекла к подпольной работе своих друзей-комсомольцев: Зою Рухадзе, Зою Жильцову, Шуру Цурюпа, Владлена Батаева. Вокруг Хохлова и Долетова организовалась группа из девяти членов.
Комсомольцы-подпольщики очень тяжело переживали гибель семьи Долетовых. Ребята потеряли одного из лучших своих друзей, Николая, и своего любимого дядю Гришу. Кроме того, оборвалась их связь с партизанами, и они не могли больше слушать Москву.
Скоро Лиде и Борису пришлось пережить большое личное горе. Отец Лиды, квалифицированный слесарь, несмотря на неоднократные приказы немцев, не вышел на работу. 16 мая он был арестован по обвинению в саботаже и расстрелян. Отец же Бориса был схвачен немцами при падении Севастополя. Его пригнали в Симферополь и замучили в лагере военнопленных.
После расстрела отца Лида Трофименко решила переменить квартиру и вместе с матерью и сестрами перебралась на окраину города. Место было удобное, и ребята стали часто собираться у Лиды.
Общая обстановка в Крыму осложнилась. Немцы заняли Керчь, после длительной героической обороны пал Севастополь. С продвижением немецкой армии на Кавказ Крымский полуостров становился глубоким немецким тылом. Оккупанты усилили террор и бросили крупные силы в леса и горы Крыма, стремясь уничтожить партизан.
Условия работы в подполье день ото дня становились тяжелее. Потеряв связи с партизанами и возможность пользоваться радиоприемником Коли Долетова, ребята вынуждены были почти прекратить работу. Лишь изредка им удавалось окольными путями получить сводку Совинформбюро либо подобрать листовки, брошенные с нашего самолета. Они тогда переписывали их и распространяли среди населения. Но, конечно, такая работа не удовлетворяла их, и комсомольцы упорно искали связи с партизанами.
В апреле 1943 года Борис Хохлов встретил своего школьного товарища Семена Кусакина. Они учились вместе до девятого класса, а затем Сеня уехал в Севастополь, где поступил в судостроительный техникум. Отец его, коммунист, участвовал в обороне Крыма и впоследствии погиб в боях за Родину.
Сеня приехал в Симферополь, чтобы вывезти свою больную мать в Севастополь, но не успел и застрял в городе.
В детстве Сеня был мягким и нежным ребенком, очень любил птиц и животных. Юношей он не утратил этих черт своего характера, но вместе с тем стал настойчивым, способным организатором. Борис показал мне фотографию Кусакина — очень волевое лицо, немного низкий, упрямый лоб, напряженные морщины между бровями, резко очерченные губы.
Очутившись в тылу врага, Кусакин поступил слесарем на авторемонтный завод в Симферополе, организовал вокруг себя молодых рабочих и всячески вредил немцам: портил приборы, материалы, выводил автомашины из строя.
И Борис и Сеня очень обрадовались встрече.
— Я думал, что ты эвакуировался с нашими из Севастополя, — сказал Борис.
— Хотел, но дело сорвалось из-за болезни мамы. А теперь, как видишь, я здесь работаю слесарем на заводе.
В тоне, которым были сказаны эти слова, в быстром, неявном взгляде Кусакина Борис почувствовал боль и обиду. Борис знал, что у Сени была мечта стать инженером-судостроителем. Немцы разрушили все его планы.
— Куда так рано? — спросил Кусакин.
— За город. Ночью наши летали, может быть листовки сбросили, — откровенно ответил Хохлов.
— Найдешь, не забудь меня, — подмигнул Сеня.
— Ладно. Приходи после работы.
В первый же выходной день Хохлов привел Сеню Кусакина к Лиде Трофименко и познакомил его с другими ребятами. Сеня рассказал, как он со своими товарищами по работе вредит немцам. Живой, общительный, он быстро вошел в семью подпольщиков и внес свежую струю в деятельность молодых патриотов. Сразу был поставлен вопрос о необходимости усиления подпольной работы. Прежде всего нужно было оформить комсомольскую подпольную организацию.
Через несколько дней на квартире Лиды скова собрались комсомольцы: Борис Хохлов, Владлен Батаев, Сеня Кусакин, Зоя Рухадзе, Зоя Жильцова, Шура Цурюпа и Лида Трофименко. Жени Семнякова не было — он уехал в деревню за продуктами.
На столе появился чай, заиграл патефон. Все уселись вокруг стола, и Борис Хохлов открыл первое подпольное комсомольское собрание. Предстояло разрешить три основных вопроса: о руководстве организацией, об установлении связи с партизанами и об организации подпольной типографии.
Первое слово Борис дал Лиде, как секретарю комсомольской организации школы, где училось раньше большинство присутствующих.
— Я не могу теперь считать себя секретарем. В подпольной организации имеются комсомольцы и других школ, — сказала Лида. — Да и обстановка теперь другая. Мы должны стать боевым отрядом комсомола в тылу оккупантов. Нужно избрать боевого секретаря, слово которого было бы для всех нас законом.
Борис предложил избрать секретарем Кусакина. Все высказались за Сеню. Он начал было смущенно отказываться, но когда его единодушно избрали, сказал:
— Ну ладно, если я с сегодняшнего дня секретарь, то все должны меня слушаться и отвечать за порученное дело.
Помню, я задал Боре вопрос, почему первым секретарем подпольной организации комсомола выбрали Сеню Кусакина, а не его, хотя он с Долетовым были, собственно, ее первыми организаторами.
Боря был совершенно лишен чувства зависти и карьеризма. Он мне ответил:
— Видите ли, у меня есть большой недостаток: ребята говорят, что иногда бываю слишком мягким. Придумать, что и как лучше сделать, я могу. Сам все выполню, а требовать от других не умею. А Сеня — кремень. Если прикажет, уж будьте спокойны, добьется выполнения.
Установление связи с партизанами было самой трудной задачей, над решением которой молодежь, после гибели дяди Гриши, билась в течение целого года.
Этот вопрос стоял и на первом собрании. Выступила черноглазая, с пышными волосами девушка — Шура Цурюпа.
— Я думаю, что мой брат Володя имеет связь с лесом, — сказала она. — Я пробовала об этом с ним говорить — он не признался. Подослала к нему Зою Жильцову, но тоже ничего не вышло.
— Он сказал мне, — подтвердила худенькая, болезненная Зоя Жильцова, — что Шура всегда что-нибудь выдумает.
— Листовки приносит, — продолжала Шура. — Откуда он их получает? С деревней связан, ездил недавно туда. Там у него какой-то моряк. Ясно, у Володи есть пути к лесу, и нам нужно это использовать.
— Вот что, ребята, — предложил Сеня. — Володю я знаю. Я с ним поговорю, и думаю, все будет в порядке.
Ребята предрешили вопрос о приеме Володи в члены организации и поручили Сене Кусакину вместе с Володей установить связь с партизанами.
Вопрос о создании подпольной типографии поднял тоже Борис Хохлов.
— В типографии у немцев, — сказал он, — работает мой старый приятель. Недавно я говорил с ним насчет того, как бы стянуть у немцев шрифт. Он согласился. А это такой парень: раз обещал — значит сделает.
— Очень хорошо! — сказал Сеня. — Действуй. Доставай шрифт и все необходимое для типографии. Помогать тебе будет Женя Семняков.
Борису дали двухнедельный срок.
Зоя Рухадзе говорила о политической учебе:
— Мы отстали от жизни. Нельзя зависеть от обстановки, мы должны расти как комсомольцы.
— Это правильно, — поддержал ее Сеня. — Фрицев нам нечего стесняться. Давайте продолжать изучать историю партии.
У Бориса сохранились «Краткий курс истории ВКП(б)» и Конституция. Решили заниматься в кружке под руководством Бориса.
Тут же был разрешен вопрос о привлечении в организацию новых членов. Кусакин сказал, что у него есть надежные ребята на авторемонтном заводе.
— Нужно, — добавил он, — и другим членам нашей организации собирать вокруг себя проверенную молодежь, но стараться меньше знакомить их друг с другом и не приводить на наши собрания.
— У меня есть один парень на Красной горке, — сказал Борис Хохлов, — его тоже можно привлечь в наш актив.
— Кто такой? — поинтересовалась Лида.
— Толя Косухин. Я с ним связан. Иногда слушаю у него сводку Совинформбюро.
— Можно привлечь, если ты его хорошо знаешь, — заметил Кусакин.
Ребята разошлись с собрания довольные и с головой ушли в работу.
— Добыча типографии была нашей первой крупной победой, — с гордостью рассказывал мне Боря.
Получилось же это так.
Типография, где работал школьный приятель Хохлова, Ваня Нечипас, тщательно охранялась немцами. Русским рабочим немцы не доверяли. Кроме постоянной наружной вооруженной охраны и агентов гестапо, засланных в цех под видом подсобных рабочих, шеф типографии на ночь ставил охрану в наборном и печатном цехах, где находился нужный для подпольщиков шрифт.
Ваня был подсобным рабочим и не имел возможности сам достать шрифт из цеха. Он обратился к старому рабочему, наборщику Николаю Михайловичу Решетову, которого знал еще до войны. Решетов недавно прочел ему свои стихи. Потом они стали известны всем ребятам:
Ваня отыскал Николая Михайловича в типографии и спросил, знает ли он Хохлова.
— Ну как же не знать! — ответил тот. — Он ведь печатник, был у нас секретарем парторганизации, а потом стал заместителем наркома местной промышленности.
Ваня передал Решетову просьбу Бориса, сына Хохлова.
Они беседовали возле печатной машины, на талере стоял набор для печати. Решетов ковырялся в наборе, чтобы отвлечь от себя внимание немецких надсмотрщиков.
Ваня начертил пальцем на свободном месте талера размер листовки.
Решетов просил сказать Хохлову, что шрифт обязательно будет. И сейчас же после разговора с Ваней начал действовать. Он нашел целую текстовую страничку нужного размера, стал подсчитывать, сколько надо литер на листовку. Сосчитал самую ходовую букву «о». Литер «о» нужно было приблизительно сто пятьдесят штук. Сколько же нужно всего? В алфавите тридцать с лишним букв. Значит, примерно три тысячи литер. Но это же не меньше недели таскать!
Решетов хотел вынести весь шрифт сразу. Взять в наборном цехе готовую текстовую сверстанную страничку, завернуть в бумагу и попробовать пронести как книгу. Но днем это было совершенно невозможно. Помог случай. Шефу потребовался в ночную смену рабочий для набора театральных билетов. Решетов пошел к начальнику производства и попросился в ночную смену: днем надо кое-что сделать по дому.
В первую же ночь он произвел разведку. В одном месте заметил сверстанные страницы, набранные новым, светлым книжным шрифтом. Как раз то, что надо. Он решил, взять не одну, а целых две странички. Но две странички весят приблизительно шесть-семь килограммов. Как ни маскируй, нести этот груз очень опасно, могут обратить внимание.
Но Решетов знал, что заказчиков, идущих в контору, охранники не останавливают. И он решил привлечь к этому делу свою жену.
Они условились, что жена рано утром пойдет с кошолкой на базар, купит овощей и придет в типографию. Она поднимется по лестнице, ведущей в контору, и будет его ждать.
Ночью Николай Михайлович удачно завернул в бумагу первую страничку набора и понес подмышкой, как книгу, к своему рабочему месту в нижний этаж. Страничка тяжелая, пришлось незаметно поддерживать ее рукой. Немецкий ставленник технорук Попов на ходу спросил Решетова:
— Работаешь ночью?
— Да, ночью. — Решетов не спеша прошел мимо него.
Технорук ничего не заметил. Решетов спустился вниз и спрятал шрифт. Подождав, пока Попов уйдет из цеха, он снова поднялся наверх. Только взялся за вторую страничку, в ноги ткнулась собака, которую немцы, живущие при типографии, ночью выпускали проветриться прямо в цех. Но к типографским рабочим «Полинка» привыкла и их не кусала. Потом в коридоре скрипнула дверь, и собака убежала.
Все затихло. Решетов перенес и вторую страничку. Оба набора он завернул в бумагу, перевязал веревкой и спрятал.
Когда начали собираться рабочие утренней смены, Решетова уже ждала в коридоре жена. Он нес свой тяжелый груз на виду у всех, стараясь держаться как можно свободнее и прямее. Выбрав минуту, когда в коридоре никого не было, Решетов положил на дно корзинки сверток, прикрыл его сверху пучками овощей и проводил жену до лестницы, следя, как она пройдет мимо сторожей.
Навстречу, стуча коваными сапогами, поднимались немцы за своей газетой «Дер кампф». Жена осторожно посторонилась, давая им дорогу, благополучно спустилась вниз и вышла на улицу.
Через час после того, как жена ушла из типографии, Николай Михайлович прибежал домой.
— Где шрифт? — спросил он.
— В сарае, засыпала углем.
Была бессонная и нервная ночь, но спать не хотелось. «Надо скорее обрадовать Ваню и его друзей», думал Решетов. Он побежал в типографию.
— Подарок тебе готов, и на две листовки, — шепнул он Ване.
Тот благодарно улыбнулся. Ровно в четыре часа после работы Ваня должен был ждать Николая Михайловича на углу улиц Субхи и Севастопольской, возле базара.
Утомленный, но довольный Николай Михайлович вернулся домой, прилег и вскоре уснул. Когда проснулся, было уже около четырех часов. Он побежал в сарай, достал драгоценный сверток, очистил его от угольной пыли, завернул в старый черный платок и понес к назначенному месту.
— Дядя Коля, — сказал Ваня, — я хочу вас познакомить с одним товарищем — с Борей Хохловым.
— Знакомиться будем потом, когда придут наши, — ответил дядя Коля, — а пока я знаю только тебя.
И они разошлись в разные стороны.
В тот же день Ваня передал шрифт ребятам.
— Дядя Коля, между прочим, и по этому поводу стихи написал, — улыбнулся Боря.
Позднее я узнал, почему Боря так интересовался поэтическим творчеством Решетова: он сам писал стихи.
Возник вопрос, где установить подпольную типографию. Самым подходящим местом был дом Анатолия на окраине города с большим изолированным двором и садом. Шрифт был перенесен, и Толя вместе с Борей и Женей Семняковым энергично принялись за оборудование примитивной подпольной типографии, получая от Николая Михайловича и Вани необходимые принадлежности.
Слушая рассказ ребят о том, как им удалось установить связь с партизанами, я восхищался их мужеством и изобретательностью.
В то время как Боря, Толя и Женя занимались оборудованием подпольной типографии, Сеня Кусакин несколько раз виделся с Володей Цурюпой, и они обдумывали план установления связи с партизанами. Они вполне доверились друг другу.
Володю, как и всю молодежь, должны были угнать в Германию. Он вынужден был поступить пожарником в городскую пожарную команду. Парень он был энергичный, настойчивый, прямой. Несмотря на сдержанность и умение маскироваться, он временами решительно не мог скрыть своего отношения к оккупантам. За непокорность начальству не раз получал он дисциплинарные взыскания и отсиживал по нескольку суток на гауптвахте.
Встретившись с Сеней у себя на квартире (Школьная, 10), он понял, что тот по-настоящему подходит к вопросу установления связи с партизанами. «С этим парнем, — рассказывал потом он Борису Хохлову, — у нас обязательно выйдет дело. Я решил быть с ним откровенным и сказал Сене, что связи с партизанами я сам не имею, но ищу ее».
— В деревне Бештерек есть моя родственница, Женя Островская, — сказал Володя Сене, — оставленная здесь партией для подпольной работы. Она связана с моряком-черноморцем Гришей Гузием. Он парень боевой, смекалистый и хочет уйти в лес. Его можно использовать. Надо суметь к нему подойти. Парень с характером, горячий, может нам не поверить, скажет «мальчишки». Нужно что-то придумать. Я недавно был у Жени и сказал ей, что связан с подпольной организацией, во главе которой стоит Ковалев, а я его связной. Ковалева и всю эту историю с подпольной организацией я сам придумал, чтобы Женя и Гриша мне поверили, и они поверили. Давай этой линии держаться.
Володя боялся, что Сеня может его осудить за такую выдумку, но тот похвалил его:
— Молодец, Володя, здорово придумал! Все это, конечно, останется между нами. Даю тебе честное комсомольское слово.
Володя ободрился и откровенно рассказал Сене свои замысел:
— За Гришей стал поглядывать староста. Ему нужно скорее убраться оттуда. Женя просила переговорить с Ковалевым об отправке его в лес. Она тоже хочет уйти с ним. Я сказал Жене, что в выходной день приеду, к ней с ответом от Ковалева. Предупредил, что если сам не смогу приехать, пришлю другого, и дал ей пароль. Возьми мой велосипед и поезжай к ней сам, познакомишься.
— С удовольствием! — ответил Сеня. — Что сказать ей?
— Скажи, что Ковалев согласен на отправку их обоих в лес и чтобы они пришли ко мне на квартиру для окончательного решения этого вопроса.
— А если будет расспрашивать, — добавил Сеня, — скажу, что мне поручено передать только этот приказ Ковалева и больше ничего не знаю.
— Правильно, — согласился Володя. — Имей в виду, она тебя будет расспрашивать о Ковалеве. Они хотят его видеть сами, а я маневрирую. Скажи, что ты с Ковалевым сам не связан и не знаешь его. Указание его получил через меня.
— Есть! — Сеня довольно улыбнулся. — Чтобы это дело не тянулось, я сделаю так: в субботу «заболею», на работу не пойду, и все обделаем.
В пятницу Сеня нагнал себе температуру, получил справку от врача о болезни и в субботу утром на велосипеде отправился в Бештерек.
Женя Островская вначале отнеслась к Сене с недоверием. Он сказал ей пароль, она ответила. Он пояснил ей, что Цурюпа упал с лестницы, сильно ушибся и прислал его сказать ей, чтобы в воскресенье обязательно была с Гришей в городе у него на квартире по известному ей делу. На ее расспросы, знает ли он еще кого-нибудь из подпольщиков, кроме Цурюпы, он ответил уклончиво и, попрощавшись, уехал.
В воскресенье, 13 июня, Женя и Гриша пришли в город к Цурюпе на квартиру. Гриша заявил, что ему в деревню уже возвращаться нельзя и нужно поскорее организовать отправку его в лес.
— О нем староста уже коменданту донес, — пояснила Женя.
— Хорошо, — сказал Володя, — вы посидите здесь, а я пойду к Ковалеву.
— Только имейте в виду, — предупредил Гриша, — нам на дорогу нужны два пистолета, гранаты, компас и карта.
— Постараемся достать, — твердо ответил Володя.
Выйдя из дому., он направился к Лиде Трофименко.
— Надо сейчас же вызвать ко мне Сеню и Бориса, — сказал он ей взволнованно.
— Как же их вызвать, — ответила Лида, — когда их нет в городе? Вчера Борис мне сказал, что они рано утром уйдут за дровами.
— Не может быть! — упрямо сказал Володя. — Сеня обязательно должен быть здесь. Ведь Женя пришла с моряком. Надо договориться об уходе в лес и достать оружие.
— Но что же делать? — упавшим голосом говорила Лида. — Они ушли. В городе сейчас может быть только Толя.
— Зови Толю. Может быть, он поможет достать оружие. Знаешь, где он живет?
— Не знаю, но, может быть, найду.
— Беги скорей! Приведи его сюда, ждать буду. Даю времени полчаса.
Лида, наспех одевшись, побежала на Красную горку, до которой от ее квартиры было километра три. По дороге она встретила Зою Жильцову.
— Куда так спешишь? — спросила та.
— По делу, пойдем вместе.
Зоя охотно согласилась, но она была больна, задыхалась и еле поспевала за Лидой. На Красной горке они начали расспрашивать у встречной молодежи, где живет Толя, который учится в первой школе.
Один парень указал им дом Косухина и, уходя, добавил:
— Не знаю, этот ли Толя вам нужен или другой.
Войдя в калитку, девушки увидели в саду Толю, который после принятия его в члены организации неоднократно бывал на квартире у Лиды.
— Тебя сейчас же зовет Володя, — сказала Лида. — Есть важное дело, а времени всего полчаса.
Тот быстро оделся, и они пошли на квартиру к Лиде. Шли быстро. Зоя совсем обессилела и отстала. По дороге неожиданно встретили Бориса и Сеню.
— Вы здесь? — сказала Лида. — Я думала, что вы ушли за дровами.
— Мы уговорили мамаш отложить поиски дров, — смеясь, ответил Сеня. — В чем дело?
— Пришла Женя с моряком и ждет вас у Волоаи.
— Очень хорошо! — встрепенулся Сеня. — Я их ожидал немножко попозже. А Володя где?
— Он у меня на квартире.
— Скажи ему, что мы пошли к нему домой, пусть и он скорее идет.
Когда Лида сообщила Володе, что нашла Бориса и Сеню, тот бросился догонять их. Около своего дома он нагнал и предупредил Сеню:
— Моряк готов итти в лес, даже торопит. Требует дать ему оружие, компас и карту.
— Скажи — будет, — ответил Сеня. — Что-нибудь разыщем.
Они вошли в дом. Володя познакомил Гришу и Женю с Борисом и Толей как с членами подпольной организации.
Гриша изложил ребятам свой план ухода в лес и предложил, чтобы Борис и Толя пошли вместе с ним от подпольной организации.
— Я согласен! — радостно проговорил Боря.
— Я тоже, — поддержал его Толя.
— И хорошо! — сказал Гриша. — Давайте оружие, и завтра к вечеру тронемся в путь.
Сеня переглянулся с Володей. Кто именно из них пойдет в лес, они еще не решили. Нужно было посоветоваться. Володя это понял и сказал Грише:
— Я должен переговорить с Ковалевым, кому он разрешит из нас пойти на связь.
— Пойди узнай! — нетерпеливо заметил Гриша.
— Я смогу увидеть его только завтра, — ответил Володя.
— Надо скорей решать. Я хочу с ним сам повидаться.
— Ты, Гриша, не горячись, — сказала Женя. — Завтра мы никак не сможем уйти в лес. Нужно нам следы свои из деревни замести. Мне говорили, что в городе имеются курсы переводчиков. Я хочу оформиться там и сказать своим, что поступила на курсы и буду жить в городе.
— Делай, только скорей… Мне-то все равно показываться в деревню больше нельзя.
— А для меня это имеет значение, — сказала Женя: — исчезну из деревни — родных начнут преследовать.
Сеня, Борис и Толя пошли домой. Уходя, Сеня предупредил Володю, чтобы он на другой день вечером пришел к Салгиру окончательно договориться, как действовать дальше.
По дороге Толя спросил у Сени, кто такой этот Гриша-моряк.
— А что?
— Странный он какой-то. — Толя нахмурился. — С тобой говорит, а сам смотрит вниз и все чего-то спешит. Не провокатор ли он?
— Ну, что ты выдумал! — оборвал его Сеня. — Парень проверенный, его Володя хорошо знает.
— Чего-то он не нравится мне, не засыпаться бы.
— Чепуха, я ему вполне верю.
На другой день вечером Сеня зашел за Лидой, и они вместе пошли на свидание с Володей. Встретились у Феодосийского моста и пошли по берегу реки. Сеня сказал Володе:
— С Гришей я пойду сам. Бориса отпустить нельзя — он должен закончить с типографией, а Толя итти с Гришей не хочет, не доверяет ему.
— Хорошо, — ответил Володя, — так и скажу Грише, что Ковалев разрешил итти только тебе, Грише и Жене. Остальные должны остаться здесь. А где возьмем оружие?
— Все время ломаю голову! — ответил с горечью Сеня. — Ничего не придумаю.
— Вот положение, чорт возьми! Наш моряк может заартачиться и сорвать все дело.
Ребята задумались.
— Знаешь что? — сказал Сеня. — Пойдем домой. За ночь что-нибудь придумаем.
На другой день рано утром Сеня побежал на вокзал и там на свалке разного хлама нашел две гранаты, а несколько запальников. Дома их пообчистил, привел в порядок и передал Володе — для моряка.
Гриша, осмотрев гранаты, нашел их неисправными, но махнул рукой:
— Ладно, как-нибудь дойдем. Скажи, чтобы собирался Сеня. Нечего тут дальше околачиваться.
Женя быстро оформилась на курсах переводчиков, получила соответствующую справку и отправилась в деревню, чтобы поставить в известность своих родителей и старосту о том, что перебирается в город на учебу. Через два дня она вернулась в Симферополь, готовая к походу.
19 июня Гриша, Женя и Сеня отправились в лес на связь с партизанами.
Сеня не хотел волновать мать и вместе с Борисом придумал, как скрыть от нее уход в лес. Он написал письмо матери, в котором сообщил, что он женился и уехал на Украину. Пусть она так сообщит на завод.
День 8 июля стал праздником для комсомольской подпольной организации. В этот день вышла первая долгожданная листовка, написанная, набранная и напечатанная Борей, Толей и Женей.
Это было обращение к населению города Симферополя с призывом не выполнять приказа немецкого командования о мобилизации населения, а укрываться и уходить в лес.
«Помните, что вы русские люди, — говорилось в листовке, — а русские люди никогда не предавали своей Родины». Заканчивалась листовка лозунгом: «Смерть немецким оккупантам!»
Эта маленькая листовка нелегко досталась ребятам. Техника вновь созданной типографии была крайне примитивна. На алюминиевую дощечку ставился текст, набор связывался шпагатом, затем кто-нибудь из ребят придерживал набор, другой пальцем намазывал его типографской краской, а третий, наложив бумагу, проводил по ней валиком от фотоаппарата. Печатать так, особенно без навыка, было очень трудно. Поэтому приготовили всего лишь около ста двадцати экземпляров, которые ребята быстро распространили по городу.
В тот же день рано утром к Лиде в окно кто-то постучал.
Лида подняла занавеску и увидела Сеню с большой торбой за спиной. Он вернулся из леса в совершенно разбитых ботинках, усталый и больной, с высокой температурой. Его сейчас же уложили в постель. Торбу, набитую советской литературой, Лида спрятала на чердаке.
— Сходи-ка, Лида, к Борису и Толе и скажи, чтобы пришли ко мне. Больше никому не говори, что я вернулся, — сказал Кусакин.
По дороге на работу Лида зашла к Борису, который еще спал.
— Как тебе не стыдно, — сказала она, — ты еще спишь! Хочешь, скажу новость?
— Что случилось?
— Вернулся Сеня и просил, чтобы ты зашел.
Борис обрадованно вскочил. Долгое отсутствие Сени уже начало его беспокоить.
Когда вечером Лида вернулась домой, там уже сидели Борис, Толя и Женя. Затем пришли Жильцова и Рухадзе.
Ребята достали с чердака литературу: газеты «Красный Крым», «Комсомольская правда», брошюру «Каким должен быть комсомолец на оккупированной территории», листовку «Ко всем комсомольцам временно оккупированной территории» и сборник о зверствах немцев в Керчи.
Литературу распределили между собой для распространения. Поделившись с товарищами своими впечатлениями о жизни партизан, Сеня добавил:
— У меня есть одно задание подпольного центра помимо нашей организации, которое я должен выполнить в первую очередь.
— А что же, о нашей работе, — спросил Женя, — разве тебе ничего не говорили? Ты же пошел от нашей организации.
— Как не говорили! Дали все указания. Об этом я вам расскажу подробно, но не сейчас, а перед уходом обратно в лес.
— Разве ты опять идешь?
— Должен доложить подпольному центру о выполнении задания. Да и вообще мне в городе оставаться нельзя, поскольку все соседи знают, что я уехал на Украину.
— Между прочим, — сказала Лида, — мама твоя не вериг, что ты от нее сбежал, и все допытывается, где ты.
— Надо обязательно с ней повидаться и успокоить, — заволновался Сеня. — Где бы только с ней встретиться? Я не хочу, чтобы она знала, что я живу здесь.
— Можно у меня, — предложил Толя.
— Хорошо. Как только поправлюсь, непременно устроим свидание…
Ребята видели, что ему очень нездоровится, и ушли, захватив литературу.
Сеня предупредил: пока он в городе, литературу распространять не нужно.
Через два дня Сене стало лучше, и он вышел из дому на выполнение задания подпольного центра.
С матерью он ежедневно встречался у Толи.
— Мама, я скоро опять уйду в лес. Ты обо мне не беспокойся, там люди свои, — успокаивал он ее.
А она, плача от радости, что сын нашелся и попрежнему нежно и заботливо к ней относится, просила его об одном: «Только будь осторожен».
13 июля утром Сеня сказал Лиде:
— Иду на выполнение последнего задания. В десять часов у меня должно быть свидание с одним человеком, пришедшим со мной из леса. Условимся, когда уходить. В два часа собери сюда ребят, поговорим о работе нашей организации.
К условленному часу ребята собрались у Лиды и с нетерпением ожидали Сеню. Сначала ребята шутили, что Сеня, мол, сбежал в ботинках отца Лиды, которые дала ему ее мать. Потом замолчали. Они ждали до комендантского часа. Потом разошлись, подавленные тяжелым предчувствием.
Не явился Сеня и на свидание с матерью. Проплакав всю ночь, она сразу осунулась и постарела. С утра начала бродить по городу в надежде где-нибудь увидеть сына. Лишь в конце дня до нее дошел слух, что кто-то видел его во дворе гестапо. Она отправилась туда. Там с ней обошлись грубо и ничего не сказали.
Прошло несколько дней.
Скитаясь в бесплодных поисках, она познакомилась с другими несчастными матерями. Те посоветовали обратиться к главной переводчице гестапо, которая за взятку может все сделать.
Переводчица сказала, что Сеня арестован как партизан, и добавила, что можно устроить его освобождение, но для этого требуется не меньше двадцати тысяч рублей.
С помощью ребят мать собрала деньги.
— Идите домой и ждите сына, — обнадежила ее переводчица.
А на другой день вместо сына явились гестаповцы и арестовали Кусакину. В тюрьме ее продержали сорок девять суток, много раз допрашивали, избивали, но, ничего не добившись, отпустили.
Выходя из тюрьмы, она встретилась с переводчицей и спросила:
— Где же мой сын?
— Не ищите его, — с ехидством ответила та. — Вашего сына отправили в далекий лагерь.
Мать поняла, что этот «далекий лагерь» — могила.
С арестом Сени комсомольская организация лишилась своего отважного и способного руководителя. Сеня знал всех ребят и местонахождение типографии. Но ребята были уверены, что Сеня не проявит малодушия. И они не ошиблись! Сеня погиб, не выдав никого из товарищей.
Гибель Сени не приостановила работу подпольной организации. Типография сохранилась, скоро комсомольцы собрали радиоприемник и начали регулярно принимать сводки Совинформбюро.
6 августа они отпечатали вторую листовку с приказом товарища Сталина о взятии Красной Армией Орла и Белгорода, а 8 сентября была выпущена третья листовка под названием «Вести с Родины» — о ходе военных действий за десять дней. Листовка вышла с аншлагом «Донбасс наш» и принесла населению радостную весть о том, что Красная Армия полностью очистила Донецкий бассейн от оккупантов.
С этого времени молодые подпольщики регулярно два-три раза в месяц выпускали «Вести с Родины» в количестве трехсот — четырехсот экземпляров и распространяли их по городу среди населения.
В тяжелом положении очутился Володя Цурюпа. Среди ребят распространился слух, что Кусакина предал партизан Гриша, с которым он пришел из леса и на свидание с которым ушел из квартиры Лиды и больше не вернулся.
Ребята были уверены, что этот предатель — Гриша Гузий, моряк, с которым свел их Володя, и стали обвинять его, что он связал их с провокатором.
Володя был убежден в честности Жени Островской и Гриши Гузия и всячески доказывал это товарищам, но те не верили ему, особенно Толя Косухин, который сразу отнесся к Грише Гузию с недоверием и не пошел с ним в лес.
Обстановка для Володи сложилась настолько тяжелой, что он решил выйти из организации и уйти в лес к партизанам.
И вдруг 3 сентября на квартиру Марии Лазоркиной (улица Айвазовского, 2) пришли из леса Гриша Гузий и Женя Островская и принесли с собой много литературы и магнитные мины для диверсий. Они вызвали к себе Володю.
— Сеня арестован, — сказал он им.
— Знаю, — ответил Гриша. — В лесу об этом известно. А подробности его ареста выяснены?
— Нет. Известно только, что он из леса пришел с каким-то Гришей, пошел на свидание с ним и попал в гестапо. Каким это образом случилось, неизвестно. Считают, что этот Гриша его и предал. Ребята думают, что тот Гриша — это ты, и меня обвиняют, что связал их с провокатором.
— Понятно, в чем дело, — заметила Женя. — Сеня был послан в город вместе с Гришей Кольцовым. Очевидно, ребята его путают с тобой, Гриша.
Лицо Володи просветлело. Теперь мучительная загадка разрешена, и связь с лесом снова восстановлена.
— По заданию подпольного центра, — сказал Гриша, — мы пришли на связь с Ковалевым. Где он?
Володя смутился. Неожиданный вопрос Гриши застал его врасплох.
— Что-нибудь случилось? — спросила Женя, заметив его растерянность.
— Да, случилось несчастье, — быстро сообразив, ответил Володя. — Товарищ Ковалев пять дней назад погиб.
— Как так?! — вскрикнул Гриша.
— Его гестаповцы хотели арестовать на улице. Он начал отстреливаться и был убит.
У Гриши и Жени не возникло никаких сомнений в правдивости сообщения Володи о гибели неизвестного им Ковалева.
— Печально, — сказала Женя, — с руководителями вам не везет.
— Кто же теперь руководит вами? — спросил Гриша.
— Определенного руководителя нет. Но главными у нас можно считать Хохлова, Семнякова и Косухина.
— Позови сюда Хохлова и Косухина, — сказал Гриша.
Володя побежал к Лиде.
— Видишь, я прав, что ты скажешь?
— Что такое?
— Вот вы подозревали Гришу Гузия в предательстве, а он пришел с заданием из леса и принес много литературы и мины.
— Правда? — воскликнула Лида обрадованно.
— Сейчас был у него. С Женей пришел. Скажи об этом Боре и Толе, он хочет с ними повидаться.
Володя сказал ей, куда должны явиться ребята, и пошел на работу.
Когда Толя и Боря услышали от Лиды, что Гриша пришел из леса и вызывает их к себе, они решили сначала проверить его.
Они знали одну девушку-комсомолку, которая видела того Гришу, с которым пришел из леса Сеня Кусакин.
Позвали ее, чтобы она убедилась, тот ли самый Гриша. На квартиру Лазоркиных они не пошли и назначили место встречи с Гузием на улице города. На явку пришла и эта девушка. Увидев Гришу Гузия, она сказала Толе:
— Не тот. С Сеней приходил косой и совершенно не такой.
Сомнения у ребят рассеялись, и они вместе с Гришей пошли на квартиру Лазоркиных.
От имени подпольного центра Гриша Гузий назначил Бориса секретарем комсомольской подпольной организации, а Толю — его помощником по диверсионной работе.
Теперь, по заданию подпольного центра, ребята должны были помимо агитационно-пропагандистской работы организовать диверсии. В поисках подходящих ребят Борис натолкнулся на комсомольца Васю Бабия.
Вася Бабий был комсоргом десятого класса средней школы № 1. Он, как и его друзья по школе Вова Енджияк, Анатолий Басс и многие другие, не успел эвакуироваться из города. Они было решили уйти в партизаны. Вася Бабий набрал много патронов, гранат и припрятал их в сарае. Вова Енджияк сберег у себя в саду несколько винтовок. Им помогали Петя Бражников, Митя Скляров, Вася Алтухов.
В январе 1942 года они сделали первую попытку найти партизан. Петя Бражников, Митя Скляров и Вася Алтухов дошли до горы Чатырдаг и углубились в лес. Стоял сильный мороз, выпал глубокий снег. Несколько дней ребята блуждали по лесу и вернулись в город ни с чем — партизан они не нашли.
Весной 1943 года ребята предприняли вторую попытку связаться с партизанами. Теперь пошел уже сам Вася Бабий. Зашли в Зуйские леса, понапрасну блуждали три дня и опять вернулись в город.
Чтобы спастись от угона в Германию, Вася Бабий устроился грузчиком на угольный склад при железнодорожном депо. Анатолий Басс стал работать чернорабочим в авторемонтной мастерской. Митя Скляров поступил рабочим на мельницу № 2. На мельнице он то и дело портил дизель: то наденет старые кольца на поршень, то поломает какую-нибудь деталь. В результате мельница больше стояла в ремонте, чем работала.
В авторемонтной мастерской ребята разбили шлифовальный камень и привели в негодность ценный американский станок для шлифовки коленчатых валов. Из разобранных мотоциклов они похищали детали, без которых нельзя было собрать машины. Вася Бабий, работая на железной дороге, однажды неправильно перевел стрелку, и паровоз сошел с рельсов.
Чтобы не работать на немцев, ребята часто «болели»: рубили зубилом, жгли или травили кислотой руки и потом гуляли неделями.
— Мы уже позднее узнали, что у них из оружия кое-что припасено, — рассказывал Боря. — Сначала Вася отнесся к нам с большим недоверием. «Пока, — говорит, — вы меня не познакомите с человеком из леса, я с вами объединяться не буду и фамилий ребят не назову».
Переговоры длились довольно долго. Вася был неумолим и требовал «человека из леса», живого доказательства, что он имеет дело с «серьезной подпольной организацией».
— Хорошо! — догадался Борис. — Если ты так настаиваешь, выделяй своего представителя, и мы его отправим в лес вместе с уполномоченным подпольного центра, который на-днях будет здесь. А пока мы можем дать тебе магнитные мины.
Соблазн получить магнитную мину был настолько велик, что Бабий не устоял. Он взял мину к вместе со своими товарищами, Вовой Енджияком и Анатолием Бассом, решил, не откладывая, ее испробовать.
Вова Енджияк работал слесарем в Симферопольском депо. Он знал, что за вокзалом на нефтебазе хранится горючее. Ребята решили это горючее взорвать.
— Сколько разговору было! — с восторгом вспоминал Борис. — Как же, первая диверсия. А вы послушайте, что это была за диверсия!
8 сентября вечером Бабий, Енджияк и Басе пошли на нефтебазу без оружия, так как ни одного пистолета у них еще не было.
Когда подошли к нефтебазе, Бабий поставил Басса на страже и передал ему документы свои и Вовы. Вместе с Енджияком они перелезли через забор, поползли к бочкам с горючим. Показалась луна. Каждую минуту ребят мог заметить часовой из будки. Они заложили мину и благополучно вернулись домой. Взрыв произошел под утро. Но в бочках оказался керосин. Пожара не случилось. Только взрывом раскидало и порвало несколько бочек. Конечно, ребятам было очень обидно. Но все-таки они прошли опасное испытание и получили первое боевое крещение.
С организацией диверсионной работы перед молодыми диверсантами встал ряд новых вопросов. На операции нужно было ходить ночью, то есть в те часы, когда хождение по городу запрещалось. Военные склады, в особенности с боеприпасами и горючим, немцами тщательно охранялись, и подобраться к ним «наобум» было очень рискованно. Под видом немецких патрулей можно и ночью ходить по городу. Но для этого нужны немецкая форма, ночные пароли, оружие.
Ничего этого у ребят еще не было. Припрятанные Васей Бабием гранаты и патроны он не мог использовать, так как дом заняла немецкая часть и пробраться в сарай было уже невозможно.
Винтовки же, которые Вова Енджияк спрятал у себя в саду, от сырости проржавели и пришли в негодность.
Однажды Енджияк заметил на вокзале кучу поломанного оружия и решил выбрать оттуда все, что может быть использовано для диверсионной работы. Вместе с Анатолием Бассом, Митей Скляровым и Петей Бражниковым он энергично взялся за дело и все, что возможно, перетащил к себе домой. Таскали и вечерами и днем. Мелкие части от оружия и патроны прятали по карманам, а стволы, ложи — под пальто и проносили мимо немцев.
У Енджияк во дворе в сарае ребята делали из винтовок обрезы, прилаживали к стволам маленькое удобное ложе, чистили, смазывали оружие и прятали его, или, говоря языком партизан, базировали в хранившемся на огороде железном ящике, который они специально для этого и сделали.
Но с обрезами не всегда было удобно ходить на операции. Требовались еще пистолеты, которых у них совсем не было. По указанию Бабия, Василий Алтухов поступил в полицию. Пользуясь своим положением, он купил несколько пистолетов у румынских солдат, якобы для полиции, на деньги, которые были собраны молодыми подпольщиками. Он же узнавал в полиции ночные пароля, которые помогала диверсантам пробираться ночью на боевые операции.
Смелости, упорства и изобретательности у молодых диверсантов было много. Требовалось правильное руководство их действиями и снабжение взрывчатыми материалами.
Это и было сделано областным подпольным центром через своих отважных связных — Гришу Гузия и Женю Островскую.
22 сентября, когда Гриша и Женя снова пришли в город, Гриша побывал в доме Толи, ознакомился с подпольной типографией и ее хранением.
Он застал Толю, Бориса и Женю Семнякова как раз за печатанием очередной листовки «Вести с Родины». Работа велась в комнате Толи, рядом с которой жил немецкий офицер, поставленный к ним на квартиру немецким комендантом.
Это было очень рискованно и ставило типографию и ребят под угрозу провала. Гриша дал указания найти для типографии более надежное место.
Уходя в лес, он взял с собой Володю Цурюпу. После тяжелых переживаний в связи с обвинением в легкомыслии Цурюпа решил уйти к партизанам совсем. Толя пошел с Гузяем как представитель молодежной организации, чтобы получить от подпольного центра нужные указания и батареи для радиоприемника.
Пока Толя ходил в лес, Борис и Женя выпустили пятую листовку «Вести с Родины», где говорилось, что «На Кубани наши войска, успешно развивая наступление, заняли много населенных пунктов, в том числе Анапу и Темрюк». Там же сообщалось о занятии нашими войсками Смоленска, Полтавы, Чернигова и многих других городов и населенных пунктов. На многих участках фронта наши части подошли к Днепру, и фронт приближался к Крыму.
Толя пробыл в лесу семь дней и 4 октября благополучно вернулся в город.
Хорошо помня печальную историю с Сеней Кусакиным, Боря Хохлов решил немедленно созвать совещание актива, на котором Толя должен доложить о результатах своего похода в лес.
На этом совещании присутствовали, кроме Бори, Толи и Жени, руководители групп: Вася Бабий, Лида Трофименко, Зоя Жильцова.
Всех интересовал вопрос, как их представителя приняли партизаны и какие инструкции он получил для подпольной организации. Толя рассказал, что его в лесу приняли хорошо и похвалили за листовки «Вести с Родины». Он получил от подпольного центра типографский станок, батареи для радиоприемника, взрывчатку для диверсий и ему лично Луговой подарил пистолет.
Одну магнитную мину Толя принес с собой на собрание и показал ребятам вместе с пистолетом, как вещественное доказательство непосредственной связи со штабом партизан.
Он получил указание оформить комсомольскую организацию. Для этого нужно избрать комитет и утвердить руководителей групп. Ребята получили из леса брошюру о героях-комсомольцах Краснодона. Толя предложил построить работу своей организации по типу краснодонцев. И поскольку именно он, Толя, теперь лично связан с подпольным центром, то командиром организации надлежит утвердить его, а Бориса Хохлова — комиссаром и секретарем комсомольской организации. Со всеми этими предложениями Толи ребята согласились.
В комитет вошли все присутствовавшие на данном совещании. Борису Хохлову поручено было написать и отпечатать в типографии текст клятвы и оформить всех членов подпольной организации.
Среди подпольщиков были и не члены комсомола. Решено было эту внесоюзную молодежь принять в комсомол по рекомендации руководителя данной группы.
На этом собрание актива и закончилось.
Трофименко с Зоей Жильцовой пошли распространять по городу листовки, полученные ими от Бориса, а Вася Бабий, получив от Толи магнитную мину, решил тут же ее испробовать на вражеском объекте.
— На Битакской улице имеется склад с бензином, — сказал он. — Можно взорвать его.
Ребята согласились.
И прямо с собрания Вася Бабий, Толя и Женя Семняков пошли на выполнение боевой операции.
По дороге встретили «Павлика» и тоже захватили его с собой.
Было темно. До запрещения хождения по городу оставалось еще около часа. Ребята подошли к складу на Битакской улице, огороженному забором. На улице никого не было, «Павлик» и Женя остались около склада и должны были подавать сигнал, если будет опасность, а Вася с Толей Косухиным перелезли через забор, поползли к штабелю с горючим, заложили мину и благополучно вернулись обратно.
На другой день утром на складе произошел взрыв и начался пожар. Сгорело тридцать бочек с бензином и три машины.
Глава девятая
Когда я пришел в Симферополь, в молодежной организации насчитывалось сорок два человека. Работой руководил комсомольский комитет; в который, кроме Бори и Толи, входили Лида Трофименко, Зоя Жильцова, Женя Семняков, Вася Бабий и Владимир Ланский. Все они хорошо проявили себя на подпольной работе и дали клятву, текст которой написал Боря Хохлов, прочитавший брошюру о краснодонцах:
«Перед лицом моей Родины, перед лицом моего народа клянусь быть до последнего своего дыхания преданным великому делу освобождения моей Родины от немецко-фашистских захватчиков, отдать этому делу все свои силы, а если потребуется, и жизнь.
Клянусь быть смелым, мужественным, держать в строгой тайне существование и деятельность организации, беспрекословно исполнять приказания моих руководителей. А если придется погибнуть от руки врага, то умру честно, не попросив у врага пощады, не выдав своих товарищей.
Если же по злому умыслу или трусости нарушу данную мною клятву, то пусть наказанием мне будет всеобщее презрение и смерть от руки моих товарищей.
Кровь за кровь!
Смерть за смерть!»
Клятва мне очень понравилась — все, что нужно, и ничего лишнего. Я решил в будущем оформить по ней все патриотические группы. Толя — «Костя», как я его теперь назвал — был очень этим польщен.
Я спросил, как в молодежной организации оформляли принятие клятвы.
— Уж будьте покойны, — гордо сказал «Костя», — сделано как надо. Каждый подписался своим именем и фамилией.
— Как фамилией? — удивился я. — Это же недопустимо! Надо подписываться только кличками. Ты подумай, если эти документы попадут в гестапо…
Я объяснил «Косте», что все подпольщики должны иметь клички. Неосторожно упомянутая, тем более написанная фамилия, да еще на таком документе, может привести к провалу одного, а то и всех членов организации.
— Да что вы так боитесь гестапо? Клятвы спрятаны в надежном месте, зачем они в гестапо попадут? — «Костя» улыбнулся чуть-чуть насмешливо. — Мы работаем самостоятельно не первый день…
Он любил слово «самостоятельно». Почти каждый мой совет «Костя» воспринимал как попытку посягнуть на эту «самостоятельность», и мне всякий раз приходилось объяснять ему, как нужно правильно понимать эту самостоятельность в условиях подполья.
— Скажи, «Костя», из боеприпасов, которые мы принесли с Гришей Гузием, сколько получила комсомольская организация?
— Восемь мин, двадцать гранат и пятнадцать шашек тола.
— Восемь мин из десяти. Разве тебе не ясно, какое значение придает вашей работе подпольный центр?
— И две-то напрасно оставили. Все равно другие группы ничего не сделают, только болтают, а мы уже показали себя.
Он явно опасался, как бы другие патриотические группы не наделали немцам больше вреда, чем комсомольская организация, и не затмили ее славу.
Толя был смелый, инициативный парень, но он болел чрезмерным честолюбием и самонадеянностью, которые меня очень тревожили. Неприятно было слышать, когда в разговорах со мной он всячески старался умалить роль и заслуги Бориса Хохлова в создании комсомольской организации.
Толя, единственный ребенок в семье и большой баловень матери, когда-то был активным пионером, но, увлекшись физкультурой, оторвался от пионерской организации. В комсомол он вступил лишь перед войной и не прошел настоящей школы комсомольской работы, которая делает комсомольцев дисциплинированными, сознательными помощниками партии.
Со всем этим я не мог не считаться и, не желая переходить на тон приказа, терпеливо старался помочь Толе осознать всю глубину и сложность доверенной ему работы.
Перед нашим подпольем стояли три основные задачи: шире развернуть политическую работу среди населения, организовать крупные диверсии и сообщать штабу партизан разведданные.
Мне нужно было подобрать двух помощников: одного по военно-диверсионной, второго по агитационно-массовой работе, и назначить ответственных связных. Требовался постоянный паспортист для подделки документов.
Борю Хохлова я этим загружать не хотел. Нужны были конспиративные квартиры для свиданий с руководителями подпольных групп и для укрытия на случай провала. Нужно было подготовить помещение для радиостанции и тайник для оружия и боеприпасов, которые нам будет пересылать подпольный центр.
Части Красной Армии действовали уже на Перекопском перешейке и на Керченском полуострове. Поэтому в первую очередь мы должны были развернуть диверсии на железной дороге, по которой немцы непрерывно перебрасывали на фронт войска, технику и боеприпасы.
Я надеялся, что «Серго» поможет мне в организации партийного подполья. Но «Серго» не являлся. Пришлось действовать одному.
Филиппыч, будучи хорошим сапожником, имел много заказчиков. Это было для нас и выгодно и опасно. Выгодно потому, что под видом заказчиков к Филиппычу приходили связные подпольного центра, руководители подпольных групп и подпольщики, которыми он непосредственно руководил. Опасно потому, что среди клиентов было немало немцев и румын. Мария Михайловна то и дело предупреждала меня:
— Не выходите из кладовки!
Это означало, что у Филиппыча — нежелательный «заказчик», которому мне лучше лишний раз не попадаться на глаза.
Филиппыч знал адреса всех руководителей патриотических групп, приходивших к нему в дом для свиданий с Гришей. Он со всеми был знаком и пользовался среди них большим уважением и доверием.
Мне не хотелось, чтобы подпольщики сразу узнали, где я живу, и потому я решил в воскресный день сам побывать у них, ознакомиться с их бытом и поговорить о делах.
Филиппыч предупредил меня, что мы пойдем из дому после двенадцати дня. В это время немцев почти не видно на улицах — с двенадцати до двух у них обед. При переходе из Старого города в Новый через речку Салгир он повел меня не по мосту, а по доске, специально проложенной подпольщиками в безлюдном месте. Филиппыч нес в сетке сапоги, а я плелся сзади со старым мешком на плече.
— Если немцы остановят меня и начнут проверять документы, — предупредил он, — я их задержу, а вы, не торопясь, идите себе мимо.
Путешествие наше прошло благополучно: я повидал всех, кто мне был нужен.
У «Штепселя» — Василия Никаноровича Брезицкого, скрывшего от немцев свою профессию шофера-механика и работавшего дворником — к этому времени было тринадцать патриотов. У старика, рабочего хлебозавода «Дяди Юры» — Павла Павловича Топалова, — одиннадцать человек. У Васи-сапожника — семь кустарей-сапожников, а у часовщика «Вали» — Василия Лабенох — девять человек.
Патриотические группы «Вали», Васи-сапожника и Филиппыча вели агитационную работу среди населения, распространяли литературу и собирали разведданные. Группа «Дяди Юры» занималась, кроме того, вредительской работой на хлебозаводе. Группа «Штепселя» уже провела несколько диверсий.
7 октября «Федор», член группы «Штепселя», работавший сцепщиком на станции Симферополь, перевел стрелки и столкнул два паровоза. Оба паровоза разбились.
Через неделю он удачно засыпал в буксы песок, расплавил подшипники и вывел из строя пятнадцать вагонов, а 29 октября взорвал миной дрезину.
В этом же месяце подпольщица «Курская» заложила мину и сожгла вагон с немецкими посылками, а член группы Жбанов разобрал путь, и в районе Жигулиной рощи разбилось три вагона.
Разумеется, этого было недостаточно, Я имел указания в первую очередь уничтожать немецкие склады и эшелоны с горючим и боеприпасами. Подвозить горючее по воздуху в нужном количестве немцы не могли, а на суше и на море их блокировали Красная Армия и флот.
Нужно было наладить связь с советскими патриотами, служащими в фашистских учреждениях, чтобы иметь сведения о положении на отдельных участках фронта и о перебросках грузов. Особенно мы были заинтересованы в железнодорожниках, которые могли бы непосредственно производить диверсии.
У руководителей патриотических групп, с которыми меня познакомил Филиппыч, я подробно узнал о подпольщиках. Это были простые, незаметные советские люди: домашние хозяйки, дворники, чернорабочие, рабочие, подобно Брезицкому скрывающие от немцев свои квалифицированные профессии. Среди этих патриотов я и подбирал нужных мне работников подполья. В этом деле личная беседа и знакомство имели очень важное и решающее для меня значение. Я долго не мог подобрать себе связного по городу и нашел его при несколько необычной обстановке.
Вася Григорьев, человек честный, но очень неосторожный, никак не мог привыкнуть к правилам конспирации. Несмотря на то что я строго запретил руководителям групп водить подпольщиков на квартиру Филиппыча, Вася все-таки не раз нарушал это указание.
Как-то Филиппыч, войдя в кладовку, сказал, что пришел Вася с какой-то женщиной. Я возмутился.
— Зачем он привел ее сюда? Я же предупреждал его: подпольщиков к вам не водить.
— Такой уж он неисправимый. Что поделаешь!
— Позовите его.
Еася вошел, смущенно поглядывая на меня.
— Что случилось? — спросил я строго.
— Думал, Гришу застану, а его нет, — сказал он, зная хорошо, что Гриша ушел из города. — Это Ольга, надежная. Ей нужно срочно отправить в лес людей.
— Вы ей сказали, кто я?
— Боже упаси! Я сказал ей только, что тут есть человек из леса. Скоро уходит обратно, может захватить ребят.
Я был очень зол и выругал его. Он оправдывался тем, что Ольга требовала у него немедленной помощи.
Пока мы разговаривали, к нам вошла молодая смуглая женщина выше среднего роста, в поношенном сером жакете, в белом берете, с маленькими красными серьгами в ушах.
Она присела на кончик стула.
— Что вам нужно? — спросил я, внимательно вглядываясь в ее круглое румяное лицо.
— Помогите отправить людей в лес.
— Кто они такие?
— Двое бежали из лагеря военнопленных. Наши командиры-севастопольцы. Третий — комиссар полка. Недавно бежал из гестапо. Его должны были расстрелять.
— Как же ему удалось бежать?
— Воспользовался паникой немцев, когда наши подходили к Перекопу, и удрал.
— Как его фамилия?
— Подскребов. Коммунист. Его в городе многие знают. Он был в лагере военнопленных под чужой фамилией. Какой-то негодяй его выдал.
Она подробно рассказала о Подскребове, который оказался моим хорошим знакомым. Перед войной он работал в Керчи парторгом ЦК на заводе Войкова. По нескольким вскользь брошенным мною словам Ольга поняла, что Подскребов мне известен, и стала говорить спокойнее.
— Хорошо, — ответил ей я, — пока укрывайте их. При первой возможности отправим в лес.
— Когда это будет?
— Сообщу через Васю-сапожника.
— Идут повальные обыски, а у них нет никаких документов.
— Можно снабдить их справками о работе. Получите их через Васю. Сюда не ходите. Квартира под подозрением. Можете попасть в неприятную историю.
— А вы думаете, у меня лучше? — гневно блеснув глазами, сказала Ольга. — Дверь в дверь со мной живет гестаповец, зондерфюрер, а я коммуниста Подскребова скрываю. Поскорее отправьте людей, и я к вам ходить не буду.
Так произошло мое знакомство со скромной и смелой советской патриоткой Ольгой Федоровной Шевченко.
До прихода немцев Ольга работала на станции. Симферополь, а ее муж, Сергей, был инструктором физкультуры.
В 1942 году Сергей Шевченко вошел в патриотическую группу инженера Григорова, но к ним проник провокатор и выдал подпольщиков. Григоров вместе с несколькими членами своей группы бежал в лес к партизанам и остался там.
Провокатор Сергея не знал, но все же Шевченко решил уехать из Симферополя. Он перебрался на станцию Сарабуз и устроился там весовщиком в Заготзерно.
Ольга при немцах нигде не работала и жила со своей двенадцатилетней дочкой Галей в Симферополе в доме родителей мужа.
Объединив несколько женщин-домохозяек, она помогала военнопленным в лагерях, передавала им продукты, медикаменты и одежду, укрывала бежавших из лагерей и с помощью разведчика-партизана Тайшина переправляла их в лес.
Ольга Шевченко показалась мне вполне надежной, а через мужа ее можно было организовать патриотическую группу на железнодорожной станции Сарабуз. Я решил с ней связаться.
Ольга с гордостью рассказывала мне, как она «обдуривает» немцев.
— Вот, например, напротив меня живет проститутка татарка Мирка. Она-то и пригрела у себя этого зондерфюрера Линдера. Соседство, сами понимаете, не из приятных. Мне хотелось не только замаскироваться, но и как-нибудь использовать это соседство. Стала расхваливать Линдера перед его любовницей, завидовать его подаркам. Сказала, что Линдер — самый интересный из всех ее немцев, и попросила познакомить меня с ним. Польщенная Мирка позволила мне зайти, когда он будет дома. Линдер пришел обедать. Я зашла к ним. Линдер хорошо говорил по-русски. Я стала хвалить немецкие вещи. Сказала, что мой муж работает в Сарабузе в Заготзерно.
«Значит, ваш муж кормит нас? — сказал Линдер, испытующе глядя на меня. — Это очень хорошо. А вас не пугает возможность возвращения большевиков в Крым?».
«Нет, не пугает».
«Почему?»
«Потому что сарабузский комендант сказал, что если потребуется, он моего мужа вместе со мной и с дочкой отправит в Германию».
«Значит, ваш муж — ценный работник?» усмехнулся Линдер.
Я сделала вид, что обиделась.
«Хвалить мужа не буду, но коменданту я верю».
Линдер одобрительно похлопал меня по плечу.
Линдер с Мирной часто пьянствовали, уходили в гости на целую ночь, и Мирка поручала мне стеречь квартиру. К комнате Линдера я подобрала ключи. Шестого ноября они ушли на какие-то именины, а Сергей был дома. Я караулила, а он включил радиоприемник и успел, прослушать весь доклад товарища Сталина. Мы даже записали кое-что.
— Молодец! — восхищенно сказал я и подумал: «Вот она, обыкновенная русская женщина!»
При следующей встрече Шевченко опять настойчиво просила помочь Подскребову поскорее перебраться к партизанам.
— Он так издерган, бедный, что смотреть на него жалко. Вчера чуть не попал опять в гестапо.
— Как так?
— Его скрывает теперь моя хорошая знакомая, Аннушка Наумова. На ночь запирает его в подвале, а днем он сидит в комнате. Неожиданно явились немцы осматривать квартиру. Зашли в одну комнату. Идут в другую, а там — Подскребов без документов. Можете себе представить ее положение! Но Аннушка не растерялась. Неграмотная, а такая смекалистая! Она сказала солдатам: «В эту комнату нельзя. Там живет немецкий офицер». И немцы тотчас повернули.
— Смелая женщина! — сказал я.
— Хорошая. Немцы ее сына грузовиком раздави ли.
— Что она делает?
— Работает дворником и уполномоченной по дому.
— Можно устроить у нее конспиративную квартиру?
— Безусловно. Она на все пойдет. Вот только Подскребова отправьте, и квартира будет.
— Подождите еще немного. Человек из леса скоро будет здесь.
Я поручил Ольге найти надежных патриотов среди железнодорожников, хотя бы двух-трех человек, имеющих доступ к поездам.
Скоро я познакомился и с ее мужем — Сергеем. Беседуя со мной, он не спускал с меня широко раскрытых испуганных глаз и отвечал на вопросы не сразу, сухо и односложно.
— Можете организовать в Сарабузе диверсионную группу? — спросил я.
— Что она будет делать?
— Взрывать поезда.
— Чем?
— Минами.
— У нас нет мин.
— Я вам дам.
— Мы не умеем с ними обращаться.
— Научим.
Он подумал и неопределенно ответил:
— Я там человек новый. Выясню.
Я прекрасно понимал нерешительность и напряженность Сергея. Он недавно пережил весь ужас провала группы, в которую проник провокатор. Подозрительность к новому человеку — одна из самых тяжелых обязанностей людей подполья.
— Действуйте смелее, — продолжал я. — У вас есть аэродром, установите с ним связь, снимите план аэродрома. Нашим нужен этот объект для бомбежек.
— У меня там нет знакомых.
— Устройте туда на работу своего человека. Над железной дорогой и аэродромом установите строгий контроль и через вашу жену посылайте мне сведения.
Мы установили для Сергея кличку «Савва». Примерно через неделю ко мне пришла радостно возбужденная Ольга:
— Сарабузцы начали действовать. Сергей просит взрывчатку. Надо доказать людям, что он действительно связан с подпольной организацией.
И с гордостью рассказала о проделанной в Сарабузе работе.
Технорук Заготзерна Мещанинов, с которым Сергей был откровенен, предложил познакомить его с надежными ребятами-железнодорожниками. Среди них был комсомолец Николай Шевченко, смелый, боевой парень, не раз ходивший на розыски партизан. Сергей и Мещанинов решили с ним поговорить.
— Работать по линии подполья будешь? — прямо спросил Мещанинов.
В присутствии незнакомого человека Николай ответил уклончиво:
— Я уже давно работаю на железной дороге.
— Это работа на немцев, — вмешался в разговор Сергей, — а нам нужно работать на себя.
— Что же нужно делать?
— Получите листовки и будете распространять. А потом дадим кое-что посолиднее для фрицев.
— Ясно.
— Отбери самых надежных и организуй группу, — Продолжал «Савва». — Таков приказ из леса.
— У вас есть связь? — оживился Николай.
— Иначе мы бы с тобой не говорили.
Когда стемнело, на квартиру Николая Шевченко собрались рабочие: слесарь станции Сарабуз Петр Коляда, ремонтный рабочий комсомолец Алексей Лядов, охранник железной дороги Григорий Скупко и комсомолец Анатолий Каминский, работавший конторщиком на сарабузском вокзале.
На стол выложили деньги, карты и, «играя в очко», наметили план действий.
В поселке Сарабуз был учитель Массунов, хорошо известный подпольщикам. Сергей завербовал в подпольную организацию и Массунова, дав ему кличку «Заря». С сарабузским аэродромом установили связь черев пожарника Василия Мироненко.
За неделю Сергей оформил в Сарабузе три патриотические группы из семнадцати человек.
В их числе была советская девушка Мария Затули-Ветер, работавшая переводчицей в немецкой комендатуре. Мария доставала нам потом ценные разведданные и нужные бланки с печатями.
За две недели ноября сарабузские подпольщики совершили несколько диверсий.
Коляда выпустил бензин из двадцатишеститонной цистерны. Скупко перерубил два телефонных кабеля. Николай разбил на станции два телефонных аппарата.
Обрадованные удачным началом, ребята потребовали от Сергея взрывчатки, чтобы взорвать поезд.
Тогда-то Ольга и пришла ко мне.
Мины, принесенные мною из леса, были на исходе. Гриша почему-то не приходил, и я смог дать в Сарабуз только одну мину.
Этой миной сарабузские подпольщики решили взорвать на аэродроме штабель бочек с бензином.
Вечером перед уходом с работы пожарник Мироненко заложил мину в горючее. Мина с шестичасовой дистанцией должна была взорваться ночью. Но прошла ночь, утро, наступил день, а мина не взрывается.
Взволнованный Николай прибежал к Сергею:
— Вы что, играть задумали или людей угробить хотите? Так мы вас скорее угробим!
«Я тогда так и подумал: старик — провокатор и дал липовую мину», рассказывал мне потом Сергей.
В то время нам еще не было известно, что магнитные мины при низкой температуре действуют значительно позднее установленного времени. Так получилось и в этом случае. Погода стояла холодная, и мина сработала через тридцать часов вместо шести.
Взрыв произошел ночью. На аэродроме начался большой пожар. Мироненко, притворившись растерянным, схватил брандспойт и, не открыв крана, бегал с ним около огня, пока какой-то ненец не догадался пустить воду. Сгорело тридцать бочек бензина. Когда все затихло, Мироненко, вытирая со лба сажу и пот, спросил у немцев:
— Как могло случиться такое безобразие?
— Дас ист партизан, — немец указал на горы.
Диверсанты остались довольны и потребовали от Сергея побольше «маленьких магнитных черепах», как они прозвали мины.
Только после взрыва на аэродроме Сергей окончательно убедился, что я не провокатор, и у нас с ним установились крепкие, дружеские отношения.
Через несколько дней Ольга без вызова пришла ко мне и, вопреки моему запрещению, привела Андрея Подскребова. Он стоял у калитки.
Ольга волновалась, в ее глазах блестели слезинки.
— Что хотите делайте, а я не могла… Вы поймите, я спустилась к нему в подвал. Держусь поближе к свету, а он сидит у стенки. И вдруг вижу — он все от кого-то отмахивается, будто дерется. Понимаете, крысы его живого кусают. У меня сердце похолодело. «Давай, — говорю ему, — куда-нибудь пойдем, пока они тебя не загрызли». Вы только посмотрите, на кого он похож!
В самом деле, я никогда бы не узнал Подскребова. И радостная и горькая была у нас встреча. Подскребов был в очень тяжелом нервном состоянии. У него уже была фиктивная справка о работе. Я дал Филиппычу указание устроить Подскребова пока к какому-нибудь подпольщику.
Тот устроил, но надо же так случиться, что именно в эту ночь в дом, где приютили Подскребова, пришли немцы проверять документы. Спасла справка, но немцы предупредили:
— Если завтра не пропишетесь, будете арестованы.
Устроили Подскребова на чердаке в другом доме. Но и туда приходили с обыском, и он еле спасся.
Что делать? Ольга подвязала ему шарфом зубы, чтобы не бросалось в глаза его изможденное лицо, и повела обратно к Наумовой.
Глава десятая
В середине ноября неожиданно появился пропавший «Серго». Он пришел ко мне вместе с одним из своих помощников, Петей Смирновым, у которого была странная кличка «Семь плюс восемь», и связным Колей — мальчиком лет пятнадцати. Фалиппыч знал «Серго» и познакомил меня с ним.
Это был грузин высокого роста, плотный, с умными черными глазами и маленькими усиками. Одет очень элегантно, в модном костюме, в новом демисезонном пальто.
Я ему очень обрадовался.
— А мы боялись, что с вами несчастье случилось.
— Пустяки. Имел маленькое приключение. — «Серго» добродушно улыбнулся, приглаживая зачесанные назад черные волосы. — Был в Воинке. Оттуда решил поехать на Перекоп — посмотреть, что там делается у немцев, и наладить связь с нашими. Поехал на грузовой с надежным парнем — шофером. Все было хорошо, только пропуска на машину у нас не было. На станции Ишунь к нам придрался немецкий жандарм и задержал. Сам сел за руль, а с нами посадил русского полицая. Везет обратно в Воинку. Что делать? Не умирать же! Я говорю полицаю: «Ты русский, и мы русские, давай убьем немца и уедем в лес к партизанам. Ты нас спасешь, а мы тебя». Он сначала задумался, а потом как застучит в кабинку: «Партизаны! Хотят нас убить!» Жандарм сразу остановил машину, выскочил, пистолет — на нас. Нам скрутили руки, привезли в Воинку, посадили в каталажку. Но у меня хорошие подпольщики. Ночью нас освободили и на линейке доставили в город.
«Серго» рассказывал эту историю спокойно, с юмором, как занятное дорожное приключение, но у Пети на бритых щеках краска выступила. Видно, все это было не так уж весело.
— Что же думаете делать? — спросил я «Серго». — Вас же разыскивают теперь по всему Крыму.
— Они нас всегда ищут! — махнул он рукой. — Переменю паспорт, квартиру и буду дальше работать.
— Не лучше ли вам на время уйти в лес?
— Зачем? Получше замаскируюсь и буду жить.
— Паспорт имеете?
— Будет на-днях.
— Из леса?
— Нет. Мои ребята из полиции достают. С готовой пропиской, по пять тысяч рублей за штуку. Если нужно, могу и вам дать.
Я отказался наотрез.
— Таких паспортов я боюсь. Спокойнее, когда с полицией дела не имеешь. Предпочитаю свое производство.
— Ничего. У них паника, каждый полицай старается застраховать себя чем-нибудь перед советской властью.
— Не все. Выдал же вас один.
— Я его, сволочь, поймаю! — нахмурился «Серго».
Столько решимости и злобы было в его прищуренных глазах, что я подумал: «А ведь, пожалуй, поймает!»
«Серго» был, безусловно, очен смел, но все же, разговаривая с ним, я несколько разочаровался. Я ожидал встретить опытного подпольного работника, а история с его арестом и паспортом показалась мне весьма легкомысленной. Я решил своей организации ему не раскрывать и конспиративных квартир у него не просить.
— Луговой говорил мне, что у вас имеются патриотические группы, которые по условиям вашей работы вам не нужны. Можете передать их мне, а себе оставьте людей, только нужных вам для разведки.
«Серго» подумал и сказал:
— Пока не стоит, пусть остаются у меня. Будем работать в контакте.
Я не стал настаивать.
— Не можете ли отправить трех военнопленных в лес? — спросил я. — Хотел отправить с Гришей, но его что-то долго нет, а держать их в городе больше нельзя.
— Можно, — кивнул «Серго». — На-днях посылаю машину в лес. Пришлю Колю сказать, когда пойдет машина, и укажу место явки.
На этом мы расстались.
Связь со мной «Серго» держал через Колю, который заходил в мастерскую к Филиппычу «за сапогами». Но однажды ко мне пришел с поручением от «Серго» его связной Тима, которого я видел в лесу со словаками.
Тиме нужно было где-нибудь переночевать. По моей просьбе Филиппыч устроил его на ночь у одного из своих подпольщиков.
Вдруг через несколько минут этот подпольщик прибежал к Филиппычу:
— Кого ты мне дал? Татарина. Забирай его немедленно!
Филиппыч пришел ко мне. Что делать? Откровенно говоря, я только тут узнал, что Тима — казанский татарин. Я знал его как боевого партизана, и этого для меня было вполне достаточно, чтобы отнестись к нему с полным доверием.
Я заверил Филиппыча, что Тима — надежный человек, и приказал обеспечить его ночевкой.
Подпольщик подчинился, но заявил Филиппычу, чтобы утром Тиму обязательно убрали.
— Не верит теперь крымским татарам, — сказал Филиппыч. — Уж очень нехорошо они повели себя во время войны. Я вот вам расскажу хотя бы про случай в татарском селе Ворон. Недалеко от села приземлились советские парашютисты. Один из жителей предложил им у него спрятаться. Парашютисты согласились, а он тут же выдал их своим односельчанам. Татары хотели парашютистов убить, но те стали отстреливаться. Тогда их заперли в доме и сожгли. А сами татары немедленно собрали деньги и выстроили предателю-хозяину новый дом.
Связь с «Серго» продолжалась у меня недолго. 26 ноября ко мне пришла бледная и взволнованная Мария Лазоркина.
— Уходите отсюда, — чуть слышно сказала она.
— Почему?
— «Серго» арестован, и все люди его провалены.
Предупредил Петя. Гестаповцы и к нему приходили. Его дома не было, только потому он и спасся. Арестован Коля — связной «Серго». Он всех выдает.
Это известие меня ошеломило. Коля выдает! Он был у меня несколько раз. Нужно что-то делать. Я сказал Лазоркиной, чтобы она выяснила все, что возможно, об аресте «Серго» и Коли и немедленно сообщила мне. Сама она пока будет скрываться у знакомых, так как ее домашний адрес тоже известен Коле.
Когда Мура ушла, я позвал Филиппыча, предупредил его об аресте «Серго» и о том, что Коля водит гестаповцев по квартирам подпольщиков. Филиппыч взволновался:
— Что же делать? Куда вас спрятать?
— Почему же меня одного? Он и вас знает.
— Я-то выкручусь. Меня Коля знает только как сапожника. Я ему сапоги шью, вон на колодках стоят. Если придут гестаповцы, скажу, что такой мальчик действительно был, заказал сапоги — и все. А вот вас нужно куда-то перепрятать.
В этот день ничего нельзя было сделать. Хождение по улицам уже прекратилось, да и другой квартиры у меня еще не было.
— Переночуйте здесь, — посоветовал Филиппыч. — Спать будете в кладовке, в случае опасности спрячетесь в погребе — в тайник.
Так и сделали.
Ночь прошла спокойно, а рано утром явились долгожданные Гриша и Женя. Мы расцеловались.
— Почему не приходили долго?
— Прочес леса был. Ох, и дела, Иван Андреевич!..
— У нас неблагополучно, — сразу сказал я. — «Серго» арестован.
Женя побледнела:
— Откуда узнали?
— Мура предупредила. Коля тоже арестован и всех выдает.
— Надо быстро удирать отсюда. — Гриша нервно постучал пальцами по столу.
Мы стали обсуждать, что делать и кому куда уходить. Прибежал Петя. Все подтвердилось. Арестован «Серго», уже арестованы и некоторые его люди. Коля стал выдавать после избиения в гестапо.
— Я давно говорил «Серго», очень он доверчив! — горевал Петя. — Этого Колю он привез с Большой земли и всюду водил за собой. Коля всех и все знает. С паспортами тоже получилось нехорошо. Первыми взяли тех, у кого были эти проклятые паспорта. Помните, он и вам их предлагал?
— Как же!
— Ну вот, они теперь и губят людей. А этот Коля…
— Что ж Коля? — оборвал его Гриша. — Парню пятнадцать лет. Не выдержал пыток.
Решили, что Гриша заберет с собой в лес всех известных нам подпольщиков «Серго», которые еще оставались на свободе, в том числе и Петю — в его доме уже сидела гестаповская засада. Условившись о времени и месте явки, Петя пошел предупреждать людей.
— Может, и вам пойти с нами, Иван Андреевич? — предложил Гриша. — Выяснится обстановка, опять приведем вас в город.
Женя его поддержала. Я отказался:
— Что вы! Только начал работу налаживать — и уходить. Как же это можно?
— А квартира у вас есть, куда перейти отсюда?
— Квартиры пока нет. Вернее, есть одно место, но там скрывается человек, которого нужно отправить в лес немедленно. Заберите его, а я переселюсь туда.
— Я еще не знаю, сколько людей «Серго» придется вести в лес и как сложится обстановка. А квартиру вам нужно менять немедленно.
Решили вызвать «Костю» и переговорить с ним о квартире для меня хотя бы на короткое время.
Во время нашей беседы вошел Филиппыч с бутылкой коньяка.
— Вот что. — Он поставил бутылку на стол. — У нас сегодня гости, вам от меня уходить придется, да и ночь мы не спали в тревоге. Давайте выпьем по рюмочке. Сейчас Маша огурчиков с капустой принесет.
— Вот это дело! — сказал Гриша, довольно потирая руки.
Мария Михайловна принесла капусты, мы вместе выпили и закусили.
— Я получил от Павла Романовича специальное задание наладить с вами регулярную связь, — сказал Гриша. — Система связи устанавливается несколько иная, чем до сих пор. Мы с Женей больше не будем приходить в город. Теперь это очень опасно, да и надобности нет, раз вы на месте руководите подпольщиками. Назначайте связного. Он пойдет со мной к «Мартыну». Мы подыщем место в степи — «Почтовый ящик». Я буду встречаться там с вашим связным, обмениваться почтой и материалами.
Я сказал, что «Костя» рекомендует мне взять в связные «Павлика».
Гриша задумался и одобрил:
— «Павлик» — надежный парень и здоровый. Может делать длинные переходы и переносить тяжелый груз. По-моему, он подойдет вполне.
Пришел «Костя» и, узнав, что мне немедленно нужна квартира, насторожился:
— Что-нибудь случилось?
— Ничего особенного не случилось, — успокоил я его, — но ведь я уже говорил тебе, эта квартира для меня слишком многолюдна.
— Квартиры у меня сейчас нет.
— А если к тебе на день-два?
«Костя» задумался:
— К нам, пожалуй, можно. Но я должен поговорить с матерью.
— Ты постарайся, чтоб сегодня же можно было переселиться, — настойчиво повторил Гриша.
«Костя» взял газеты и брошюры с докладом товарища Сталина о двадцать шестой годовщине Октября и ушел.
Гриша и Женя решили не задерживаться в городе. На ночь они перешли к часовщику «Вале». Завтра они должны были уйти в лес, захватив людей «Серго», моего связного и почту «Мартыну».
В тот же день «Костя» сообщил мне, что как только стемнеет, я могу перейти к нему. Проводит меня сынишка Филиппыча — Ваня.
Заметая следы моего проживания у Филиппыча, я вытравил из домовой книги свою прописку, и Филиппыч снова вписал на это место дочь. Чтобы в случае провала не втянуть и Филиппыча, номер дома «пятьдесят восемь» я переправил на «шестьдесят восемь».
Прощание с Филиппычем меня очень растрогало. Из-за меня вся семья подвергалась большой опасности, и все-таки Филиппыч искренне огорчался, что я от него ухожу.
— Немножко успокоится, приходите опять ко мне сапожничать! — говорил он, укладывая в мой мешок сверточек с огурцами. — Боюсь, как бы не потерять связь с вами.
— Не потеряете! — Мы поцеловались. — Еще не раз увидимся. На всякий случай поставьте на окно мастерской цветок. Предупредите жену и детей, чтобы в случае опасности цветок с окна сняли.
Мать «Кости» Мария Павловна встретила меня приветливо и просто:
— У нас пока можно пожить. Но к нам вселился немецкий офицер. Вам, конечно, лучше с ним не встречаться. Сейчас, правда, он в отъезде.
Квартира у них была большая, хорошо обставленная: красивая мебель, библиотека, множество разных безделушек и украшений. По всему чувствовался достаток, и я в своей нищенской одежде никак не походил на жильца этого дома.
На всякий случай мы условились, что я — плотник, исправляю у них ульи для пчел и случайно остался ночевать.
За чаем мы разговорились. Мария Павловна жаловалась, как тяжело ей дается каждый уход сына в лес или на операцию.
— Вот уйдут они ночью по своим делам. Стою у сто, ла, что-нибудь делаю, а сама слышу каждый шорох. А время ползет медленно-медленно. Хочешь обернуться, посмотреть на часы и боишься: вдруг назначенный для возвращения час уже прошел? Стою ни жива ни мертва, не сознаю, что делаю.
— А разве Толя вам говорит, когда они ходят на операции? — не без удивления спросил я.
— Мы с ним большие друзья. Он от меня ничего не скрывает. Правда, Иван Андреевич, хорошо работает наша молодежь? Как вы считаете?
— Ребята боевые.
«Костя» гордо переглянулся с матерью и спросил:
— Скажите, а живым присваивают звание Героя Советского Союза?
— А почему же нет? — Я не понял смысла вопроса. — У нас теперь тысячи Героев Советского Союза — и командиров и бойцов. Есть даже дважды Герои.
— А мне кажется, — проговорил он опечаленно, — что звание Героя дают только погибшим.
— Почему ты так думаешь?
— Я читал о краснодонцах. Звание Героев получили только погибшие.
— Это произошло потому, что у них погиб весь основной актив.
— А сейчас можно представить к награде наших ребят?
«Костя» и его мать выжидательно смотрели на меня. Я понял, что разговор начался не случайно, и мне стало как-то не по себе. Не потому, что «Костя» не заслужил награды. Может быть, он вполне ее заслужил, но ведь и Филиппыч, и Боря Хохлов, и другие рисковали жизнью не меньше, однако им и в голову не приходило поднимать сейчас вопрос о наградах.
— Мне кажется, это нецелесообразно, — осторожно сказал я. — Представить вас к награде сейчас, когда немцы здесь, значит всех расконспирировать.
«Костя» не скрывал своего разочарования, и за столом воцарилась неловкая тишина.
Вошел плотный седой старик с радиоприемником.
— Это наш дедушка, — познакомила нас Мария Павловна.
Старик пристально посмотрел на меня, молча поставил приемник и, ничего не сказав, вышел.
— Каждого нового человека боится, — пояснила мать «Кости». — Не обижайтесь на него.
«Костя» взял приемник, и мы перешли в его комнату. Он зажег свечку, поставил радиоприемник на письменный стол, присоединил тоненький шнурок к радиопроводке немецкого офицера, жившего в смежной комнате, положил перед собой записную книжку, карандаш, надел наушники и начал настраиваться.
— Москва! — тихо сказал он. — Музыка…
У меня сердце дрогнуло: Москва… Давно ли, кажется, я лежал там в больнице, старик-колхозник утешал меня, уверяя, что глаза поправятся. Ему, небось, и в голову не приходит, что в эту минуту мы сидим здесь, в городе, занятом немцами, и слушаем радио по немецкой проводке, и каждое слово Москвы для нас — праздник.
Через несколько минут «Костя» стал записывать сводку. Приемник работал беззвучно, и ночная тишина нарушалась лишь легким потрескиванием свечи.
— Ну, что нового? — спросил я, когда «Костя» снял наушники.
— Наши продолжают наступать на реках Сож, Днепр, Березина и Припять. Занято много населенных пунктов. Уничтожено сто четыре танка и сбито сорок семь самолетов, а о нашем фронте ничего нет. Забыли о нас.
— Тут немцы крепко заперты — никуда не денутся.
Снова пришел дед и забрал приемник. Мария Павловна постелила мне на диване, и я лег спать.
Утром я вызвал к себе «Павлика». Ниже среднего роста, коренастый, с загорелым смышленым лицом, он мало говорил, внимательно слушал и произвел на меня впечатление положительного и серьезного человека. У «Павлика» была справка о том, что он учится на курсах чабанов. С этой справкой он мог беспрепятственно ходить в деревню, где якобы проживал, и возвращаться обратно в город.
Я рассказал ему об обязанностях связного, об опасностях, с которыми ему придется столкнуться, и особо предупредил о соблюдении строжайшей тайны в любых условиях.
Он понимающе кивнул.
— Ночью в степи и в лесу сумеешь ориентироваться?
— Думаю, смогу. Окрестности Симферополя я хорошо знаю.
— Доверяю тебе ответственное и опасное дело, — повторил я.
— Можете положиться.
От «Кости» я предполагал при помощи Ольги перебраться к Наумовой, но сразу мне это осуществить не удалось. Подскребов все еще был в городе. У Гриши набралась большая партия подпольщиков «Серго», которых нужно было немедленно спасать от гестапо.
— У вас в молодежной организации сорок два человека, — сказал я «Косте». — Неужели вы не можете найти для меня надежную квартиру?
— Дело-то больно ответственное, — ответил он: — а вдруг провалитесь?
— Надо сделать так, чтобы не провалиться.
— А у не членов организации вы можете поселиться?
— Почему же нет? Если это будет у надежного человека и он согласится на мою нелегальную прописку.
— Есть у нас одна хорошая знакомая. Думаю, она согласится.
— Кто она такая?
— Она работала в Наркомпросе и, кажется, член партии. Фамилия ее Лазарева, а зовут Евгенией Лазаревной.
— Почему она осталась тут?
— У нее была больная мать. Помните, я вам рассказывал о ней. Она просила переправить ее в лес, для эвакуации на Большую землю. Вы сказали, чтобы она здесь помогла нам.
— Что ж, если ты за нее ручаешься, можно с ней повидаться.
— Ручаюсь вполне.
— Она ваш дом знает?
— Ну как же! Она у нас — свой человек.
— Тогда позовите ее ко мне.
Опасаясь, что Николай может выдать меня гестаповцам, я решил изменить внешность. Сбрил бороду, подстриг усы и сразу помолодел.
Выйдя в соседнюю комнату, я с удивлением увидел на буфете брошюры с докладом товарища Сталина.
— Мария Павловна, — спросил я, — почему литература лежит так открыто?
— Не беспокойтесь, Иван Андреич, я всегда держу ее наготове. А в случае опасности сожгу в печке.
— Но сейчас плита не горит. Да и нельзя жечь такую ценность. У вас большой двор, сад с сараями. Неужели Толя не может устроить надежный тайник, чтобы никакой гестаповец не нашел?
Она спрятала литературу.
Лазарева пришла в тот же день. Интеллигентная женщина лет тридцати пяти, небольшого роста, худощавая, смуглая, она чем-то напоминала мне Лидию Николаевну Боруц. Хозяйка дома нас познакомила и оставила вдвоем.
Лазарева отвечала на вопросы подробно и толково. Я спросил, что она делает сейчас.
— К сожалению, очень мало. Я связана с «Мусей» — Александрой Андреевной Волошиновой. Она выполняет задания штаба партизан, и я помогаю ей по разведке.
— В лесу о вас знают?
— Знают. Я работаю. Я хочу работать, — настойчиво повторила Лазарева. — Я не раз с Толей говорила, но он сказал, что старухи им не нужны.
Я усмехнулся — это было очень похоже на Толю.
— Найдите для меня надежную квартиру.
Мое предложение ее не испугало, а обрадовало:
— В нашем доме есть свободная комната. Я уговорю хозяйку сдать.
Я объяснил, что комнату в городе найти нетрудно, сложность в том, что я проживаю нелегально, по фиктивным документам и должен прописаться в домовую книгу, минуя полицию.
Лазарева задумалась:
— Это хуже. Наша хозяйка настроена по-советски, очень хорошо к нам относится, но большая трусиха и на нелегальное проживание не согласится. Однако мы обязаны вас устроить. Если не удастся договориться с хозяйкой, поместим вас в другом месте. У меня много хороших знакомых. Дайте день-два сроку.
Лазарева показалась мне серьезной, исполнительной, и я доверился ей.
После обеда я приготовил почту для подпольного центра: некоторые разведданные, список провокаторов, выявленных подпольщиками, и письмо Павлу Романовичу. Я сообщил об обстановке в городе, просил прислать радиста Кущенко, портативную радиостанцию, мины и тол для диверсий, оружие и чистые бланки паспортов. Запросил, кто такая «Муся» и можно ли установить с ней связь.
У «Кости» я познакомился еще с одной патриоткой — Верой Горемыкиной. Она жила со своим отцом и шестилетним сыном в хибарке напротив и приходила к Марии Павловне помогать по хозяйству. «Костя» хранил у нее оружие.
Лазарева пришла на другой день.
— Я договорилась с хозяйкой. Сказала, что мой родственник остался без площади, и попросила ее сдать мне свободную комнату. Вход в эту комнату через нашу квартиру. Таким образом, вы будете не ее квартирантом, а моим. Я возьму у нее домовую книгу якобы для прописки вас в полиции, и вы пропишетесь. Если это вас устраивает, можете сегодня же переселиться.
— Семья у вас есть? — спросил я.
— Со мной живут две сестры и племянница пятнадцати лет. Старшая сестра член партии и помогает «Мусе». Можете не беспокоиться.
Глава одиннадцатая
Лазаревы жили недалеко от Красной горки на улице Островского. Из их окон были видны пригородные пустоши и Теркинские горы, где находился лагерь «Седло». Закрытый с улицы густыми зелеными деревьями и каменным забором, дом особого внимания не привлекал. У Лазаревых ни разу не было ни обысков, ни проверки документов. Надоедали только румынские солдаты, занимавшие школьное здание напротив. Сестрам то и дело приходилось отбиваться от непрошенных посетителей, назойливо предлагавших купить краденные у русских вещи.
— Заберется иной раз этакий вор в квартиру, — рассказывала Евгения Лазарева, — и начинает плакаться на своих хозяев — немцев: «Они нас за людей не считают, сами обжираются, а нас кормят, как собак. Даже брезгают с нами встречаться». Мы, конечно, поддакиваем.
У Лазаревых я сразу почувствовал себя, как в родной семье. Три сестры — Евгения, Софья и Наталья — относились ко мне одинаково заботливо и бережно.
Все они не работали, заручившись у знакомых врачей справками о «тяжелых» болезнях. Выходили из дома по очереди, только на базар и в случае крайней необходимости. Квартира почти не отапливалась, жили впроголодь, продавая на базаре вещи.
Комната, которую я занял, была неплохо обставлена хозяйской мебелью. Среди других вещей имелась этажерка с книгами преимущественно религиозного содержания. Это было весьма кстати для маскировки.
Лазаревы достали где-то брюки, пиджак, галстук, и я совсем преобразился. На случай расспросов условились, что я их родственник, учитель русского языка, и живу заработком от частных уроков.
В домовой книге и паспорте я быстро оформил прописку, использовав полицейские штампы, которые изготовил мне Боря Хохлов.
Евгения Лазарева рассказала мне о настроениях городской интеллигенции. Учителей и других школьных работников она знала как сотрудник Наркомпроса. Были среди ее знакомых и врачи и профессора.
— Если бы вы знали, какой подъем вызвал среди них доклад товарища Сталина шестого ноября! Нам удалось получить его от «Муси».
— Ну, а практически эти люди чем-нибудь помогают нам?
— Кое-что делают. Саботируют мероприятия немцев, укрывают людей от мобилизации в Германию, прячут военнопленных, бежавших из концлагерей. Правда, в последнее время все это делать труднее. Вы же знаете, немцы усилили репрессии. Занимаются провокацией — ведь они не брезгают никакими средствами. Недавно, например, ночью были сброшены бомбы на жилые кварталы города. Немцы подняли крик, что это зверства большевиков. Но самолеты кружились над городом низко и долго, зенитки молчали и прожекторы не работали.
— Конечно, провокация.
— Мы так и разъяснили населению. Многие интеллигенты хотят активно работать против немцев, но вы понимаете, Иван Андреевич, они не организованы.
— Вот мы с вами и должны их организовать. Вы — член партии, ответственный работник народного просвещения, вам и книги в руки. Будем вместе работать. Кстати, кто такая эта «Муся», которой вы помогаете?
«Мусю» Евгения Лазарева знала много лет и рассказала мне ее биографию.
Александра Андреевна Волошинова родилась в 1900 году в Феодосии в семье железнодорожного машиниста. Четырех лет отроду она осиротела и жила у родственников. Семья очень нуждалась. Девочка была живая, бойкая, выделялась среди подруг своими способностями, но ей рано пришлось думать о насущном куске хлеба, и она поступила в симферопольскую швейную школу.
В 1920 году Александра Андреевна вышла замуж за преподавателя географии Ивана Михайловича Волошинова, который был старше ее на двадцать лет. Через год у них родился сын Леонид.
Будучи человеком всесторонне образованным и обладая высокими душевными качествами, Иван Михайлович стал для своей юной жены другом и учителем.
Он прекрасно знал природу и историю Крыма и привил своей жене любовь к естественно-историческим наукам. Александра Андреевна с жадностью набросилась на книги. Она впервые получила возможность развивать свои недюжинные способности. Александра Андреевна изучала географию; училась рисовать, занималась музыкой, театром и физкультурой. Она вступила в общество пролетарского туризма и вскоре стала известным экскурсоводом по южному берегу Крыма.
Одновременно она преподавала физкультуру в школе ФЗУ, увлекалась живописью и проводила большую воспитательную работу с дошкольниками.
Но этого Александре Андреевне показалось мало. С помощью мужа она подготовилась и поступила в Крымский педагогический институт имени Фрунзе на вечернее отделение естественного факультета.
В 1937 году она получила диплом высшей школы, в том же году поступила на географический факультет института, отлично закончила его и получила второй диплом.
— С 1938 года Александра Андреевна работала преподавателем географии в школе, — рассказывала Лазарева. — Она пользовалась огромной популярностью среди учащихся и педагогов. Ее географический кабинет был лучшим во всем городе, а географический кружок — самым интересным и многолюдным. Александра Андреев, на — очень волевой, энергичный человек. Не только ребят, она и взрослых увлекла своей неутомимой любознательностью. Я просто поражалась, как у нее хватало времени и сил. Большая нагрузка в школе, семья, и все-таки она поступила еще в вечерний университет марксизма-ленинизма.
Леня, сын Волошиновых, очень хороший, способный мальчик. Когда началась война, он с третьего курса педагогического института добровольцем ушел на фронт. А Александра Андреевна поступила на курсы медсестер. Она все мечтала воевать в одной части с сыном.
Александра Андреевна кончила курсы, но на фронт ее не взяли, и она, не оставляя школы, начала работать в военном госпитале. Начальник госпиталя обещал в случае эвакуации взять Волошиновых, но в последний момент нехватило транспорта. Так Волошиновы и застряли в Крыму.
— Если бы вы знали, Иван Андреевич, как она тяжело это переживала. Сидит бывало целый день у окна, смотрит на немцев, и такая тоска и ненависть у нее в глазах…
Жить Волошиновым стало очень трудно. Работать на немцев они не хотели. Иван Михайлович рисовал виды Крыма, раскрашивал коробочки и продавал их на базаре.
Но Александра Андреевна, с ее энергией и волей, долго бездействовать не могла. В сорок втором году на квартире одной из ее знакомых поселился немец, у него был радиоприемник. Александра Андреевна выжидала, когда он уходил, пробиралась в его комнату и слушала Москву. Дома она записывала «Вести с Родины». Сначала читала их только своим друзьям.
В конце 1942 года из лагеря военнопленных бежал ее бывший ученик Толя Досычев. Она помогла ему достать паспорт, устроила его студентом зубоврачебной школы.
С партизанами она связалась не так давно, получает от них задания и работает под кличкой «Муся».
— Сын ее так всегда называл, — помолчав, улыбнулась Евгения Лазарева. — Она очень мучается, что ничего не знает о нем.
«Муся» меня очень заинтересовала. Я попросил Лазареву подумать, кого из знакомых можно будет использовать в нашей работе, и постараться собрать о них такие же исчерпывающие данные, как о «Мусе». У нее действительно оказалось много знакомых, хороших патриотов, которых я потом привлек к подпольной работе.
Евгения Лазарева была хорошо знакома с коммунистом Степаном Васильевичем Урадовым, который перед оккупацией работал директором средней школы в Симферопольском районе, а потом служил комиссаром батальона ополченцев. Когда пришли немцы, он перебрался в Симферополь, получил через знакомых врачей фиктивную справку об инвалидности и стал работать на дому по давней своей специальности — портным.
— Вокруг него тоже группируются советские люди, и кое-какую работу он ведет. Знаю, что он тоже все время ищет связи с партизанами.
Евгения Лазарева рекомендовала Урадова как человека стойкого и преданного.
Я установил Урадову кличку «Лука» и дал ему задание оформить подпольные патриотические группы и составить план Симферополя, нанеся все важнейшие военные объекты и расположение воинских частей.
Лазаревой я установил кличку «Нина», и она вместе со своей сестрой Софьей стали моими активными помощницами.
На четвертый день вернулся из леса «Павлик», усталый, весь в грязи, с натертыми ногами. Дома он немного отдохнул, привел себя в порядок и явился ко мне бодрый и довольный выполненным поручением.
— Почту вам принес! — улыбнулся он, вытаскивая из-за голенища сверток.
— «Мартына» видел?
— Видел, Гриша привел меня прямо к нему в шалаш. Обедали вместе. Московской меня угостили! — гордо добавил «Павлик».
— Значит, все в порядке?
— В порядке. Связь налажена.
Я вскрыл конверт. Сначала бегло, потом медленно прочитал долгожданное письмо.
«Дорогой Андрей! — писал „Мартын“. — Письмо твое получил. Очень рад, что работа твоя налаживается. Задержка наступления частей Красной Армии на крымских фронтах дала повод фашистской пропаганде поднять шумиху вокруг мнимых успехов немецких войск. Немцы всячески используют разные слухи, чтобы парализовать активность наших патриотов в тылу.
Все силы положите, чтобы разоблачить среди населения эти фашистские бредни.
Разъясняйте всем, что чем активнее наши патриоты будут бороться с врагом в тылу, чем большую помощь окажут они Красной Армии, тем скорее придет победа. Немцы зажаты в Крыму, как в мышеловке. В данный момент самое эффективное средство борьбы с ними — диверсии. Взрывайте склады с горючим, с боеприпасами. Организуйте диверсионную работу на железной дороге.
Насчет оружия вашу просьбу удовлетворяю. Посылаю пистолеты, мины, газеты, пять старых немецких паспортов и три новых.
Рации пока у меня нет. Когда получу, пришлю. „Почтовый ящик“ „Павлику“ указан.
Регулярно информируй нас о политической обстановке и передавай разведданные. Сообщи, что именно врут немцы про партизан.
Насчет „Муси“. Это человек наш, приходила к нам. Ей нужно помогать.
Привет тебе от Владимира Семеновича и всего нашего коллектива. Передай привет всем нашим боевым друзьям. До скорой встречи!
Семья твоя приехала в Краснодар. Получил от твоей жены письмо. Все в порядке. Крепко жму твою руку и целую. „Мартын“».
Как я был счастлив, получив это письмо! Я его читал и перечитывал. Сразу исчезло тяжелое чувство оторванности, которое иногда появляется в подполье.
— Где спрятал груз? — спросил я «Павлика».
— Забазировал около города во рву. Сегодня ночью перенесем к Вере. В общем, все в порядке.
«Павлику», видно, не терпелось рассказать мне о своем путешествии, но одновременно хотелось сделать вид, что ему это не впервой.
— Ну, ну, расскажи о своих приключениях! — попросил я.
— Так, было кое-что… — начал он небрежно. — С Гришей я встретился в пять часов вечера. В лагерь пришли утром. За ночь больше пятидесяти километров сделали. В штабе меня приняли хорошо. Товарищ «Мартын» расспросил об обстановке. Про вас все расспрашивал, как ваше здоровье, как с квартирой устроились. Он особенно за ваши глаза беспокоится. «Плохие, — говорит, — как бы не подвели».
— Не подведут!
— К вечеру Гриша с двумя партизанами вывел меня из леса, рассказал маршрут, и я отправился. Тут-то и начались мои злоключения.
«Павлик» помедлил, но, видно, решил рассказать все.
— Прошел дождь со снегом, стемнело. Признаюсь, Иван Андреевич, сбился я с дороги. Компаса у меня нет, определить направление не могу. К счастью, тучи разошлись. Увидел Большую Медведицу и Полярную звезду и пошел на север, чтобы выйти на Феодосийское шоссе.
Вдруг услышал какой-то шум. Я залег. Подождал немного. Потом подумал, подумал и решил рискнуть. В город надо итти до рассвета. Взял в руки по нагану, взвел курки и громко спросил: «Кто там?»
Тишина.
Я по-немецки: «Вер ист да?» Слышу — румыны заговорили. Я ползком, ползком и — в противоположную сторону. Луна взошла. Разглядел какую-то деревню. Вдруг там поднялась тревога. В рельс ударили, кричат и румыны и татары. Шум этот помог мне ориентироваться и благополучно обойти деревню.
Часа через два дошел я до Феодосийского шоссе. Но по шоссе не пойдешь — патрули. Пришлось опять итти стороной. А тут снова дождь пошел. Луна пряталась, темно. Я чуть-чуть опять не запутался. Спасибо, гудение проводов услышал. Я воспрянул духом и благополучно добрался до города. Но мокрый, по пояс в грязи, боюсь итти по улицам.
Зашел к «Косте». Он начал меня расспрашивать, а я как сидел на стуле, так и заснул.
— Ну, а теперь как себя чувствуешь?
— Хорошо. Поход могу повторить. Явку «Мартын» назначил через каждые пять дней, по пятым и нулевым числам. Ровно в двенадцать ночи я и Гриша должны быть на месте. Место нашей явки и есть «Почтовый ящик».
— Молодец! Второй раз легче будет. Только компас возьми обязательно. И подбери себе двух помощников. Тяжестей переносить придется много.
— Ребята есть, подберем.
Видя, что я очень доволен, «Павлик» развеселился. Удивительные все-таки это были ребята! Молодой парень, школьник, ходил на опаснейшее задание, рисковал попасть не только под расстрел, но и на пытки. Все прекрасно выполнено. Но об этом он не думает, а стесняется, что заблудился.
После письма «Мартына» я вызвал к себе «Мусю».
Пришла стройная шатенка среднего роста, с узким смуглым лицом и живыми карими глазами. В черном плюшевом пальто, в высокой бархатной шапочке, из-под которой свешивались красивые локоны, она производила впечатление кокетливой женщины средних лет, следящей за собой и желающей нравиться. Беседуя с ней, я все более и более убеждался, что эта женщина обладает недюжинным, мятежным умом.
— Я имею от подпольного центра указание помочь вам, — сказал я ей при первом же свидании. — В чем вы нуждаетесь?
— Мне нужна помощь во всем, — живо отозвалась «Муся». — Мы оторваны от Большой земли. Каждый день возникают какие-то вопросы, трудности, которые не всегда можно разрешить самой, а посоветоваться не с кем.
— А разве штаб партизан не помогает вам?
— Видите ли, товарищ «Андрей», я нуждаюсь в повседневном руководстве, а в лес попасть нелегко. Ходила я туда несколько раз, блуждала, выбилась из сил, один раз даже заболела и слегла, но партизан так и не нашла. Решила, наконец, послать своего ученика Толю Досычева.
Он оказался счастливее меня: нашел партизан и связал меня с ними.
В середине октября за мной прислали проводника из штаба. Пошла с ним в этом самом пальто, в туфельках на высоких каблуках. Шли ночью, речку переходили по колено, карабкались на горы. Я хоть и туристка, но так натерла ноги, что на обратном пути еле доползла до дома. А тут меня уже разыскивает директор школы — я устроилась учительницей для отвода глаз. Пришлось спрятаться за справку от врача.
Очень рада, что побывала в лесу. Вот, действительно, герои! — восхищенно сказала «Муся». — Надо бы потеснее связаться, но частые экскурсии к ним я, к сожалению, позволить себе не могу.
От штаба ко мне сначала приходил Досычев, но он повредил ногу. Теперь другой связной, по кличке «Николай», но, откровенно говоря, я боюсь с ним встречаться. Ведет он себя в городе очень легкомысленно, пьянствует. Я хочу просить штаб, чтобы его больше не присылали. Пожалуйста, поддержите мою просьбу.
— Поддержу, — обещал я. — У меня прочная связь с лесом. Можем обойтись без этого связного. Сколько людей практически помогает вам работать?
— Больше пятидесяти. Есть среди них замечательные. Взять хотя бы группу педагогов-женщин: Пахомову, Щербину, Усову, Самарскую. Они и листовки распространяют, и разведку ведут, и военнопленных помогают выручать.
— Оформить их в патриотические группы, не более пяти — семи человек в каждой, и назначьте руководителей. Здесь организуется подпольный горком партии, и вы будете работать под его руководством. Меня знаете только вы. Связь со мной держите через «Нину». А на железной дороге у вас есть кто-нибудь?
— Есть. Я получила из леса несколько мин, и товарищи неплохо их использовали. А вот сейчас сидят без дела и ругают меня. Вы подумайте, товарищ «Андрей», ведь это же трагедия! — разгорячилась «Муся». — На фронт уходят очень ценные для противника составы с боеприпасами и горючим. Ярость закипает, а руки пустые, действовать нечем.
— Товарищей на железной дороге вы хорошо проверили?
— Вполне. Стойкие и смелые люди. Возглавляет работу товарищ по кличке «Хрен».
— Кто он такой?
«Муся» замялась:
— Я не имею права рассекречивать своих работников. Но вам я скажу. Это Виктор Кириллович Ефремов. Он работает начальником станции Симферополь. Замечательный, бесстрашный патриот!
По ее рассказам, это был действительно замечательный человек. Я поинтересовался, дает ли он сведения о движении поездов.
— Дает каждый день, но они залеживаются из-за плохой связи с лесом.
— Теперь залеживаться не будут. Приготовьте все, что у вас имеется, к восьмому. Утром встретимся. А завтра я дам вам пять мин для эшелонов с боеприпасами и горючим.
В ее глазах заискрился радостный огонек.
— Пять мин лучше, чем ничего, но это капля в море. Дайте штук двадцать — тридцать. Посмотрите — будут веселые дела.
— Ну-у?
— Честное слово.
Мы засмеялись.
— Учтем вашу заявку, Александра Андреевна, но сейчас не могу дать больше.
— Ефремов просит три-четыре браунинга или «ТТ».
— Есть наганы. Хотите?
— Наганы им нельзя носить. Они оттопыривают карманы, а работать ведь приходится на глазах у немцев.
— Тогда придется немножко подождать — запрошу из леса.
Перед уходом «Муся» спросила:
— Как вы тут устроились? Может быть, помочь вам в чем-нибудь?
Я сказал, что мне нужен паспортист подделывать документы, а ее муж, кажется, художник.
— Да, да! И неплохой. Но с подделкой документов он незнаком…
Я тут же показал Александре Андреевне, как нужно подделывать печати, смывать чернила. Она сделала пробу — вышло хорошо.
— Вот замечательно! И как просто! Жаль, что я этого раньше не знала. Сколько людей можно было бы спасти от гестапо!
«Муся» ушла очень довольная.
Глава двенадцатая
Познакомившись с «Хреном», я убедился, что «Муся» правильно оценивает своих людей.
Перед оккупацией Крыма Виктор Кириллович Ефремов работал заместителем начальника станции по технической части и считался одним из лучших работников Сталинской железной дороги.
Накануне прихода немцев в город Ефремов до самого последнего момента отправлял в Севастополь эшелон за эшелоном — людей, технику, ценные грузы. А потом с группой подрывников взорвал пути, пакгаузы, железнодорожный мост и мастерские.
На станции полыхал пожар, но немцы были уже на окраине города, и уйти из Симферополя Ефремову не удалось.
Три месяца Ефремов не выходил из дома, нигде не работал. Но 26 января к нему на квартиру явились гестаповцы, забрали его жену — она была еврейка — и расстреляли ее. А сам он получил приказ: под угрозой расстрела немедленно явиться на работу.
— Я ломал голову… Что поделаешь! — рассказывал «Хрен». — Не хотелось умирать. И в конце концов решил: «Ладно, пойду работать. За все вам отработаю: за станцию, которую своими руками взорвал, за жену, которую вы расстреляли, за все…»
«Хрен» пришел на станцию, назвался сцепщиком вагонов и получил работу. Это было рискованно: а вдруг найдется какой-нибудь подлец и расскажет немцам, что он взорвал станцию и мост? Но знакомые рабочие и виду не подали, что знают «Хрена».
На работе «Хрен» особенно сблизился с высоким, широкоплечим сцепщиком вагонов Левицким и башмачником Лавриненко, худым, юрким, с задорно бегающими, плутоватыми глазами.
Первым делом Ефремов принялся организовывать расхищение немецких грузов. Этому немало способствовала нужда, царившая в то время в рабочих семьях. Растаскивали целые вагоны продуктов, и немцы ничего не могли поделать. Не помогали ни обыски в рабочих домах, ни немецкие овчарки.
Однажды, перед пасхой, немцы намеревались отправить подарки своим войскам под Севастополь. Приготовленные к отправке вагоны с пасхами и крашеными яйцами не давали Ефремову покоя.
В пути на подъеме Анатровской ветки от состава вдруг оторвались три вагона и с большой скоростью по-катились назад, на станцию. Поднялся переполох. «Растерявшийся» Лаврйненко перевел стрелку на другой путь, где в это время шла погрузка войск и техники. Вагоны ударились о платформу с орудиями и разбились. Пасхи и яйца разлетелись в разные стороны. Покалечило несколько немецких солдат.
Началось следствие, но Ефремов, при помощи подставных свидетелей, отделался лишь штрафом в сто пятьдесят марок «за небрежное отношение к работе». Зато рабочие хорошо разговелись.
Однажды он сказал своим верным помощникам — Левицкому и Лаврйненко: «Довольно нам быть узкими специалистами. Пора другие профессии осваивать. Вот хотя бы песок или стеклянный порошок — полезный предмет в наших условиях, если его в буксы вагонов подсыпать».
Он связался и с некоторыми рабочими депо, которые начали портить паровозы: ломали смазочные трубки, клапаны, портили инжекторы, забрасывали металлические предметы в цилиндры.
У воинских эшелонов, выходящих со станции Симферополь, частенько стали загораться буксы вагонов, движение то и дело задерживалось, возникали аварии.
Прислали нового начальника станции, молодого немца, актера по профессии. За танцующую походку и кривляние рабочие прозвали его «Клоуном». Ничего не понимая в работе железнодорожного транспорта, но желая оградить себя от неприятностей, Клоун пустился на хитрость. Узнав, что Ефремов специалист, он вызвал его к себе.
— Назначаю вас начальником станции.
— Вместо вас? — удивился Ефремов.
— Нет, — брезгливо поморщился Клоун, — Об этом вам, русским, нужно забыть. Управлять будем мы, немцы.
— А что же я должен делать?
— Вы будете русский начальник.
— Что это значит?
— Это значит, — Клоун надменна растягивал слова, — что формировать, отправлять и принимать поезда буду я, а вы будете следить за работой русских рабочих и отвечать за них.
Ефремов согласился и приступил к исполнению обязанностей «русского начальника станции».
Прежде всего ему нужно было окружить себя надежными людьми. При разборе конфликтов с русскими рабочими — этим занимался сам Клоун — большое значение имел переводчик. На должность переводчика Ефремов устроил старого советского педагога железнодорожной школы Надежду Семеновну Усову, патриотку из «Мусиной» группы.
В кладовщики Ефремов взял своего хорошего знакомого, члена партии Андрея Андреевича Брайера, тихого и незаметного старика, которому удалось скрыть от немцев свою партийность.
«Муся» рассказала мне, что на этой же станции Ефремов встретился с девушкой, которая стала потом его женой.
15 июля из Бахчисарайского лагеря военнопленных с группой моряков бежала участвовавшая в обороне Севастополя медсестра зенитного полка комсомолка Люда. Отец Люды двадцать пять лет работал помощником машиниста на Симферопольской железной дороге. Он был уже инвалидом и не вставал с постели.
Не имея документов, Люда некоторое время скрывалась у своих родителей. Но нужно было где-то работать; ей посоветовали устроиться на железную дорогу — предприятие оборонного значения, по крайней мере в Германию не угонят.
Люда пошла к русскому начальнику станции, рассчитывая встретить пожилого человека из «бывших», и была поражена, когда увидела Ефремова.
«Меня прямо зло взяло! — рассказывала она потом. — Такой молодой, как будто симпатичный, воспитан советской властью, а служит немцам».
Ефремов спросил девушку, что ей нужно.
— Какую-нибудь работу.
— Откуда вы?
Люда посмотрела на него вызывающе:
— Из Севастополя.
— Документы есть?
— Никаких.
Ефремов все понял, и Люда начала работать переписчицей. Она получила удостоверение о работе, а затем и временный немецкий паспорт.
Люду тронуло отношение Ефремова, но она попрежнему не могла примириться с его ролью и как-то раз даже сказала ему:
— Как вы можете служить немцам?
— Неужели вы думаете, — помолчав, ответил Ефремов, — что я, у которого немцы расстреляли жену, буду честно на них работать?
Люда поверила ему. Они сначала подружились, а потом стали мужем и женой.
Люда помогала мужу в его опасной работе.
Ефремов целыми днями ходил по станции, якобы наблюдая за русскими рабочими, и упорно не замечал, как те часами просиживали в укромных уголках за разговорами, курением, всячески уклоняясь от работы.
Ефремов установил связь с врачом железнодорожной поликлиники. Вскоре невыходы на работу «по болезни» приняли такой массовый характер, что Клоун приказал геем больным до поликлиники проходить «освидетельствование» у него.
Тогда Ефремов стал ежедневно в два часа дня являться к Клоуну и передавал ему письменное донесение о том, что «все на работе и больных нет».
Большую помощь оказывала Ефремову переводчица Усова. По его указаниям она старалась переводить объяснения рабочих как можно запутанней. После долгих и утомительных разбирательств Клоун, ничего не понимавший в работе транспорта, вынужден был соглашаться с доводами Ефремова, и виновные вместо тюрьмы отделывались штрафом.
Однажды Ефремов сказал Усовой, что можно было бы наделать немцам больше неприятностей, но нечем действовать. А как связаться с партизанами, он не знает.
Усова сообщила об этом Александре Андреевне Волошиновой. «Муся» очень заинтересовалась Ефремовым и назначила ему свидание.
От «Муси» Ефремов вернулся домой довольный и веселый.
— Нашел, что искал! — сказал он жене, выкладывая на стол четыре магнитные мины. — Замечательная женщина! Сразу предложила организовать на станции диверсионную группу. Дала эти четыре штучки и обещала еще, сколько потребуется. Такая постановка вопроса мне нравятся.
Начали думать, куда девать Магнитки. Ефремов прятал мины в диван, в шифоньер, в сундук, в кладовку, но тут же вынимал обратно — все места казались ненадежными.
— Самое надежное — здесь, засмеялся он и положил мины под свою подушку.
Спал он неспокойно. Встал рано утром, положил мины в портфель и понес на квартиру к теще. Там снял с окна подоконник, выдолбил под ним отверстие, уложил мины и поставил подоконник на старое место.
Придя на работу, Ефремов начертил план станции, и Люда отнесла его Александре Андреевне.
В тот же вечер Ефремов позвал к себе домой Левицкого и Лавриненко.
— Есть хорошие новости! — Он усадил их за стол. — До сих пор мы только покусывали немцев, а теперь можем рвать их на части. — И показал им мину. — Вот эта штучка очень хорошо прилипает к вашим вагонам. Нужно только выбрать эшелон с боеприпасами. Через три часа получится красивое зрелище.
— Неужели от такой маленькой штучки может взорваться весь эшелон? — спросил Левицкий, разглядывая мину.
— Сама мина дает сравнительно небольшой взрыв, но от нее взрываются снаряды, вспыхивает горючее.
— Куда лучше ее закладывать?
— А вот давайте подумаем. Если положить в хвост, немцы могут отцепить горящие вагоны и угнать остальной состав. Такая же история может получиться, если заложить мину в головной вагон. По-моему, надежнее всего закладывать на каждый состав по две мины: одну — в голову, другую — в середину состава. Начнутся взрывы в середине, загорится и хвост, а отцепить они не успеют. Прилеплять мины к вагону тоже не совсем надежно. Какой осмотрщик попадется, а то могут и заметить. Лучше залезть в вагон и положить мины прямо в боеприпасы.
Они условились о сигналах во время операций. Тогда же, по совету «Муси», Ефремов установил клички: сам он — «Хрен», Лавриненко — «Кошка», Левицкий — «Мотя».
«Хрен» дал товарищам карбидный фонарик, две мины и показал, как с ними обращаться.
1 ноября вечером на станции готовили к отправке большой состав с боеприпасами. «Кошка» и «Мотя» работали уже вместе в ночной смене, следили за погрузкой снарядов и авиабомб. «Хрен» вышел из своего кабинета, обошел эшелон и, проходя мимо «Кошки», шепнул:
— Дело хлебное. Валяйте!
— Штучки под ватником, — кивнул тот.
«Хрен» ушел. «Кошка» и «Мотя», крутясь около эшелона, выжидали удобный момент. Часовой немец прошел мимо них к паровозу, «Кошка» нырнул под эшелон, быстро взобрался с другой стороны в люк вагона, зарядил мину и заложил ее между ящиками со снарядами. Он ждал сигнала, чтобы вылезти, но получилась задержка. Дежуривший «Мотя», услышав шаги часового, стал ближе к поезду и навел фонарь в глаза немцу, показывая, что тут железнодорожники. Осматривая будто бы путь, «Мотя» два раза стукнул по рельсу. Это означало: «Опасно, не шуми».
Немец подошел к «Моте» и вместе с ним стал осматривать путь.
— Гут, гут! — произнес «Мотя», показывая на рельсы.
— Я воль, яволь, гут! — закивал немец и прошел дальше.
Когда шаги затихли, «Мотя» стукнул три раза: «Спокойно, можно вылезать».
Они перешли к головному вагону. Таким же способом «Кошка» заложил в снаряды и вторую мину.
«Хрен» очень нервничал. Он ходил в своем кабинете из угла в угол. Вошел «Кошка» и доложил, что все сделано.
Стали с нетерпением ждать отправления поезда. Прошел час, другой, а поезд все стоит. «Хрен» волновался: «Чорт возьми! Если мины взорвутся на станции, немцы сразу бросятся искать диверсантов».
Прошло еще несколько томительных минут. Наконец эшелон тронулся на север, к Перекопу. «Хрен» облегченно вздохнул и не спеша пошел домой. Ночь была тихая, теплая.
— Сегодня не будем спать — что-то должно произойти, — сказал он Люде.
Они вышли на балкон. Очень медленно ползло время… И вдруг раздался оглушительный взрыв. За ним другой, третий. Стекла в окнах зазвенели. На горизонте вспыхнуло зарево: Взрывы не смолкали в течение трех часов.
Утром в кабинет к «Хрену» пришел «Кошка».
— Наша грохнула на станции Кара-Кият! — сияя от радости, шепнул он и бросился целовать «Хрена».
— Все в порядке, и пьяных нет, — ответил «Хрен» своей любимой поговоркой. — А где «Мотя»?
— Ночью его отправили с вспомогательным поездом на место взрыва. Дежурный немец метался, как очумелый. «Партизан, партизан! — кричит. — Аллес капут!»
К Ефремову заглянул один из служащих:
— Слышали ночью канонаду?
— Нет, я спал, — спокойно ответил тот.
— Что вы! Как можно было спать! Говорят, красный десант выброшен в Сарабузе. — И он выбежал из кабинета, «по секрету» сообщая о десанте всем встречным.
К вечеру вернулся «Мотя» и рассказал, что работал на расчистке путей. Взрывами уничтожен весь эшелон, разрушена станция Кара-Кият, путь испорчен и движение остановлено. С главной линией придется повозиться не меньше недели. Немцы очень взволнованы, а русские рабочие посмеиваются.
На следующий же день «Кошка» удачно заложил, две мины в состав с бензином. Но погода была холодная, мины своевременно не взорвались, состав ушел на Перекоп, и результат действия этих мин установить не удалось.
12 ноября «Кошка» и «Мотя» минировали вагон с кислородными баллонами и горючим. Взрыв произошел в Джанкое на месте выгрузки. Вагон сгорел.
14 ноября подложили мину в вагон с патронами. На перегоне Богемка — Воинка вагон взорвался. Два соседних вагона с продовольствием сгорели.
16 ноября «Кошка» минировал состав с горючим. Сгорели восемь вагонов с бензином.
В ту же ночь «Кошка» и «Мотя» заложили вторую мину в вагон с крупнокалиберными снарядами. Но на станции Сейтлер на этот же эшелон сбросил бомбы наш самолет, и диверсантам не удалось установить, от их мины или от авиабомбы сгорел состав.
17 ноября на перегоне Каранкут — Джанкой взлетел на воздух состав с боеприпасами. Было уничтожено 27 вагонов, убито 10 и ранено 18 немцев и румын. Движение прервалось на двенадцать часов.
В местах, где происходили аварии, немцы тотчас арестовывали много русских. Но составы взрывались на глазах самих немцев, зачастую днем, и невиновность людей, случайно оказавшихся на месте аварии, была совершенно очевидной.
Тогда немцы пустились на хитрость. Они начали формировать эшелоны с боеприпасами скрытно от русских. Формировали «комбинированные» составы: два-три вагона с незначительным грузом и два-три с боеприпасами, несколько вагонов пустых, четыре-пять со снарядами.
«Хрен» и его помощники быстро разобрались, в чем дело, но теперь для взрыва эшелона требовалось больше мин.
При встречах со мной «Муся» волновалась и жаловалась:
— Группа «Хрена» опять бездействует, нет мин. Понимаете, нет мин!
Я как мог «нажимал» на подпольный центр, но мин из леса присылали все-таки недостаточно. Мне приходилось делить мины между тремя диверсионными группами: «Саввы» — в Сарабузе, Васи Бабия — в Симферополе и группой «Хрена» — на железной дороге.
Самым важным был участок «Хрена». Поэтому я выделял ему мины в первую очередь.
Глава тринадцатая
Работа моя постепенно налаживалась. В подпольные группы вступали новые советские патриоты, с их помощью мы подобрали хорошие конспиративные квартиры и подготовили помещение для радиостанции.
Ольгу Шевченко я назначил своей связной по Симферополю и Сарабузу, Евгения Лазарева — «Нина» — помогала мне по организационно-политической работе, муж «Муси», Иван Михайлович Волошинов, научился прекрасно подделывать паспорта и другие документы для подпольщиков.
Наша организация и численно очень выросла. Уже действовали патриотические группы на станции Симферополь, в симферопольском паровозном депо, на хлебозаводе, на обувной фабрике, на заводе «Трудовой Октябрь», в типографии, в управлении связи, в городском театре, в строительной конторе, на Водоканале, в больнице, тубдиспансере, при детском доме, при транспортной гужевой конторе, на станции Сарабуз, на аэродроме, в деревнях Азат, Ново-Андреевка и Кичкине.
Всеми средствами я пытался разыскать старика Беленкова, по кличке «Ланцов», которого Владимир Семенович оставил в Симферополе для подпольной работы.
Через «Нину» мне удалось узнать, что немцы всех душевнобольных уничтожили в душегубках, а в больнице разместилась немецкая воинская часть. О судьбе старика-сторожа никто ничего не знал.
В связи с ростом подпольной организации и развертыванием агитационной, разведывательной и диверсионной работы появилась необходимость создать на месте руководящий партийный орган. По моему предложению областным подпольным центром был утвержден городской подпольный комитет ВКП(б): я — секретарь, Евгения Лазарева — моя заместительница по организационно-политической работе. Я просил лес дать мне заместителя по военно-диверсионному делу. Пока его не было, руководил работой я сам, а «Костя» помогал мне в хранении боеприпасов и оружия.
Для связи и непосредственного руководства деятельностью патриотических групп мы назначили ответственных организаторов горкома. Ответственными организаторами утвердили: Волошинову — «Мусю», Сергея Шевченко — «Савву», Семена Филипповича Бокуна, Василия Брезицкого — «Штепселя», Павла Топалоза — «Дядю Юру», Василия Григорьева — «Фунель» и Степана Васильевича Урадова — «Луку».
Кроме Урадова, все ответственные организаторы были беспартийные, но каждый из них хотел быть в партии и не раз просил меня об этом. Просьбу этих патриотов, в том числе и Виктора Кирилловича Ефремова и членов комсомольского подпольного комитета, мы удовлетворили. В нашем протоколе о каждом из них записано коротко: «„Мусю“ принять в ряды партии с трехмесячным кандидатским стажем. Просить обком утвердить».
За каждым ответственным организатором мы закрепили патриотические группы, которые были лично им созданы. В обязанность ответственных организаторов входило держать постоянную связь с руководителями групп, информировать их о текущих событиях и решениях горкома, снабжать их литературой, оружием, взрывчатыми веществами, получать от них разведданные. Мы особо оговорили в решении, что разведкой обязан заниматься каждый член подпольной организации.
Всем подпольщикам решили дать клички. Я как секретарь горкома устанавливал клички членам горкома, ответственным организаторам и товарищам, имеющим непосредственную связь со мной. Ответственные организаторы установили клички руководителям патриотических групп, а последние — членам своей группы.
Патриотическая группа объединяла три-пять человек. Члены группы, как правило, не знали друг друга и знакомились лишь при совместном выполнении какого-нибудь задания.
Для укрепления дисциплины, повышения ответственности и более тесного сплочения патриотических групп вокруг горкома партии было решено, что каждый подпольщик должен дать клятву. Мы приняли текст клятвы молодежной организации, но на первом же заседании горкома я подчеркнул недопустимость подписывания клятвы настоящей фамилией подпольщика.
Установили, что клятвы будут приниматься в индивидуальном порядке и они должны быть пронумерованы и подписаны кличками. Каждый подпольщик, давший клятву, обязан запомнить свой номер.
Руководителей групп обязали в двухнедельный срок оформить принятие клятвы всеми подпольщиками, составить списки по кличкам с указанием, кому какой номер клятвы присвоен, и сдать их горкому.
Перед принятием клятвы руководители групп должны были тщательно проверить каждого подпольщика, чтобы отсеять всех трусов, болтунов и сомнительных людей.
Меня предупредили, что гестапо подсылает к советским людям своих агентов под видом «представителей» из леса, от штаба партизан.
Ничего неожиданного в этом не было. Сумел же какой-то провокатор добраться до самого штаба партизан, когда я был еще в лесу, и чуть не увел меня к себе на «конспиративную» квартиру.
Мы предупредили всех, чтобы без указания горкома никаких «представителей из леса» не принимать и в разговоры с ними не вступать.
Прием новых членов в подпольную организацию мы строго ограничили, отбирая только тех, кто проявил себя в борьбе с немцами.
Город мы разбили на районы, к каждому району прикрепили патриотическую группу. Чтобы шире информировать население о положении на фронтах, решили организовать два новых пункта для приема сводок Совинформбюро — в Сарабузе и в Симферополе, и каждые три дня выпускать сокращенные, переписанные от руки сводки Совинформбюро для ответственных организаторов и руководителей патриотических групп.
Еще до моего прихода в Симферополь комсомольская организация выпускала листовки «Вести с Родины». Подпольный центр прислал нам небольшой типографский станок. Мы увеличили тираж до тысячи экземпляров, и листовки выходили не реже одного раза в десять Дней.
Через ответственных организаторов групп я старался передать каждому подпольщику чисто практические навыки конспирации: как именно следует выполнять та или иное задание, как, предупреждая об опасности, использовать условные знаки — занавески, цветы на окнах и т. д.
Я больше всего тревожился за молодежь. С легкой руки «Кости» ребята часто шли на ненужный и опасный риск.
Вот, например, выпустили листовку. Всего целесообразней расклеить ее на местах, где реже бывают немцы и где листовку сможет прочесть большое количество советских людей. Но «Костя» любил блеснуть своим молодечеством и с риском для себя расклеивал листовки там, где они, по существу, приносили наименьшую пользу, — на дверях гестапо, в полицейских участках. Однажды ребята умудрились забросить «Вести с Родины» в кабинет самого градоначальника.
Это было очень смело, но зачастую немцы узнавали о появлении листовки раньше, чем советские люди, и, разъяренные, бросались на розыски подпольщиков.
Горком партии предупредил «Костю» и Хохлова о том, чтобы ребята не слонялись зря по городу, и запретил им устраивать вечеринки, не имевшие отношения к нашей работе.
«Костя» был очень недоволен «вмешательствам» горкома в дела молодежной организации, но, к сожалению, очень скоро мои опасения подтвердились: 7 декабря у комсомольцев произошел крупный провал.
Накануне Борис Хохлов вместе с «Костей» были у меня. Мы обсуждали план работы молодежной организации на декабрь. Наметили несколько диверсий, в том числе взрыв боеприпасов в совхозе «Красный». Я передал «Косте» написанную мною листовку о зверствах немцев в Крыму и просил срочно ее отпечатать.
Листовка эта была написана вот по какому поводу.
Обычно немцы избегали открыто говорить о партизанах, скрывали их подрывную работу и старались убедить мирное население в том, что партизаны уничтожены. Но с ноября 1943 года партизаны настолько чувствительно стали беспокоить немецкое командование, что гестапо пришлось развернуть в печати широкую пропаганду, призывая население к активной борьбе с партизанами и обещая предателям высокую награду.
Чтобы озлобить румын против партизан, немцы устроили гнусную провокацию.
С вещевого склада на Салгирной улице, где работали штрафные румыны, несколько человек было отправлено якобы на прочес леса. Вскоре этих румын привезли убитыми, с выколотыми глазами, отрезанными носами и губами. Обезображенные трупы немцы выставили на обозрение как доказательство «партизанских зверств» и выпустили соответствующее воззвание по всем городам Крыма.
Об этом-то мы и решили написать в листовке.
«Костя» ушел раньше, а мы с Борей еще долго разговаривали. Помню, в этот вечер я велел ему прекратить прием комсомольских членских взносов; до сего времени он сам ежемесячно принимал их и расписывался в комсомольских билетах. Мы договорились об установлении кличек всем членам молодежной организации, условились встретиться через два дня, когда. «Павлик» вернется с почтой из леса.
О том, что случилось в эту ночь, я узнал от матери Бориса — Софьи Васильевны Хохловой.
Вечером Ваня Нечипас принес к ним на квартиру крупный шрифт для заголовков к листовкам. Мать знала о подпольной работе сына. Она спрятала шрифт. Борис после ужина запер дверь и написал отчет о работе комсомольской организации, чтобы с очередной почтой отправить его в лес.
В комнате было тепло. Софье Васильевне посчастливилось раздобыть угля на целых три дня. Горела коптилка. Перед сном Боря достал маленькую книжечку в красной обложке.
— Послушай, мама, я почитаю тебе о настоящих героях.
— Почитай, сынок.
Борис прочел ей о боевых делах «Молодой гвардии» в Краснодоне.
— Видишь, мама, какие бывают настоящие комсомольцы! Пытали их страшными пытками. Все погибли, но изменниками родины не стали. Мы тоже будем бороться, как Олег и его товарищи.
— Это правильно, Боря, — мать прослезилась, — но я не хочу, чтобы вас постигла такая же страшная участь.
— Не бойся, мама, мы связаны с лесом. В случае опасности — уйдем к партизанам.
Боря долго разговаривал с матерью, мечтал, как с приходом Красной Армии уйдет на фронт добивать фашистов, а после войны будет учиться.
Он лег поздно ночью.
Софья Васильевна, как всегда, осмотрела ящики стола, вынула принесенный Нечипасом шрифт, разные записи Бори, взяла со стола брошюру о краснодонцах. Спрятала все это в старый валенок и засунула его под свою кровать. Потом прилегла, не раздеваясь, но заснуть не могла: судьба краснодонцев ее очень разволновала.
Она встала, осторожно подошла к сыну. Он улыбнулся:
— Спи, мама.
— Ты ведь тоже не спишь. — Мать подсела к нему на кровать. — У меня сердце болит. А вдруг с вами случится то же, что с теми комсомольцами?
— Ой, мама! Что ты заладила: «случится, случится»! Ничего с нами не будет, все у нас хорошо. Я уж тебе говорил: в случае чего — уйдем в лес.
— А если не успеете?
— Успеем, — уверенно ответил Боря. — Разбуди меня пораньше. Мне нужно пойти в одно место, а когда вернусь, будем завтракать.
Софья Васильевна легла. Чтобы не волновать сына, она притворилась спящей, но заснуть так и не смогла. Все прислушивалась.
Наконец в щель ставни пробилась серая полоска рассвета. Софья Васильевна встала и принялась за уборку комнаты.
Вдруг она услышала тяжелый топот на лестнице и в коридоре. Сердце у нее сильно заколотилось.
Постучали. Она открыла дверь и оцепенела: немцы. Они ворвались в комнату.
— Где Хохлов? — крикнул один по-русски, размахивая пистолетом.
Боря зашевелился и открыл глаза.
Немец бросился к Борису, сорвал с него одеяло и схватил за кисть правой руки, видимо опасаясь вооруженного сопротивления.
Но у Бори ничего не было. Немец взглянул под подушку, под матрац, под кровать.
— Быстро одевайся, — приказал он Борису и вместе с другими гестаповцами начал обыскивать комнату.
Выбросили вещи из шифоньера, сундука, из ящиков, но на валенок под кроватью Софьи Васильевны не обратили внимания.
Борис хотел снять с вешалки пальто. Один из немцев оттолкнул его, схватил пальто, вывернул карманы, прощупал подкладку и только тогда бросил его Борису.
Софья Васильевна выбежала за ними в коридор. Окруженный немцами, Борис спускался по лестнице. Он обернулся к матери, улыбнулся и спокойно сказал ей:
— Ничего, мама, ничего…
Мать бросилась в комнату, надела башмаки, выскочила на улицу. Около дома уже никого не было.
Об аресте Бориса я узнал в тот же день от «Кости».
Я старый подпольщик, много в жизни пережил, но не могу описать, как мне было тяжело, как невыносимо было думать, что вот сейчас, в эту минуту, совсем недалеко от меня мучается под пыткой этот чудесный, жизнерадостный мальчик.
В тот же день я узнал, что провалы в молодежной организации продолжаются.
Утром крытый грузовик остановился около дома Лиды Трофименко, о которой с таким восторгом всегда рассказывал Борис.
Из машины вылезли гестаповцы. Четверо остались охранять выход, трое вошли в дом.
Лиды Трофименко, к счастью, не было дома. В этот день она ушла на работу раньше обычного. Дома была ее мать и две младшие сестры.
— Лида здесь живет? — спросил один из гестаповцев.
— Да, — кивнула мать, — но ее нет. Она ушла на работу.
— А кто это? — гестаповец указал на девушек.
— Это мои младшие дочки.
— Которую из них зовут Зоей?
— Зои у нас в семье нет.
— А может, есть Зоя? Вспомните! — немец испытующе глядел на девушек и на мать.
Мать Лиды хорошо знала комсомолок-подпольщиц Зою Рухадзе и Зою Жильцову, но ответила твердо:
— Такой я не знаю.
— Вот как? И Лиды нет. И Зои не знаете. Заберите их! — приказал гестаповец солдату, показав на девушек. — А где Лида работает?
— Где-то на главной улице. Где точно — не знаю, — сквозь слезы ответила мать.
Гестаповцы сделали обыск, ничего не нашли, забрали девушек и уехали.
Как только немцы скрылись, мать, не помня себя от горя, побежала на работу к Лиде. Она вызвала ее в коридор и передала, что сестры арестованы.
Лида бросилась к своему столу. В ящике вместе с казенными бумагами у нее была спрятана карта с обозначением дороги в лес и несколько записок с разведданными, полученными от членов группы. Все это она бросила в горящую печь.
Зашла в кабинет к заведующему:
— Разрешите мне уйти. Пришла мать, дома что-то случилось.
— Сколько времени тебе нужно?
— Часа два.
Начальник разрешил.
Лида с матерью едва успели дойти до угла, как у подъезда учреждения остановилась машина, из нее вышли двое гестаповцев в форме.
По дороге мать рассказала, что немцы ищут какую-то Зою.
На всякий случай они решили предупредить и Рухадзе и Жильцову.
Договорились, что Лида будет пока у Шуры Цурюпа — дальней родственницы Жени Островской, через которую ребята связались, когда-то с Гришей Гузием.
Зоя Жильцова работала на обувной фабрике. Лида пошла к ней. У Зои был порок сердца и туберкулез горла. Ей было нетрудно отпроситься в больницу, и вместе с Лидой она пошла предупреждать Хохлова.
На дверях Хохловых висел замок. Девушки пошли в садик, посидели немного, пришли второй раз и опять увидели замок. Зоя стала ругаться: когда нужно, ребят никогда не бывает дома!
Прошлись по улице, опять заглянули к Борису — замок. Из соседней квартиры вышла Софья Васильевна. По ее лицу Лида сразу поняла: случилось несчастье.
Софья Васильевна привела девушек в комнату соседки и, обливаясь слезами, рассказала им об аресте Бори.
Вскоре пришел Женя Семняков. Он должен был вместе с Борисом пойти к «Косте» набирать листовку. Не дождавшись Бориса, он пошел узнать, что случилось.
Семняков старался сохранить внешнее спокойствие. На вопрос Софьи Васильевны, что делать, он ответил:
— Не падайте духом. Нужно подождать. А девушкам сказал:
— Часов в одиннадцать подойдите к театру. Там встретимся и решим, что делать дальше. Сюда больше не приходите. Может быть слежка за квартирой.
Женя Семняков пошел к «Косте», а Лида с Зоей — к Шуре Цурюпа.
Скоро к Цурюпе пришла и Зоя Рухадзе с торбой сухарей.
— Скорее уходите в лес, — сказала Зоя. — Вот вам сухари на дорогу. У меня пока спокойно, но на всякий случай дома ночевать не буду.
Она попрощалась с подругами и пошла предупредить остальных подпольщиков.
Домик Шуры стоял в глубине двора. Из окна был виден весь двор. Шура затопила плиту, поставила чайник и, взяв топор, вышла наколоть дров. Зоя Жильцова тоже вышла из домика, она хотела обойти всех членов своей группы.
Вдруг Шура увидела, что в ворота входят несколько немцев. Один, в кожаной куртке, начал что-то расспрашивать у женщины, развешивающей белье.
— Подожди! — остановила подругу Шура.
Но Зоя решила не задерживаться. Она не спеша пошла навстречу немцам, не обращая внимания на их подозрительные взгляды, спокойно миновала их и вышла на улицу.
Шура же быстро вернулась домой, дала знак Лиде Трофименко сидеть тихо, заперла снаружи комнату на замок, а сама бросилась к соседке, жившей в другой половине домика:
— Тетя Поля, я посижу у вас, а вы возьмите мои дрова, как будто вы их нарубили и носите.
Тетя Поля догадалась — происходит что-то неладное. Она выбежала во двор, схватила в охапку дрова и, растерявшись, начала метаться с ними по двору: то положит, то опять возьмет.
Немцы со старостой двора подошли к квартире Шуры и, увидев замок, остановились.
— Где Шура? — спросил у тети Поли немец в кожаной куртке.
— На работе.
— А где ее брат Владимир?
— Он уехал в деревню. Женился там; недавно прислал матери письмо.
Немец подозрительно посмотрел на дрова.
— Кто тут только что дрова рубил?
— Я, — сказала тетя Поля.
— А где вы живете?
— Вот тут, рядом.
— Почему же здесь дрова рубите?
— Я договорилась, что буду рубить дрова на их колоде. У меня ни колоды, ни топора нет.
Немец в кожаной куртке подошел к двери, взялся за замок и начал его крутить.
Запертая в комнате Лида Трофименко, притаившись у окна, все видела. Она стояла ни жива ни мертва.
Подошли соседи. Они не понимали, что случилось: дом на замке, а из трубы валит дым. Переглядываясь между собой, они молчали. «Кожаная куртка» покрутил, покрутил замок и отошел от двери. В это время во двор вошла член подпольной молодежной организации Тамара Галанина с укрывавшимся у нее военнопленным. Они не заметили немецкую машину, стоявшую на улице в стороне. Увидев немцев, девушка поняла, что наскочила на гестаповцев, и решила итти напрямик. Вместе с военнопленным прошла она мимо немцев в глубь двора. Те остановились и стали пристально следить за ними. Тамара со своим спутником уже подходила к квартире Шуры, когда раздался тихий голос тети Поли:
— Тикайте через забор!
Молодой человек быстро перескочил через забор в соседний двор, за ним и Тамара.
Немцы всполошились. Они бросились вдогонку, подняли стрельбу, однако никого не поймали. «Кожаная куртка» начал громко кричать на собравшихся во дворе людей:
— Как вы допустили? На ваших глазах партизаны удрали!
Те начали оправдываться, что это люди-де незнакомые. Гестаповцы, пригрозив расправой, ушли со двора.
Шура, наблюдавшая в окно за бегством Тамары, решила, что ей с Лидой нужно спасаться тем же путем.
И когда тетя Поля, вбежав в квартиру, предупредила Шуру, что немцы ушли, та выскочила во двор и раскрыла окно своей комнаты:
— Лида, вылезай, бежим!
Та выпрыгнула через окно во двор. Шура, закрыв окно, ловко перескочила через забор в соседний двор. Лида за ней. Обе девушки благополучно скрылись.
Ночь они провели у знакомых в разных домах.
«Костя» объяснил провал ребят случайными причинами: Борис Хохлов и Лида Трофименко не соблюдали конспирации.
— У Лиды была вечеринка. Был и Борис. Ребята подвыпили, пели советские песни, провозглашали тосты. Ну, ясно, кто-то подслушал и донес. Гестаповцы пришли только к тем, кто был на этой вечеринке. Дивчата очень болтливы: ведь провалились только члены группы Лиды Трофименко…
Не верилось мне, чтобы это было правдой. И Боря Хохлов и Лида как раз были очень выдержанные ребята. Я решил проверить слова «Кости», но сейчас необходимо было выяснить, кого, кроме явно провалившихся, нужно еще спасать.
— Кого ты считаешь в опасности? — спросил я «Костю».
— Всех членов комитета, поскольку арестованные их знают.
В числе других комсомольцев, которых нужно было увести в лес, «Костя» назвал Шамиля Семирханова. Я насторожился.
— Это сын тех самых Семирхановых, которые замешаны в предательстве семьи Долетовых?
— Шамиль не может отвечать за отца, — сказал «Костя», — он наш парень.
Спорить было некогда.
— Собери всех, кто находится под ударом, и завтра же уходите в лес. Будьте там до выяснения обстановки, — приказал я. — Типографию и радиоприемник пока забазируйте в надежном месте. Кто из молодежной организации остается для связи со мной?
— Вася Бабий. Если мне нельзя будет скоро вернуться, «Павлик» свяжет вас с ним.
8 декабря вечером были отправлены в лес Лида Трофименко, Шура Цурюпа и их матери, «Костя», Женя Семняков, Подскребов и еще несколько человек, в том числе и Шамиль Семирханов.
Я послал подпольному центру разведданные, полученные от «Муси», «Хрена», «Саввы» и других подпольщиков, а также подробное письмо о политической обстановке в городе и о положении в подпольной организации.
На всякий случай Вася Бабий перешел на другую квартиру и жил там без прописки.
Провал молодежной организации, как и провал «Серго», не затронул подпольных патриотических групп, связанных со мной. Но эти провалы насторожили гестаповцев и осложнили нашу работу.
Поскольку Борис бывал у меня, а «Костя» предполагал, что за Хохловым следили, я должен был принять меры предосторожности.
Я решил уйти от Лазаревых. Это нужно было сделать еще и потому, что «Нину» утвердили членом горкома ВКП(б). Находиться в одной квартире было нецелесообразно.
С помощью Ольги Шевченко я перебрался к Анне Трофимовне Наумовой, у которой раньше прятался Подскребов, в большой трехэтажный дом железнодорожников на улице Карла Либкнехта, 33.
Так же как и у Филиппыча, перед уходом от Лазаревых я уничтожил следы своего пребывания. Смыл фиктивную прописку в домовой книге. Лазарева сказала хозяйке дома, что я ушел в деревню к своей заболевшей дочери. Сколько там пробуду — неизвестно, а поэтому она решила пока меня не прописывать.
— Нет ли на вашей улице разрушенного дома? — спросил я у «Нины».
— Зачем он вам?
—. Чтобы вписать в паспорт вместо вашего. Это нужно, если поинтересуются, откуда я переехал к Анне Трофимовне.
Такой дом нашелся. Я подробно расспросил «Нину» о его жильцах и поставил номер его в своем паспорте.
Анна Трофимовна приняла меня очень приветливо и не раздумывая согласилась на мою нелегальную прописку. Она была старостой этого дома. Домовая книга находилась у нее.
Квартира оказалась очень удобной. Второй этаж, из окон видны ворота и весь двор.
Я поселился в одной комнате с племянником Анны Трофимовны. Ваня был комсомольцем.
Он оказался хорошим товарищем, вступил в члены подпольной организации и деятельно мне помогал. Работая техником в «бюро трудовой повинности» городской управы, Ваня мог свободно ходить по городу, знал, где у немцев доты, дзоты и другие укрепления, и информировал об этом меня. Он же доставал для подпольщиков справки о работе в «бюро трудовой повинности».
В комнате, где когда-то скрывался Подскребов, я устроил свою мастерскую — стекольную и по ремонту всякой домашней посуды. «Нина» достала мне официальное удостоверение от артели «Зеркальщик», где говорилось, что я стекольщик и работаю от этой артели на дому. Я снова начал отпускать бороду, оделся в свою рабочую одежду, сделал ящик для инструментов с двойным дном и с этим ящиком ходил по городу, пряча в нем секретные документы.
Поселившись у Анны Трофимовны, я первым долгом осмотрел всю квартиру. К своему удивлению, я обнаружил за зеркалом два комсомольских билета: Вани и погибшего сына Анны Трофимовны. Порывшись в столе, нашел дневник этого мальчика, в котором тот весьма откровенно отзывался о немцах.
Судя по дневнику, это был хороший комсомолец. Я спросил Анну Трофимовну, как погиб ее сын.
Спокойное, добродушное лицо Анны Трофимовны перекосилось от ненависти.
— Он ехал на велосипеде, — сказала она. — Навстречу немец-шофер вел грузовую машину. Сын ехал правильно, правой стороной, но немец нарочно стал прижимать его к краю дороги. Сын сначала не понял, а когда ему уже некуда было податься, он не успел соскочить с велосипеда, и грузовик проехал прямо по нему.
Только теперь, глядя на Анну Трофимовну, я до конца понял, почему эта женщина охотно скрывала Подскребова, прячет теперь меня и почему Ольга Шевченко всем доверяет.
Но что бы ни делал я, чем бы ни занимался, мысль о Боре Хохлове меня не оставляла: «Как спасти его?»
От Софьи Васильевны мы узнали, что Бориса посадили в гестапо, на Студенческую, 12, где погиб Сеня Кусакин.
Софья Васильевна несколько раз ходила туда, пытаясь добиться свидания. Подкупала ту же переводчицу, которой давали взятку, когда арестовали Сеню Кусакина. Сначала переводчица говорила матери, что ведется следствие и поэтому передачи запрещены. А через две недели заявила, что Борис отправлен в Германию, и велела Хохловой больше не приходить.
У Софьи Васильевны подкосились ноги: ведь матери Сени Кусакина ответили так же!
Но месяца через два после ареста Бориса к Софье Васильевне пришла незнакомая женщина и шопотом спросила, Хохлова ли она.
— Да, Хохлова.
— У вас сын арестован?
— Да.
— Он сейчас сидит на Луговой вместе с моим мужем и братом, — сказала женщина. — Мне вчера удалось через окно поговорить с мужем. Он велел передать, что сын ваш очень плох. Пойдемте туда вместе, может вам удастся хоть поговорить с сыном.
В тот же день обе женщины пошли на Луговую. Они крадучись подошли к тюрьме. Окна почти доверху были забиты досками. Когда часовой скрылся за углом, они подбежали к одному из окон. Провожатая Софьи Васильевны вполголоса окликнула своего мужа и сказала, что пришла Хохлова.
И вдруг Софья Васильевна ясно услышала слабый голос Бориса:
— Мама, ты здесь? Ты слышишь меня?
— Слышу, сынок, слышу, милый! — Хохлова заплакала.
В этот момент во дворе тюрьмы раздался яростный лай собак. Женщина схватила Софью Васильевну за руку. Та не хотела уходить. Женщина испуганно шепнула:
— Нельзя, нельзя, стрелять будут, бить их будут.
Софья Васильевна побежала за женщиной. Когда лай утих, она опять подошла к окну и окликнула Бориса.
— Мама, ты еще здесь? — отозвался Борис.
— Да, сыночек, здесь.
— Уходи скорее, потом…
В тюрьме внезапно началась какая-то возня, потом стало тихо, а спустя некоторое время бешено зарычали и залаяли собаки во дворе.
Когда мне рассказали об этом, у меня волосы стали дыбом. Гестаповский застенок на Луговой слыл одним из самых страшных. Здесь применялись самые изощренные пытки. Последнее время — я имел точные сведения — широко практиковалась травля заключенных голодными овчарками, которые загрызали людей насмерть.
Софья Васильевна каждый день ходила к тюремному окну, плакала, звала сына.
Бориса не было…
Глава четырнадцатая
Через несколько дней после ареста Бориса из леса вернулись «Костя» и «Павлик». Я получил письмо от подпольного центра. Павел Романович был очень встревожен провалом в молодежной организации и беспокоился за нас.
«Твое письмо и информацию получил, — писал он. — Печальна история с Борисом. Потеряли замечательного парня. Соблюдай строжайшую конспирацию, как мы с тобой говорили. Знакомься с людьми только после тщательной проверки, иначе все это может очень печально кончиться, с „Мусей“ связь держи, а с остальными, кто будет называть себя „представителями из леса“, без моей санкции категорически запрещаю связываться и принимать их. В городской комитет, кроме утвержденных, больше никого вводить нельзя и не будем. Никаких других комитетов в городе создавать не нужно. В данный период комитеты облегчают противнику нападать на следы наших организаций и раскрывать их.
Практические задачи остаются прежние. Рация для тебя прибудет, как только станет возможной посадка самолетов. Пока погода не позволяет. Мины пришлю в достаточном количестве, как только получу их с Большой земли. Литературу посылаю…»
— «Костя» хочет вас видеть, — сказала «Нина», передавая мне почту из леса.
— А у него все спокойно?
— Он сказал, все благополучно.
— Пусть подождет, — подумав, сказали. — Я сам его вызову.
Дело в том, что мою новую квартиру знали только трое: «Нина», Ольга и «Костя». За первых двоих я ручался, как за самого себя, обе были женщины серьезные, осмотрительные и дисциплинированные. Поведение же «Кости» меня очень тревожило. Он часто вел себя легкомысленно, с большим трудом привыкал к партийной дисциплине. В создавшейся же обстановке один неосторожный шаг мог погубить не только его, но и всех, с кем он был связан.
Еще до возвращения «Кости» из леса я поручил «Мусе» выяснить причины провала в молодежной организации. Ничего конкретного ей узнать не удалось. Однако выяснилось, что никакой вечеринки у Лиды Трофименко, как мне рассказывал «Костя», не было. Вечеринку устроили у Шамиля Семирханова. Кроме «Кости», никто из подпольщиков на ней не присутствовал. Вечеринка проходила довольно шумно, но ни один из ее участников арестован не был.
Услышав опять фамилию Семирханова, я поручил «Мусе» немедленно разузнать об этом парне все, что возможно.
Выяснилось, что после расстрела семьи Долетовых Шамиль носил костюм Николая Долетова. Фотоаппарат Николая Шамиль сам сдал в гестапо. У Шамиля был и пистолет, с которым он не боялся ходить по улицам, а дома держал его совершенно открыто.
«Теперь, пожалуй, даже лучше, — думал я, — что Шамиль Семирханов находится в лесу. Все, что нам известно, мы сообщим в лес, а там за ним будет легче проследить».
— Еще одну деталь мне удалось узнать, — сказала «Муся». — В главном управлении полиции работает переводчицей некая Лина. У нее много знакомых немецких офицеров, но кроме них, с ней «гуляет» какой-то Толя. Его фамилию мне выяснить не удалось. Проверьте, товарищ «Андрей», не из ваших ли ребят кто-нибудь и не использует ли его эта переводчица в провокационных целях.
Я никак не мог допустить, что речь идет о «Косте», но все же сообщение надо было проверить, и я вызвал «Костю» к себе.
Он пришел веселый и довольный удачным путешествием в лес. Я поговорил с ним о партизанах, а потом сразу спросил:
— Слушай, «Костя», что это за Лина, с которой ты гуляешь?
Он немного смутился.
— Хорошая дивчина.
— А ты знаешь, кто она?
Велико же было мое удивление, когда он ответил спокойно:
— Знаю. Она служит в главном управлении полиции. Но она наш человек, передает мне важные сведения.
— А именно?
— Она как-то предупредила меня, что обо мне знают в полиции.
— Как знают? — изумился я.
— Да как-то я гулял с ней, нас увидел какой-то полицейский чиновник и потом сказал ей: «Знаете, с кем вы гуляете? Это помощник партизан».
— И ты мне об этом ничего не сказал?
— Не говорил, но меры принял.
— Какие?
— Я теперь не хожу около полиции.
— Наивный же ты парень! — стараясь быть сдержанным, сказал я. — Неужели тебе непонятно, что раз о тебе известно полиции, ты ставишь под удар и себя и всю организацию? Немедленно прекрати связь с этой Линой.
— Ну что вы! — изумился «Костя» и, помолчав, добавил восторженно: — Если бы вы знали, какие у нее глаза!
В первый момент я просто не нашел что сказать. Но потом обычная сдержанность мне изменила, и у нас с «Костей» произошел очень крупный разговор. Он обещал исправиться, но вопрос о переводчице я все-таки поставил на обсуждение горкома, и мы официально потребовали, чтобы «Костя» порвал эту связь.
Не веря в его выдержку, я запретил ему приходить ко мне на квартиру.
К чести других членов молодежной организации надо сказать, что подобного легкомыслия и недисциплинированности не было ни у кого. Отлично работал «Павлик», мой связной с лесом, и руководитель диверсионной группы — скромный, энергичный Вася Бабий.
Вася и его ребята проявили в своей работе поистине блестящую изобретательность.
Однажды Бабий получил задание взорвать водокачку на станции Симферополь, чтобы лишить немцев воды для питания паровозов и тем самым задержать движение воинских эшелонов.
Нужны были мины, но мы не успели получить их из леса. Вася Бабий придумал, как выйти из положения.
Опасаясь возможной высадки наших десантов, немцы готовили к подрыву железнодорожные станции и минировали паровозы.
Вова Енджияк, близкий товарищ Васи Бабия, работал слесарем в депо и ухитрился стащить с паровоза мину. Этой миной ребята и собрались взорвать водокачку.
Толовые шашки у нас имелись, а бикфордова шнура нужной длины не было, но ребята связали вместе метровые куски, и шнур был готов.
От руководителей диверсионной группы я получал обычно короткое донесение: «Тогда-то теми-то сделано то-то и то-то. Задание выполнено». Но впоследствии диверсанты рассказывали мне подробности каждой операции.
Вечером 4 декабря, вооружившись пистолетами и карабином, Вася Бабий с Вовой Енджияком и Вовой Ланским вышли на выполнение задания.
Было морозно. Ярко светила луна. Недалеко от водокачки ребята часа три пролежали в саду, ожидая, когда луна скроется. Наконец тучи сгустились, стало темно. Бабий выслал Енджияка на разведку — проверить, нет ли около водокачки часового. Енджияк подполз к зданию, обошел водокачку. Снаружи охраны не было, но внутри водокачки слышались голоса.
Бабий решил действовать немедленно. Ребята поднялись по высокой лестнице. Вася потрогал дверь — заперта.
Вдруг оглушающе загудел паровоз. К станции подходил поезд. Бабий решил воспользоваться шумом. Под грохот колес и пыхтенье паровоза он постучал в дверь. Из-за двери спросили по-русски:
— Кто там?
— От дежурного депо, — ответил Бабий.
— Как фамилия?
Вопрос застал ребят врасплох, но медлить было нельзя.
— Трошин, — назвал Бабий первую попавшуюся фамилию.
— Кто?
— Оглох, что ли, трус несчастный! Открывай! — грозно крикнул Бабий и крепко выругался.
Это подействовало. Дверь открылась. Бабий вскочил внутрь водокачки, наставил пистолет на открывшего дверь рабочего:
— Руки вверх!
Подняв руки, рабочий изумленно глядел на Васю, вместе с которым работал на станции.
Тут только Вася вспомнил, что маска у него поднята на кепку. Он опустил ее на лицо. В дежурной комнате было пятеро русских рабочих, все знакомые ребятам Диверсанты связали им руки, приказали лечь на пол и перерезали телефон. Ланский остался караулить рабочих, а Бабий и Енджияк спустились в машинное отделение. Пока Бабий подкладывал под дизель мины и тол, Енджкяк побил карабином все приборы, порвал трубопроводы и привел в негодность машину. Когда был заложен тол и проведен бикфордов шнур, Бабий и Ланский вывели рабочих на улицу, приказали лечь на землю и молчать.
Оставшись в водокачке, Енджияк поджег шнур. Выйдя из здания, он запер дверь и далеко забросил ключ.
— Лежать смирно! — приказал рабочим Бабий. — Шум поднимете, когда произойдет взрыв.
— Будьте спокойны, — ответил один, — мы тоже русские.
Ребята отошли подальше и залегли, с нетерпением ожидая взрыва. А взрыва все не было.
— Ты хорошо подпалил? — спросил Бабий у Енджияка.
— Хорошо.
— В чем же дело?
— Чорт его знает! Может, отсырел шнур. Может, детонатор негодный…
Ребята ждали до двенадцати ночи. Взрыва не произошло. Подвел бикфордов шнур, связанный из кусков.
— Хорошо, что хоть поломали все приборы и машину, — утешал Бабия Енджияк. — Все-таки не сразу восстановят, повозятся.
Енджияк жил недалеко от станции, в Речном переулке, № 4. Ребята решили зайти к нему, спрятать оружие и переждать до утра. Чтобы не столкнуться с немецким патрулем, Енджияк вывел их на пустынную набережную реки Салгир. Они перелезли через забор и в темноте медленно пробирались вдоль стен.
Вдруг залаяла собака, открылась дверь, и сноп света неожиданно вырвался из дома. Маленькая пожилая женщина, стоя на пороге, всматривалась в глубину двора:
— Кто там?
Ребята замерли, прижавшись к забору, но Енджияк двинулся прямо к открытой двери. Бабий схватил его за ватник.
— Это свои, — спокойно сказал Енджияк, входя с карабином в руках в полосу света.
Тогда вышли и ребята. Женщина удивленно посмотрела на них, на карабин и тихо промолвила:
— Вот вы какие! Ну, заходите в дом.
Они вошли в маленькую комнату.
— Поздно гуляете, — улыбнулась женщина, плотнее прикрывая ставни.
— Ходили на одно дело, — Енджияк поставил карабин в угол и сел за стол. — Теперь возвращаемся домой.
Вася Бабий был поражен такой откровенностью друга. Еще удивительнее было то, что женщина не испугалась ребят. Она спокойно предложила им отдохнуть и, если нужно, спрятать у нее оружие.
— Когда будете ходить на такие ночные прогулки, — сказала она, — можете вполне располагать моим домом.
Выйдя из домика, Енджияк объяснил удивленному Бабию:
— Я хорошо знаю эту женщину и ее сына Бориса. Ее зовут Маргарита Александровна. Мы с Борисом учились в одной школе, а теперь вместе работаем в депо. Он ударяет за моей сестренкой Викториной. Я хочу его в нашу группу вовлечь.
— Ручаешься?
— Ручаюсь. Боевой парень. Я видел, как он поломанные винтовки таскал и прятал.
— Тогда можно. Только испытай его сначала.
Связанные рабочие пролежали до рассвета. Когда начало светать, они подняли крик. Сбежались немцы. Рабочие жаловались, что на водокачку напали двенадцать партизан, связали их, забили рты тряпками и пригрозили убить. Рабочих арестовали, долго допрашивали и выпустили. Они так и не выдали ребят.
Именно с этой ночи завязалось знакомство Бабия и его друзей с Маргаритой Александровной Ериговой. Старший сын и зять Ериговой были в Красной Армии, а младший сын, Борис, работал учеником слесаря в депо. Старик Еригов лежал тяжело больной, у дочери Лены был грудной ребенок.
И все-таки, несмотря на страх за семью, Маргарита Александровна уже давно искала связи с партизанами. Поэтому-то, встретившись так неожиданно с нашими диверсантами, она не только не испугалась их, но даже обрадовалась и была готова оказать им всяческую помощь.
Домик, в котором проживали Ериговы, принадлежал аптекоуправлению, где муж Маргариты Александровны работал сторожем. В большом дворе, заросшем сорной: травой, когда-то помещался аптечный склад; в полуразрушенных сараях были навалены ящики, бутылки, и в этом хламе можно было многое спрятать.
До сих пор ребята хранили взрывчатку за городом в противотанковом рву. Но это было неудобно: в ров можно пробраться только ночью, взрывчатка же могла понадобиться в любой момент. А самое главное — на глубоком снегу остаются заметные следы.
Диверсанты решили устроить у Ериговой базу хранения. Она охотно согласилась.
15 декабря я получил от подпольного центра десять магнитных мин, три автомата и два немецких поенных костюма. Четыре мины, автоматы и костюмы мы передали Бабию.
Выполняя постановление горкома, Вася намеревался приготовить немцам к рождеству хороший подарок — взорвать совхоз «Красный».
Вова Енджияк еще в ноябре обнаружил в этом совхозе большие склады боеприпасов, замаскированные в ямах, и сам произвел разведку. За вокзалом он поднялся на горку, сверху осмотрел хорошенько расположение ям и проволочных заграждений. Но, проверяя пути, по которым будет удобно пробраться в совхоз, наткнулся на патруль и еле ушел.
Вася Бабий назначил диверсию на 25 декабря и поручил провести ее Вове Енджияку и Анатолию Бассу — отважному и хладнокровному юноше, с которым сам не раз ходил на операции.
Но Анатолий, к несчастью, заболел. Он ходил с «Павликом» на встречу с Гришей Гузием, сильно простудился и теперь лежал в постели.
Вова Енджияк не стал говорить Бабию о болезни Басса, боясь, как бы тот не отложил диверсию, и решил вместо Басса взять в помощники сына Маргариты Александровны Ериговой — Бориса.
— Ну что, ночной путешественник? — встретила Еригова Вову, оглядывая его богатырскую фигуру, всклокоченные волосы и козырек кепки, загнутый вверх. — Христа славить пришел?
— Боря дома?
— Заболел что-то, спит.
Вова зашел в смежную комнату и затормошил Бориса.
— Слушай, — тихо сказал он, присаживаясь к нему на край койки: — хочешь быть членом нашей организации?
Тот открыл глаза и приподнялся с постели.
— Конечно, хочу.
— Есть. Собирайся.
— Куда?
— Прежде чем быть членом организации, ты должен пройти испытание.
— Какое?
— Любое, какое я тебе укажу. Согласен?
— Что за вопрос!
— Оружие имеется?
— Карабин есть, из винтовки сделал.
— А патроны?
— И патроны есть.
— Дельно! Как стемнеет, будь готов и жди меня.
— Куда пойдем?
— Куда поведу. Никому ни слова. Конспирация. Понял?
— Понял! — ответил Борис.
Через сад Вова убежал домой. В ящик стола он выложил свои документы. Принес из сарая три мины, восемь толовых шашек и наган. Боеприпасы он бережно сложил в противогазовую сумку. Наган внимательно осмотрел, смазал. Прицеливаясь из него, он несколько раз щелкнул курком.
В комнату вошла его сестра Викторина, шестнадцатилетняя девушка. Маленькая, стройная, с нежным розовым лицом, она походила на девочку лет двенадцати. Викторина тоже была членом молодежной организации, но работала лишь по распространению литературы. Увидев брата с наганом, она с любопытством спросила:
— Вовка, что это у тебя?
Вова шутя приставил к ее носу дуло нагана.
— Чувствуешь, чем пахнет? — И, спрятав наган под ватник, предупредил сестру: — Я ухожу. Матери скажи, что ночую у Бориса.
— Куда идешь?
— Завтра узнаешь.
Перекинув через плечо сумку с боеприпасами, он вышел, оставив свою сестру в недоумении.
Бориса он застал в боевой готовности, с карабином в руках, сгорающим от любопытства. Вова предупредил его, чтобы он с собой не брал никаких документов.
Около девяти часов вечера ребята отправились. Маргарита Александровна ни о чем не расспрашивала, только посоветовала быть поосторожней.
Падал мокрый снег. Ребята медленно пробирались по набережной, стараясь держаться поближе к заборам. Они подошли к мосту через Салгир. Часового нет. Перешли на другой берег. Услышали шаги. Отскочили в сторону, залегли. Пропустив патруль, ребята двинулись дальше и наткнулись на немецкую заставу. Ориентируясь по голосам немцев, они ползком пробрались мимо заставы и вышли в поле.
Вова Енджияк помнил, что где-то здесь должен быть овраг, но в темноте ничего не мог рассмотреть. Вдруг оба неожиданно свалились в этот самый овраг. Ребята ощупью пошли по оврагу и скоро услышали гудение проводов — железная дорога рядом.
Около деревни Жигулинки лай собак заставил их опись залечь. Когда лай затих, ребята снова вышли к Салгиру и перебрались через речку. В ботинках хлюпала вода. Пришлось разуться, выжать носки и вытереть внутри ботинки, чтобы не хлюпали.
Наконец ребята вплотную подошли к проволочным заграждениям вокруг территории совхоза. Пригнули проволоку, пролезли через нее и вошли в сад, где в ямах находились штабеля со снарядами и минами.
Было очень тихо, и тут-то случилось несчастье, которое могло погубить обоих: Борис простудился и начал кашлять. Это было до того не во-время, что Вова Енджияк стал ругаться, приказал ему зажать рот и терпеть. Но как Борис ни старался, ничего не выходило. Кашель душил его.
Послышался подозрительный шорох. Вова взвел курок нагана. Тревога оказалась напрасной: это всего-навсего журчал ручей. Пошли дальше. Вдруг в ночной тишине совсем рядом с Борисом прогремел выстрел. Вова упал. Упал и Борис. Они лежали, не дыша, считая, что все погибло. Но никто не показывался.
— Чорт возьми! — прошептал вдруг Вова.
— Ранен? — Борис ощупал его.
— Нет… Это же мой наган выстрелил.
Оказалось, что от нервного напряжения Вова незаметно нажал курок.
Борис вдруг начал громко хохотать.
— Молчи! — цыкнул на него Енджияк. — С ума сошёл!
— Да, хорош! Меня ругаешь за кашель, а сам…
Они лежали с полчаса, гадая, поднимут или не поднимут немцы тревогу. Однако случайный выстрел не привлек внимания празднично настроенных фрицев. Ребята поползли к штабелям. Несколько раз слышались шага, и они видели тени патрулей. Наконец они добрались до одной из ям со снарядами и увидели, что в яму проложены доски. Вова топотом предупредил Бориса:
— Осторожно. Спустимся по доскам. Я первый. Тихо.
И с грохотом он скатился к ящикам со снарядами. За ним слетел в яму и Борис. Доска, покрытая инеем, оказалась очень скользкой. Борис опять засмеялся.
— Молчи, чорт, убью! — шепнул Енджияк. — Связался я с тобой на погибель…
Вдруг послышались шаги. Ребята спрягались под доски и приготовили оружие. Подошли два немца, заглянули в яму, поговорили о чем-то и ушли.
Подождав немного, ребята начали работать. Они кинжалом раскрыли один из ящиков, заложили туда магнитку, три толовые шашки, аккуратно закрыли крышку и поставили ящик на место. Выбрались наверх. Рядом была вторая яма. Спустились туда. Тем же способом заложили вторую мину с толом. Енджияк дал Борису еще одну мину и послал его в третью яму, а сам остался «наводить порядок».
Через минуту-другую Вова услышал треск. Борис вскрывал ящик со снарядами. Выглянув из ямы, Енджияк увидел приближавшиеся фигуры и прижался к стенка под досками.
Так же как и в первый раз, солдаты заглянули и яму, постояли, поговорили, еще раз заглянули и ушли. Спасала темнота. Немцы не могли предположить, что при такой многочисленной охране кто-нибудь отважится пробраться к снарядам.
Вова Енджияк был решительным и хладнокровным парнем, но когда немцы заглянули к нему в яму и он ясно услышал их дыхание, он почти окаменел. Он даже не мог бы сказать, сколько прошло времени, когда услышал голос Бориса:
— Идем. Все в порядке.
Енджияк пришел в себя и подал Борису ящик с гранатами.
— Захватим. Пригодится.
Только к трем часам утра они добрались до дома Ериговых.
Маргарита Александровна, конечно, не спала. Она затопила плиту, стала сушить одежду ребят, спрятала их оружие и ящик с гранатами. Она понимала, что ребятами в эту ночь сделано что-то очень большое и опасное, и радовалась, что в этом деле участвовал ее сын.
Утром мне сообщили, что мины заложены и взрыв ожидается около трех часов дня.
Но назначенный срок прошел, а взрыва все не было.
В тот же день, когда стемнело, Толя, Вася Бабий и Ланский отправились на новую диверсию. Они вышли за город, к железной дороге, и, прячась от патрулей, километра два ползли по грязи и снегу вдоль полотна. Ждали эшелон, чтобы подложить под рельсы мину. Им не повезло: ни один поезд не прошел.
И вдруг в совхозе «Красный» взвился сноп огня и раздался оглушительный взрыв. Снаряды и мины рвались с такой силой, что до ребят долетели осколки. Позднее мы узнали: взорвались три штабеля — именно те, в которые были заложены магнитки.
Глава пятнадцатая
Перед принятием клятвы от подпольщиков мы провели тщательную проверку всех членов организации. Я установил, что есть люди неустойчивые и трусливые. Нашлись такие даже среди руководителей групп.
В деревне Кичкине, например, патриотической группой руководил некий Вахрушев, по кличке «Журавлев». В ноябре он сообщил нам, что наладил связь с Севастополем и может организовать взрыв в севастопольских доках. Через Васю-сапожника мы передали ему две мины. Однако оказалось, что надежной связи с Севастополем у Вахрушева не было. Мины долгое время валялись у него. Потом, с неизвестными нам колхозниками, Вахрушев отослал их в Сарабуз «Савве». Не предупрежденный, «Савва» принял колхозников за провокаторов и заявил, что если они немедленно не уберутся, он донесет о них в полицию. Напуганные колхозники поспешили скрыться. Мины пропали.
Выяснились и другие факты. В пьяном виде в компании случайных людей Вахрушев хвастался, что связан с партизанским штабом. Кроме того, он начал собирать среди патриотов пожертвования для партизан и собранные деньги присвоил.
Пришлось исключить Вахрушева из подпольной организации. Но исключать в условиях подполья — сложно и опасно. Я объяснил Васе-сапожнику и Филиппычу, которые были связаны с Вахрушевым, как нужно от него законспирироваться. Они сказали Вахрушеву, что связь с партизанами утеряли и больше в подполье работать не хотят: боятся рисковать. Вахрушев долго ходил к ним, называл обоих трусами, но товарищи свою роль выдержали и связи с ним не возобновили.
Другой случай произошел в деревне Азат, где у нас тоже имелась подпольная группа. Руководил этой группой член партии, бывший инструктор Симферопольского горкома ВКП(б) Сергей Ованесьян, работавший под кличкой «Сергей Азатский».
У одного из членов группы жандарм обнаружил бежавшего из лагеря военнопленного. Начались аресты. Жандармы пришли и за Ованесьяном. Его в это время не было дома. Они сказали жене, чтобы Ованесьян явился в полицию.
Группа Ованесьяна работала под непосредственным руководством «Саввы», который сейчас же сообщил мне с случившемся. Я дал указание, чтобы Ованесьян немедленно перебрался в Симферополь, а отсюда мы переправим его в лес.
Однако Ованесьян моих указаний не выполнил. Он явился в полицию и был арестован. Через некоторое время его освободили. Из организации он был исключен. Подпольщики законспирировались от него так же, как и от Вахрушева.
Были у нас люди, напуганные немецким террором, иногда проявлявшие малодушие. Таких людей мы не могли сразу отталкивать от себя. С ними приходилось работать. Часовщик «Валя», например, активно проявил себя в подпольной организации еще до моего прихода в Симферополь. У него бывали Гриша Гузий и Женя Островская. Для штаба партизан он собрал пишущую машинку, сообщал разведданные и выполнял много других заданий.
Но однажды, вызванный к Филиппычу за получением литературы, он почему-то струсил и на глазах Филиппыча начал бросать в горящую печь листовки и газеты, приговаривая: «Это гроб, пусть горит!» Филиппыч насилу успокоил его, но все же «Валя» в тот раз с собой литературы не взял, и она осталась у Филиппыча.
С «Валей» я был связан непосредственно. Жена и сын его были тоже членами подпольной организации. Мне пришлось основательно с ним поговорить, и в дальнейшем ничего подобного с ним не случалось.
Газет и листовок на русском, немецком, румынском, татарском языках подпольный центр присылал достаточно и наши патриотические группы успешно распространяли их среди населения и в воинских частях. Но диверсанты были недовольны: нехватало взрывчатых веществ. Однажды «Муся» пришла ко мне очень огорченная:
— «Хрен» меня опять выругал: «Давайте больше мин!» Он прямо бесится от досады. Вот, прочитайте его письмо подпольному центру. Нет, я вам сама прочту. Может быть, и мне немножко легче станет, если вас поругает.
Из потайного кармана палью она вытащила свернутый вчетверо тонкий листок бумаги, исписанный мелкими печатными буквами, надела пенсне и начала с выражением читать:
«Здравствуйте, дорогие товарищи!
В сегодняшней моей записке я хочу немножко быть серьезным и буду ругаться.
Нашему коллективу для выполнения заданий, которые связаны с жизнью человека, абсолютно не нравится ваша работа. Люди желают наносить врагу удар такой, чтобы он был действительно ощутителен. Этого вы не даете делать. А вы обязаны при всех обстоятельствах сделать это. И я не хочу слушать, что вы не можете прислать мне достаточное количество мин, и таких, какие нам нужны. Я несколько раз просил взрыватели с трехчасовой дистанцией, но получил их всего два, и этот капсюль дал огромный успех, о котором я вам уже сообщил…»
— Это взрыв на станции Кара-Кият? — спросил я. Муся кивнула.
«…Последнюю партию из четырех мин я получил с взрывателями шестичасовой дистанции. Я такой работой крайне недоволен. Нам нужны капсюли трехчасовые. С малой дистанцией капсюль делает свое дело в нашем районе, и мы сможем дать точные сведения, что сделано. А с большой дистанцией капсюля эшелоны уходят далеко, и узнать что-нибудь очень трудно. У всех капсюлей время их действия указано неправильно.
Трехчасовые часто приходят в действие только через шесть. О шести — и двенадцатичасовых и говорить нечего.
Вот, дорогие мои товарищи, прошу обратить внимание на вышеизложенное. Если не будут удовлетворены наши требования, буду еще больше ругаться».
— Видите, как он пишет! — сердито сказала «Муся», передавая мне письмо. — Пошлите его в лес. Напишите сами Павлу Романовичу и посерьезней. Без мин я прямо боюсь показываться «Хрену» на глаза.
Мне было очень тяжело это слышать, но что я мог сделать, если из леса опять прислали только десять мин.
— Ну, все? — спросил я «Мусю». — Или еще от себя будете ругаться?
— Пока все. Послушаю, что вы мне скажете.
— Давайте оборудуем здесь свои минный завод.
— Мне не до шуток. Я придумала кое-что. Я пробочником просверлила отверстие вдоль шашки, вставила в него детонатор с запальником и эту шашку вместе с простой толовой запаковала в консервную коробку. Испытала мину на тридцати бочках бензина на нашей улице. Взрыв произошел. Все бочки сгорели и стенку двора основательно разрушило.
— Ну вот, видите, как хорошо!
— Тол-то у меня есть, нет только запальников. Но «Хрен» не хочет мин моего изобретения и требует магниток.
— Ну, ладно. Сегодня у вас день удачный. Получите пять мин.
— Мало, дайте хоть десять. Ну, хоть восемь.
Я засмеялся, — только «Муся» умела так торговаться.
— Вы хотите, чтобы другие диверсанты меня побили?
— Зажимаете вы нас, — улыбаясь, вздохнула «Муся».
— А у меня для вас сюрприз, Александра Андреевна. Подпольным горкомом вы приняты в партию и утверждены ответственным организатором горкома.
— Вот это действительно радость! — Она встрепенулась и крепко пожала мне руку. — Передайте спасибо нашей партии за доверие.
— Передам обязательно. И «Хрену» скажите, что есть указание подпольного центра считать его членом партия с момента его работы в подполье.
— Как он будет рад!
Я ознакомил «Мусю» с решением горкома, принял от нее клятву. Александра Андреевна произнесла ее торжественно, дрожащим от волнения голосом.
— Это вы замечательно придумали, — говорила ежа, подписывая клятву. — Она поднимет дух у ребят на новые боевые дела.
На другой день рано утром «Нина», обложив себя литературой и клятвами, крепко обвязалась полотенцем, надела платье, пальто и стала похожа на беременную. В кошолку она положила мины, сверху закрыла их кукурузными кочанами и благополучно перенесла все это к «Мусе».
Иван Михайлович передал «Нине» несколько удостоверений и один паспорт, сделанные по моему заказу. Она спрятала их под кофту и тут же ушла.
А «Муся» собралась итти к «Хрену». Она потом подробно рассказывала мне свои приключения в этот день.
«Муся» поручила мужу раздать газеты и листовки руководителям групп, — сама она торопилась, чтобы застать «Хрена» дома, до ухода на работу.
Мины и клятвы для его группы она завернула в тряпку и уложила в «авоську» между картошкой и луком. Иван Михайлович, ежась и потирая руки от холода, внимательно следил за приготовлениями жены.
— Не опасно ли в сетке? — сказал он. — Может, в кошолке лучше?
— На «авоську» они меньше обращают внимания.
«Муся» подкрасила губы, расправила локоны и пошла.
Мокрый снег на тротуарах подмерз, было холодно и скользко. В туфлях на высоких каблуках, без калош, «Муся» шла тихо, боясь поскользнуться.
Чтобы лишний раз не встречаться с немцами, она свернула в переулок к Салгиру и пошла вдоль реки, но на Архивном мосту стоял жандарм в плаще и каско, с большой свастикой на груди.
Заметив жандарма, «Муся» выпрямилась и не спеша пошла к нему навстречу.
— Хальт! — жандарм поднял руку. — Документ.
«Муся» спокойно достала из сумочки паспорт и подала жандарму, прямо глядя в его холодные бесцветные глаза.
Тот перелистал паспорт, внимательно осмотрел печати, прописку, посмотрел на фотокарточку, на «Мусю» и нехотя вернул ей документ.
Она уже хотела итти, как вдруг жандарм неожиданно сорвал с ее головы шляпу и заглянул в нее — немцы почему-то считали, что русские женщины должны прятать листовки на голове. Не найдя ничего в шляпе, он заставил «Мусю» расстегнуть пальто и начал грубо обшаривать ее толстыми пальцами.
«Муся» не растерялась. Кокетливо улыбаясь, она широко расставила руки и, подняв их кверху вместе с «авоськой», поворачивалась перед жандармом, как бы желая облегчить ему обыск.
Видя такое безмятежное отношение женщины к обыску, жандарм успокоился. На крутившуюся около его лица «авоську» с минами он не обратил внимания, козырнул «Мусе» и отпустил ее.
«Муся» не спеша пошла дальше. Голова кружилась. Ей казалось, что она вот-вот потеряет сознание и упадет.
У дома «Хрена» она осторожно осмотрелась по сторонам, быстро вошла в подъезд, поднялась на второй этаж и постучала.
Открыла ей Люда, жена «Хрена». Александра Андреевна прошла мимо нее и в изнеможении опустилась на стул.
— Что с вами? — в один голос спросили «Хрен» и Люда, бросаясь к ней, а она сильно побледнела и на лбу выступили крупные, капли пота.
— Ничего, друзья мои, не волнуйтесь. Имела маленькую неприятность по дороге.
Немного успокоившись, она рассказала им о встрече с жандармом и передала «Хрену» сверток с минами и клятвами.
— Знаете, Александра Андреевна, — сказал «Хрен», проверяя мины и запальники, — откровенно говоря, у меня и у моих ребят тоже бывают такие моменты, когда нервы раскисают. Только пять штук? Мало, мало. Значит, не дошла до них моя ругань. А это что? — он взял клятвы.
«Муся» сказала, что есть указание горкома, чтобы все подпольщики дали клятвы. Нужно сделать это не откладывая. «Хрен» взял один листок с текстом клятвы, встал перед «Мусей» по-военному и четко произнес каждое слово.
— Ну как? — «Муся» заглянула «Хрену» в глаза.
— Сильно. Как раз то, что нужно. Подписать свою фамилию?
— Нет, подпишите своей кличкой и запомните номер — сорок восемь. А теперь давайте я вас поцелую — мы с вами приняты в партию.
— Вот здорово! А когда же дадут партбилет?
— Партбилеты мы с вами получим, когда выйдем из подполья.
— Ну, пусть они мне хоть номер сообщат! Обязательно пусть сообщат номер партбилета! — настаивал «Хрен». — А то я скоро отец семейства буду, а все комсомольцем считаюсь.
— Александра Андреевна, — сказала Люда, — разрешите и мне дать клятву.
Лицо Люды было в пятнах от волнения. Александра Андреевна испугалась. За короткое время их знакомства она полюбила Люду.
— Ты, Люда, успокойся. Тебе вредно так волноваться. — Александра Андреевна обняла ее.
— Ничего, ничего! — ласково сказал «Хрен». — Пусть поклянется за обоих — за себя и за будущего сына.
Люда тоже дала клятву, подписав ее кличкой «Катя».
— Как советуете организовать принятие клятвы от моих ребят? — спросил «Хрен».
— Сделайте так, чтобы они почувствовали всю ответственность этого акта. Трусов и колеблющихся нам не нужно. Клятву от них не принимайте.
Поговорив с «Хреном» и Людой о работе и о том, каким будет их сын, «Муся» ушла. «Хрен» спрятал две мины в портфель, а остальные отдал Люде, чтобы она отнесла их к своей матери.
Люда подвязала мины под живот и надела пальто.
— Здорово! — с восторгом воскликнул «Хрен», глядя на жену. — Сын еще не родился, а знает, что такое мины.
Они вместе вышли из дома.
— Будь осторожна, — сказал «Хрен», заботливо оглядывая Люду.
До нападения ребят на водокачку служащие проходили на станцию свободно, теперь же, после диверсии, при входе на территорию станции немцы проверяли удостоверения и пропуска. Для рабочих сделали специальную проходную, там их обыскивали.
В этих условиях стало очень опасно проносить мины. Кроме того, немцы теперь формировали воинские эшелоны секретно и сами быстро отправляли их. Поэтому мины нужно было всегда иметь под рукой.
«Хрен» решил, что кладовая станции, куда он в свое время устроил на работу старика Брайера, — самое подходящее место для хранения мин.
Кладовая стояла в стороне от здания станции, около путей, и немцы редко туда заглядывали.
«Хрен» зашел в маленькое помещение, заставленное карбидными фонарями, метелками, деревянными башмаками. Брайер был один и выписывал наряды.
— Ты, Андрей Андреевич, член партии? — обратился к нему «Хрен».
Тот молча поглаживал большую лысину.
— Я знаю, что ты коммунист. — «Хрен» достал из портфеля мины. — Поэтому ты должен спрятать вот эти штучки. Знаешь, что делается на станции и на перегонах?
Брайер кивнул.
— Так вот, все происходит от этих самых вещей. Ты должен их беречь и выдавать только по моему указанию.
Старик сунул мины под полку в разный хлам.
«Хрен» дал ему листок с текстом клятвы:
— Прочитай. Кличка твоя будет «Голубь». Подпиши клятву своей кличкой, запомни номер.
Старик прочитал, подписал и вернул клятву «Хрену».
— Держи все в строжайшей тайне, — предупредил «Хрен». — Если что случится. — ответишь. Меня не будет, останутся другие люди. Понял?
— Все понял.
«Хрен» сказал ему пароль, с которым будут приходить за минами, и пошел на станцию, насвистывая веселую песенку.
Вечером он пригласил к себе домой «Кошку», «Мотю» и Николая Соколова. Последний работал составителем поездов и давал ценные сведения о движении эшелонов.
Люда по-праздничному накрыла стол. Достала бутылку коньяку, закуску, пироги.
«Хрен» не сразу сказал друзьям, зачем позвал их.
Он прочитал им военный обзор газеты «Правда», показал портрет товарища Сталина в маршальской форме, рассказал, что в Красной Армии введены офицерские звания, погоны, объяснил, почему это сделано. Поговорили и о своей работе и о партизанах.
— Мы партизаны в городе. Пожалуй, нам труднее действовать, чем партизанам в лесу. Их там много, они среди своих, а мы тут работаем среди врагов. Кругом опасность. Все это вы знаете. Чтобы считаться настоящими подпольщиками, вы должны дать клятву.
— Разве ты нам не веришь? — удивился «Мотя».
— Я вам верю, иначе вы не были бы в моем доме. Но клятва подпольщика — все равно что присяга красноармейца. Она еще больше скрепит нас всех, сил прибавит. — «Хрен» дал каждому по листку. — Вот, прочитайте, подумайте и подпишите.
— Прочитай сам, — попросил «Кошка».
— Хорошо, слушайте. — И «Хрен» с воодушевлением, медленно, четко прочитал им клятву, особенно подчеркнув слова: «Если же по злому умыслу или трусости нарушу данную мною клятву, то пусть наказанием мне будет всеобщее презрение и смерть от руки моих товарищей». — Вы понимаете, что это значит?
— Понимаем.
— Ну, вот и хорошо. Скоро мы вместе встретим Красную Армию.
«Мотя» вздохнул:
— Уж скорее бы! Иной раз кажется, что и не дождемся такого дня.
— Дождемся! — уверенно сказал «Хрен».
Все трое подписали клятву, расцеловались.
На другой день «Кошка» и «Мотя» заложили две мины в эшелон с боеприпасами. Взрыв произошел на станции Ислам-Терек, и состав из пятнадцати вагонов был уничтожен. Две мины они заложили в цистерны с бензином, но состав ушел далеко, и о результатах ничего не удалось узнать.
В эти же дни партизаны сожгли станцию Альма (около Симферополя), взорвали пути и устроили большое крушение.
Другая группа партизан напала на станцию Шакул. Станцию сожгли и немецкого начальника станции убили.
Диверсии на железной дороге вызвали среди немцев большой переполох. В симферопольском депо немцы сами отремонтировали бронеплощадку с двумя вращающимися пушками и несколькими пулеметами. Эта бронеплощадка стала курсировать в составе поездов между Альмой и Симферополем. Контроль за рабочими и служащими усилился. На вокзале расставили часовых, установили проверку документов во время работы, при каждом русском машинисте поставили немца-наблюдателя.
Все это значительно осложнило работу «Хрена». Мы получили сведения, что и за ним началась слежка. Это обстоятельство заставило его временно притихнуть.
— «Хрен» временно прекратил работу, — сказала мне «Муся», — но вы не волнуйтесь. Они уже готовятся к новому делу, давайте только мины. Прошу вас, напишите «Хрену» небольшое письмо, похвалите его осторожность в деле, но напомните, что каждый пропущенный на фронт эшелон с боеприпасами — преступление. Осторожность необходима, но… мы не можем не действовать. Правда?
Опасения «Муси» за своего помощника оказались напрасными. «Хрен» тут же откликнулся на наше письмо.
«Решил ждать до тех пор, пока немного успокоится. Но если будет момент, когда удастся нанести большой урон немецкой армии, я не пожалею своей жизни. Сообщите, приняты ли в ряды ВКП(б) мои помощники? Если да, то сообщите номера партбилетов, у кого какой номер, поставьте первую букву фамилии и номер, а здесь я сам разберу и сообщу своим товарищам. Если меня арестуют, то вы, дорогие товарищи, можете быть спокойны — я буду большевиком до самой смерти».
— В случае опасности помогите их перебросить к партизанам, — сказала «Муся», прочитав мне письмо.
— Сделаем немедленно. Если нужно будет, и вас отправим в лес.
— Обо мне не беспокойтесь. Я не уйду отсюда. Знакомых у меня много, укроют.
Заботясь о товарищах и всячески оберегая их, «Муся» и слушать не хотела о мерах предосторожности по отношению к себе и всегда весело отшучивалась. Несмотря на опасный случай при встрече с жандармом, самые опасные задания она старалась выполнять сама, ссылаясь на то, что все ее люди якобы перегружены, а она уже имеет хороший практический опыт. Мины она тоже продолжала переносить сама в «авоське».
Раньше немцы избегали открыто говорить о партизанах, скрывали их подрывную работу и старались убедить население, что партизаны уничтожены. Но с ноябри 1943 года они развернули широкую агитацию в печати за активную борьбу против партизан, обещая предателям высокую награду. Немцы стали даже проводить собрания населения, стремясь восстановить его против партизан.
Одно из таких собраний было созвано 12 декабря в симферопольском театре, где с докладом на тему «Современное положение» выступил немецкий доктор Маурах.
По городу за несколько дней были развешаны афиши. На предприятиях, в учреждениях и школах за неявку на собрание угрожали наказанием.
Народу набралось немало. Первые ряды занимали руководители немецких учреждений, члены управы, работники полиции.
Остальные места были заполнены «слушателями поневоле», согнанными с разных предприятий и домов. Среди них были и наши разведчики.
Когда Маурах говорил о партизанах, кто-то не выдержал и крикнул:
— Это ложь!
Полицейские поспешно убрали этого человека из театра.
Говоря об успехах немцев, докладчик сказал:
— Доблестная германская армия потеряла на полях сражения четыреста тысяч своих солдат и офицеров…
Слова эти были встречены взрывом аплодисментов. Растерянный председатель зазвонил в колокольчик. Аплодисменты усилились, и председателе возмущенно замахал руками, крича:
— Тише! Не в этом месте нужно аплодировать!
Вдруг в театре потух свет. Докладчик крикнул:
— Господа! По старому русскому обычаю дадим клятву верности Германии.
В зале раздались недовольные возгласы:
— Что это за старый русский обычай?!
Маурах продолжал кричать:
— Повторяйте за мной: «Клянусь в верности германской армии…»
В тон ему кто-то ответил:
— Клянусь в верности Красной Армии…
Поднялась невообразимая суматоха. Замелькали карманные фонарики полицейских. Немцы окружили здание театра. Когда появился свет, началась проверка присутствующих. Она продолжалась до утра. Несколько человек было арестовано и отправлено в гестапо.
Позорный провал этого собрания не помешал фашистской газете «Голос Крыма» поместить восторженный отчет о докладе доктора Маураха.
23 декабря рано утром ко мне пришла Ольга. По ее мрачному лицу я понял: что-то случилось.
— Неприятная новость, — сказала она. — На станцию прибыл большой эшелон с войсками. При выгрузке один румынский солдат сказал железнодорожнику, что их перебрасывают сюда с фронта против партизан. Румын просил предупредить об этом партизан, чтобы они подготовились.
Я усомнился:
— Это болтовня. Не так много у них войск, чтобы перебрасывать их в тыл.
— Не знаю. Этот румын сказал, что был в плену у партизан. Его угостили вином и отпустили.
— Вот это уже интересно. Такой случай был. Сейчас же иди к «Нине» и скажи, чтобы она и «Муся» проверили сообщение этого румына. Если немцы действительно задумали серьезный прочес, нужно немедленно предупредить штаб.
— Еще «Савва» просил передать вам, что за последнюю неделю прибыло на транспортных самолетах около восьми тысяч румын. Немцы им говорят, что Крым будет румынской колонией, поэтому румыны должны навести здесь порядок, и в первую очередь надо уничтожить партизан.
Мы поставили на ноги всех подпольщиков. Полученные от них сведения подтвердили сообщение румына. Немцы действительно готовились к большому прочесу лесов.
Наиболее полные данные прислала мне «Муся».
«В течение 23 и 24 и в ночь на 25 декабря непрерывно шли войска в Симферополь и его пригородные районы, — писала она, — Состав следующий: пехота, вооруженная винтовками, автоматами, артиллерия, малокалиберные горные пушки, зенитные орудия. Прибыли автомехчасти: двести машин, конный обоз — четыреста подвод. Части переброшены с Керченского направления и с Перекопа. Остановка на отдых — пять дней. Расквартированы в городе и окрестностях — Бахчи-Эли, совхоз „Красный“ и др. Через пять дней солдаты будут направлены в лес. Их задача — окружить, в случае необходимости поджечь лес и полностью уничтожить партизан.
Часть румынских солдат готова сдаться в план и перейти к партизанам. Но есть довольно много гадов, которые будут беспощадны. Один говорит: „Мы обещали, что каждый из нас уничтожит не менее пяти партизан. Кто уничтожит до двадцати, немедленно получит отпуск и денежную награду“.
О партизанах немцы говорят как о разбойниках, у которых скрыты в лесу большие богатства; если румынские солдаты хотят разбогатеть, пусть уничтожат партизан и возьмут их добро.
С румынами мы говорили мало. Но и сейчас ясно, что нападение готовится жестокое.
Немцы будут помогать наземным частям с воздуха бомбежкой и разбрызгиванием зажигательных веществ.
Войска хорошо снабжены боеприпасами и продовольствием. На вокзал и в городские склады поступило много продуктов, особенно сливочного масла».
«Нина» тоже получила сведения, что германское командование направляет против партизан около трех дивизий. Немцы собираются применить газы.
Я составил подробное донесение подпольному центру и в тот же вечер отправил его в лес, вместе с донесениями «Муси» и других подпольщиков.
На другой день «Павлик» вернулся в город и доложил, что нашу почту благополучно передал Грише Гузию.
Глава шестнадцатая
Наши разведданные подтвердились. В конце декабря немецкое командование начало генеральное наступление на партизан.
Симферополь и его окрестности были забиты немецкими, румынскими войсками и техникой. Здесь же сосредоточивались карательные отряды, состоявшие преимущественно из татар.
В ночь на 27 декабря войска, поддержанные танками, артиллерией и минометами, двинулись из города на окружение и прочес Зуйских лесов, где находилось Северное партизанское соединение, выросшее из бригады Лугового.
Войска получили продовольствие на четыре дня с расчетом быстро покончить с партизанами и новый, 1944 год встретить в спокойной обстановке, с богатыми трофеями и наградами.
Насколько серьезно немецко-румынское командование было занято подготовкой к этой операции, видно из информационного сообщения, появившегося в газете «Голос Крыма».
«За несколько дней перед Новым годом, — говорилось в этом сообщении, — германские и румынские войска начали решительную крупную операцию по уничтожению бандитских отрядов, прячущихся в лесах и горах Крыма. По тщательно разработанному плану были созданы необходимые силы по окружению банд в лесах Крыма. Эта операция должна была кончиться окончательным разгромом бандитских отрядов в наиболее крупных местах их сосредоточения возле Яманташ — „Злого камня“. Со стороны германских и румынских войск приняли участие бомбардировочная и разведывательная авиация, танки, артиллерия и минометы».
Что же заставило немцев после долгого молчания открыто заговорить о партизанах в Крыму и бросить против них свои отборные части, оттянув их с фронта?
В середине марта 1944 года я снова попал в штаб партизан и собрал подробные сведения об этом наступлении немцев, получившем название «Большой прочес». Вот они.
Когда Красная Армия вступила на крымскую землю, немцы начали принудительную эвакуацию населения, в первую очередь из прифронтовых и прилесных районов.
Спасаясь от немцев, жители стали перекочевывать в леса под защиту партизан. Первый почин сделала деревня Перевальная.
29 октября немецкий комендант на общинном собрании объявил о срочной эвакуации. «В шесть часов утра все жители должны явиться на базарную площадь», гласил приказ. Народ молча разошелся по домам. Колхозники стали спешно готовиться к уходу к партизанам. Прятали и закапывали в землю зерно и вещи. У кого сохранились лошади, налаживали дроги, резали птицу и скот. Откапывали припрятанное оружие и приводили его в порядок.
В деревне Перевальная существовала подпольная патриотическая группа, возглавляемая колхозницей Екатериной Ивановной Халилеенко. Группа имела связь с партизанами и получила указание от штаба — в критический момент уходить в лес. Подпольщики назначили время и место сбора всех желающих уйти в лес. Передали об этом в окрестные села. Забрали с немецкого склада и закопали общинное зерно.
Когда стемнело, из домов начали выходить люди с детьми, с мешками, выводили лошадей, коров. Окольными переулками, обходя румынские заставы, колхозники подошли к лесу и остановились на опушке.
Туда же прибыли жители деревень Чавке, Барановка, Кзыл-Коба и других, где немцы тоже объявили об эвакуации. Шли сотни людей всех возрастов, скрипели подводы, за подводами на привязи шли коровы.
Когда народ подтянулся, тронулись дальше. Погода была сырая, с гор текли ручьи, дети зябли, плакали. Но люди шли всю ночь и, наконец, добрались до партизанской заставы.
Скрывать такую массу людей в лесу было трудно, а маневрировать с ними совершенно невозможно. Но что поделаешь! Поскольку люди пришли под защиту партизан, не отправлять же их обратно! Командование устроило беженцам радушную встречу.
Из боеспособных был создан семнадцатый партизанский отряд под командованием старого партизана, старшего лейтенанта Октября Козина. Для женщин, детей и стариков организовали гражданский лагерь, поместив его недалеко от отряда в более безопасное место. Построили шалаши, землянки. Колхозники избрали сельский совет, председателем которого стала руководительница подпольной группы Екатерина Ивановна Халилеенко. Сельсовет следил за порядком в гражданском лагере, организовал быт, женщины стирали и шили белье и одежду для партизан и готовили им пищу.
Обеспечение лагеря продуктами и охрана его от врага возлагались на отряд, сформированный из жителей данного села.
Вскоре за Перевальной в лес пришли жители деревень Заречное, Эффендикой, Фриденталь, Барановка, совхоза «Красная Роза» со скотом и скарбом. Потом появились колхозники степных районов — из деревень Ударнее, Конгал Зуйского района, Чонглав Биюк-Онларского района. От этих деревень до леса было около пятидесяти километров. Люди двигались по ночам проселочными степными дорогами. Никогда еще не было такого массового переселения людей в крымские леса.
Бригада Лугового до ноября 1943 года насчитывала около двухсот бойцов. Потом она превратилась в Северное соединение в составе трех бригад численностью более двух тысяч человек. Командиром соединения был назначен Павел Романович, а начальником политотдела — Луговой. Федор Иванович Федоренко командовал уже бригадой в составе четырех отрядов.
Организовались Восточное и Южное соединения из такого же примерно количества бойцов, как и Северное соединение. Всего в лесах Крыма в то время оказалось около шести тысяч партизан и более десяти тысяч гражданского населения.
Немцы пытались помешать уходу населения в лес. 13 ноября в деревни Барановка и Петрово прибыл карательный отряд на десяти автомашинах, с тремя танками. Тогда на помощь населению двинулись партизаны.
Второй отряд под командованием лейтенанта Сороки неожиданно напал на карателей и разгромил их. Партизаны подбили один танк, а второй, исправный, захватили вместе с двумя пулеметами Шкода и большим количеством патронов. С партизанами ушло в лес все население этих деревень.
Федор Иванович Федоренко напал на немцев в деревне Толбуш. После короткого боя противник бежал, оставив много трупов солдат и офицеров. Партизаны захватили тридцать винтовок, два пулемета, двадцать повозок, тридцать девять лошадей и без потерь вернулись в лагерь.
8 ноября в честь двадцать шестой годовщины Октябрьской революции семнадцатый и двадцатый отряды под командованием Козина совершили ночной налет на румынский гарнизон в деревне Чавке. У некоторых бойцов еще не было оружия. Не желая отставать от товарищей, они шли в бой с кольями, ножами. После двухчасового боя партизаны уничтожили семьдесят румын и семерых захватили в плен, взорвали крупный склад с боеприпасами, склад с взрывчатыми веществами, предназначенными для подрыва Аянского водохранилища, захватили восемнадцать винтовок, один пулемет, десять тысяч патронов, восемьдесят гранат и тридцать лошадей.
Теперь все были вооружены. Через два дня семнадцатый отряд под командованием командира шестой бригады Свиридова ночью напал на гарнизон румын в деревне Перевальная. Противник бежал, оставив на поле боя пятьдесят восемь трупов. Молодые партизаны захватили в плен тринадцать румын, взяли три пулемета, двадцать три винтовки, два автомата, восемь подвод с продовольствием и другим военным имуществом.
В течение ноября первая, пятая и шестая бригады Северного соединения провели тридцать шесть боевых операций и налетов на гарнизоны и коммуникации противника.
Партизаны разгромили все немецкие гарнизоны от Карасубазара до Симферополя и полностью закрыли движение по шоссе Алушта — Симферополь.
Немцы были вынуждены подтянуть к прилесным селам крупные части регулярных войск. В селениях, расположенных по Алуштинскому шоссе, были выставлены гарнизоны первой горно-стрелковой дивизии под командованием генерала Рамкану, в деревнях по Феодосийскому шоссе — части второй горно-стрелковой дивизии под командованием генерала Димитриу. Основная задача этих дивизий заключалась в охране шоссейных дорог и блокировке леса.
Но партизаны не прекращали активной борьбы.
В ночь на 9 декабря отряды под командованием Федоренко истребили в Зуе двести солдат и офицеров врага. Партизаны разбили и сожгли девятнадцать автомашин, взорвали склад горючего и склад оружия, разгромили районную комендатуру и штаб. Захватили трофеи: три станковых пулемета, шесть ручных пулеметов, тринадцать винтовок, сто сорок пять пар обуви, обмундирование, штабные печати и документы.
Готовясь к «решительному наступлению на партизан», немцы начали сжигать все деревни прилесных районов. В середине декабря запылали деревни Перевальная, Чавке, Лесноселье, Бура, Ново-Ивановка, Джафар-Берды, Усеин-Аджи, Нижне-Ивановка, Кзыл-Коба, Барановка, Улу-Узень, Фриденталь, Красногорское, Верхние Фундуклы, Розенталь, Эффендикой, Советское, Александровка, Аргин, Чардавлы, Ени-Сарай, Конрад, Кайнауд, Межгорье, Кара-Коба и другие.
Уничтожение деревень сопровождалось грабежами и дикой расправой с оставшимся в них населением. Деревню Межгорье немцы подвергли ожесточенной бомбардировке с самолетов. Оставшиеся в селе три семьи были заживо сожжены в своих домах. В деревне Фриденталь из шестидесяти пяти дворов не уцелел ни один. Рассвирепевшие каратели заживо сожгли там тридцать четыре человека — женщин, детей и больных. Чудом спаслись семнадцатилетняя девушка Нина Скопина и семидесятипятилетний старик Федор Григорьевич Калмыков, которых потом выручили партизаны.
Третий отряд Северного соединения, располагавшийся около посадочной площадки транспортных самолетов, охранял и обслуживал аэродром.
К 27 декабря в отряде скопилось до ста человек раненых, больных и женщин с детьми, ожидавших отправки на Большую землю.
Погода стояла холодная, сырая. Падал снег. Грязная талая вода заливала подстилки тяжело раненых.
Многие из них мерзли уже по нескольку дней. С наступлением темноты они при помощи бойцов перебирались на аэродром и под открытым небом до утра ждали самолетов. Заслышав знакомый гул, партизаны разводили большие костры, но из-за плохой видимости летчики не замечали опознавательных знаков. Сделав несколько кругов над лесом, самолеты улетали.
Под утро раненых и больных снова переносили в лагерь до следующей ночи.
Пятнадцатые сутки ждала отправки симферопольская подпольщица Екатерина Лазоркина с четырнадцатилетним сыном Виктором.
В октябре 1943 года, в связи с угрозой ареста, она вместе с мужем Алексеем и сыном Виктором была переправлена из Симферополя в лес. Алексей стал бойцом, Екатерина — кухаркой, а Виктор — связным штаба отряда.
Алексей Лазоркин — родной брат Марии Лазоркиной, которая связывала меня с «Серго».
В начале декабря Екатерина заболела и получила разрешение эвакуироваться с сыном на Большую землю.
За весь декабрь на партизанский аэродром смогли приземлиться только два «Дугласа». С первым самолетом отправили лишь тяжело раненых. Второй «Дуглас» из-за плохой видимости налетел на скалу, разбился и требовал серьезного ремонта.
27 декабря, утром, когда раненые и больные еще не успели отдохнуть и обогреться после ночного путешествия на аэродром, недалеко от них вдруг затрещали автоматы и пулеметы, загремели орудийные выстрелы, над лесом появились вражеские самолеты.
Командир отряда приказал всем, кто должен был быть отправлен на Большую землю, спуститься вниз. Раненые, больные, женщины с детьми перебрались в ближайшую балку и спрятались под деревьями.
Стрельба усиливалась. Завязался бой. Противнику кое-где удалось сбить партизанские заставы и углубиться в лес по направлению к аэродрому. Командир отряда дал второй приказ: раненым и больным немедленно уходить на Яманташ.
Надо было пройти пять километров под разрывами снарядов по грязи и снегу, по крутым горным тропам. Способные передвигаться шли сами, других вели под руки, некоторых несли на плащ-палатках.
На горе Яманташ находился штаб Северного соединения. В пещерах и под скалами размещался гражданский лагерь. Там же приютились и люди, прибывшие с аэродрома, замерзшие, измученные тяжелой дорогой. Вместе с ранеными устроилась под скалой и Екатерина с сыном.
Бой затих. На следующий день на партизанских заставах было спокойно. В гражданском лагере разрешили со всеми предосторожностями развести костры. Народ обогрелся и повеселел.
«Значит, враг откатился», слышались уверенные голоса.
Давно облетели листья — друзья партизан. Оголенный лес давал возможность теперь врагу с самолетов легко обнаруживать партизанские стоянки и в особенности гражданские лагери и скот. Но люди, пришедшие сюда под защиту партизан, знали, что в отрядах их мужья, отцы и братья заботятся о них, оберегают от врага, и это успокаивало и ободряло их. Шалаши замаскированы листьями. Под скалами, в углублениях, горят костры. Вокруг огня на корточках сидят женщины, дети, раненые, греются, просушивают одежду, обувь, пекут картошку, лепешки, в котелках варят кашу, галушки, кипятят воду в ведрах и завтракают.
Появление партизан из отрядов, пришедших повидаться с родными и перекусить, приковывает внимание всех. Их засыпают вопросами: «Ну как? Что там? Кого ранило? Кто убит? Где находится враг?»
Люди серьезны, насторожены. В любой момент над лагерем может появиться вражеский самолет, сбросить бомбы и застрочить из пулемета. Нужно быть наготове, чтобы успеть во-время затушить костры и укрыться.
В лагере много детишек, но не слышно звонкого детского смеха. Дети не по возрасту серьезны и молчаливы. Перед глазами этих малышей мелькают ужасные картины расправы карателей в селах, бомбежки, пожары.
У одного из костров Екатерина увидела девочку лет четырех и спросила, где ее мама.
— Нету. Немцы убили, — серьезно ответила девочка.
— А папа?
— Не знаю, на войне.
— С кем же ты тут?
Девочка посмотрела на нее недоумевающе:
— Со своими. Наши все тут.
Сутки прошли спокойно, но чуть забрезжил рассвет, прогремели артиллерийские залпы. Снаряды рвались уже на самой горе Яманташ.
Сосредоточив на опушках леса большие силы, немцы начали непрерывный артиллерийский и минометный обстрел леса со всех сторон. Одновременно до сорока штурмовых и бомбардировочных самолетов закружились над головами партизан. Сотни бомб и снарядов обрушились на оборонительные рубежи отрядов, на гражданские лагери и скот. От разрывов снарядов, мин и авиабомб в лесу стоял непрекращавшийся вой и шум. Расщеплялись на куски и валились с грохотом вековые деревья.
Героически дрались партизаны, отражая одну за другой атаки врага.
Автоматы накалялись от непрерывной стрельбы и замолкали только со смертью бойца.
Временами немцам удавалось выбивать отряды с занимаемой позиции, но решительными контратаками партизаны снова восстанавливали положение.
Не раз отдельные группы партизан оказывались в полном окружении врага, но, действуя смело, презирая смерть, бойцы выходили из мертвого кольца.
Но силы были слишком неравные. Отряды понесли большие потери. Много партизан пало смертью храбрых, много было раненых. Пополнения ждать было неоткуда, потому что все отряды соединения в это время вели бои с противником на других участках.
На горе Яманташ, куда рвались враги, находилось командование соединения. Сюда сошлись люди из всех гражданских лагерей — около четырех тысяч человек. Здесь же было и более трехсот человек раненых. Противнику удалось занять все леса Зуйского района, кольцо окружения Яманташа суживалось.
В ночь со 2 на 3 января началась эвакуация гражданского населения и раненых с горы Яманташ в Васильковскую балку, за восемь километров. Необходимо было в течение одной ночи переправить и укрыть на новом месте тысячи беспомощных людей.
Среди раненых были и члены молодежного комитета — Женя Семняков и Лида Трофименко, отправленные нами в лес после провала Бориса Хохлова.
Раненный в ногу разрывной пулей, Женя Семняков не мог передвигаться без посторонней помощи. Лида была ранена легко. На подъемах она вела его под руку; вниз по склону, превозмогая страшную боль, он сползал на четвереньках. Продвигались они очень медленно.
Боясь, что они не успеют добраться до рассвета, Семняков попросил Лиду достать лошадь. Лида нашла ее только к утру, когда снова начался обстрел. Женю с большим трудом посадили верхом. Лошадь попалась буйная, спуск был крутой. Лошадь вырвала повод из рук Лиды и сбросила Женю. Он свалился на раненую ногу и потерял сознание от боли.
Придя в себя, Женя сказал Лиде:
— Я уморил тебя, но ничего не поделаешь. На лошади я больше не поеду. Я пойду. Мне нужны костыли. Сруби две рогатины.
— Чем же я срублю? У меня ничего нет.
Лида бралась то за одно, то за другое деревцо, но у нее нехватало сил их сломить.
Орудийная канонада усилилась и приближалась. Снаряды рвались уже совсем близко. Опять налетели самолеты. К счастью, показался отряд пятой бригады, прикрывавший отход с горы Яманташ.
Лида бросилась к партизанам. Один из бойцов передал товарищу лошадь с грузом и подошел к Жене.
Но Женя уже не мог двигаться. Они положили его на плащ-палатку и поволокли по грязи.
Спустились к реке Бурульча, остановились отдохнуть. Все были в грязи.
— Ну и намучили вы мне ногу! — сказал Женя. — Помогите встать. Нужно хорошенько помыться.
Лиде показалось диким его желание.
— Ничего! — приподнимаясь, усмехнулся Женя. — Если нам придется умирать, по крайней мере умрем чистыми. А если попадем в лапы гадов, пусть увидят, что партизаны при любых условиях остаются людьми.
Они помогли Жене подняться, подвели к реке. Лида тоже сняла ватник, почистилась, умылась и причесалась. Женя поглядел на Лиду:
— Вот видишь, как хорошо. Теперь мы можем двинуться дальше. Но мы им живыми не сдадимся. — Он осмотрел свой пистолет. — Две пули осталось… Хватит.
И они медленно продолжали свой путь под огнем врага.
В Васильковской балке собралось все гражданское население, раненые, скот.
Около пятидесяти тяжело раненых поместили в старой казарме. Дом был ветхий, кругом светилось, но люди, лежа на полу, были довольны уже и тем, что защищены от дождя и снега.
Остальные расположились под кустами и деревьями, но листья давно облетели, маскировка была плохой. Зажгли костры, чтобы кое-как обогреться и обсушиться. С Яманташа в балку пришла Катя Камардина, работник политотдела по комсомолу. Она принесла полученное по радио новогоднее поздравление от Крымского обкома партии и обкома комсомола.
— Вот обком партии и комсомол поздравляют вас с Новым годом, — сказала она людям, сидевшим у костра.
— Спасибо, что не забывают, живыми бы только остаться.
— Останемся! — ободрила их Камардина.
С самого начала прочеса она все время была среди гражданского населения, читала им «Вести с Родины» и успокаивала встревоженных женщин. И сейчас она казалась веселой, бодрой, но на сердце у нее было нелегко.
Она зашла в казарму, передала поздравление тяжело раненым, а потом прилегла у костра и заснула.
Здесь уже находился Андрей Подскребов. Когда он пришел из Симферополя в лес, его хотели эвакуировать на Большую землю, но Подскребов предпочел остаться с партизанами. Сейчас он работал помощником начальника гражданских лагерей.
В первое же утро над балкой появились семь немецких самолетов и начали бомбить гражданский лагерь. Люди бросились кто куда. Екатерина Лазорхина побежала с сыном в канаву. На ее глазах Подскребову оторвало обе ноги. Кричали раненые. Кричал Виктор, наблюдая за самолетами:
— Мама, прячься, три штуки отцепили!
И после каждого разрыва спрашивал:
— Мама, у тебя крови еще нигде нет? Ну, ничего, лежи, лежи…
Где-то недалеко заработали пулеметы. Появилась пехота. Партизаны начали бой. Лазоркина с сыном вскарабкались на гору. Один из самолетов спикировал прямо на них. Самолет пролетел так низко, что они ясно видели смеющееся лицо летчика, строчившего по ним из пулемета.
Самолет улетел, они поднялись и побежали куда глаза глядят.
Когда гражданское население и раненые двинулись с Яманташа в Васильковскую балку, муж Екатерины, Алексей Лазоркин, получил от Подскребова приказ: уводить скот в этом же направлении. Вместе с двумя партизанами он погнал стадо. Уже рассвело, вражеские самолеты начали бомбить балку. Несколько бомб попало в стадо. Алексей спрятался под скалой. Он слышал доносящиеся из балки крики, видел, как разбегались люди. Лазоркин всюду искал и не находил свою семью.
К вечеру стрельба стихла. Алексей поднялся на гору и встретил знакомого бойца.
— Иду в балку собирать людей, — сказал боец. — Будем выходить из окружения.
Алексей пошел с ним.
В балке они встретили командира двадцать третьего отряда Соловья с пятнадцатью бойцами. Все были верхом. Соскочив с коня, Соловей прилег на землю. Накрывшись плащом, он зажег фонарик и прочитал переданный бойцом приказ командования о выходе из окружения.
— Пострелять лошадей! — мрачно приказал он, поднимаясь. Но тут же спохватился. — Нельзя стрелять. Немец близко. Порезать лошадей!
Ни у кого из партизан не поднялась рука.
— Привяжите их к деревьям — и пошли! — махнул рукой Соловей.
Наспех привязав лошадей, партизаны поднялись на сопку. Пройдя с полкилометра, Соловей остановил и построил партизан.
— Вот что, товарищи, — сказал он. — Положение у нас безвыходное. Мы окружены. Мы должны выходить из кольца с боем. Надо вывести и гражданское население. Или пробьемся, или умрем. Кто себя плохо чувствует, может остаться здесь. Не возражаю. Кто хочет выходить из окружения — за мной.
Вокруг него собралось уже около сорока бойцов из разных отрядов. Все молчали.
— Нет желающих остаться? Будем выходить. У кого есть лишние вещи — выбросить. Стрелять только по мрей команде.
Соловей, старый боевой партизан, хорошо знал леса. Люди шли всю ночь. Они натыкались на немецкие заставы, прорывались с боем. Немецкие патрули простреливали каждые сто метров. Соловей останавливался, прислушивался, как ложатся пули, и ползком проводил отряд под огнем противника. За ночь партизаны прошли через несколько заградительных линий.
День пролежали в кустарнике. Вечером они направились к горе Яманташ. Алексей видел, как внизу, по Джеляве, румыны гнали женщин с детьми и стариков, захваченных ими в плен. Двигались и немецкие войска. Считая, видимо, что партизаны разгромлены, немцы выводили свои части из леса.
Вечером Соловей дал Алексею задание: пробраться с четырьмя бойцами в Васильковскую балку и проверить, в каком состоянии находятся оставленные там раненые.
Ночь была тихая, лунная. Оставив бойцов на горе, Алексей один спустился в балку. Кругом валялись обезображенные трупы. Недалеко от казармы Алексей остановился, прижавшись к дереву, прислушивался. Вдруг что-то капнуло ему на руку. Он поднял голову. Над его головой висело полтуловища ребенка, кровь сочилась на землю.
Алексей вошел в казарму. Раненые были живы. Увидев Алексея, люди обрадовались, начали просить пить. Бойцы Алексея спустились в балку, напоили раненых, принесли им кукурузы.
Алексей спросил, были ли у них немцы.
— Румыны заходили. Посмотрели, о чем-то поговорили и ушли.
Партизаны принесли еще воды, собрали в балке кое-что из разбросанных вещей и уложили раненых поудобней.
Алексей доложил Соловью о раненых.
— Отдохните и идите обратно, — приказал Соловей. — Раненых вынесите из казармы и забазируйте по кустам. На милость врага надеяться нечего.
На рассвете Алексей с бойцами опять пришел в Васильковскую балку. Раненые наотрез отказались перебираться из казармы в кустарник, боясь замерзнуть. Многие говорили, что если румыны вчера не тронули, значит вообще не тронут.
— Нечего нас базировать, — сказал раненый командир. — Лучше переправляйте нас скорее на Яманташ.
Вдруг послышались автоматные выстрелы. Бойцы попрятались в кусты. Один из раненых, знавший Алексея еще по подполью, сказал:
— Дядя Алеша, ложитесь рядом со мной! Они раненых не трогают.
Алексей решил было последовать совету, но в последний момент раздумал, выскочил из казармы и спрятался на горе.
Появились конные и пешие румыны. Подъехал румынский офицер и вместе с солдатами вошел в казарму.
Партизаны услышали короткие автоматные очереди.
Через несколько минут все стихло, румыны вышли из казармы, поднялись на сопку и скрылись.
Алексей вбежал в казарму. Все раненые были убиты. Пол залит кровью.
— Есть кто живой? — несколько раз крикнул Алексей.
Вдруг он услышал в углу тихий вздох. Переворачивая теплые трупы, Алексей повторял: «Кто живой?»
Живым оказался старик. У него была прострелена грудь. Потом рядом со стариком застонала женщина. Нашелся третий живой, с перебитыми ногами.
Отряд Соловья доставил всех троих на Яманташ. Там уже располагался штаб соединения, несколько партизанских отрядов, туда же сходились разбежавшиеся по лесу гражданские.
Большинство шалашей было разрушено. Немцы, видимо, думали, что лагерь заминирован, и, боясь входить в шалаши, издали забрасывали их гранатами.
Партизаны принялись восстанавливать свое хозяйство. Они отыскивали сохранившиеся продбазы, подготовляли новый аэродром, обходили окрестные леса, подбирали раненых, хоронили убитых. Алексей получил разрешение отправиться на поиски семьи.
Он пошел с партизаном, хорошо знающим Баксанские леса, где находилась Васильковская балка. Ходили они тринадцать суток. В лесу видели убитых и женщин и детей. Под скалами в укрытиях нашли много спасшихся от врага людей, переправили их на Яманташ. Но свою семью Алексей не нашел ни среди живых, ни среди мертвых.
Голодный и измученный вернулся он в лагерь. Убитый горем, залез он в шалаш. «Лежат мои где-нибудь, занесенные глубоким снегом, или попали в плен к врагу», думал он. Живо вспомнилось ему прощание с сыном на аэродроме, откуда тот должен был вместе с матерью отправиться на Большую землю. Мальчик не хотел улетать. «Остались бы мы с тобой, папа, в лесу. Умирать, так умирать вместе», сказал ему сын. Вспоминая это, Алексей прилег на сырые листья. Задремал. Вдруг слышит сквозь сон:
— Алексей, поднимайся, бабу корми.
Алексей не удивился. К ним много заходило женщин, голодных, замученных и больных. Они кормили их чем могли. Но теперь у Алексея ничего не было.
— Чем кормить? — отозвался он. — Я сам голодный.
А потом поинтересовался, что за баба, и поднял тряпку, заменявшую в шалаше дверь.
Перед ним стояла его жена, вся в грязи, босая, с почерневшими, опухшими ногами. Не помня себя от радости, Алексей выскочил из шалаша и обнял Екатерину.
— А Витя где?
— Не знаю.
Екатерина, шатаясь, вошла в шалаш, присела у костра.
Немного отдохнув, она рассказала партизанам, что было с нею в лесу.
Когда немцы начали бомбить Васильковскую балку, Екатерина с Витей побежали на гору, в кусты. Потом вместе с другими женщинами и детьми они стали пробираться дальше и наткнулись на румын, которые начали по ним стрелять.
Она с сыном целые сутки пролежала в кустарнике. На них набрела знакомая женщина с маленьким мальчиком. У женщины сохранилась баночка меду и килограмма два муки. Детям дали немного поесть — надо было экономить.
Ночь прошла спокойно. Утром началась бомбежка, а когда самолеты отбомбились, по лесу опять пошли румыны и татары из карательных отрядов. Только на четвертые сутки солдаты ушли, и Екатерина решила, что прочес кончился.
Три дня у них не было ни капли воды. Последняя ложка муки была съедена. Дети плакали от голода.
Пошли искать партизан, а обувь у всех разбита, ноги натерты до крови. Екатерина сняла с какой-то убитой женщины теплый платок, у убитого румына взяла карманный ножичек и зажигалку. После долгих поисков они нашли немного мерзлой картошки и поленицу дров.
Екатерина сделала из дров пристройку к пещере в виде балаганчика, развела костер.
Но картошки хватило на два дня. Начались морозы, выпал снег. Примерно в километре от их жилья Екатерина нашла убитых лошадей. Она настругала перочинным ножичком конского мяса и принесла своим. Из конской шкуры они смастерили чувяки.
Дров было много, непрерывно горел костер, но есть нечего: лошадей сковало морозом, и у Екатерины сломался ножик. Она сварила детям последнее наструганное мясо и пошла разыскивать партизан. Ни мальчики, ни женщина итти не могли: у них были обморожены ноги. Начало темнеть, повалил снег и засыпал все следы. Екатерина потеряла дорогу и уже не могла вернуться к сыну. Она бродила по лесу целую ночь. В темноте споткнулась и упала на что-то твердое — труп женщины. Рядом с ней лежал убитый мальчик.
Раньше Екатерина боялась покойников. Теперь ее уже ничто не пугало. Она села на снег около трупов и подумала, что хорошо бы уснуть и замерзнуть: говорят, это легкая смерть.
Но вспомнила сына и решила, что ей умирать нельзя, во что бы то ни стало она должна найти партизан.
На рассвете Екатерина увидела знакомые шалаши. Ее обогрели, накормили и привели к мужу.
Партизаны молча слушали рассказ женщины. Алексей плакал.
— Где же искать Витю? — спросил он.
— Ничего не знаю. Балка глухая, не похоже, чтобы там когда-нибудь люди ходили. Единственная примета — с километр от нее много убитых лошадей. Там, видно, был наш отряд — я ведро нашла.
Только на третьи сутки поисков Алексей с партизанами нашел деревянный балаганчик. Женщина и дети лежали без сознания около потухшего костра.
Партизаны развели огонь, привели в чувство ребят и женщину, обогрели, накормили и на другой день на лошадях доставили в отряд.
Глава семнадцатая
Во время большого прочеса связь с подпольным центром у меня порвалась. 30 декабря, 5 и 10 января «Павлик» с большими трудностями пробирался через немецкие заставы и засады к нашему «Почтовому ящику», но каждый раз возвращался без результатов: на условленном месте никого не было. Всех нас охватила тревога, тем более, что по городу уже ползли слухи о полном уничтожении партизан.
В газете «Голос Крыма» от 12 января 1944 года появилось сообщение германского командований под заголовком: «Решительные мероприятия против бандитов в Крыму».
«Ликвидирована очень крупная бандитская группа, — писали немцы. — Очищен район Зуйских лесов, который по справедливости может быть назван центром бандитского движения. Значительная часть Крыма вернулась снова к спокойной жизни».
В той же фашистской газете была напечатана телеграмма Антонеску главнокомандующему крымскими войсками генералу Енеке:
«Та похвала, которой вы наградили румынские соединения горных стрелков за их борьбу с бандитами, повысила наше удовлетворение при получении этого известия. Проявленное при этом мужество румынских солдат подтверждает искреннее и нерушимое братство по оружию Германии и Румынии».
Однажды утром ко мне в мастерскую вбежала Анна Трофимовна:
— Иван Андреевич, пленных гонят.
Я наспех оделся и вышел на улицу.
Вот они, «пленные партизаны». Окруженные немецкими и румынскими солдатами, шли женщины, дети, старики, всего человек триста. На худых, измученных лицах — кровоподтеки. Многие женщины несли на руках плачущих ребятишек. Замерзшие, опухшие от голода малыши жадно оглядывали толпу, теснившуюся на тротуарах. Видно, ждали, что им дадут поесть.
Одной из первых еле двигалась молодая женщина со связанными назади руками. Взгляд ее был страшен. На спине, прикрученный веревкой, висел замерзший ребенок лет двух.
Людей гнали в тюрьму, в совхоз «Красный».
Симферопольцы выносили одежду, продукты и совали в руки пленным. Немцы пытались разгонять толпу, били прикладами, угрожали автоматами, но никто не уходил.
Вдруг какая-то женщина схватила грудного ребенка, протянутого ей арестованной матерью, и скрылась в толпе. Сразу потянулись еще руки, и еще несколько детей очутилось на свободе.
Так возникло массовое движение симферопольских женщин по спасению детей, захваченных в лесу.
Несмотря на угрозы немецких патрулей, советские женщины подбирались к концлагерям, и находившиеся под открытым небом арестованные матери через проволочные заграждения подавали им своих детишек.
Немцы сортировали захваченных людей. Кто попадал в гестапо, исчезал навсегда, и дети оставались беспризорными. Симферопольские патриотки смело шли в полицию и старались получить на воспитание этих осиротевших детей.
14 января я снова послал «Павлика» на место явки. На другое утро, к великой нашей радости, он, наконец-то, доставил мне письмо подпольного центра.
«С 24 декабря мы вели непрерывные бои, — писал Павел Романович. — Враг сконцентрировал большие силы и много техники. Бои были очень жестокие и упорные, но уничтожить нас невозможно — народ дрался с ожесточением, героически.
Убито тысяча двести гитлеровцев в лесу, а сколько они повезли отсюда раненых!
Потери отрядов без гражданского населения: убитыми восемьдесят восемь человек, ранеными двести пятьдесят девять человек, захвачено немцами в плен и расстреляно сто семьдесят человек».
Павел Романович просил меня дать подробную информацию о военных и политических событиях в Крыму и о нашей работе за это время.
Таким образом, связь с лесом снова наладилась, и со следующей очередной почтой мы послали в лес материалы по всем вопросам, интересующим подпольный центр.
Во время прочеса леса горком продолжал свою обычную работу.
31 декабря мы выпустили листовку под заглавием: «С Новым годом, товарищи!» В ней сообщали об успехах Красной Армии на фронтах Отечественной войны. А в начале января выпустили обращение к населению Крыма: «Товарищ, мсти!»
«Последние дни еще раз показали нам подлинное лицо врага, — писали мы, — его „новый порядок“, его методы борьбы.
Два года пытаются немцы покорить наш народ. Пытались унизить его до положения рабов, подкупить обещаниями. Не вышло! Сотни, тысячи лучших представителей нашего народа поднялись на великую борьбу с захватчиками. Это движение растет и ширится с каждым днем, и враг не в силах подавить или хотя бы заглушить его. И вот немец, когда-то хвастливый, самоуверенный, наглый, а теперь думающий только о спасении собственной шкуры, начинает мстить, мстить за свои рухнувшие планы захвата России, за свое бессилье, за свои страх. Он палит наши деревни, творит зверства над населением.
Карательный отряд уничтожил деревню Нижние Саблы. Гитлеровцы схватили группу женщин, заперли их в амбаре и сожгли живьем.
В деревне Фриденталь немцы сожгли все дома, расстреляли тридцать пять человек.
Спалены деревни Тавель, Нейзац, Ивановка, Толбан и другие.
Товарищи! Можно ли забыть это?! Пепелища деревень, сотни расстрелянных и сожженных людей зовут тебя к мести.
Запомни:
То, что постигло эти деревни, их население, ждет и тебя, если ты будешь сидеть сложа руки. Немцы чувствуют, что их гибель близка, и, погибая, они стремятся сделать людям как можно больше зла. Только активной борьбой, только уничтожая их, как паразитов, можно спасти нашу землю от разрушения.
Товарищи!
Поднимайтесь на борьбу с гитлеровскими мерзавцами, уничтожающими наши города и села, наших людей. Ни один сожженный дом, ни единая слезинка, пролитая советскими людьми, не должны остаться без отомщения.
Кровь за кровь! Смерть за смерть!»
Обе листовки имели большой успех. Они свидетельствовали о том, что партизаны не уничтожены и продолжают действовать. Несмотря на облавы и угрозы, люди читали их, передавали друг другу, прятали.
На Новый год народ собрался около радиоузла послушать передачу. В это время с одной из крыш в толпу, полетели советские листовки. Люди моментально расхватали их, спрятали и разошлись. Когда появились встревоженные немцы, у радиоузла уже не было ни советских листовок, ни советских людей.
«Муся» сама наклеила в женской уборной на базаре листовку «Мсти!» и, отойдя в сторону, стала наблюдать. Вскоре около уборной выросла очередь.
Расфранченная проститутка, увидев в уборкой листовку, позвала полицейского. Это очень возмутило женщин. Несмотря на присутствие полицейского, они набросились на проститутку и чуть не избили ее.
В Сарабузе члены нашей подпольной организации наклеили несколько листовок на окнах румынской казармы. Немецкий комендант немедленно примчался к месту происшествия, набросился с ругательствами на румынских солдат и офицеров и некоторых из них арестовал. Солдаты долго отмывали и соскабливали наши листовки, а комендант написал срочное донесение в Симферополь о появлении в Сарабузе партизан.
По нашей просьбе подпольный центр прислал подробное описание последних боев с немцами. Это сообщение горком партии размножил и распространил среди населения — советские люди узнали правду. План немцев уничтожить партизан провалился.
На истерические крики немецкой пропаганды мы ответили организацией новых крупных диверсий.
20 января мы получили из леса двадцать магнитных мин, и наши диверсанты немедленно приступили к боевым действиям.
На станции Симферополь был сожжен вагон с почтой. Сгорели два немца. Это дало «Хрену» повод обвинить сгоревших немцев в неосторожном обращении с огнем.
22 января немцы сформировали эшелон для отправки на Керченский фронт — двадцать вагонов с боеприпасами, два вагона с зенитками и десять вагонов с продовольствием и другими грузами.
Состав отправлялся в экстренном порядке на станцию Багерово.
«Хрен» волновался. Отправка поезда ожидалась в семь часов вечера, а «Кошка» и «Мотя» должны были притти на работу только в восемь.
Чтобы не пропустить ценный груз, «Хрен» решил действовать. Он взял у Брайера две магнитные мины.
Пользуясь темнотой, заминировал два вагона со снарядами и благополучно ушел домой.
Эшелон тронулся, прибыл на станцию Сарабуз и там несколько задержался.
Сарабузские подпольщики не знали, что состав минирован. Николай прибежал к «Савве»:
— Хороший состав прибыл, давай мины!
— Я еще ничего не получил.
Он решил взорвать эшелон связкой украденных у немцев гранат. Комсомолец Анатолий Каминский пробрался к эшелону и метнул гранаты под вагон. Гранаты взорвались. Вспыхнул пожар.
В немецких казармах поднялся переполох. К месту происшествия бросились немецкие и румынские солдаты. В темноте и с перепугу приняв друг друга за партизан, они начали беспорядочную перестрелку. В суматохе Каминский скрылся.
Немцам удалось отцепить десять головных вагонов, но путь был сильно поврежден, и движение прекратилось на тридцать часов.
В тот же вечер на станцию Симферополь прибыл состав с боеприпасами и продовольствием, следовавший из Джанкоя на Севастополь.
У «Кошки» не было ни одной мины, состав мог уйти. «Кошка» полетел на квартиру к «Хрену».
Через несколько часов состав взорвался на станции Севастополь, вызвав огромные разрушения. Взрывом и пожаром был полностью уничтожен эшелон, сильно повреждены станция и железнодорожные пути.
О взрыве эшелона в Сарабузе я получил сразу два донесения: от «Муси» и от «Саввы». Впоследствии выяснилось, что над одним составом поработали две группы; гранаты сарабузцев лишь ускорили действие мин «Хрена».
В том же месяце мы решили провести одну очень серьезную и опасную операцию.
В Симферополе на углу Почтовой и Речной улиц находился лагерь-лазарет для военнопленных. Женщины, подпольщицы одной из «Мусиных» групп под видом родственниц ходили в этот лазарет, носили передачи военнопленным и установили с ними постоянную связь.
В лазарете находился семнадцатилетний доброволец Красной Армии комсомолец Коля Петров. При высадке десанта в Керчи он был ранен в грудь, шею и руку. Маленький, юркий, с виду совсем еще мальчик, Коля не вызывал у немцев никаких подозрений. Они разрешали ему выходить во двор на свидание с «тетенькой» и получать передачи для военнопленных. Женщины этим воспользовались. В продуктах они передавали записки и получали через Колю ответы.
В одной из последних записок группа пленных офицеров и врачей просила помочь им бежать. Они намеревались выбраться из лазарета самостоятельно и просили женщин временно укрыть их в городе, а затем переправить к партизанам.
Руководитель группы Антонина Ивановна, по кличке «Мать», рассказала об этом «Мусе». Та посоветовала ей быть осторожней, чтобы не нарваться на провокацию.
Свидание женщин с пленными обычно происходило во дворе лазарета под строгим контролем немцев и переводчика. Чтобы отвлечь внимание охранников, «Мать», направляясь на очередное свидание, захватила с собой еще двух подпольщиц с передачами.
Спутницы «Матери» шутили и кокетничали с немцами. Она же в это время громко разговаривала с Колей о всякой чепухе, шопотом повторяла:
— Запомни: Дачная, девять, Вера.
А Коля, страшно волнуясь, почему-то упорно повторял: «Дачная, девятнадцать». Это беспокоило «Мать». Уходя из лазарета, она так и не была уверена, правильно ли запомнил Коля номер дома.
Через несколько дней на Дачную, 9, пришел человек, назвавший себя врачом Николаем Михайловичем Гвасалия.
Он сообщил, что кроме него вырваться из лазарета не удалось никому, и рассказал, как это было. Его попели в городскую поликлинику к врачу. Конвоирующий немец остался в коридоре, а Гвасалия вошел в кабинет. Молодая женщина-врач была ему незнакома, но он решил рискнуть и шепнул ей: «Я военнопленный. Конвойный в прихожей. Помогите мне уйти».
Женщина очень испугалась, но все-таки кивнула на соседнюю комнату: «Там выход во двор».
В соседнем кабинете оказался уже знакомый Гвасалия врач, который и помог ему выбраться. Гвасалия долго блуждал по городу и только к вечеру нашел указанный «Матерью» дом.
Гвасалия предупредил, что без помощи извне военнопленные бежать из лагеря не могут, и просил женщин поскорее связаться через Колю с капитаном Костюком. Если помочь военнопленным, успех обеспечен.
«Мать» растерялась: как поверить незнакомому? Друг он или враг? Колю можно увидеть только через два дня, а как сейчас поступить с этим человеком?
Посоветовавшись с «Мусей», женщины все-таки укрыли у себя Гвасалия.
От женщины-врача, про которую он говорил, мы узнали интересную подробность. Дисциплинированный конвоир четыре часа охранял в прихожей замызганную шинель Гвасалия. Потом решил все-таки заглянуть в кабинет. Не обнаружив там пленного, он пришел в бешенство, искал всюду, заглядывал даже в шкаф с инструментами. Молоденькие женщины-врачи охали, но на помощь немцу никто не двинулся с места.
На очередном свидании Коля подтвердил, что действительно дал адрес врачу Гвасалия, и тут же передал записку от капитана Костюка.
Капитан писал:
«Нам предложили вступить добровольцами в германскую армию. Мы отказались. Немцы хотят с нами расправиться. Ждем освобождения. Действуйте через Колю».
Записку капитана Костюка «Муся» передала мне.
На заседании горкома было решено: предпринять вооруженное нападение на лазарет, освободить и переправить наших офицеров в лес. Провести эту боевую операцию должна была диверсионная группа молодежи. За организационную подготовку отвечала «Муся».
Через Колю мы запросили капитана Костюка, в чем нуждаются военнопленные и нужно ли переслать им одежду и обувь.
Костюк отметил:
«Снимите часовых и перережьте проволочную решетку с внешней стороны окна, через которое мы должны бежать».
Когда все приготовления были закончены, «Муся» написала капитану Костюку:
«Будьте готовы 25 января в семь часов вечера. Условный знак: троекратный стук во второе от угла в переулке окно. Хорошо проработайте список уходящих. Берегитесь провокации. Обязательно захватите с собой Колю Петрова».
Для точности в записке был нарисован одноэтажный дом лазарета с пятью окнами, выходящими в переулок, и на втором окне от утла поставлен крест.
25 января был вторник. Передачи в лазарете разрешались по средам и субботам. Следовательно, записку «Муси» нужно было во что бы то ни стало передать капитану Костюку в субботу 21 января.
В субботу «Мать» со своими подпольщиками опять отправилась в лазарет. Немцы были страшно обозлены побегом Гвасалия. Они подозревали, что дело не обошлось без помощи какой-нибудь «русской фрау». Вход родственников во двор разрешался теперь только по очереди, а передача продуктов пленным из рук в руки запрещалась.
Записку для капитана Костюка «Мать» вложила в пирог с повидлом. Пирог был нарочно плохо испечен, верхняя корка сползла, повидло размазалось, пирог выглядел неаппетитно и не мог прельстить немцев. У «Матери» были еще судки с супом и кашей.
Когда начали впускать во двор, с «Матерью» вошла одна ее помощница.
— Позовите Колю, — попросила охранника «Мать». — Скажите, тетка пришла.
— Нельзя, запрещено.
— Ну что вы! Он же маленький, комендант разрешает мне с ним видеться, — настаивала «Мать».
Она сунула охраннику взятку. Тот позвал Колю.
— Что у вас, тетенька? — прибежал к «Матери» Коля.
«Мать» начала говорить ему. Охранник стоял рядом и торопил: «Кончайте разговор!» «Мать» униженно просила у него разрешения передать мальчику пирог. Немец взял пирог и начал осматривать его со всех сторон, а корка с пирога все сползает и сползает… «Мать» стояла ни жива ни мертва.
Наконец немец отдал пирог Коле, а «Мать» передала мальчику судки с пищей. Но как предупредить Колю, что в пироге записка?
Выручила помощница. Она затеяла с немцем какой-то спор, немец сердился, ругался, и «Мать» успела шепнуть:
— В пироге записка. Принеси ответ.
Коля убежал и скоро вернулся с пустой посудой.
— А ответ? — спросила «Мать».
— Какой?
— На записку в пироге.
Оказалось, Коля не расслышал предупреждения «тетеньки» и передал пирог тяжело раненому военнопленному, не участвовавшему в подготовке к побегу.
— Что ты наделал! Там же весь план! — испугалась «Мать».
Коля вернулся обратно в лазарет. Женщин стали выгонять со двора. Они не уходили, говорили, что получили не всю посуду. Коля долго не возвращался, и это ужасно волновало «Мать». Но вот он показался:
— Все в порядке, но не в семь, а в девять, — шепнул он «Матери». — В девять. Раньше нельзя.
Накануне побега «Мать» страшно беспокоилась. Что, если пленные не смогут уйти? Что, если они обнаружили провокатора и не могут дать знать об этом? Ей представилось: патрули сняты, ребята трижды стучат в окно, из окна выскакивают вооруженные немцы, ребята схвачены…
«Мать» решила во что бы то ни стало еще раз повидать Колю. Во вторник утром она пошла в лазарет и начала упрашивать часового вызвать мальчика.
— Никогда в жизни я так хорошо не врала, как в тот раз, — рассказывала она потом. — Я, дескать, эвакуируюсь в Румынию, хочу с племянником попрощаться…
«Мать» плакала самым искренним образом. Патруль несколько раз отказывал, но, наконец, махнув рукой, вызвал дежурного. Перед немцем «Мать» тоже униженно кланялась и плакала. Тот согласился доложить коменданту. Спустя некоторое время к «Матери» подбежал испуганный Коля:
— Тетенька, вы уезжаете, а как же мы?
«Мать» с плачем обняла его. Целует и шепчет:
— Я не уезжаю, я пришла узнать, все ли благополучно.
— Все хорошо, все готово, ждем в девять! — обрадовался Коля.
— Скорее уходите! Комендант не разрешил, мальчик прибежал самовольно, — подойдя к ним, сердито сказал дежурный.
Оказалось, комендант действительно не разрешил Коле выйти на свидание, но, услышав разговор дежурного, Коля испугался: вдруг что-нибудь случилось? И он выбежал к воротам.
На прощание «Мать» обняла Колю и прошептала:
— Колечка, ты увидишь родную землю, родных людей. Скажи им, как мы тоскуем, здесь, как ждем…
Коля не выдержал, заплакал. Стоят и плачут оба. Насилу патруль развел их. Когда «Мать» уходила, часовой-доброволец вдруг ни с того ни с сего сказал:
— Думаете, мне эта форма не опротивела?
Что он думал и о чем догадывался, неизвестно.
25-го днем «Муся» доложила мне, что к побегу все подготовлено. Она передала «Косте» план лазарета, и они подробно обо всем договорились.
С наступлением темноты в домике Маргариты Александровны Ериговой собрались «Костя», Вася Бабий, Владимир Ланский, Борис Еригов и Вова Енджияк. На операцию они должны были итти под видом патруля, в немецкой форме, с автоматами. Ночной пароль узнали через Алтухова, работавшего в полиции.
Лазарет находился недалеко от дома Ериговых. В двадцать часов сорок пять минут ребята вышли и через десять минут уже подходили к лазарету. Ланский и Еригов спрятались. В случае провала они должны были прикрывать отход. «Костя», Бабий и Енджняк отправились дальше.
— Пароль? — спросил часовой.
— «Париж», — ответил Бабий.
Встретил второй пост:
— Пароль?
— «Париж».
Они миновали посты, не вызвав никаких подозрений, и уже подошли к условленному второму окну в переулке, где патрулировали два солдата. Их нужно было убрать.
— Пароль?
— «Париж». — «Костя» направил в глаза солдата электрический фонарь.
Часовые не успели вымолвить ни слова, как на них наставили пистолеты. Один солдат хотел бежать, но Енджияк ударил его пистолетом по голове и оглушил. Ребята быстро обезоружили патруль, тряпками заткнули немцам рты и прикрутили назад руки. Енджияк и Бабий повели часовых в соседний сад.
«Костя» подал условный знак и, получив ответный сигнал, быстро перерезал ножницами колючую проволоку на окне.
Окно открылось. Первым показался капитан Костюк, но тут же скрылся: он ожидал партизан, а увидел «немцев» в касках.
— Свои, не бойтесь! — прошептал в окно «Костя» и повторил пароль.
Капитан Костюк, за ним семь человек, в том числе и Коля Петров один за другим бесшумно выскочили на улицу.
Диверсанты вывели советских офицеров в сад, построили их попарно и, прихватив часовых, повели всех за город якобы на расстрел. Пленных солдат предупредили, что их убьют при малейшей попытке поднять шум.
За городом в противотанковом рву уже ждал «Павлик». «Костя», Еригов и Ланский вместе с «Павликом» отправились в лес сдать в штаб освобожденных из лазарета военнопленных и немцев, захваченных в плен, а Вася Бабий и Енджияк вернулись в город.
Утром ко мне прибежала Ольга Шевченко.
По ее лицу я сразу понял, что она пришла с приятной вестью.
— Вы ничего не знаете? — она лукаво поглядела на меня.
— Нет.
— Партизаны напали на лазарет и освободили военнопленных. Сегодня ночью к нам во двор приехали два грузовика с румынами и татарами. Мы всю ночь не спали, но не знали, в чем дело. Утром я зашла к Мирке, встретила у нее Линдера. Спрашиваю: «Что за шум ночью был?» А Линдер пьян и зол, как собака. Часов в двенадцать ночи его вызвал комендант и сказал, что партизаны пробрались в город, напали на лазарет и увели несколько военнопленных. Он приказал Линдеру немедленно организовать погоню. Но Линдер побоялся выезжать ночью за город. Он загнал грузовики с солдатами к нам во двор, а сам с двумя офицерами всю ночь пьянствовал.
Когда Линдер рассказал мне это, я спросила с удивлением: «Откуда же партизаны? Вы же всех их уничтожили!» А он посмотрел на меня, как на дуру, и покачал головой: «Какая вы наивная! Это только для пропаганды пишут».
В тот же день вечером, 26 января, Вася Бабий, Вова Енджияк, Алтухов и Анатолий Басс собрались в доме Маргариты Александровны Ериговой. Они готовились ко второй, более мощной диверсии. Для этой операции Бабий получил десять магнитных мин и тол. Все диверсанты были вооружены автоматами. Василий Алтухов, как обычно, сообщил Бабию ночной пароль.
Переодеваясь в немецкие костюмы и проверяя оружие, ребята смеялись.
— Теперь мы так вооружены, что никакой чорт не страшен! — сказал Енджияк, укладывая в сумку противогаза мины и тол.
— Ночь темная, — сказал Алтухов, — не запутаемся?
— Эх ты! — укоризненно заметил Енджияк. — Сразу видно, что новичок в нашем деле. Партизаны говорят: «Темная ночка — наш друг, а луна — предательница».
В восемь вечера ребята вышли из дома Маргариты Александровны. На улице было, действительно, хоть глаз выколи, однако Енджияк уверенно вел товарищей.
За городом диверсанты разделились на две группы, Алтухов и Басс должны были заминировать горючее, а Бабий и Енджияк — боеприпасы. Вася Бабий и Енджияк, перерезая ножницами колючую проволоку, прошли три ряда заграждений и приблизились ко рву, наполненному вонючей водой. Бабий перешел благополучно, а Вова увяз в грязи. Ему показалось, что дно засасывает, и он растерянно сел в воду.
— Тону!
— Врешь! — смеялся Бабий, помогая ему выбраться из рва.
Снаряды были в ящиках, сложенных прямо на земле в штабеля. Между штабелями имелись промежутки метров около сорока. Около штабелей перекликались между собой патрули.
Выкрики немцев помогали ребятам правильно ориентироваться и во-время прятаться. Вова Енджияк, ползая от штабеля к штабелю, минировал их, а Бабий стоял с автоматом, охраняя его. Удачно заминировав пять штабелей со снарядами, Енджияк и Бабий пришли на условленное место, где их уже ожидали Алтухов и Басс.
— Ну, как у вас? — поинтересовался Бабий.
— Благополучно, — ответил Алтухов, — но не все в порядке. Где-то по дороге два запальника потеряли. Пришлось использовать только одну мину. Заложили ее под цистерну с бензином.
— Эх вы, вороны! — выругался Вася.
— А у вас как? — спросил Басс.
— У нас все в порядке, — ответил Бабий и, весело засмеявшись, добавил: — Только Вова чуть не утонул в луже.
Поздно ночью вернулись они к Маргарите Александровне, мокрые, грязные, уставшие, но спать было некогда. Нужно было одежду привести в порядок и во-время быть на работе, чтобы не вызвать подозрений у администрации.
Я почти не спал в эту ночь, волнуясь за ребят, и прислушивался, ожидая взрыва.
Штабеля со снарядами начали рваться часов в девять утра. Вначале в городе взрывы были еле слышны. Но часов в одиннадцать раздался такой грохот, как будто неподалеку упала тонная бомба. Это взлетели на воздух авиабомбы.
По полученным мною сведениям, при взрыве погибло немало румынских и немецких солдат. Убитых и раненых немцы доставляли в город тайно на специальных машинах.
Выполнение операций не всегда обходилось без вооруженных столкновений. Один из наших смелых боевиков, комсомолец Виктор Телешев, грузчик сарабузского Заготзерна, напоролся однажды на немецкого часового. Тот хотел его задержать. Виктор выхватил наган и убил немца. Труп он оттащил и запрятал в стог сена, позади какого-то дома. На следующее утро хозяин стога обнаружил убитого. Крестьянин знал, что за каждого убитого немецкого солдата немцы расстреливают пятьдесят русских жителей того района, где обнаружен труп. Чтобы не навлечь беду на себя и соседей, он с женой закопали труп и никому не сказали об этом ни слова.
Глава восемнадцатая
28 января из леса вернулись «Костя», «Павлик», Ланский и Еригов. Освобожденных из лагеря военнопленных — четырех офицеров, трех врачей и Колю Петрова — они благополучно доставили в штаб партизан.
Ребята принесли из леса несколько автоматов, много литературы. Прибыла и долгожданная радиостанция, но я получил горестное известие: Андрей Кушенко, которого я просил себе в радисты, погиб. Погиб случайно и глупо. Он пошел с группой партизан встречать очередной «Дуглас». Было темно, Кущенко не успел отбежать, и при посадке самолет задел его. Вместо Андрея из Краснодара прислали радистку, комсомолку Шуру Бортникову.
Увидев ее, я был поражен: в гимнастерке, в юбке военного образца, в сапогах, в ватнике и ушанке, только красной ленточки на шапке нехватает.
Товарищи из штаба не только не удосужились снабдить ее надлежащей одеждой, но даже не дали ей документов, с которыми она могла бы появиться на оккупированной территории. У нее были всего-навсего личный паспорт, выданный в Николаеве, с последней пропиской николаевской милиции от 1940 года. Сама Шура к работе в подполье была совершенно не подготовлена, не знала даже, как в наших условиях пользоваться рацией.
Шуру нужно было немедленно переодеть и приготовить для нее необходимые документы.
После приезда Шура жила несколько дней на квартире у «Кости». Придя как-то к ним, я, грешным делом, заподозрил, что у них начинается нечто вроде романа, и на всякий случай велел пока перевести Шуру на одну из конспиративных квартир.
На другой день ко мне прибежала «Нина»:
— Иван Андреевич, что делать? Шура пропала!
Можно представить себе, как мы испугались.
Оказалось, что, никому не сказав, в своем «партизанском» костюме, без документов, Шура через весь город отправилась навестить «Костю».
Я пришел к ней возмущенный до последней степени:
— Сударыня! Вы что же, сюда приехали по гостям ходить?
Она обиделась на меня.
— Я не затворница, а самостоятельный работник, — услышал я любимое «Костино» словечко. — Что же мне, так и сидеть взаперти?
Я пригрозил завтра же отправить ее в лес, долго отчитывал, объясняя ей наши условия. Шура поняла, расплакалась.
Помещение для радиостанции я подыскал сам.
На Караимской улице, 48, была мастерская артели «Зеркальщик». Возглавлял эту артель член нашей подпольной организации из группы «Нины», Иван Тимофеевич Старостин, по кличке «Анодий». Узнав от «Нины», что «Анодий» хороший радиотехник и его мастерскую можно использовать, я поговорил с ним. Он охотно согласился поместить рацию себя.
Во дворе мастерской, под сараем, «Анодий» устроил подземелье с двумя ходами: один, скрытый под станком, шел из мастерской, другой — со второго этажа, из его квартиры по подставной лестнице, которая легко убиралась. Подземелье он прекрасно замаскировал. Там был приготовлен запас воды и продовольствия, и в случае необходимости радистка могла безвыходно прожить в подземелье довольно долгое время.
За перевозку радиоаппаратуры «Анодий» взялся сам. В воскресный день он сел на велосипед, посадил с собой для маскировки шестилетнего сынишку и в два рейса благополучно перевез к себе драгоценный груз.
Шуру мы поселили у «Анодия» под видом родственницы. В подземелье она спускалась только для работы и во время обысков и облав. Никаких происшествий с ней больше не случалось. Шура стала хорошей, дисциплинированной подпольщицей.
Свою квартиру у Анны Трофимовны я тщательно оберегал. Кроме Ольги, «Нины» и «Кости», никто из подпольщиков не знал, где я живу. Все шло хорошо, и наш дом не привлекал внимания полиции.
Но вот накануне Нового года, рано утром, во дворе появились жандармы. Я наблюдал за ними в окно, через занавеску. Немцы вызвали Анну Трофимовну, о чем-то расспросили ее и, оставив в воротах охрану, пошли по квартирам. «Не меня ли ищут?» мелькнуло в голове.
Один из жандармов с черного хода вошел к нам. Отскочив от окна, я стал не спеша вставлять стекло в раму, которая на всякий случай всегда стояла у меня в мастерской. Зайдя в квартиру, жандарм начал молча обыскивать комнаты, заглядывая в шифоньер, в сундук, в диван, под кровати. Кроме меня, дома никого не было. Я решил сопровождать жандарма по всем комнатам, следил за обыском и старался понять, что он ищет.
В диване среди прочего хлама жандарм нашел рваный шерстяной носок военного образца.
— Немецкий! — буркнул он, поднимая носок. — Где взял?
Я сделал вид, что не понимаю по-немецки. Сердита ворча, он бросил носок обратно в диван, посмотрел под кроватями, взглянул на этажерку, но до книг не дотронулся. Я облегченно вздохнул: раз не обратил внимания на книги, значит не подпольщиков они ищут.
Обыск в нашем доме продолжался часа два.
Когда жандармы ушли, Анна Трофимовна рассказала мне о причине немецкого визита.
Напротив нашего дома находилось здание панорамы «Штурм Перекопа». Немцы превратили его в вещевой склад. Ночью склад был обворован.
По соседству с нами жила молодая женщина, Мария Михайловская, работавшая у немцев переводчицей. Она-то и заявила в жандармерию, что в нашем доме, вместе с матерью и сестрой, живет мальчик лет пятнадцати по имени Эрик, который якобы имеет связь с партизанами.
В момент обыска Эрика дома не было. Жандармы арестовали его сестру.
— Видите, — вздохнула Анна Трофимовна, — какие бывают вредные люди. К немцам прислуживаются и губят честных людей.
Пришел Толя, я рассказал ему об обыске в нашем доме.
— Я слышал об этом Эрике, — сказал он. — Боевой парнишка. Он связан с нашими ребятами.
— В таком случае, его нужно немедленно отправить в лес, — предложил я.
— Да, да, обязательно отправлю.
Я строго предупредил Толю:
— Имей в виду, за домом нашим началась слежка. Рядом со мной живет некая переводчица. Она донесла на Эрика. Пока прекрати ко мне ходить. Будем встречаться в другом доме.
Дня через четыре ко мне пришла обеспокоенная Ольга Шевченко.
— У вас все в порядке?
— Как видите. А что?
— Был налет партизан на панораму. Линдер рассказал, будто бы три машины партизан напали на немецкий склад в панораме, перебили охрану, нагрузили машины вещами и скрылись.
— Это провокация. Он, очевидно, испытывает тебя. Какие могут быть партизаны, когда идет прочес леса и Гриша Гузий не приходит на явку!
— Может быть, он и соврал, — полола плечами Ольга. — Ему теперь везде мерещатся партизаны. Перед тем как лечь спать, проверяет, заперты ли ворота. Бульдога завел. Чуть шорох под окнами, за пистолет хватается.
Мы посмеялись над «храбрым» гестаповцем. Ольга передала мне от «Саввы» разведданные и план аэродрома, который нужен был Большой земле.
Разговаривая с Ольгой, я машинально посматривал в окно. Во дворе появился полицейский. Ольга сразу же ушла. Я взял сапожную лапку и принялся расправлять гнутые гвоздики.
Анны Трофимовны дома не было, и полицейский вошел ко мне.
— Где староста?
— Ушла куда-то по делам.
Я продолжал работать.
— А ты кто? Давно тут живешь?
— Месяца три.
— Что делаешь?
— Что придется. Больше по стекольной части.
Заглянув на этажерку, он увидел домовую книгу, сел и начал ее перелистывать.
— Жильцов знаешь?
— Двор большой. Разве всех узнаешь?
Пришла Анна Трофимовна. Полицейский начал читать вслух фамилии жильцов, спрашивая о тех, кто поселился в этом доме недавно. Сделал замечание, что Эрику пятнадцать лет, а он все еще не имеет паспорта и прописан по метрической.
— Я говорила его матери, — оправдывалась Анна Трофимовна. — Она обещала выправить паспорт.
В нашем доме жило пятьдесят восемь семейств. Домовая книга была толстая. Я прописал себя ближе к середине, вместо одного жильца, неправильно прописанного и зачеркнутого. Фиктивная прописка была сделана хорошо, и полицейский не обратил на нее внимания. Проверив домовую книгу, он сделал пометку: «Нарушений нет. Проверил старший надзиратель Рубакин». Еще раз пристально взглянув на меня, он вместе с Анной Трофимовной вышел из комнаты. Все это меня несколько встревожило.
Анна Трофимовна вернулась и перекрестилась:
— Слава богу, миновала гроза! Ничего не заметил.
А ведь этот надзиратель — самая опытная собака. Знаете, что случилось? Надзиратель рассказал, что четыре машины партизан напали на панораму, забрали все, что возможно. «Тут, — говорит, — и в городе партизан до чорта!»
Вечером я увидел «Костю», сообщил ему о слухах по поводу нападения каких-то партизан на панораму и не мог понять, почему он смеется.
— Ведь это мы сделали! — рассмеялся «Костя».
— Как вы? — спросил я, не веря своим ушам.
— Мы. И провели операцию на «большой палец». Было нас всего пять человек. Я и Вася Бабий надели немецкую форму, Алтухов был в полицейской форме, а Енджияк и Еригов — в своих ватниках. По дороге встретили немецкий патруль. Борис и Вова спрятались в воротах, а мы пошли навстречу патрулю. Не доходя несколько шагов, Бабий крикнул: «Хальт! Пароль!» Один из немцев ответил: «Стокгольм». У нас были русские автоматы. Немцы покосились на них, но ничего не сказали.
Мы подошли к панораме. Бабий спросил часового по-немецки: «Вы немец?» Часовой ответил: «Никс. Я доброволец». Бабий приставил к его груди наган и скомандовал: «Руки вверх!» Мы отобрали у часового винтовку и приказали молчать. Часовой принял нас за добровольцев, начал объяснять, что у часового никто не имеет права отбирать оружие. Потом понял, кто мы, и рассказал, что имеется на складе.
Мы взяли часового проводником и вошли в здание. Алтухова поставили патрулировать снаружи. Добровольцы спали. Мы скомандовали им: «Руки вверх!» Приказали сесть на пол около кроватей, а сами надели на себя по нескольку пар брюк, гимнастерок, шинелей, забрали у добровольцев оружие и пошли. Часовой просил не оставлять его там: теперь ему все равно не сдобровать, и мы забрали его с собой. Я громко приказал ребятам: «Заминировать дверь!» Мин у нас не было. Я только хотел напугать добровольцев. Дверь мы заставили снаружи ящиком и благополучно ушли. Одежду и оружие забазировали в противотанковом рву.
— А с часовым что сделали?
— Мы вывели его за город, указали дорогу в лес к партизанам, и он ушел.
— Как это все легкомысленно!
Я был вне себя от возмущения. Из-за нескольких гимнастерок, шинелей и винтовок рисковать жизнями наших лучших диверсантов! Спору нет, налет был смелый, но почти бесполезный и ставивший под удар все руководство подпольной организации.
— Как же ты смел это сделать без разрешения горкома?! — спросил я.
— Да я боялся, что вы не разрешите, — признался «Костя».
— Конечно, запретил бы. Ты понимаешь, что наделал? Я живу рядом с панорамой, у меня происходят заседания горкома, ко мне ходят связные, и вдруг — сделать такую глупость! Да зачем тебе этот налет? Неужели нельзя было дождаться, пока из леса пришлют еще несколько немецких костюмов?
— Простите, Иван Андреевич, не подумал об этом. Но, согласитесь, красиво вышло.
— Очень красиво! Глупость это, если не сказать хуже…
Я сделал «Косте» серьезное внушение, категорически запретил предпринимать какие-либо диверсии без разрешения горкома и предупредил, что если он когда-нибудь устроит еще такой номер, к нему будут применены строгие меры взыскания.
Военно-политическая обстановка в Крыму с каждым днем становилась напряженнее. В соответствии с событиями на фронте перестроилась и немецкая пропаганда. Немцы уже не говорили, что Красная Армия разбита и уничтожена, а запугивали население чудовищными выдумками о зверствах советских войск.
Не только по тону газет, но и по настроению многих солдат и офицеров чувствовалось, что немцы начинают сознавать неизбежность своего поражения.
Денщик Линдера сказал Ольге: «Наши офицеры и разные „фоны“ улетают из Крыма в отпуск и не возвращаются».
«Муся», опытная разведчица, умела вызвать своих знакомых немцев на откровенность. Однажды майор Мауэр из Баварии, изрядно выпив, сказал ей:
— Мы, немцы, способны на то, о чем другие и не догадаются. Мы выкачали из России и других стран много добра. Все это скрыто в горах и ущельях Германии и на берегах Рейна. Фюрер, конечно, знает, что сейчас мы будем побеждены. Гитлер уйдет, но будет тайно готовить будущую победу.
Зондерфюрер Линдер вежливо предупредил Ольгу, чтобы она заблаговременно подготовилась к эвакуации в Германию.
— Мы получили приказ оборонять Крым, — сказал Линдер, — но только для того, чтобы задержать продвижение Красной Армии. Крым мы сдадим, но это будет мертвая, безлюдная пустыня. Мы вывезем в Германию все работоспособное население России.
Немцы действительно упорно и методически старались превратить Крым в безлюдную пустыню: минировали города, мосты и спешно вывозили все, что можно вывезти. «Хрен» сообщил мне, что на станцию Симферополь немцы согнали до ста паровозов, разобрали их и вывезли всю арматуру. «Савва» доносил из Сарабуза, что в окрестных деревнях немцы забирают скот, хлеб и все продовольствие. Местному коменданту предоставлено неограниченное право грабить население. Общины получили планы посевов, но они были занижены в пять — десять раз против прошлого года. Никто из русских уже не думал о спасении имущества, ни один советский человек не мог быть уверен в том, что, выйдя на улицу, он вернется домой и проведет ночь спокойно.
4 февраля Ольга сообщила, что приехал «Савва» и просит немедленно устроить ему свидание со мной.
В двенадцать часов дня, когда немцы обедали и прекращали облавы, я собрался к Ольге. Надел свое замасленное рваное пальтишко, облезлую шапку-ушанку, взял рабочий ящик, куски стекла подмышку, палочку.
Оглядывая меня, Анна Трофимовна осталась довольна.
— Ну кому придет в голову, что такой жалкий старикашка способен на что-нибудь толковое!
— Не забудьте, Анна Трофимовна, в случае чего снимите занавеску с окна.
— Будьте спокойны! Ну, дай бог все по-хорошему! — проводила она меня своим обычным напутствием.
У Ольги на окне висела занавеска — все в порядке.
Во дворе я столкнулся с двумя немецкими офицерами.
Подошел к ним, прихрамывая и опираясь на палку.
— Операция очень выгодная, — весело говорил молодой, стройный, с красивым холеным лицом офицер. — Деньги пополам и вечер на прощание.
— Только устраивай поскорей, вагоны завтра угонят на Севастополь, — ответил пожилой, с рыжими усиками.
Они загораживали дорогу к Ольгиной двери.
— Дозвольте, господа, пройти, — попросил я по-русски.
Офицер с холеным лицом скользнул по мне игривыми серыми глазами и посторонился.
Я постучал, дверь открыл «Савва».
— Где тут стекла вставлять? — громко спросил я.
— Сюда, сюда, дедушка! — также громко ответил «Савва», пропуская меня в комнату и запирая дверь. — Здравствуйте, Иван Андреевич! — он крепко пожал мне руку.
Я присел не раздеваясь.
— Что это за офицеры?
— Молодой, красивый — Миркин зондерфюрер Линдер. А второй — его приятель. Вместе спекулируют и пьянствуют почти каждую ночь.
— А Линдер мне понравился, веселый.
— И «добрый», — подтвердила Ольга. — Он сам хвастался мне своей «добротой». «Я, — говорит, — никогда русских пленных не бью, как другие офицеры, я их только наказываю: сажаю в темный подвал и напускаю туда крыс».
— Недаром такой молодой и уже зондерфюрер! Ну, что нового у вас в Сарабузе? — спросил я «Савву».
— Оля, ты нам приготовь чего-нибудь и последи за этими господами, — сказал жене «Савва». — У нас, Иван Андреевич, положение критическое. В одно прекрасное утро вы можете лишиться всех сарабузских подпольщиков. Забирают и вывозят в Германию всех мужчин поголовно. Мы на очереди.
— Я знаю, что забирают. Прятаться будем.
— Легко сказать — прятаться! Первого февраля утром в поселок Саки прибыло шестьдесят машин с немцами. Поселок окружили и пошли по дворам. Забрали всех мужчин от четырнадцати до шестидесяти лет, даже больных подняли с постели. Такую же облаву они провели в деревнях Сакского и Биюк-Онларского районов. Вывозят под охраной. Если кто-нибудь скрывается, забирают его семью.
— Но ведь железнодорожников немцы забронировали?
— Добрались и до железнодорожников. У нас уже переписали всех и запретили отлучаться. В Саках, несмотря на ходатайство начальника станции, угнали тридцать шесть человек. На станции Княжевичи забрали даже тех, кто работал на ремонте путей. Подпольщики волнуются. Я приехал за вашими указаниями.
— Без разрешения горкома ни один подпольщик на должен уходить со своего поста, — сказал я. — Но будьте начеку и приготовьте на всякий случай надежное убежище.
«Савва» задумался.
— В домах, конечно, укрываться нельзя. В Биюк-Онларском районе одна женщина спрятала своего мужа в сундуке. Немцы нашли его, заперли сундук, привязали жену к сундуку и сожгли вместе с домом. Недалеко от Сарабуза у деревни Андреевка есть каменоломня. Может быть, там сделать убежище?
— Немцы знают об этих каменоломнях?
— Может быть, и знают, но не обращают на них внимания: ведь партизан там никогда не было.
— Сколько там может поместиться народу?
— Порядочно. Думаю, человек четыреста — пятьсот.
Я велел «Савве» подготовить в каменоломнях убежище, завести туда продовольствие, воду и подумать об организации партизанского отряда. «Савва» рассказал, что в Сарабуз для охраны железной дороги прибыл какой-то добровольческий батальон. Настроение у этих добровольцев как будто неважное, некоторые хотят уйти в лес, но не знают дороги. Просят проводника.
— Все дороги ведут в лес, — сказал я. — Кто захочет, найдет и партизан. Через таких добровольцев просачиваются в лес провокаторы. Нужно их тщательно проверить. Проводника мы им давать пока не будем.
Я сообщал «Савве» место, время и пароль для направления в лес проверенного гражданского населения.
— Направляйте не только мужчин. Можно и женщин, если они способны быть бойцами.
— А с семьями, с детьми как?
— «Мартын» просил небоеспособных людей сейчас не направлять, кроме семей тех подпольщиков, которым угрожает арест.
«Савва» рассказал, что сарабузцы собираются взорвать баки с горючим, замаскированные на аэродроме. Передал мне разведданные и семьдесят пять бланков пропусков на право выезда в районы Крыма. Бланки выкрала подпольщица, работавшая переводчицей у сарабузского коменданта.
Я дал указание, чтобы подпольщики повели агитацию в деревнях за лучший и полный посев полей, маскируя всячески эти действия от немцев.
Дома я подготовил очередную почту подпольному центру и отправил ее в лес. На другой день утром «Нина» уже была у меня и сообщила: «Павлик» вернулся, все в порядке.
— По улицам ходить невозможно, — жаловалась она. — Пока до вас добралась, три раза документы проверяли.
— А не обшаривали?
— На этот раз нет.
Из-под стельки сапога она достала конверт, а из-под кофточки — несколько пачек денег.
— Как самочувствие «Павлика»? — спросил я, вскрывая прошитый нитками конверт.
— Хорошее, но он очень устал. До нового места встречи с Гришей теперь километров двадцать пять, а обратно итти с грузом. В этот раз он ходил со своими помощниками — Яшей Морозовым и Витей Долетовым. Спрятали все во рву. Ночью перетащат в город.
Витя Долетов был двоюродным братом расстрелянного Николая Долетова.
— Встаньте у окна и следите за двором. Я прочту письмо.
«Дорогой Андрей! — писал „Мартын“. — Получил твое письмо и информацию о положении в Симферополе. Рад за ваше благополучие и доволен разворотом вашей работы. Разъясняйте народу, что немцы никому не дадут возможности „пересидеть“, „переждать“ лихую годину. Только непримиримая, смертельная борьба может принести освобождение.
Посылаю тебе наши листовки по нескольку сот экземпляров, центральные газеты и „Красный Крым“. Кроме того, посылаю три листовки на румынском языке. Посылаю также мины и гранаты. Людей, подлежащих мобилизации и угону из Крыма, переправляйте в лес, их будут встречать. Место встречи и пароль передаю устно через „Павлика“. Ни в коем случае не водите их на место нашего „Почтового ящика“, и сопровождать их должен не „Павлик“, а кто-нибудь другой. Разумеется, отправляемые в лес о вас ничего не должны знать.
Насчет железнодорожников. Смогут ли они создать патриотические группы на железнодорожном узле Джанкой и в Севастополе? Смогут ли они перевести и устроить в эти города хотя бы одного-двух человек от нас? Прошу сообщить. Медикаменты присылай, нужны Продовольствие тоже нужно.
Сердечный привет тебе от всех товарищей. Получил два письма от твоей жены. У них все в порядке. Она работает в обкоме. Горячий привет „Мусе“, „Нине“, „Хрену“, „Савве“, „Луке“ и всем боевым героическим товарищам».
Я ознакомил «Нину» с содержанием письма. Каждая почта из леса была для всех большим, радостным событием.
— «Муся» очень хочет вас видеть, — сказала «Нина». — У нее что-то случилось.
— Организуйте мне завтра свидание сначала с «Павликом», потом с «Мусей». «Павлика» вызовите на десять, а «Мусю» на одиннадцать утра.
На другой день «Нина» поджидала меня на базаре у киоска. Мы переглянулись. Она пошла к своему дому; держась на некотором расстоянии, я последовал за ней. Погода была хорошая, ясная. Выйдя на улицу Островского, я увидел вдали гору Тирке. Вспомнились тяжелые переходы по горам и балкам, дождливые ночи. Теперь в горах холодно, снег лежит. Нелегко им там, нашим ребятам!
Лазаревы встретили меня, как всегда, очень радушно. Дома была и племянница «Нины» — пятнадцатилетняя школьница Нелли.
— Ну как, Нелли, у вас в школе? — спросил я, садясь с ними завтракать.
— Учится плохо! — с упреком ответила за нее мать.
— Плохо учимся? — покраснела от злости Нелли. — Попробовала бы ты сама. Знаете, Иван Андреевич, наш класс уже два дня в школу не пускают.
— Ты расскажи толком, ведь Иван Андреевич ничего не знает, — улыбнулась Софья Лазаревна.
— Это же прямо умора! — сердито усмехнулась девочка. — Прислали нам новую учительницу немецкого языка. Сама русская, а перед немцами выслуживается. Вошла в класс, подняла руку: «Хайль Гитлер!» Мы сначала глаза вытаращили, потом ребята подняли крик: «На кой чорт нам твой Гитлер сдался!» Она стала директором грозить. Такая суматоха пошла, ничего не разберешь: кто кричит, кто свистит. Кто-то в портрет Гитлера запустил чернильницей. Все захохотали и начали кидать в Гитлера чем попало. Учительница убежала. Пришел директор и выгнал нас. Теперь нас не пускают в школу. Что дальше будет, не знаю.
— Ничего не будет. Замнут дело, — заметила Софья Лазаревна. — Я разговаривала с некоторыми учителями. Директор боится, чтобы об этой истории не узнали немцы, иначе ему не сдобровать. Решили сделать внушение родителям и тем ограничиться.
Пришел «Павлик». Я его не видел уже три недели.
— Ну, «Павлик», выкладывай! — сказал я, когда Лазаревы оставили нас одних.
— Получили пол мешка литературы, десять мин, двадцать гранат. «Мартын» прислал еще три мины замедленного действия и велел заминировать Феодосийское шоссе. Это мы сами сделали: я, Яша и Витя. За поселком Сергеевка, километрах в четырех от города, ломиками расковыряли дорогу и заложили мины в трех местах. Только переделали запальники на трехчасовые, чтобы взрыв произошел до пяти часов утра, пока крестьяне не едут в город. Результаты уже налицо. На одной мине сегодня в четыре часа утра подорвалась машина с немцами, на другой — румынская телега. Что с третьей миной, пока не знаем.
— Молодцы вы! — сказал я, любуясь «Павликом». — Но тебе лично я запрещаю участвовать в диверсиях.
«Павлик» обиделся:
— Почему, Иван Андреевич? — Другие ребята все время на диверсии ходят, а я в стороне.
— Зря обижаешься. Твоя работа ничуть не менее ответственна, чем у любого диверсанта. И опасности немало. Ты сам подумай, с чем стали бы работать диверсанты, если бы ты не доставлял из леса взрывчатку.
Доводы мои явно казались ему неубедительными, — всем ребятам хотелось ходить именно на диверсии. Но «Павлик» был дисциплинированный парень и спорить не стал.
Он передал мне новые пароли и сообщил пункты для отправки в лес продовольствия и людей для пополнения партизанских отрядов. Я обратил внимание, что сапоги у «Павлика» порвались.
— Да, сапогам достается! — улыбнулся он. — Немцы стали на ночь выставлять на дорогу «секреты», приходится ходить окольными путями, прямо по пашням, где по снегу, где по грязи.
Я велел ему зайти к Филиппычу и сделать новью сапоги.
— Когда нужно будет починить обувь, иди прямо к нему, он сделает.
— Гриша Гузий просил вас, — уходя, вспомнил «Павлик», — обязательно прислать в лес еще сапожных гвоздочков.
Кстати, на Симферопольском гвоздильном заводе у нас была патриотическая группа, которая снабжала меня хорошими гвоздями. Для немцев же на заводе делали гвозди из мягкой проволоки, и их нельзя было забить даже в сосновые доски. Немцы ругались: «Русские не умеют делать гвозди!»
По нашему заданию патриоты припрятали на заводе много материалов, все ценное оборудование и не дали немцам вывезти его из Крыма.
Через час пришла «Муся», как всегда живая, кипучая.
Снимая перчатки, она уже начала ругаться:
— Чорт знает что такое получается! Сколько раз просила я штаб не присылать ко мне этого связного «Николая», а им как об стенку горох. Опять прислали. Явился ко мне на квартиру пьяный, лыка не вяжет. Умоляю вас, Иван Андреевич, примите меры, чтобы он больше здесь не появлялся. Я страшно волнуюсь. Он знает меня, «Хрена» и некоторых других моих подпольщиков. Может всех погубить.
Я вполне разделял возмущение «Муси», ибо писал «Мартыну» о «Николае», о его поведении в городе и просил не пускать его больше к нам. И все-таки опять он здесь!
— Как вы его приняли? — спросил я.
— Я сказала, как и в последний раз, что порвала связь с партизанами, и просила его ко мне не ходить, потому что я боюсь и больше не буду работать. Но он не верит.
— К сожалению, убрать его отсюда сейчас я не могу. Это может сделать только штаб. Я дам радиограмму «Мартыну», чтобы он немедленно отправил этого парня на Большую землю. А пока он тут, осторожно отваживайте его от себя.
— Пожалуйста, Иван Андреевич, примите меры. Избавьте меня от лишних волнений, — устало добавила «Муся».
Я заверил ее, что сегодня же отправлю радиограмму.
— Хорошо, что у нас теперь рация есть, — сказала «Муся». — Важная новость! Немцы подготовляют новый прочес леса. Формируют большую карательную экспедицию из немцев, румын и татар. Карателям выдали белые халаты. План прочеса таков: под видом советских людей с советского самолета в лесу приземляются немцы и одновременно начнут действовать наземные части. Передайте об этом в лес.
— А сведения эти хорошо проверены?
— Проверены по нескольким источникам. Между прочим, один немец говорил мне: «Готовится наступление Красной Армии на Симферополь, и Сталин дал указание партизанам занять наши аэродромы. Но мы начнем гонять партизан с места на место, и им будет не до аэродромов».
«Муся» сказала еще, что есть приказ об эвакуации Крыма, и обещала достать копию.
— Приближается двадцать шестая годовщина Красной Армии. Нужно приготовить фрицам подарки. Вы об этом не думали, Александра Андреевна?
— Как не думала! Только вчера говорили об этом с «Хреном». Давайте мины.
Когда «Муся» ушла, я составил радиограмму.
В ней я предупреждал о готовящемся прочесе и просил изолировать «Николая». Через «Нину» отправил текст Шуре для передачи в обком партии.
По дороге домой на Феодосийской улице я попал в облаву. Деваться было некуда — жандармы и полицейские окружили весь район. Всех проходящих задерживали. Собрали около ста человек. Приказав выложить содержимое карманов на землю, жандармы начали проверку документов.
У меня, как всегда, ничего лишнего в карманах не было. Все секретные материалы я прятал в свой рабочий ящик. Но чувствовал я себя все же неважно.
Жандарм заглянул в мой ящик с ржавыми гвоздями и замазкой, проверил документы и, вернув все обратно, отпустил меня.
Глава девятнадцатая
Мы начали готовиться к годовщине Красной Армии.
На аэродроме Мироненко снова взорвал штабель с горючим. Пожаром было уничтожено до сорока бочек с бензином. Немцы подняли большой шум, но следов не нашли.
На станции Симферополь немцы сформировали эшелон из девятнадцати вагонов с боеприпасами и семи вагонов с продовольствием. Дежурным, «Кошке» и «Моте», удалось заложить мины без особых затруднений. Этой же ночью поезд взорвался на станции Джанкой. Состав был уничтожен.
Вова Енджияк, Анатолий Басс и Борис Еригов взорвали водонапорную башню на станции Симферополь. Вода хлынула из башни на линию. Один большой бак был приведен в полную непригодность, второй требовал длительного ремонта.
А вечером Вася Бабий со своими диверсантами отправился на вторую операцию — взорвать нефтебазу, которая находилась за симферопольским вокзалом.
Одетые в немецкую форму, ребята построились и шли попарно, как патруль. На железнодорожном переезде часовой спросил пароль, они ответили и двинулись дальше.
Вася Бабий предварительно сам обследовал и хорошо знал расположение нефтебазы. Ланский и Еригов остались за оградой, а Вася Бабий и «Костя» перелезли через ограду и стали подкрадываться к бакам. Огромные баки по сто пятьдесят — двести тонн стояли метрах в трех один от другого. Между ними ходил часовой.
Когда Вася Бабий уже подползал к баку, недалеко от него вспыхнул электрический фонарик. Послышался окрик по-немецки: «Кто там? Пароль!»
Вася поднялся, приготовил пистолет и, идя навстречу часовому, ответил пароль. Помогла немецкая форма. Часовой остановился в нерешительности. Вася дал два выстрела, немец застонал и свалился мертвым. Но другие часовые открыли стрельбу.
Диверсанты успели перелезть через ограду и скрыться.
В этот же день немцы сформировали эшелон из тридцати одного вагона. В составе были две цистерны с авиабензином, две — с моторным маслом для самолетов, вагоны с тракторами-тягачами, несколько вагонов с продовольствием, один вагон специально с шоколадом.
«Кошка» пришел в кабинет к «Хрену».
— Как быть? Эшелон без боеприпасов и горючего маловато.
— Состав не очень хлебный, — согласился «Хрен», — но упускать не нужно. Взрывайте!
«Кошка» взял у Брайера две мины с шестичасовой дистанцией и, дождавшись темноты, прилепил их к двум цистернам с бензином. Взрыв должен был произойти где-то в пути, в два часа ночи.
Но по каким-то причинам отправка эшелона задержалась на несколько часов.
«Хрен» не спал всю ночь и очень нервничал: взрыв эшелона на станции грозил большими неприятностями. Он надеялся только на неисправную работу запалов, но в этот раз они, как назло, сработали с очень небольшой задержкой.
Взрыв произошел в четыре часа утра. Загорелись цистерны с бензином. Пламя мгновенно перекинулось на другие вагоны. Начался большой пожар. Немцы сначала растерялись, потом бросились к поезду, но, вместо того чтобы тушить пожар, начали растаскивать продовольствие, шоколад и даже передрались.
Пожаром был уничтожен весь эшелон. Тракторы обгорели и нуждались в ремонте. Было разрушено около двухсот метров железнодорожного пути и повреждены стрелки. На восстановление путей требовалось немало времени.
Утром Клоун вызвал к себе «Хрена»:
— Почему сгорел эшелон?
— Не могу знать, — спокойно ответил тот. — Пойдемте вместе посмотрим.
«Хрен» залез под обгоревшую цистерну и долго там возился.
— Смотрите! — Он пригласил немца залезть под цистерну. — Плохо закрепили флянец, он нагрелся и выскочил. Бензин разлился, а кто-то, очевидно, неосторожно бросил папиросу.
Окончательно выяснить причины пожара немцам не удалось, но «Хрену» эта диверсия доставила много хлопот и волнений.
15 февраля диверсанты из группы «Саввы» заминировали на станции Сарабуз цистерну с бензином, предназначенным для аэродрома. Взрыв произошел ночью, когда цистерна уже находилась на аэродроме. Сгорело пятьдесят тонн авиабензина.
Несмотря на неудачу с нефтебазой, диверсанты молодежной организации не отступили от намеченного плана. 22 февраля, как раз накануне годовщины Красной Армии, Вася Бабий, Енджияк, Лущенко и Еригов, надев немецкую форму, вторично направились на нефтебазу.
Ночь была темная. Еригов с автоматом залез на забор, чтобы в случае опасности прикрывать отход. Лущенко остался внутри двора, чтобы прикрывать товарищей с фланга, а Бабий и Енджияк направились к бакам.
Часового они не встретили и благополучно заминировали четыре бака. Для усиления взрыва к каждой мине прибавили по восемьсот граммов толу.
К сожалению, заряды оказались слабыми для толстых стенок баков. Два из них уцелели, но один все же был разрушен, и на землю вытекло около двухсот тони горючего.
К встрече славной годовщины Красной Армии деятельно готовились все патриотические группы.
На хлебозаводе члены группы «Дяди Юры» вывели из строя два дизеля, и несколько дней завод не работал. Было распространено большое количество листовок на русском, немецком, румынском и татарском языках. Мы выпустили листовку «Вести с Родины», где поместили обзор военных действий за девять дней — с 4 по 13 февраля; а вторую листовку с обзором за неделю — с 13 по 21 февраля. Мы сообщали об огромных успехах Красной Армии на всех фронтах.
Подпольщики «Муси» и «Луки» собрали большое количество медикаментов и перевязочных материалов для партизан; сарабузцы прислали сто яиц, масло, купили несколько бутылок вина, табак, немного конфет, шоколада. Все подарки вместе с поздравительными письмами подпольщиков мы отправили партизанам в лес.
«Муся» послала штабу большое поздравительное письмо.
«В честь славной годовщины мы совершили несколько диверсий и посылаем вам разведданные.
Немцы свирепствуют, хотят напугать советских людей. Но, оторванные от Большой земли, мы остались преданными патриотами своей Родины. Товарищи дали клятву мстить, но нам нужны мины и еще мины к тем, что вы нам присылаете. Работа несомненно потребует много-много мин», — заканчивала она письмо своим постоянным требованием.
24 февраля «Мартын» прислал двадцать мин специально для «Муси». На этот раз даже она осталась довольна.
Приближение Красной Армии и активная деятельность подпольной организации в городе очень тревожили предателей. Видимо, они уже не слишком надеялись на немцев.
Начальник карательного отряда татарин Карабаш последнее время часто откровенничал с «Ниной», которая, по моему поручению, поддерживала с ним знакомство.
— Вам-то, Евгения Лазарева, хорошо. В худшем случае вас исключат из партии, как пассив, за то, что вы ничего не делаете против немцев. А я — другое дело. Мне кругом петля. С немцами уйду — крышка будет, здесь останусь — повесят большевики. Вот если бы мне подвернулся какой-нибудь видный коммунист, я бы его спас от гестапо и тогда мог бы доказать свою преданность советской власти.
От Карабаша «Нина» узнала, что гестапо намеревалось организовать провокационное нападение «партизан» на город. План был такой. Переодетые предатели ночью открывают в городе стрельбу и инсценируют бой немцев с партизанами. Мнимые партизаны будут забегать в дома и просить жителей переодеть и укрыть их.
Гестапо рассчитывало таким способом выявить и уничтожить советски настроенных людей.
Мы предупредили всех наших, но через несколько дней немцы почему-то изменили свой план. Агенты гестапо под видом партизан начали заходить на квартиры к советским людям и заводить с ними разговоры такого содержания: «Положение немцев в Крыму безнадежно. Они будут уничтожать всех советских патриотов. Мы присланы штабом партизан предупредить вас и спасти. Собирайтесь с нами в лес. Предупредите ваших знакомых. Если вы за них ручаетесь, мы уведем в лес и их».
Но наши люди уже знали, в чем дело, и спокойно отвечали, что не чувствуют перед немцами никакой вины и не хотят связываться с партизанами.
К этому времени вокруг подпольного городского комитета партии было объединено более четырехсот патриотов, организованных в сорок две патриотические группы.
Конспирация соблюдалась неплохо — за четыре месяца работы у нас не было ни одного провала. Но молодежная организация меня очень тревожила.
Не прошло двух месяцев после провала Бори Хохлова и ряда других комсомольцев, как в молодежной организации опять случилось несчастье.
29 января «Костя» спросил меня:
— Вы посылали кого-нибудь к Маргарите Ериговой?
— Никого не посылал.
— К ней пришел человек, назвавший себя представителем обкома партии, присланным из леса для объединения всех патриотических групп. Я думал, вы послали.
— Да в своем ли ты уме! Говоришь такие глупости! Это же провокатор. И, конечно, он просил связать его с подпольным комитетом?
— Нет. Он просил познакомить его с руководителем диверсионной группы, которая действует в городе.
— Как же она отделалась?
— В том-то и беда, что она поверила и призналась, что связана с подпольной организацией.
— То есть как призналась? Разве ты не предупредил ее, чтобы она никаких представителей из леса не принимала?
«Костя» пожал плечами.
— Ты же имел прямое указание — и мое и «Мартына» — не принимать никаких представителей из леса и обязан был предупредить об этом всех членов организации.
— Да, но Маргарита же не член нашей организации.
— Как это не член вашей организации? У нее в доме ваша база, там собираются диверсанты, ты сам там бывал, ее сын и дочь — подпольщики. Как же можно было не предупредить такого человека о возможности провокации!
— Ничего, Иван Андреевич, не волнуйтесь, — успокоил меня испуганный «Костя». — Мы поправим дело. Я побегу к ней, узнаю все поподробнее и приду, расскажу вам.
— Ее нужно немедленно отправить в лес, но тебе нельзя туда ходить. За домом наверняка следят.
— Я пойду к Вове Енджияку. Мы найдем, через кого связаться.
«Костя» убежал. Я был в страшном смятении.
Два дня он не показывался. Что только не приходило мне на ум! Может быть, и ребята засыпались. Надо принимать срочные меры.
Я послал «Нину» к «Косте» домой осторожно разузнать, что с ним, и, если он дома, передать о немедленной встрече со мной.
Наконец явился и сам «Костя».
— Думаю, все будет в порядке. Она действительно попала на провокатора, и слежка за ее домом началась. Но этой ночью Вася Бабий с Вовой, Викториной Енджияк и Борисом Ериговым перенесли всю базу из ее дома к Енджияку и закопали в сарае.
— Хорошо, но что с Маргаритой?
— Женщина она смелая, умная, — уверенно сказал «Костя», — сумеет выкрутиться. Чтобы отвести подозрение, она решила сама пойти в гестапо и заявить, что к ней из леса пришел партизан. Она притворилась, что связана с подпольной организацией, чтобы помочь гестапо поймать этого партизана.
Я горько усмехнулся:
— Ты думаешь, в гестапо дураки и поверят ей?
— Я убежден, Иван Андреевич, что этот номер пройдет. Она выкрутится.
Вечером «Костя» пришел опять.
— Не вернулась, — сказал он упавшим голосом. — Задержали ее в гестапо. Подождем, может быть еще вернется.
— Раз попала в гестапо, вряд ли вернется. Видишь, к чему приводит беспечность! Не предупредили во-время, и теперь теряем замечательную патриотку. И неизвестно еще, кончится ли на этом.
— Она твердая женщина, — старался успокоить меня «Костя». — Уходя в гестапо, она сказала Борису и Вове. «Прощайте, ребята! Будьте спокойны, все будет хорошо. Если я не вернусь, не волнуйтесь. Сама я ввязалась в эту скверную историю с провокатором, со мной она и кончится. Пусть из меня все жилы вытянут, а сына и вас не выдам. Передайте это товарищам…»
Прошло несколько дней. Маргарита Александровна не вернулась. Две недели переодетые гестаповцы шныряли около ее дома. Потом все стихло.
Позднее мы узнали: Маргарита Александровна Еригова погибла смертью героя, не выдав никого из подпольщиков.
Когда слежка за домом Ериговых прекратилась, Борис снова организовал у себя базу диверсионной группы и ходил на боевые операции.
После провала Маргариты Александровны мы еще раз предупредили всех подпольщиков, чтобы они соблюдали строжайшую конспирацию и дисциплину. Но вскоре я окончательно убедился, что «Костя» не хочет исправляться и может всех нас погубить.
Я получил радиограмму от обкома партии об установлении связи с Севастополем. Об этом задании я сообщил на заседании комитета, где присутствовал и «Костя». Нужно было выяснить, у кого имеются надежные родственники или знакомые в Севастополе, которых можно использовать для подпольной работы. Через два дня «Лука» сообщил мне, что у руководителя патриотической группы Сергеева — «Савелия» — в Севастополе имеются хорошие знакомые. В этот город с письмом от Сергеева к его знакомым я решил направить машиниста Симферопольского депо Апалькова, который жил с Ольгой в одном дворе и хорошо был мне известен как подпольщик. В дальнейшем он должен был служить связным между нами и подпольщиками Севастополя. Все было подготовлено. Ожидали только очередной поездки Апалькова в Севастополь.
И вдруг «Костя» оглушил меня неожиданной новостью:
— Знаете, Иван Андреевич, я уже послал на связь с Севастополем.
— Как послал?! Кого? — всполошился я.
— Сегодня поехал туда с поездом член нашей организации из группы Ланского комсомолец Володя Боронаев.
— Кто такой Боронаев? — стараясь быть сдержанным, спросил я.
— Да это очень активный парень. До немцев он учился в школе и хорошо знает немецкий язык. При немцах учиться не стал. Работает теперь грузчиком в продуктовом немецком магазине на станции Симферополь. Через каждые пять дней он сопровождает вагон с продовольствием для снабжения немцев-железнодорожников по линии Симферополь — Севастополь. Связь надежная. Он повез туда две мины и литературу.
— Кому повез?
— У нас там имеется подпольная молодежная группа.
— Что же ты мне об этом раньше не говорил?
— Я и сам только вчера узнал об этом. Нет, положительно это было невыносимо!
— АЛ кто же там эти подпольщики? — осторожно спросил я Косухина.
— Я лично еще не знаю, но Боронаев ручается за них. Он говорит, что несколько раз возил им туда наши листовки для распространения в Севастополе.
— Почему ты, Толя, не выполняешь точно и честно мои задания?
— Иван Андреевич, я был убежден, что вы возражать не станете.
— Как же не возражать! Все мои помощники советуются со мной и точно выполняют мои указания, а ты ведешь себя неискренне, двулично.
— Ничего, не волнуйтесь, Иван Андреевич, я убежден, что все будет хорошо. Он поехал в отдельном вагоне с продуктами, там можно спрятать все, что угодно. Кроме того, он сам по дороге может заминировать ценный для немцев эшелон.
— Как только Боронаев вернется, доложи мне.
— Обязательно! Дня через два он будет здесь.
Но Володя Боронаев из Севастополя не вернулся.
Сразу же после его отъезда, в ночь с 6 на 7 февраля, гестаповцы явились к нему на квартиру и произвели обыск. В замаскированной яме нашли оружие, арестовали его мать, Евгению Ивановну, тринадцатилетнего брата Леонида, четырехлетнюю сестренку Надю и подчистую ограбили квартиру.
Как я выяснил позже, Володя Боронаев имел связь в Севастополе с комсомольцем Виктором Кочегаровым, работавшим на железной дороге. По приезде в город он пошел к этому товарищу на квартиру. Переночевал у него, а утром вернулся на станцию к вагону и был схвачен гестаповцами. При обыске у него обнаружили мины. Одновременно с ним в Севастополе были арестованы Виктор Кочегаров и его родители — отец, Владимир Яковлевич, и мать, Татьяна Яковлевна.
В этот же день, 7 февраля, из группы Ланского были арестованы работавший на станции Симферополь комсомолец Виктор Астахов и на обувной фабрике — комсомолец Леонид Самойленко.
Из всей группы остался на свободе один Ланский, которого мы немедленно отправили в лес. Но он не захотел оставаться у партизан, самовольно вернулся в город, зашел к себе на квартиру, попал на засаду и был схвачен гестаповцами.
Таков был третий удар по нашей молодежной организации. Меня мучила и до сих пор мучит мысль, что вся катастрофа началась с легкомысленной посылки Боронаева с минами в Севастополь.
Новые провалы в молодежной организации не затронули патриотические группы, но скоро выявились неприятные факты, касавшиеся лично меня.
Несмотря на запрещение бывать у меня, «Костя» под разными предлогами забегал ко мне на квартиру и делал это очень неосторожно.
Однажды после ухода «Кости» соседка предупредила Анну Трофимовну:
— Я видела этого молодого человека с другим парнем из нашей квартиры, у которого мать нашла листовки.
Смотрите, если немцы узнают, что он к вам ходит, вы наживете неприятности, и старику не сдобровать.
Заметила «Костю» и Мария Михайловская, которая донесла на пятнадцатилетнего Эрика.
Придя к Анне Трофимовне, Михайловская сказала, что хотела бы познакомиться с «интересным молодым человеком», когда он на следующий раз придет, а попутно стала расспрашивать и обо мне: кто я, где раньше жил.
Анна Трофимовна сказала, что в дом, где я раньше жил, попала бомба, поэтому я и снял у нее комнату.
Придя к Анне Трофимовне на другой день, Михайловская проговорилась:
— Дом, о котором говорит старик, действительно разрушен. Я проходила случайно по той улице.
Ясно, что ходила она на окраину города «не случайно», и весь этот разговор был очень неприятен.
И полицейский надзиратель, которого Анна Трофимовна как-то изрядно угостила водкой, сказал ей «по секрету»:
— Мы знаем, что подпольной организацией руководит старик, плотник, живущий в железнодорожном доме. Мы его скоро поймаем.
Это был тот самый полицейский надзиратель Рубакин, который проверял домовую книгу и разговаривал со мной. Но в домовой книге я значился стекольщиком: Полицейский знал, что я занимаюсь починкой обуви и жестяной работой, а не плотничаю. Кроме того, мой убогий, нищенский облик в его представлении, видимо, никак не вязался с фигурой руководителя подпольной организации.
Свою квартиру я решил сейчас же переменить. Мастерскую я оставил нетронутой, из домовой книги тоже не стал выписываться.
— Если будут интересоваться, где я, — предупредил я Анну Трофимовну, — скажите, что у меня в деревне Кирке живет замужняя дочь. Она заболела и вызвала меня. Сколько времени я там пробуду, вы не знаете, но я просил вас комнату никому не сдавать, а мастерскую сохранить до моего возвращения.
Двухэтажный домик, в котором я поселился, стоял в глухом переулке. Хозяин квартиры и управляющий домом Саша Резунов, по профессии слесарь-механик, руководил одной из наших групп. Кроме того, в этой же группе состояли еще два управляющих домами. По делам службы они бывали в полиции и держали меня в курсе всех городских новостей. В домовой книге меня опять оформили фиктивно. Резунов дал мне комнату в своей квартире, оборудовал ее как слесарную мастерскую и помогал мне выполнять заказы.
Новую мою квартиру теперь знали только Ольга и «Нина», приходившие к управляющему домами якобы по квартирным делам. «Костя» был отправлен в лес. «Мартына» я предупредил о невыдержанном поведении «Кости» и просил не пускать его больше в город.
Я неоднократно просил подпольный центр прислать мне помощника по военной работе, но получал отказ. «Подберите на месте», отвечал «Мартын». Перебрав всех моих людей, я остановился на Степане Васильевиче Урадове — «Луке». На практической подпольной работе он зарекомендовал себя как бесстрашный, дисциплинированный коммунист и прекрасный организатор.
Я давно хотел ввести его в состав горкома в качестве своего помощника, но «Луку» было чрезвычайно трудно заменить как ответственного организатора. Он объединял вокруг себя свыше ста членов подпольной организации — пятнадцать патриотических групп. «Лукой» были созданы группы на очень важных предприятиях и учреждениях: в типографии, откуда мы получали немецкие листовки и приказы еще до выхода их в свет; в строительной конторе, снабжавшей нас материалами и инструментами; в туберкулезном диспансере, где через руководительницу группы врача Зеленскую по нашему указанию выдавались справки, освобождающие от работы и от угона в Германию. У «Луки» имелась группа машинистов железной дороги, группа в драмтеатре, в транспортно-гужевой конторе, ветеринарном складе и других учреждениях.
Я ввел «Луку» в состав комитета. Вместо него мы назначили трех новых ответственных организаторов, которые раньше работали его помощниками: его жену Тасю, учительницу, члена ВКП(б) учителя Савелия Енстаховича, по кличке «Тарас», и бывшего наборщика типографии — старика Сергеева.
Я встретился с «Лукой» у него на квартире. Он жил с семьей на окраине города, в Братском переулке.
Подойдя к дому, я поглядел на окно — условная занавеска на месте. Я спокойно вошел. «Лука» был один и перелицовывал какой-то пиджак. Усадив меня на ободранный, с торчащими пружинами диван, он сразу стал рассказывать:
— Ваше задание выполнено. План города готов. Пришлось порядком поработать. Очень трудно было достать карту города. Николай Андреевич Барышев, наш подпольщик, художник театра, начал составлять новую карту, но потом все-таки ухитрился стащить у немцев старую. Немецкую карту надо было перевести на русский язык и увеличить. Барышев просидел над этим две ночи.
Пока он делал карту, мы разбили город на участки. К каждому участку прикрепили людей. Все мои подпольщики ходили со двора во двор, залезали в подвалы. Один, под видом каменщика, пробрался в подвал разрушенного здания почты. Оказалось, что там помещается телефонный командный пункт, связывающий Симферополь с городами и районами Крыма. Дело, конечно, кропотливое, но зато мы собрали очень ценные данные.
«Лука» достал из дивана свернутую кальку и развернул ее.
— Как видите, план сделан со всеми «объектами». А вот объяснительная записка и условные обозначения: ГШНА — главный штаб немецкой армии, Гоголевская, восемь, бывшее помещение обкома партии. КГ — квартира генерала. Их тут много, но высший командный состав живет главным образом на Ноябрьском бульваре. Там нужно пробомбить получше. ТЖ — татарский жандармский корпус. Смотрите, какой большой — занимает четыре дома на улице Субхи. ТНП — тайная немецкая полиция, гестапо. Там же находятся и фашистские застенки. СГ — склад горючего. СБ — склад боеприпасов. Ну, и так далее. Все фашистское нутро вывернуто. Правда, стоящая работа?
— Замечательная работа! — Я был в восторге.
— План этот мы сделали в трех экземплярах. Два я даю вам, а один разрешите оставить у себя для занесения последующих изменений. Сейчас, например, немцы проделывают такие фокусы: чтобы создать видимость переброски новых войск в Крым, они перенумеровывают и перемещают с места на место здешние части. С людьми у них туго. Они отправили на фронт три четверти своих поваров и денщиков. Теперь один денщик обслуживает пять — десять офицеров.
— Передайте Николаю Андреевичу и всем, принимавшим активное участие в этой работе, благодарность горкома, — сказал я. — Продолжайте следить за обстановкой и вносите уточнения. Один экземпляр я отошлю в лес.
— Барышев работает очень энергично и инициативно, — продолжал «Лука». — Театральная группа уже приступила к выполнению вашего задания по сохранению имущества театра. В костюмерной театра два члена нашей группы: портной Озеров и портниха Кучеренко. Барышев советовался с ними, как спасти костюмерную, которую немцы собираются вывозить.
Сначала думали было спрятать костюмы в другом помещении. Но тогда нужно перенести тысячи вещей через двор, а во дворе живут немцы, могут заметить. Хотели закопать в яму, но шутка ли спрятать такую уйму одежды, да и испортиться она может в земле. Наконец решили все наиболее ценное замуровать в одной из комнат подвала, в котором помещается костюмерная.
Барышев привлек к этому делу еще одного подпольщика — Чечеткина, машиниста сцены. И вот вечерами, во время спектаклей, под видом подготовки костюмов для актеров они снимали ценные костюмы с вешалок и укладывали их в условленной комнате. На освобождавшееся место развешивали всякое старье. За три вечера комнату набили доверху, уложили туда более пяти тысяч костюмов, обувь, ковры. Наглухо закрыли железную дверь, а во весь простенок комнаты, выходящей в коридор, поставили сделанную Чечеткиным деревянную стенку. Побелили ее, чтобы она была похожа на соседние стены, набили гвоздей, развесили старую одежду. Непосвященный человек никогда не догадается, что там есть комната.
— Прекрасно! А театр заминирован?
— Пока нет. Наши следят.
— Предупредите Николая Андреевича, чтобы не упустил момент, а то все их труды пропадут, если немцам удастся взорвать театр.
Я спросил «Луку», что намерен делать Барышев, если немцы будут насильно эвакуировать артистов и обслуживающий персонал.
— Это у нас предусмотрено. Мы подготовили несколько конспиративных квартир, где артисты смогут укрыться.
— Это хорошо, что они укроются, но театр-то останется без охраны, и немцы в последний момент театр взорвут. Нужно организовать небольшие боевые отряды. Вооружить их, назначить командиров и прикрепить к определенным важным объектам: театр, отдельные предприятия. Пусть следят и охраняют.
После разговора с «Лукой» я пошел к «Анодиюо». Его мастерская находилась в этом же районе.
Время от времени я приходил к нему, в мастерскую «отчитываться» и сдавать в бухгалтерию «заработанные» деньги.
По справке я работал на дому стекольщиком от этой мастерской и получал двадцать процентов от заработка, а остальные должен был сдавать в кассу. Каждый месяц аккуратно я вносил семьсот — девятьсот рублей.
«Анодий» жил на втором этаже над мастерской. Он, его жена и сынишка встречали меня всегда очень приветливо.
— Как живете? — поздоровался я с «Анодием».
— Все в порядке. Шура с рацией возится. Только вот беда: она Краснодар слышит хорошо, а ее там — плохо. Приходится одно и то же повторять по нескольку раз.
— Сколько времени она работает без отрыва?
— Много. Час, а то и два.
— Никуда не годится. Могут засечь. Передача должна длиться не более десяти — пятнадцати минут.
— Я и сам знаю, — сказал «Анодий», — но не могу установить, в чем дело: то ли в рации какая помеха, то ли батарея плоха. Хорошо бы с Большой земли новую батарею получить. Потом нужно предупредить обком, чтобы учитывали все-таки наши условия. Они совершенно с этим не считаются. Назначают время передач. Шура дает позывные, отвечают: «Занято, прием через час». Иногда по два-три раза откладывают.
— Это уж совсем безобразие! — рассердился я и тут же составил радиограмму Владимиру Семеновичу с просьбой упорядочить прием наших передач и прислать батареи.
— А как ваш радиоприемник работает? — спросил я.
— Безотказно. — «Анодий» спрятал радиограмму. — Теперь я его тоже в подземелье пристроил. Москву слушаю каждую ночь. Сегодня сообщили о ликвидации фашистских войск, окруженных в районе Корсунь-Шевченковский. Убито пятьдесят пять тысяч, взято в плен более восемнадцати тысяч немцев и огромные трофеи.
— Все это очень радует, но хотелось бы, чтобы и о нашем фронте что-нибудь сообщили, — вздохнул я.
— О нас пока ничего нет.
— Надо ваш приемник использовать как можно шире. Пусть Шура записывает все существенное, передавайте «Нине», будем размножать.
— А зачем Шура? Я сам все сделаю, — сказал «Анодий».
Наша связь с лесом работала регулярно. Мы отправили в штаб план Симферополя с объяснительной запиской, два телефонных аппарата и триста метров провода, полученного мною через патриотическую группу связи, а также пишущую машинку, собранную часовщиком «Валей». С каждой почтой мы посылали много медикаментов, доставляемых «Мусей». «Лукой» и членом театральной группы артисткой Перегонец. Медикаменты мы получали и от подпольщиков, работавших в больницах, — Кондратьевой, Головиной, Самарской и других.
Для базы боеприпасов «Лука» подыскал новое хорошее помещение на территории ветеринарного склада, где у нас имелась небольшая патриотическая группа, работавшая под руководством Зубкова, бухгалтера этого склада.
В общем, работа шла неплохо. Сколько было радости, когда, пользуясь нашим планом, советские летчики стали бомбить военные объекты в Симферополе и вражеский аэродром.
Со дня на день мы ждали начала наступления Красной Армии на нашем фронте. Я написал «Мартыну» письмо с просьбой прислать сотню винтовок и хотя бы десятка два автоматов, чтобы вооружить людей, которые выступят, когда Красная Армия подойдет к Симферополю, и помешают немцам разрушить город.
Но в начале марта в нашей работе произошли серьезные осложнения.
Глава двадцатая
4 марта «Муся» сообщила мне, что к ней приходила некая Людмила, по кличке «Лесная». Раньше эта женщина была разведчицей у партизан и не раз приходила к «Мусе» с заданиями от штаба. Последнее время «Муся» с ней не встречалась.
— Почему же вас так встревожило появление этой «Лесной», если она — разведчица штаба? — спросил я.
— Мне очень не нравится история, которую она мне рассказала. Она говорит, что во время большого прочеса была захвачена румынами в плен и будто бы ей удалось откупиться от них золотыми часами. Ее отпустили. В лес она не вернулась, осталась в городе со своей семьей. Но сегодня утром «Лесную» якобы вызвали в гестапо и под угрозой расстрела предложили помогать вылавливать подпольщиков. В гестапо ей как будто показали список лиц, к которым она должна войти в доверие, приказали выяснить адреса подпольщиков и помочь арестовать их. Она дала согласие, только поэтому ее и отпустили, предоставив ей недельный срок.
— Что же она вам сказала о своих дальнейших намерениях?
— Просит спасти ее от гестапо и отправить в лес.
— А она назвала вам фамилии подпольщиков, которые значатся в гестаповском списке?
— Я спрашивала, но «Лесная» уклонилась от ответа. Она сказала, что сама предупредит этих подпольщиков.
— А именно о вас что она говорила? — с волнением продолжал я расспрашивать «Мусю».
— По ее словам, я в этом списке не значусь.
— А вы не допускаете, Александра Андреевна, что никакого списка ей в гестапо не показывали и она сама выдала подпольщиков?
— Уверенности у меня, конечно, нет! — По быстроте «Мусиного» ответа я увидел, что и ее мучила эта мысль. — Но все может быть. Мне кажется, при любых условиях нужно скорее отправить ее в лес, тем более, что она сама об этом просит.
— Конечно. Там разберутся, изолируют ее, отправят на Большую землю. А не может так получиться, Александра Андреевна, что на месте явки немцы устроят засаду и захватят нашего проводника?
«Муся» ничего не ответила. Я понял, что и она тоже об этом думала.
На прощание я сказал «Мусе», что вопрос очень серьезный. Чтобы дать ей окончательный ответ, мне необходимо посоветоваться с членами горкома.
Разговор этот происходил на явочной квартире. Дома меня поджидала «Нина».
— Большая неприятность, Иван Андреевич! — забыв даже поздороваться, сказала она. — Я только что встретилась на улице с одной знакомой женщиной. Ее зовут Людмила. За все время оккупации я ни разу не видела ее. И вдруг сегодня она подошла ко мне и сказало: «Будьте осторожны. Гестапо знает, что вы занимаетесь подпольной работой». Я, конечно, спокойно ответила ей, что бояться мне нечего, но она настойчиво повторила: «Берегитесь. Я вас предупреждаю, что за вами следят. Вы можете попасть туда, где я была, но откуда не все выходят». Я опять сделала непонимающий вид, но она так пронизывающе взглянула на меня, что мне стало холодно. Она сказала: «Ну, смотрите! Я была обязана вас предупредить. Вы ведь живете на улице Островского? Да, да! Я знаю ваш адрес. Если бы я не встретила вас, я бы пришла к вам домой». Мне не хотелось продолжать с ней разговор, и я не стала расспрашивать, откуда она узнала мой адрес. Меня это так ошеломило, просто ноги подкашивались.
«Опять Людмила! — подумал я. — Очевидно, та же самая, о которой говорила „Муся“».
Почти физически я ощущал близость большой, серьезной опасности. Нужно было немедленно спасать людей.
— Сейчас же переходите со всей семьей на другую квартиру, — сказал я «Нине». — Чтобы не вызвать подозрений, оставьте дома все как есть. Хозяйку предупредите: если вас будут спрашивать, пусть скажут, что вы скоро придете. Есть у вас подходящая квартира?
— Есть у сестры. Она живет в глухом переулке и к подпольной организации не имеет никакого отношения.
— Переселяйтесь туда. Об этой Людмиле мне только что говорила «Муся». Очень темная история с этой женщиной. К «Мусе» пока не ходите. Учтите, что за вами уже может быть слежка. Поэтому и ко мне ходите пореже и с оглядкой. Когда пойдете к кому-нибудь из наших, обращайте особое внимание на опознавательные знаки. Предупредите об этом всех связанных с вами товарищей. Ничего лишнего в доме не держите.
— Я уже все подчистила, — сказала «Нина». — Литературу роздала всю, а клятвы подпольщиков у меня спрятаны в бутылку и закопаны во дворе. Сверху навален разный хлам. На всякий случай имейте это в виду.
В тот же день Ольга Шевченко обратилась ко мне с просьбой отправить в лес женщину, находящуюся под угрозой ареста.
— Кто эта женщина? — спросил я.
— Ее зовут Людмила.
Холодок пробежал у меня по коже.
— Откуда ты ее знаешь?
— Я ее в глаза никогда не видала. Но ее знает один подпольщик, наш хороший знакомый. Он еще в 1942 году был с «Саввой» в одной группе. Его кличка «Максим Верный». Он связан с лесом, работает разведчиком и с Людмилой знаком по разведке.
— А он не говорил, почему ее нужно отправить в лес?
— Сказал, что она попала в тяжелое положение, ей угрожает арест, и она хочет со всей семьей уйти в лес.
— Что же она за разведчик, если сама дороги в лес не знает?
— Он говорит, что Людмила давно не ходила в лес, а сейчас много минированных полей, и она боится подорваться.
— Людмилу с семьей в лес мы отправим, — сказал я Ольге. — Пусть «Максим Верный» передаст ей об этом. Но его строго-настрого предупреди: Людмила ни в коем случае не должна знать, с кем он ведет переговоры и кто организует отправку.
Мы все подготовили. Уже было назначено место явки за городом, назначен проводник, но Людмила, ссылаясь на семейные обстоятельства, откладывала уход.
Тем временем произошли новые, очень тяжелые для нас события.
5 марта в городе опять появился «Николай». Днем «Николай», Анатолий Досычев (бывший ученик «Муси», который связал ее с партизанами), Люся Серойчковская и Вера Гейко, тоже имевшие связь с лесом, пошли в кино. По выходе они были арестованы.
Случилось то, чего мы с «Мусей» больше всего боялись: «Николай» оказался в гестапо.
Я предложил Волошиновой немедленно перейти на конспиративную квартиру и предупредить всех подпольщиков, которых знал «Николай», чтобы они тоже приняли меры предосторожности и были готовы уйти в лес.
«Муся» ответила, что мины она уже переправила к Пахомовой, которая работает в центральной библиотеке, а людей своих предупредила, чтобы они скрылись и к ней больше не ходили.
Но на этот раз «Муся», умная и осторожная женщина, проявила недопустимую медлительность. Иван Михайлович был тяжело болен, и она на один день задержалась на своей квартире. А 7 марта ее дом оцепили гестаповцы, и она с мужем были арестованы. Гестаповцы произвели тщательный обыск, даже во дворе и в сарае вывернули все камни, перекопали землю — видимо, искали мины и оружие, но ничего не нашли.
При обыске присутствовала квартирная хозяйка, от; которой мы и узнали все подробности.
Александра Андреевна вела себя очень спокойно, была только несколько бледна. Румынскому офицеру она заявила:
— Вы пошли по неправильному пути.
— А какой правильный?
— Не знаю.
— Покажите сводки, которые вы отправляли в лес! — потребовал офицер.
— Я не отправляла никуда никаких сводок.
— Где ваш дневник?
Александра Андреевна все отрицала. Выведенный из себя офицер прикрикнул на нее:
— Не прикидывайтесь! Скажите лучше, какие сведения вы давали партизанам?
— Никаких.
— У вас, сударыня, память плохая. Но ничего, мы ее подлечим! — значительно бросил офицер, подталкивая в машину «Мусю» и Ивана Михайловича.
Выяснилось, что «Николай» знает почти всех диверсантов из молодежной организации: и Бабия, и Енджияка, и Еригова. Они учились в одной школе, а в лесу он видел их всех.
Было решено, что Вася Бабий и другие диверсанты, которых знал «Николай», немедленно переменят квартиры и вместе с семьями уйдут в лес.
В тот же день вечером немцы явились на квартиру к Васе Бабию. Его не было дома. Предупрежденные родители сказали гестаповцам, что Вася женился и переехал на другую квартиру. Указали фиктивный адрес. Гестаповцы бросились по указанному адресу, а родители Васи и его младший брат сейчас же ушли из дома, разыскали Васю и предупредили его.
Вернувшись, гестаповцы нашли пустую квартиру, разграбили ее и оставили засаду.
Гестаповцы ворвались в квартиру Анатолия Басса. Его тоже не было дома. Они арестовали его мать и, так же как у Бабия, оставили засаду.
Пришли за Борисом Ериговым. Дома была только его сестра Лена с ребенком.
— Где Борис?
— Не знаю, куда-то ушел.
— Одевайся. Пойдешь с нами.
Угрожая пистолетами, немцы приказали Лене итти к Енджияк, где якобы находился Борис. Растерявшаяся женщина пошла к Енджияк, не понимая, что она таким образом указывает, где он живет. Володя был дома и подготовлялся к уходу в лес, в кармане у него была граната и пистолет. Кроме него, дома были мать, отчим и сестра Викторина, собиравшаяся итти вместе с братом. Открыв дверь, Володя увидел гестаповца и услышал команду:
— Руки вверх!
Но парень не растерялся. Он захлопнул дверь. Раздался выстрел, пуля пробила доски. Володя подпер дверь плечом. На шум выбежала Викторина:
— Что случилось?
— За мной пришли.
Внутренняя задвижка была слабенькая, гестаповцы ломились.
Викторина подбежала к двери и, подперев ее, крикнула Володе:
— Беги!
Володя распахнул окно и выпрыгнул в соседний двор подпольщика Демченко.
— Бегите! — крикнула Викторина отчиму и матери. — Бегите скорей!
Отец и мать с трехлетним мальчиком выскочили вслед за Володей в окно и закрыли за собой ставни.
Оставшись одна, Викторина некоторое время держала дверь, а потом отпустила. На пороге стояли три гестаповца с пистолетами. Видимо боясь сопротивления, они не решались сразу войти в комнату и, только убедившись, что девочка одна, набросились на нее и связали ей руки. Осмотрев пустой дом, они стали допытываться у Викторины, куда исчез брат.
— Его дома не было! — ответила она.
— Врешь, мы видели. Говори — где!
Немцы повели Викторину во двор, в огород, требуя указать, где спрятался брат, где оружие. Они избили ее и бросили на пол.
— Ты знаешь, кто мы?
Викторина молчала.
— Мы из СД. Там тебе язык развяжут.
Пока гестаповцы обыскивали дом Енджияка, Володя побежал к Борису Еригову. Увидев настежь раскрытую дверь, разбросанные вещи, он понял, что и здесь были немцы.
Ночь была лунная, тихая. Скоро во двор вошли четыре человека с автоматами и в немецкой форме, но Вова сразу узнал Борю Еригова, Анатолия Басса, Петю Бражникова, Евгения Демченко.
Вова рассказал о том, что случилось.
Ребята решили спасти Викторину. Еригов, Басс и Демченко через сад пробрались во двор Енджияка. Володя, вооружившись автоматом, подошел к окну, из которого выпрыгнул. Он наткнулся на часового. Тот его окликнул. Володя выстрелил и убил гестаповца. Подбежав к окну, он распахнул ставки и дал очередь из автомата по комнате. Находившиеся в доме полицейские, беспорядочно стреляя, бросились во двор. Один из них, обернувшись, выстрелил в Викторину.
Ребята поджидали гестаповцев во дворе. Все немцы были убиты, но во время перестрелки погибла и Лена Еригова.
Вскочив в окно, Володя увидел Викторину в луже крови. Она была ранена в голову и не узнала брата.
— Это я, Володя. — Енджияк поднял сестру, развязал ей руки, положил на сундук.
Ребята взяли оружие убитых гестаповцев и, захватив с собой Викторину, скрылись.
Евгений Демченко хотел увести в лес и свою семью, но старик-отец отказался, боясь, что у него нехватит сил дойти до леса и он только свяжет молодых.
Не прошло и получаса после перестрелки, как Речная улица, где жил Енджияк, была оцеплена немцами. Начались повальные обыски и аресты. В доме Демченко немцы обнаружили тело убитой Лены Ериговой, которую старики подобрали во дворе Енджияк. Вся семья Демченко — отец, Николай Петрович, шестидесяти четырех лет, мать, Прасковья Евгеньевна, пятидесяти трех лет, сестра матери, Мария Евгеньевна, шестидесяти трех лет, с шестнадцатилетней дочерью Светланой и бабушка, Агафья Семеновна, восьмидесяти семи лет — была арестована и расстреляна.
На этой же улице, в доме номер пять, при обыске немцы нашли красный флаг. Марцинюк, хозяйка этого дома, хранила его для встречи Красной Армии. Ее тоже расстреляли.
Был арестован и расстрелян больной отец Бори Еригова.
Ребята, участвовавшие в перестрелке, спрятались на ночь в противотанковом рву. На другой день, 9 марта, были отправлены в лес Вова Енджияк с родителями и братом, Анатолий Басс, осиротевший Демченко, Петя Бражников, Еригов, потерявший всю свою семью, Вася Бабий и Алтухов с семьями и другие. Всего двадцать два человека.
Викторина находилась в тяжелом состоянии. Ее укрыли в городе на конспиративной квартире.
В связи с начавшимися арестами «Хрен» пока прекратил диверсионную работу. Чтобы отвлечь от себя внимание, он даже решил на несколько дней выехать из города и организовал поездку в Севастополь за рыбой для работников станции. Он уехал, еще не зная об аресте «Муси».
Возвращаясь со станции после отъезда мужа. Люда встретила Усову.
— Где Виктор Кириллович? — спросила та.
— Только что уехал в Севастополь. А в чем дело? — Люда встревожилась.
— «Муся» и Иван Михайлович арестованы Горком поручил передать «Хрену», чтобы вы немедленно ушли в лес.
Люда побледнела. Она почувствовала себя нехорошо — были последние дни ее беременности. Чтобы не упасть, она взяла Усову под руку и оперлась на нее.
— Кто еще арестован?
— Не знаю. Слышала, что арестован какой-то разведчик «Николай».
— «Николай»? Он приходил к нам из леса и знает Виктора и его помощников.
Люда тотчас же пошла домой, осмотрела ящики стола, сожгла все, что могло их скомпрометировать. Ее мучила мысль, как предупредить мужа.
Вскоре и к ней пришли гестаповцы, обыскали квартиру, ничего не нашли и ушли.
Люда сорвала с окна занавеску, служившую опознавательным знаком, написала на клочке бумаги: «Ушла на базар», что значило — «был обыск», наклеила записку на двери и вышла на улицу.
Она разыскала «Кошку», «Мотю», Брайера и всех их предупредила.
— Виктор в Севастополе. Как дать ему знать? — спросила она «Кошку».
— А где его там найти?
— Не знаю.
«Кошка» схватился за голову:
— Чорт возьми, что же делать?
— Постарайся пробраться в Севастополь и разыскать его.
— Если будет поезд.
Но в этот день на Севастополь не было ни одного поезда. «Кошка» напрасно проболтался на станции, забыв о том, что ему самому угрожает арест.
Предупредив подпольщиков, Люда зашла к дежурному по станции и со слезами начала упрашивать его связаться с ее мужем, говорила, что ей плохо, начались схватки и она должна родить.
— Передайте ему только два слова: «Жена в больнице».
Эти два слова значили: «Не приезжай, скрывайся».
Немец долго отказывался, ссылаясь на запрещение частных разговоров. Люда не отставала, инсценировала обморок.
Дежурный принялся, звонить в Севастополь, в одно, в другое учреждение, расспрашивая, нет ли там Ефремова, и передавал всем, чтобы он приехал: «Жена в больнице».
В одном месте ему ответили, что Ефремов в Балаклаве, с этим городом телефонной связи нет.
Люда пошла в контору бывшего начальника станции. Там работала надежная женщина — Катя Баженова. Люда предупредила ее:
— Следи за поездами. Как только увидишь Виктора, скажи, чтобы домой не приходил и немедленно скрылся.
Домой Люда вернулась измученная и все ломала голову, что нужно еще сделать. Вдруг вспомнило, что забыла предупредить свою мать. Она бросилась к двери и подалась назад — в квартиру входили гестаповцы. Они снова произвели обыск, арестовали Люду и привезли ее в румынское гестапо.
Через два дня Люду вызвали на допрос.
— С кем вы знакомы? — спросил арестовавший ее офицер. — Среди учителей у вас есть знакомые?
— Я училась в этом городе. Возможно, что и есть. — Люда старалась говорить спокойно.
— А такие, которые бы часто к вам ходили?
— Таких нет.
— А «Мусю» вы знаете?
— Какую «Мусю»?
— А «Николая» и Толю вы знаете?
— Я не знаю, о ком вы спрашиваете. Николаев и Толь много.
Офицер что-то сказал румынскому дежурному, тот вышел. У Люды кружилась голова. Но она старалась владеть собой. Отворилась дверь. В комнату ввели «Николая» и Анатолия Досычева. У Анатолия лицо было в синяках, и он, видимо, еле держался на ногах.
— Она? — спросил офицер у «Николая».
Тот молча кивнул головой.
Офицер повернулся к Люде:
— Что же вы отказываетесь признавать своих друзей?
Люда поняла, что «Николай» предал их. Прямо глядя в лицо «Николаю» и Досычеву, она медлила с ответом, как бы стараясь что-то вспомнить.
— Да, я их как будто видела.
— Где?
— Как-то раз они заходили к нам. Но это было давно, потому я и забыла.
— А зачем они приходили?
— Я не интересовалась. К мужу приходит много людей по делам службы, разве всех узнаешь!
— Вы знаете, кто они?
— Нет, не знаю.
— Тогда я вам скажу, как это было. В октябре месяце они с «Мусей» пришли к вам домой. Они разговаривали с вашим мужем, а вы готовили ужин. Затем «Муся» ушла, а они остались у вас ночевать. Ваш муж познакомил вас и сказал: «Это товарищи из леса». Так это было? — крикнул офицер.
— Не помню, — ответила Люда.
— Это так было? — обратился офицер к «Николаю».
Тот опять молча кивнул.
— Это было так? — злобно процедил офицер, подойдя вплотную к Толе Досычеву.
Тот молчал.
— Я спрашиваю, правильно ли говорит твой приятель? — прикрикнул румын, помахивая плеткой. Анатолий опять промолчал.
— Увести их! — приказал офицер дежурному и подошел к Люде. — Да, это было так, сударыня. Что же вы, и «Мусю» не помните?
— Не знаю такой.
Привели Александру Андреевну Волошинову. Она была в своем плюшевом пальто и черной шапочке. Сильно избитая, в синяках, она стояла прямо, твердо, прикрывая воротником обезображенное лицо.
Увидев Люду, Александра Андреевна чуть качнула головой, давая понять, чтобы Люда не признавалась.
— Вы ее знаете? — спросил у «Муси» офицер. Спокойно взглянув на Люду прищуренными глазами, «Муся» не ответила.
— Я спрашиваю, вы ее знаете?
Александра Андреевна продолжала молчать, даже не взглянув на офицера.
— Уведите ее.
Когда «Муся» скрылась, офицер угрожающе бросил Люде:
— Не будешь сознаваться, сделаем с тобой то же, что и с этой красавицей.
В румынском гестапо Люда просидела недолго. На другой день, 11 марта, ее посадили в закрытую грузовую машину, где уже находились совершенно больной Иван Михайлович, Люся Серойчковская, Вера Гейко и другие арестованные, незнакомые ей. Гестаповцы втолкнули в машину и «Мусю». К ней бросился Иван Михайлович. Люда ужаснулась — левая нога «Муси» опухла, как колода, на правой руке были содраны ногти.
Александра Андреевна, превозмогая боль и пользуясь шумом машины, тихо спросил Люду:
— Виктор арестован?
— Не знаю. Он должен был вчера приехать из Севастополя. Вы что-нибудь говорили о нем?
— Вы видите, как меня изуродовали. Но я им ничего не сказала и не скажу. Все сделал «Николай». Ты не признавайся. На тебя у них нет никаких компрометирующих данных. Иван Михайлович тоже ничего не скажет, а кроме нас никто из арестованных о тебе ничего не знает.
Александре Андреевне было трудно говорить. Помолчав немного, она продолжала:
— Отказывайся от всего. Это твой единственный шанс на спасение. Если выйдешь отсюда, передай товарищам, чтобы не забыли нашего мальчика, Леню. Нам с Иваном Михайловичем хорошего ждать нечего.
— Что обо мне говорить! — Иван Михайлович с мукой глядел на свою жену. — Я уж свой век прожил… — и он заплакал.
— Не плачь! — вздрогнула «Муся». — Мы ведь знали, что они нас не пощадят. — Она еще пыталась улыбнуться, поглаживая руку Ивана Михайловича. — Жаль только, что мы мало для Родины сделали.
— Пусть наши друзья и сын не сомневаются, — наклонившись к Люде, горячо зашептал Иван Михайлович. — Волошиновы умрут честно и никого не выдадут.
Машина остановилась на Студенческой, 12, где помещалось немецкое гестапо. Пока арестованных выводили из машины, Люда попрощалась с Иваном Михайловичем и «Мусей». Та шепнула ей:
— Ничего, девочка, крепись. Ни в чем не признавайся. Повторяю: в этом твое спасение.
Арестованных ввели в темный коридор, выстроили по стене и начали обыскивать. В это время Люда увидела — из камеры вывели ее мужа. Он был в наручниках, шел прямо и гордо. Проходя мимо арестованных, Виктор встретился взглядом с Людой, остановился, но охранник толкнул его, и он скрылся за дверью.
Люда едва не потеряла сознание.
Ее посадили в полутемную камеру, переполненную арестованными женщинами.
— За что? — спросила одна из них, протискиваясь к Люде.
— Не знаю.
Воздух в камере был ужасный, у Люды закружилась голова. Она присела на край нар, держась за подпорки верхнего яруса.
Как мы потом узнали, «Хрен» был арестован 10 марта в Севастополе. Одновременно были арестованы «Кошка» и «Мотя» с женами и детьми и Соколов, по кличке «Перо».
Через несколько дней Люда и семьи «Кошки» и «Моти» были освобождены. Когда Люду вызвали в канцелярию и объявили об освобождении, она спросила:
— А муж?
Ей ответили:
— Не беспокойтесь, он останется у нас.
Вместе с Виктором Кирилловичем в гестапо остались его боевые друзья: «Кошка» — Владимир Эрастович Лавриненко, «Мотя» — Иван Григорьевич Левицкий и «Перо» — Николай Семенович Соколов.
Глава двадцать первая
Об арестах подпольщиков я тут же сообщил по рации в обком партии, а 11 марта послал «Мартыну» подробную информацию о положении в городе. Из леса мы снова получили листовки на русском, немецком и румынском языках и газеты. Роздали их оставшимся патриотическим группам для распространения среди населения и солдат.
12 марта наш проводник должен был вести к партизанам «Лесную» и «Максима Верного». Одновременно с другого сборного пункта мы отправляли в лес нескольких подпольщиков, которым грозил арест.
Надо было уводить людей из группы «Муси», но тут возникли большие затруднения. Все руководители групп были связаны непосредственно с ней. Я же знал их только по кличкам. «Муся» не передала мне их адресов. Я запросил адреса у «Мартына».
У Анны Трофимовны я познакомился с Усовой, которая часто к ней приходила. «Нина» тоже знала Усову, как учительницу, связанную с «Мусей» по подполью. Узнав об аресте «Муси», я через племянника Анны Трофимовны, Ваню, предупредил Усову. Она скрылась и была потом переправлена нами в лес.
12 марта ночь была темная. Часть подпольщиков не пришла на условленное место. Проводник начал их разыскивать, но когда собрал всех, итти в лес было уже поздно. Они вернулись в город, и их отправили в следующую ночь.
13 марта ко мне пришла «Нина» вместе с «Лукой».
Мы решили до выяснения обстановки воздержаться от привлечения к активной работе членов группы «Мусы» и молодежной организации, так как 10 марта арестовали Зою Рухадзе и Владлена Батаева.
В остальных патриотических группах арестов не было, и они продолжали работать. «Нина» с семьей попрежнему скрывалась у своей сестры и уходить в лес пока не хотела.
В связи с провалом диверсионных групп «Хрена» и Васи Бабия мы решили сделать центром диверсионной работы Сарабуз, где до сих пор было спокойно. Во время нашего совещания пришла Ольга.
— У меня только что был Семен Филиппыч, — сказала она. — Из леса пришли Гриша и Женя.
— Во-время! — обрадовался я. — Помогут нам отыскать людей «Муси» и заберут кого нужно в лес.
— Семен Филиппыч сказал, будто Гриша имеет указание и вас забрать в лес, — сказала Ольга огорченно.
Это сообщение всех нас неприятно удивило. Мы поговорили и пришли к выводу, что мне пока нет оснований уходить из города. Из арестованных лично меня знает только «Муся», а в ее стойкости мы не сомневались. В полиции известно, что подпольной организацией руководил старик-плотник, но меня знают как стекольщика; к Анне Трофимовне полиция за мной не приходила.
Мы условились, что на другой день после моего свидания с Гришей соберемся у «Луки» и окончательно решим вопрос о нашей будущей работе. Мы считали, что «Лука» — вне всяких подозрений у гестапо и находится в лучшем положении, чем любой из нас.
Ольга задержалась у меня и, когда все ушли, сказала:
— Приходил «Максим Верный». Он очень встревожен: сегодня утром арестовали Людмилу.
— Сейчас же предупреди «Нину». Она с семьей должна немедленно уйти с Гришей в лес. А о тебе Людмила ничего не узнала?
— Я с ней не встречалась. Думаю, что она обо мне не знает.
На другой день рано утром, когда я еще спал, снова прибежала Ольга.
— Я и Сергей провалились. Пришла вчера домой часа в три. Недалеко от нашего дома увидела гестаповскую машину, но не прядала значения: они везде шныряют. Сварила обед, сходила за водой и поджидала Галку. Вдруг заходит соседка Феня и шепчет:
«Ты одна?»
«Одна».
«Тебя и Сергея гестапо ищет».
Фене я не доверяла.
«Чего это мы вдруг понадобились гестапо? Какое мы к ним отношение имеем?»
«Ты, Ольга, свои грехи знаешь. Уходи скорее!» сердито сказала она.
Оказывается, к Фене приходила мать «Максима Верного», заставила Феню поклясться ребенком, что она меня предупредит и никому об этом не расскажет.
«Они, видно, не знают вашей фамилии, — добавила Феня, — ходят из дома в дом и спрашивают, где живет Ольга, у которой мужа зовут Сергей. Вас, конечно, все знают, но никто не говорит. Машина и сейчас недалеко стоит. Скоро до нашего двора дойдут, а тут Мирка со своим Линдером — сама понимаешь. Беги, пока не забрали!»
Я схватила с вешалки кожанку и выскочила на улицу. Галка стояла за углом. Я позвала ее и сказала, что нам нужно итти. Мы перешли на другую сторону, там нас уже ждала мать «Максима». Оказывается, часов в десять утра к их дому подъехала машина. Из нее вышла Людмила и гестаповцы. Старуха сразу сообразила, что приехали за сыном, и спрятала его.
«Где сын?» спросила Людмила, входя в дом вместе с гестаповцами.
«Он на работе».
«Там его нет. Ты мне должна сказать, где он. Мне нужно узнать, где живут Ольга и Сергей, которые к вам ходят», добивалась Людмила.
— Откуда же Людмила узнала о вас? — спросил я у Ольги.
— Она несколько дней до предполагавшейся отправки жила у «Максима». Очевидно, слышала имена.
Гестаповцы и Людмила ничего не добились у старухи и пошли по домам, везде спрашивали квартиру Ольги, у которой муж Сергей.
Мать «Максима» слышала, как Людмила говорила гестаповцу: «Мне бы только Ольгу поймать, а она все и всех знает».
— Нужно сейчас же предупредить Сергея..
— Я уже послала в Сарабуз своего подпольщика, Семена Антоновича Нечепурука. Отец Сергея тоже побежал туда. Не знаю только, сумеют ли они добраться раньше гестаповцев. Я просила Семена Антоновича, если он Сергея не найдет, пусть зайдет к учителю Массунову, по кличке «Заря», и предупредит. «Заря» должен знать, где Сергей.
Мы договорились, что Ольга с дочкой до вечера будут скрываться у Анны Трофимовны, а в половине шестого придут к Филиппычу, и Гриша уведет их в лес.
Отправив Ольгу, я быстро собрался к Филиппычу. Надел свое приличное пальто, в котором никогда не ходил по городу, а вместо шапки-ушанки — фуражку Резунова. «Обо мне тоже может быть известно в гестапо. Возможно, в гестапо еще не знают, где я живу, но уже имеют мои приметы и подстерегают на улице. „Мартыну“ что-нибудь уже известно, потому он, может быть, и прислал за мной Гришу», думал я по дороге.
Около дома Филиппыча прогуливались два немецких солдата — патруль, но цветок стоял на условленном месте, и я вошел в дом.
Несмотря на ранний час, все уже были на ногах. Мария Михайловна готовила завтрак. Филиппыч в своем рабочем фартуке сидел за столом, разговаривал с Гришей и Женей. Тут же были Ваня и Саша; они жадно слушали рассказы партизан об их житье-бытье. Все были близкими, родными. Мы расцеловались.
— Давно не виделись! — с радостной улыбкой сказал Гриша. — Как жизнь?
— Ничего, хорошо. Как дошли?
— Превосходно, без всяких приключений, — ответила Женя.
— Ну, — сказал Филиппыч, глядя ласково на нас, — мешать вам не буду, пойду работать. Саша, и ты, Ваня, ступайте на улицу. Да глядите в оба, чтобы не подошел непрошенный гость.
— Знаю без тебя! — огрызнулась Саша. — Сейчас пойду. — И, обернувшись ко мне сияющими от радости глазами, таинственно шепнула:
— Дедушка, а у меня есть партизанская дочка!
— Вон что! Где же ты ее достала?
— Из лагерей с мамой принесла. Таней звать, хорошая такая. Показать вам?
— Покажи, покажи! — гладя ее по головке, сказал я.
— Она сейчас спит. Когда встанет, обязательно покажу. Вы не уходите.
— Таня смышленая девочка, только, гляди, греха с ней наживешь, — заметила с огорчением Мария Михайловна.
— Что такое?
— С вами будет и разговаривать и хохотать, а как увидит немца или румына, побелеет вся, затрясется и бросает в них, что в руках держит, прямо ненормальная какая-то.
— Будешь ненормальная! — сказала запальчиво Саша. — Спросите, дедушка, у нее, где коровка, она скажет — «немцы взяли», а где домик — «немцы сожгли», а где папа — «немцы убили», а где мама — «немцы взяли». Вот поэтому она такая и злая на них.
Хотелось поговорить с Филиппычем, с которым мы встречались последнее время только на явочных квартирах, с его ребятами, которые меня давно не видели, но очень уж тяжелое было настроение, да и каждая минута была дорога.
— Что у вас на сегодня? — спросил Гриша, когда мы остались втроем.
— Я писал «Мартыну», что арестованы «Муся», «Хрен». Сейчас новое осложнение. Гестаповцы разыскивают Ольгу и «Савву». «Нину» тоже нужно отправлять в лес. У меня затруднение только с подпольщиками «Муси». Не могу с ними связаться: нет адресов.
— Адреса руководителей ее групп Павел Романович мне дал, — ответил Гриша. — Я уже принял меры, чтобы разыскать их и отправить, когда нужно, в лес. Указания Павла Романовича такие: всех подпольщиков, кому грозит опасность, в один-два дня перебросить в лес с семьями. Их выводит «Павлик», Я уже объяснил ему, что и как делать. А мне с Женей поручено вывести вас.
— Мне говорили, но пока я не вижу в этом надобности. Законспирирован я хорошо, непосредственной угрозы сейчас мне нет. Ну, поймите сами, как я могу уйти, когда со дня на день ждем Красную Армию?
— Я вас очень хорошо понимаю, Иван Андреевич, но приказ есть приказ. Мы обязаны его выполнить, — вежливо, но настойчиво сказал Гриша.
Я молчал.
— А вы не волнуйтесь, Иван Андреевич, — успокаивала меня Женя. — Побудете с нами в лесу, прояснится все, и мы вас опять доставим к Филиппычу.
— Мне кажется, в лесу просто напуганы. Помните провал «Серго», Бори Хохлова? Тоже ведь было очень тревожно. Но мы все оставались на месте, и правильно сделали. Я дам сейчас радиограмму в обком партии и «Мартыну», чтобы меня пока не трогали.
— Конечно, вы можете это сделать, — пожал плечами Гриша. — Но, насколько мне известно, таково указание и обкома партии.
— Когда вы думаете уходить?
— Завтра вечером.
— Радиограмму я все же дам. Уверен, что получу разрешение остаться.
От Гриши я сразу пошел к «Луке».
Мне было очень тяжело. Здравый смысл подсказывал — надо уходить, ибо арестовано немало людей. Провалилась мои ближайшие помощники — Ольга, «Савва», «Нина», «Муся», «Хрен». Полицейский надзиратель говорил, что подпольной организацией руководит старик. Значит, гестапо нащупало нити руководства подпольной организацией.
Но, с другой стороны, ищут старика-плотника, а я стекольщик, сапожник, жестянщик. При проверке документов на меня ни разу не обратили внимания. Отправим в лес Ольгу, «Савву», «Нину», и нити немцев к комитету оборвутся.
С этими тяжелыми мыслями я подошел к дому «Луки» и вдруг увидел, что на окне нет условленной занавески.
Я невольно вздрогнул и прошел мимо. Неужели и здесь провал? Ведь вчера «Лука» говорил, что у него все благополучно, звал меня к себе ночевать.
Я вернулся и, медленно проходя мимо дома «Луки», заглянул в окно. В комнате никого не было. Я подошел к воротам и заглянул в щель. Залаяла собака, из дома вышла женщина. Приоткрыв калитку, она спросила:
— Вам кого?
— Портного.
— Его нет. Ночью их арестовали, — сказала она тихо и захлопнула калитку.
Несколько мгновений я в оцепенении стоял у закрытой калитки, не в силах двинуться с места.
Снова залаяла собака, как бы предупреждая меня. Я очнулся и, не оглядываясь, пошел прочь.
Свернув к первый попавшийся переулок, я пересек разрушенное кладбище, вышел на Караимскую улицу и зашел к «Анодию». Он завтракал.
— Вы заболели? — спросил он участливо. — Лицо у вас нехорошее.
— Устал немножко.
— А то я могу вас подлечить. — Он весело поднял бутылку и налил мне стакан вина.
— Что нового? Где Шура?
— Все в порядке. Шура в тайнике расшифровывает радиограмму. Возможно, уже кончила.
Он ушел и вернулся вместе с Шурой. Она передала мне радиограмму из обкома: «Выводи находящихся под угрозой ареста людей и сам уходи в лес».
Теперь я уже не раздумывал. Тут же написал радиограмму в обком: «Вчера арестован „Лука“. Разыскивают „Савву“, Ольгу и „Нину“. Гриша здесь. Ухожу вместе с ним. Людей выводим».
— А со мной как будет? — спросила Шура.
— «Анодий» говорит, что у вас спокойно.
— Безусловно, Иван Андреевич, — уверенно отозвался «Анодий»: — Место у меня надежное. В случае необходимости все можем там укрыться, и вы имейте это в виду. Я на целый месяц сделал запас воды и продовольствия. Жить можно.
— Рация пока нужна здесь, — сказал я. — Сейчас меня вызывают в обком. Постараюсь там не задерживаться. Во время моего отсутствия радиограммы будут на имя «Анодия». Следите за обстановкой и информируйте обком. Все понятно?
— Все. Возвращайтесь скорее.
Я попрощался с «Анодием» и Шурой. Окольными путями пошел к себе. На условленном месте окна был налеплен кусок бумаги — все в порядке.
— Ну, слава богу, пришел! — обрадовался Резунов, открывая дверь. — Мы уж думали, что и вас арестовали. «Нина» сказала — арестован «Лука».
Лазарева сидела у меня в комнате, бледная, осунувшаяся.
— Почему вы знаете, что «Лука» арестован? — спросил я ее.
— Пришла я туда, как условились, и мне их соседка сказала.
— Я тоже был там…
— Знаете, Иван Андреевич, — перебил меня Резунов. — Когда «Нина» сообщила, что вы пойдете к «Луке», а он арестован, я со своими подпольщиками по всем улицам бегал, хотел встретить вас по дороге и предупредить.
— Спасибо вам, друзья мои, за заботу. Все обошлось…
Когда мы остались вдвоем с «Ниной», она сказала:
— И у меня на квартире были гестаповцы. Хорошо, что мы заблаговременно перебрались к сестре. Но боимся, что могут и до нее добраться. Сидим пока на кладбище, чтобы прямо оттуда в лес.
— В пять сорок будьте все недалеко от дома Филиппыча. Вас встретит Ваня Бокун и скажет, куда итти. Надо предупредить «Тараса», «Савелия» и Барышева об аресте «Луки». В случае опасности пусть уходят в лес и уводят своих людей. К ним придет проводник от подпольного центра. Пусть скажут, где он сможет их найти.
Мы установили пароль, с которым связной сможет найти подпольщиков, сверили свои часы, и «Нина» ушла. Я позвал Резунова:
— Обстановка складывается, друг мой, так, что мне приходится уходить в лес.
— А как же мы? — встревожился он. — Раз вы уходите, мы тоже не хотим оставаться. В моей группе, кроме меня, еще три человека. Отправьте и нас к партизанам.
— Хорошо, собирайтесь и вы. Сейчас же сходите к Ольге, чтобы она вместе с дочкой в пять тридцать была у Филиппыча.
После неожиданного провала «Луки» к дому Филлиппыча я подходил с особой настороженностью. Он разговаривал в мастерской с заказчиком, Женя в другой комнате читала «Голос Крыма», Гриша брился.
— Ну, радировали в обком? — спросил он, как только я вошел в комнату.
— Радировал, что сегодня ухожу с вами.
Я рассказал об аресте «Луки».
— Видите, как быстро развиваются события, — заметила Женя.
Гриша заторопился:
— Я дал «Павлику» указание выводить людей сегодня же. Пойдем вместе.
— А у Филиппыча как?
— Вроде спокойно. Я советовал ему тоже уходить с нами, но он отказался. Хочет первым встречать Красную Армию. Он побывал у Васи-сапожника, «Штепселя», «Вали», у всех людей, связанных с ним. У них-то тихо.
— Ну что ж, не будем пока их трогать. Срывать просто так людей не следует, они нужны здесь больше, чем в лесу.
— Безусловно. Такие указания я имею и от Павла Романовича. Людей «Муси» мы разыскали и забираем.
— Сколько всего народу пойдет с нами?
— Сейчас трудно сказать. Пойдут все, кого удастся собрать. Может быть, и двадцать и пятьдесят человек. Явочные пункты назначены в разных местах, а за городом в противотанковом рву соберемся все вместе и двинем дальше.
Из дома Бокуна я уже никуда не выходил, находился все время в одной комнате с Гришей и Женей, оберегаемый всей семьей Филиппыча.
Женя прилегла на постель и лежала молча, не шевелясь. При каждом скрипе наружной двери дома она быстро поднимала голову и чутко прислушивалась к шуму за стенкой.
Гриша, поставив левую ногу на стул и опершись на колено руками, не отрываясь смотрел в окно поверх занавески и то и дело поворачивал голову то направо, то налево, встречая и провожая проходящих мимо.
По примеру Жени, я прилег на другую постель. Тревожили неотвязные думы и о товарищах, попавших в застенки гестапо, и об остающихся здесь подпольщиках, и о том, как нам удастся выбраться из города.
Сгустились сумерки. Мы стали собираться. Филиппыч принес для меня пистолет. Мария Михайловна закрыла ставни, зажгла коптилку и вместе с мужем засуетилась около нас, помогая Жене укладывать в корзину продукты.
Пришел Ваня, потом «Павлик».
— Как обстановка? — спросил Гриша.
«Павлик» сказал, что ничего подозрительного не заметил, Яша и Витя ушли в разведку за город, Лазарева уже на улице, и с ней — какой-то парень.
— Это мой квартирный хозяин Резунов, — пояснил я. — Укажите им, куда итти.
Гриша сказал ребятам, кто кого выводит, и они разошлись. Попрощавшись с хозяевами, ушла и Женя выводить людей.
Оставалось десять минут до комендантского часа. Время выходить и мне с Гришей, а Ольги с Галей все нет.
Мы взволновались — заблудились или арестованы. Гриша нервничал, ругался.
Без пяти минут шесть пришла Ольга в чужой кожаной куртке, укутанная платком, с вязанкой дров на спине.
Я спросил, где Галя.
— Ее сейчас приведет Аннушкин Ваня. Я побоялась вести ее с собой.
— Ну, час добрый, не забывайте нас! — взволнованно сказал Филиппыч, прощаясь со мной. — Плохо будет, и я в лес со всей семьей приду.
Мы вышли во двор. У калитки уже стояли Ваня с Галей.
— Не забывайте про нас, — шепнул мне Ваня. — Счастливой дороги!
Указав Ольге направление, Гриша ушел на сборный пункт проверить людей. Я шагал вслед за Ольгой и Галей по той самой дороге, по которой четыре с половиной месяца назад пришел из леса к Филиппычу.
Как когда-то в лесу, во время ночных переходов, в темноте я снова почувствовал себя слепым и беспомощным. Я сказал Ольге, что ничего не вижу, и просил не отходить от меня.
— Дедушка, — прошептала Галя, — у меня глаза хорошие, я буду вести вас за руку.
Мы дошли до назначенного места, постояли, потом легли, чтобы нас не заметили со стороны.
Гриша пришел довольно скоро. Все было в порядке. Вместе с ним мы подошли к противотанковому рву. Постепенно собрались остальные.
— Мы увидим партизан? — спросила Галя.
— Обязательно, деточка, увидим. Мы идем к ним.
— Вот хорошо! Мне так хочется посмотреть, что это за люди.
Тут я спросил Ольгу, почему она запоздала к Филиппычу.
— Со мной целая морока случилась!
И она рассказала, как за ней охотились гестаповцы. После долгих поясков немцы добрались до их квартиры, произвели обыск, забрали фотокарточки ее и Сергея. Какая-то соседка описала гестаповцам внешний вид Ольги и Гали и во что они одеты. Людмила, зная, что подпольщики будут уходить в лес, вместе с гестаповцами подстерегала Ольгу и Галю на улицах при выходе из города. Анна Трофимовна помогла Ольге маскироваться, и она окольными путями добралась до Филиппыча. А Галя, скрывши свои косички под платком, тоже прошла с Ваней незамеченной.
— Линдер, когда узнал, что я подпольщица и сбежала, заметался, как бешеный, — говорила Ольга. — Сначала он не хотел верить и сказал: «Такая порядочная женщина не могла связаться с бандитами», а потом начал ругаться. «Сарабузский комендант машину за ней пошлет, на самолете в Германию доставит! Подумаешь, какая важная особа! — кричал он на весь двор. Потом себя начал ругать: — Подумать только, простая русская баба — и обманула меня, немецкого офицера!»
— А что с Сергеем?
— Отец успел его предупредить. Старика какая-то машина подхватила до Сарабуза. Ему удалось опередить гестаповцев и благополучно вернуться домой.
«Нина» сообщила мне, что утром гестаповцы арестовали Сергеева в технической конторе, где он работал кассиром. «Тарас» скрылся, и посланная к нему подпольщица не могла его найти. С Барышевым тоже не удалось связаться.
Во рву нам пришлось задержаться около часа. Люди всё подходили и подходили. Тут были и женщины с детьми, и старики, и больные. Оставаться в городе никто не хотел, и приходили сюда кто в чем успел выскочить из дома. Всего собралось тридцать два человека. Гриша, Яша, Витя и «Павлик», вооружившись автоматами, составляли нашу боевую охрану. Выстроившись попарно, мы тронулись в путь. По цепочке передавали уже знакомые мне команды. «Взлетит ракета — немедленно ложиться, при выстрелах — ложиться, подниматься по команде, не кашлять, не разговаривать, не зажигать огня, не отставать». Дорога была тяжелая и длинная. Большинство женщин — в туфлях на высоких каблуках, итти по кочкам — трудно.
На рассвете мы вошли в лес и сделали там продолжительный привал. Вздохнули посвободнее, закурили.
Вдруг где-то вдали раздался орудийный выстрел, другой. Гриша приподнялся и, сделав несколько шагов по направлению выстрела, замер на месте, стараясь определить, где бьют орудия.
— Кажется, в старо-крымских лесах, — сказал он, подходя к нам. — Очевидно, противник готовится к прочесу. Нужно не задерживаться. Он может и к нам пожаловать.
Мы тут же тронулись дальше и шли почти безостановочно. Около девяти часов утра, пересекая большую поляну, мы заметили в разных ее местах у опушки леса конных и пеших людей, одетых в ватники, с красными полосками на шапках-ушанках и вооруженных автоматами. Это была партизанская застава. Хмурые, усталые лица подпольщиков сразу озарились радостной улыбкой. Один из партизан с красноармейской звездочкой подошел к нам.
— Что за люди? — спросил он.
— Своих не узнаешь? — Гриша протянул ему руку.
— А, здорово! — улыбнулся тот. — Опять пополнение привел?
Гриша расспросил его об обстановке в лесу. Прочес действительно происходит в старо-крымских лесах. До нас доносился лишь раскатистый гул отдельных выстрелов.
Усталые люди сбросили с плеч вещевые мешки и присели на траву. Показалось солнце.
Вскоре к нам подъехал верхом Федор Иванович Федоренко.
— Василий Иванович! — улыбаясь, кивнул он мне. — Знаменитый сапожник, опять к нам?
— Я теперь не Василий Иванович! — смеясь, ответил я.
— Этого я не знаю. Для нас вы все равно остаетесь Василием Ивановичем.
Пришедших с нами людей переписали по фамилиям, и Федоренко направил их в свой ближайший отряд. Я вместе с Гришей и Женей пошел в штаб на Яманташ.
Часа через два тяжелой дороги по балкам и горам я увидел на склоне Яманташа несколько разбросанных под деревьями шалашей, замаскированных листьями. То был лагерь штаба Северного соединения.
Приоткрыв плащ-палатку — дверь большого шалаша, Гриша отрапортовался:
— Товарищ командир соединения, ваше задание выполнили. Привели «Андрея» и тридцать два подпольщика.
Из шалаша выскочил Павел Романович, за ним Луговой. Мы расцеловались.
Я начал было рассказывать о наших провалах.
— Потом, потом! — перебил меня Павел Романович. — Позавтракай с нами, отдохни. Когда ты передал нам об аресте «Муси» и «Хрена», я места себе не находил. Радировали в обком и решили тебя забрать, пока не поздно.
В просторном шалаше метра в два с половиной высотой, устроенном из жердей, с небольшим отверстием для дыма, с очагом посредине, стояли по бокам три койки из хвороста. Кроме Павла Романовича и Лугового, здесь жил помощник командира по войсковой разведке.
Небольшой ящик служил столом, за которым мы и уселись — кто на койку, кто на обрубках деревьев.
Миша нажарил конины с картошкой. Но есть я не мог — кусок застревал в горле. Слезы навертывались и от радостной встречи с друзьями и от тяжелых дум о наших подпольщиках, попавших в гестапо.
В лесу, среди друзей, я почувствовал себя, как дома. Выстрелы уже не производили на меня никакого впечатления.
О нашем приходе в лес Павел Романович радировал на Большую землю и тут же получил указание: с первым же самолетом направить меня в Краснодар для доклада. В Краснодаре находился Крымский обком партии.
Но мое путешествие на Большую землю задержалось. Погода изменилась, повалил снег, начались бураны, казалось — снова наступила зима. Из-за плохой видимости и глубокого снега самолеты не могли приземлиться. Я даже обрадовался этому обстоятельству — очень уж не хотелось мне уезжать.
Из пришедших с нами подпольщиков все боеспособные мужчины и женщины были зачислены в отряды, а остальные поселились в гражданском лагере. Ольга стала работать секретарем штаба лагеря, а «Нина» — парторгом.
Мы с Павлом Романовичем подробно обсудили положение в Симферополе, подсчитали сохранившиеся там силы. В городе осталось еще много подпольщиков. Нужно было установить с ними связь и направлять их работу.
Причины провалов полностью выяснены не были. «Мусю», «Хрена», «Нину», Ольгу и «Савву» предали «Николай» и «Лесная». А кто предал «Луку» и Сергеева, которых ни «Лесная», ни «Николай» не знали? Кто предал Зою Рухадзе и Владлена Батаева?
Но, разумеется, подобные вопросы не выясняются в один день. Иногда нужны годы, чтоб распутать все нити таких предательств.
Дня через четыре мы послали «Павлика» для связи с «Анодием» и вывода подпольщиков, находившихся под угрозой. Вместе же с ними пошел и «Костя», чтобы привести в лес свою семью.
«Павлику» дали явку к Семену Антоновичу Нечепуруку. Через него нужно было разыскать «Савву».
Ребята вернулись на шестой день. Они привели из города еще двадцать два подпольщика, в том числе и свои семьи. К большой моей радости, с ними пришел и «Савва».
Из города мы получили новое тяжелое сообщение. После нашего ухода в лес были арестованы Филиппыч и Вася-сапожник со своими семьями.
Гестаповцы пытались арестовать и «Штепселя», но он успел скрыться.
Выяснилось, что на третий день после нашего ухода в лес и ко мне на квартиру явились гестаповцы. Подробно расспрашивали обо мне у соседей, забрали мой ящик с двойным дном. По расспросам гестаповцев было видно, что кто-то подробно описал им мою внешность.
— Ну, а тебе как удалось вырваться? — спросил я у «Саввы», когда он пришел в наш шалаш.
— В общем хорошо, — ответил он. — Меня предупредил отец. Скрывался я в наших каменоломнях. Потом за мной пришел Семен Антонович Нечепурук и сказал, чтобы я немедленно шел в Симферополь, где меня дожидаются из леса.
— Кто мог предать нашего Филиппыча, Васю-сапожника?
— Ничего не могу сказать! — с горечью ответил «Савва». — К Васе на квартиру нагрянула целая ватага немцев, поставили в воротах пулемет, и никого не выпускали со двора. Забрали его, жену и дочку лет двенадцати. В доме сидит застава. Как был арестован Филиппыч — не мог узнать.
Наступило тяжелое молчание. Павел Романович, сидя на своей койке, начал вдруг свирепо бить палкой по головешкам догорающего костра.
— А как у вас в Сарабузе? — спросил я у «Саввы».
— Все на местах. Своим заместителем я назначил учителя Массунова — «Зарю» — и дал задание. Восемнадцатого марта диверсанты минировали состав с боеприпасами. Взрыв произошел в Джанкое. Перед моим уходом ребята заминировали еще один эшелон с горючим и продовольствием.
Павел Романович расспросил «Савву», кто такой «Заря» и можно ли на него положиться. Мы тут же решили послать к «Заре» человека для связи.
— Мы проделали еще большую работу по разложению так называемого добровольческого батальона, — сказал «Савва». — Командир батальона — вполне наш человек. Я имел с ним свидание. Он хочет весь батальон в полном вооружении и с транспортом увести к нам. Просит дать проводника. Люди они в Крыму новые, дорог не знают.
— Сколько их? — спросил Павел Романович.
— Сто шестьдесят два человека.
— На провокацию не нарвемся?
— Командиру их я верю. Дал ему задание, чтобы для увода в лес он подобрал самых надежных.
Послать в Сарабуз решили комсомольца Виктора Телешева, сарабузского подпольщика, которого мы давно уже переправили в лес. Гриша Гузий подобрал ему напарника. На другой день Виктор пошел в Сарабуз с минами и литературой.
Через пять дней Телешев вернулся. В Сарабузе он виделся с «Зарей», передал ему мины, литературу, принес ценные разведданные и привел сорок два добровольца с командным составом и полным вооружением.
Все было подготовлено к отправке батальона, но в последний момент немцы подняли тревогу, началась перестрелка. На условленный сборный пункт пробилось лишь сорок два человека. Остальные разбежались по деревням.
Подпольщики добились своего: батальон удалось разложить и охрана железнодорожного пути была сорвана.
Отдохнув немного, Телешев снова отправился в Сарабуз. С подпольщиками он встречался в каменоломнях, где они скрывались сами и укрывали более двухсот жителей окрестных деревень. В каменоломнях имелся запас воды и продовольствия.
Сарабузские диверсанты заминировали два эшелона с боеприпасами. На аэродроме было взорвано четыре вагона с бочками бензина, а на станции уничтожены четыре бочки отравляющей жидкости, приготовленной немцами для порчи муки.
Я побывал в гражданском лагере и повидался с симферопольскими подпольщиками: «Тарасом» и руководителями патриотических групп «Муси» — Пахомовой, Усовой, Щербиной, Самарской и другими. В беседе с ними выяснил много важных деталей о положении оставшихся в городе подпольных групп. Сам «Тарас» ушел в лес из предосторожности. Он часто бывал на квартире «Луки» и боялся ареста. Все его подпольщики сохранились и остались на своих местах.
— А как произошел провал работников театра? — спросил я у него.
— Этого я не знаю, — ответил он. — Но до ареста я им предлагал уйти в лес. Артист Добросмыслов заявил мне так: «Наша группа должна остаться здесь до самого последнего момента. Без нас немцы могут сделать с театром все, что угодно. Нужен свой глаз». А Николай Андреевич Барышев, кроме этого, еще и потому не ушел, что не хотел оставлять старика-тестя, который из-за болезни в лес итти не мог.
После беседы с подпольщиками для меня стало ясно, что мы имеем все условия для продолжения нашей подпольной деятельности в Симферополе. Сохранились наша радиостанция, по которой «Анодий» продолжал регулярно нас информировать о положении в городе, радиоприемники, типография, нашлись новые конспиративные квартиры и связные, не менее двухсот подпольщиков остались на месте, не затронутые провалом, сохранились спрятанные в городской библиотеке двадцать мин, в Сарабузе имелись винтовки, гранаты и пулемет.
Гестаповцы нанесли нам сильный удар: из наших рядов вырван ряд прекрасных работников, но уничтожить подпольную организацию врагу не удалось. Подпольный горком партии проделал немалую работу. Под его руководством было совершено более шестидесяти диверсий, взорвано одиннадцать вражеских эшелонов с боеприпасами и техникой, склады снарядов и бомб в совхозе «Красный», уничтожено более тысячи тонн горючего, при взрывах убито и покалечено немало фрицев. Мы распространили по городу и железной дороге до пятидесяти тысяч газет и листовок, полученных из леса и отпечатанных в подпольной типографии. Проделана порядочная работа по разложению войск противника и по доставке штабу партизан ценных разведданных.
«Ради такой работы стоит рисковать!» думал я. Тяжело было мириться с мыслью, что перед решающими ударами Красной Армии по врагу подпольному горкому пришлось уйти из города. В памяти ярко вставали рассказы «Муси» и других подпольщиков о том, как трудно было им работать без постоянного партийного руководства на месте.
Я решил вернуться в Симферополь. Главной помехой в этом было то, что нам не удалось до конца установить предателей. Это, конечно, было самое страшное. Но меня успокаивала твердая уверенность в том, что я лично знал немало замечательных патриотов, на которых я мог вполне положиться. В случае необходимости я мог укрыться в тайнике «Анодия» или в сарабузских каменоломнях. «Да, я могу снова пробраться в Симферополь, — думал я, — но для этого мне нужно по-новому законспирироваться. В том виде, в котором я был до сих пор, мне уже появляться в городе нельзя. Нужна другая профессия, одежда, документы». Я решил вернуться под видом учителя; сбрить голову, сменить свои очки в железной оправе на пенсне, надеть хороший костюм, пальто, шляпу и запастись соответствующими документами.
О своем намерении вернуться в Симферополь я поговорил с «Саввой» и предложил ему пойти вместе со мной. Он без колебаний согласился. Мы условились, что о нашем возвращении в город никто из подпольщиков и партизан в лесу не должен знать.
Свои соображения о дальнейшей подпольной работе я высказал Павлу Романовичу. Он запросил обком партии. После продолжительного молчания прибыл ответ: «Решайте на месте».
Мы начали готовиться, но у штаба в лесу не оказалось нужных нам документов и одежды. Я решил слетать в Краснодар, приобрести там все необходимое.
Но погода все еще продолжала оставаться плохой. Каждый вечер я ходил с Гришей Костюком на аэродром в ожидании посадки самолетов. «Дугласы» не раз гудели над нашими головами и из-за плохой видимости не могли приземлиться, Мы возвращались в лагерь с надеждой на хорошую погоду «завтра».
Лишь 7 апреля в одиннадцать часов ночи наконец-то приземлился «Дуглас», и я вместе с больными и ранеными полетел на Большую землю. В Краснодар я прибыл 8 апреля. В тот же день началось давно желанное наступление Красной Армии на крымском фронте, и через пять дней, 13 апреля, наши войска и партизаны вступили в Симферополь.
Глава двадцать вторая
Я прилетел в Симферополь на третий день после его освобождения. Повидался с Павлом Романовичем и Луговым и в тот же день пошел разыскивать своих подпольщиков.
Одной из первых я нашел жену «Хрена». Похудевшая, тоненькая, Люда показала мне своего новорожденного сына — маленького Виктора Ефремова.
Люда повела меня на Студенческую, 12, в бывшее здание гестапо, где она видела «Хрена» в последний раз.
Уже по-летнему грело наше ослепительное южное солнце, с гор тянуло свежим ветром, улицы были полны народа. В эти первые дни людям хотелось больше двигаться, глубже дышать, громче разговаривать и смеяться — свобода после стольких месяцев тюрьмы!
Мы вошли в пустынный двор. Меня поразила какая-то особая, кладбищенская тишина и тяжелый, удушливый запах.
— Пойдем, я уже была здесь!
По пустым коридорам Люда привела меня в темную, сырую камеру с замурованным окном.
Я зажег спичку и сначала увидел на стенах только подтеки сырости и темные застывшие брызги. Но, присмотревшись, различил надписи. Все стены были покрыты ими — писали карандашом, выцарапывали чем-то острым.
— Тут, Иван Андреевич, — показала Люда, и я прочел:
«На 28 году жизни здесь сидел 10.III.44 г. Ефремов Виктор, приговорен к смерти, которая будет 24.III.44 г. Прощайте, дорогие друзья и товарищи! Умираю за дело нашей любимой Родины. Живите все, имейте связь с партизанами. Но есть люди, которые губят сотни хороших людей. Прощайте, друзья! Ефремов».
На этих же стенах мы нашли последние слова Бори Хохлова:
«В эту конуру был посажен Хохлов Борис.
Навек, друзья мои, прощайте!
Прости меня, родная мать!
Родные, вы не забывайте —
Здесь мне придется погибать».
Вот еще надпись:
«Здесь сидела Зоя Рухадзе с 10.III.44 по…» — видно, не успела дописать.
А вот наш подпольщик, печатник из типографии:
«Шевченко Михаил. Симферополь, Сакская, № 12. Наверное, на Марс. 22.III.44».
«Здесь сидела последние минуты учительница Драгомирова. 2.XI.43. Джанкой».
«Семенченко Шура, 20 лет, погибла за Родину. Передайте родным, чтобы отомстили за меня и за сына. Бахчисарай, Пожарная, № 15».
«Сынуля, Женичка! Прощай, сынуля Женичка! Сегодня я буду расстреляна. Веди мое дело, не предавай никого, будь патриотом Родины. Грудина Ольга».
Люда сказала, что Грудина сидела с ней в одной камере.
Женщина зажигала спичку за спичкой, а я плакал и переписывал, переписывал с этой стены каждое слово.
И вдруг что-то странное показалось мне, какие-то недописанные слова:
«Погибла за Родину, прощайте… (зачеркнуто) и боевые товарищи, отомстите за пролитую нашу кровь. Нас предали… (зачеркнуто)».
Во многих надписях были вычеркнуты целые фразы.
— Когда я приходила сюда первый раз, все было, — сказала Люда. — Многие писали, кто их предал.
Вот когда я всем существом своим почувствовал: город освобожден, но борьба не кончилась. Ведь ходит же среди нас, по нашим солнечным улицам кто-то, кому понадобилось бежать к этой сырой, запятнанной кровью стене и выцарапывать последние слова расстрелянных.
По моей просьбе, к сожалению запоздалой, около здания была поставлена охрана.
Я сразу же поехал и в совхоз «Красный», где немцы устроили концлагерь и застенки.
Я видел маленькую комнату: с потолка свешиваются крючья, пол металлический, под полом — топка. Неподалеку четыре колодца, куда сбрасывали тела.
Теперь на месте колодцев поставлены памятники замученным в гестапо.
Мы нашли тела Васи-сапожника, Зои Рухадзе, художника Барышева, Виктора Кирилловича Ефремова и многих других.
Люде тело мужа не показали. Она думала, что Виктор не подвергался пыткам, а он был так изуродован, что только по одежде можно было его узнать.
Мы с почестями похоронили наших героев-патриотов.
Пусть никогда не исчезнет память о них в сердцах советских людей!
Среди арестованных немцами советских людей, которых освободила Красная Армия, была колхозница Послушная.
Она рассказала, что 12 марта к ним в камеру втолкнули женщину. Она шаталась, держась обеими руками за голову. Послушная бросилась к женщине, подвела ее к нарам и уложила на свое место. На другой день женщина пришла в себя — ее звали Александра Андреевна Волошинова.
Она рассказала, что в гестапо ее топтали сапогами, сдавливали тисками грудь, подкладывали металлические шарики. Шарики врезались в ребра.
Она очень страдала оттого, что никогда больше не увидит своего сына.
Александра Андреевна учила арестованных, как вести себя на допросах, старалась развлечь их, читала им наизусть Пушкина.
Когда Волошинову уводили на допрос, старухи молились о том, чтобы ее не пытали.
Однажды во время налета советской авиации, услышав гул самолетов и грохот бомбежки, Александра Андреевна приподнялась и запела «Землянку». Ворвались охранники и увели ее. В камеру она не вернулась.
Беседу с колхозницей Послушной записал приехавший повидаться с родителями сын «Муси» — лейтенант Леонид Волошинов.
Только теперь удалось нам узнать и о товарище Беленкове, оставленном для подпольной работы под видом сторожа психиатрической больницы, с которым мне так и не удалось связаться. В марте 1943 года он был арестован с группой подпольщиков и расстрелян немцами. Узнал я и некоторые подробности о Семирхановых. Шамиль Семирханов исчез из леса во время большого прочеса. Позднее его видели в гестапо, но не в роли заключенного. Отец Шамиля, Имам Семирханов, расстрелян органами советской власти за предательство семьи Долетовых.
В первые же дни я собрал всех подпольщиков, и они рассказали, как действовали наши патриотические группы во время немецкого отступления.
Вася Бабий со своими диверсантами был послан штабом партизан в город, чтобы ко дню рождения Гитлера взорвать здание казино.
Но 10 апреля началось паническое отступление немцев. Необходимо было срочно дать знать партизанам. Ребята выкрали лошадей, Яша Морозов и Витя Долетов поскакали в лес с донесением, а Вася решил изменить свой план.
Он связался с «Анодием», получил через него немецкие костюмы и оружие, выкраденное патриотами из здания немецкого госпиталя, и разделил комсомольцев на две группы. Одна устроила ночью засаду на Севастопольском шоссе и уничтожала отступающих немцев, вторая встала на охрану мостов, подготовленных немцами к взрыву.
Ребята разминировали и спасли три крупных моста и много телеграфных столбов.
В те же дни они выпустили листовку с призывом к населению не давать немцам разрушать город.
«Анодий» со своей патриотической группой спас от поджигателей здание школы.
Подпольщики, работавшие на мельнице, устроили внутри здания замаскированную караульную камеру. Там они несли тайные дежурства, чтобы перерезать провода, как только немцы начнут минировать мельницу.
Немецкий начальник пытался увезти двенадцать машин с мукой, но шофер Киселев «разул» все машины. Шоферы скрылись. Немцы уехали без муки. Подпольщики написали на воротах по-немецки: «Мельница минирована». Приехавшая подрывная команда повернула назад, считая, что все сделано другой частью.
Было спасено двести пятьдесят тонн зерна.
После ухода «Саввы» сарабузской подпольной организацией руководил Массунов, по кличке «Заря». Когда Красная Армия приблизилась к городу, подпольщики вышли из каменоломен и вступили в бой с немцами.
Так как воинские лазареты отстали от передовых частей, подпольщики организовали в каменоломнях госпиталь на сто человек. Они подбирали раненых прямо с поля боя.
Незадолго до освобождения Симферополя члены патриотической группы театра — Барышев, Чечеткин и артисты Добросмыслов, Перегонец, Яковлева — были арестованы гестапо.
Но здание театра спасла оставшаяся на свободе подпольщица, работавшая в костюмерной, Елизавета Кучеренко, и старый рабочий бутафорской мастерской, отец Героя Советского Союза Андрей Сергеевич Карлов.
— Немцы подожгли книжный магазин, который находился в нашем здании, — рассказывала Кучеренко. — Огонь перекинулся к нам. В театре — никого. Надо тушить, а Карлов — слабосильный старик Напротив театра жил рабочий сцены Яша Бугаенко. Я прибежала к нему: «Горим! Помогите раздеть сцену!» Немцы охраняют с улицы, а мы с Яшей пробрались в здание со двора. Начали тушить. От дыма уже было трудно дышать. Один немец все-таки пришел проверить — загорелся ли театр. Я как раз снимала шланг со стены. Он хотел меня застрелить, но тут его позвали с улицы. Немец ударил меня по лицу и убежал. Пожар нам удалось потушить, и пять тысяч костюмов в замурованной комнате тоже остались целы…
Вскоре после освобождения Симферополя на имя «Матери» — Антонины Ивановны Ивановой — пришло письмо:
«Привет из села Натырбова.
Разрешите передать вам свой горячий, пламенный привет и сообщить вам о том, что я жив и здоров, нахожусь сейчас дома, работаю комбайнером.
С нетерпением я ждал, когда освободят ваш город, чтобы быстрее написать вам письмо. Хочу я вам сообщить, кто вам пишет письмо, чтобы вы не сомневались. Пишет вам Петров Николай Дмитриевич. Тетя, жду с нетерпением ответа и в следующем письме пришлю фото.
Не могу я вам передать, как благодарит вас мама. Передайте от меня ребятам по маленькому привету.
Целую крепко-крепко вас несчетно.
С приветом Коля».
Это был тот самый маленький Коля Петров, которому «Мать» помогла бежать из лазарета военнопленных.
У «Матери» была еще одна интересная встреча.
— Как-то у Кондратьевых я встретила молодого капитана в орденах, — рассказывала «Мать». — Он сидел и ожидал, когда я приду. «Здравствуйте! — говорит. — Узнаете?» — «Нет, не узнаю, потому что не знаю». — «Я — капитан Костюк. Помните госпиталь военнопленных? Колю Петрова?» — «Но вы ведь были стариком, с бородой». — «Воскрес. — Смеется. — И омолодился у своих».
О многом поговорили. На прощание капитан сказал:
— Действовали вы очертя голову, жизнью рисковали. Так и било в глаза, что вы — настоящие советские люди, готовы лбами разбить ворота, чтобы только освободить нас.
— Не могли мы иначе, — сказала «Мать».
При обкоме партии была создана комиссия по делам подпольных организаций Крыма. Я сдал отчет о симферопольском подполье и начал писать эту книгу.
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru