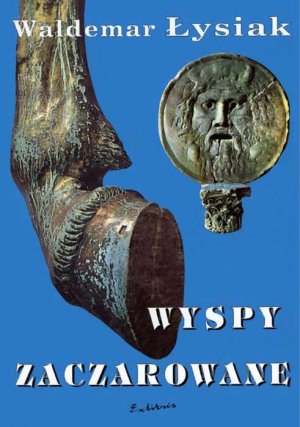
Редакторское примечание к четвертому изданию
В творчестве Вальдемара Лысяка — эссеиста, «Зачарованные острова» были книжным дебютом, точно так же, как в творчестве Лысяка — романиста дебютом была «Колыбель». Но какая из этих двух книг была абсолютным книжным дебютом Вальдемара Лысяка? Обе появились одновременно — не только в одном и том же году (1974), но и в одном и том же месяце, то есть, глядя с редакторской и рыночной точки зрения, они были дебютами-двойняшками. Формально, первенство принадлежит «Колыбели», написанной в 1970 году и награжденной в литературном конкурсе в 1971 году. Но, практически, «Зачарованные острова» очутились в книжных магазинах на несколько дней раньше.
Оба совместных дебюта Лысяка были успешными («Колыбель» до настоящего времени выдержала четыре издания), но истинную известность дебютанту принесли как раз эссе из Италии. «Острова» были немедленно замечены рецензентами и названы шедевром. Критики захлебывались от похвал, автора публично именовали «Звездой нашей новейшей литературы», аплодисментам и комплиментам не было конца. Процитируем примеры из трех журналов, которые в то время в наибольшей мере определяли общественное мнение. «Книга наполнена блестящей эрудицией, заставляющей задумываться, и она чрезвычайно интересна» (Сильвестр Яблоньский «Литература»); «Италия обрела иной литературный блеск» (Шимон Кобылиньский, «Политика»); «Проза Лысяка дышит тоской по чему-то, превышающему будничную мерку, по необыкновенному, по великому (…) Это явление: среди поколения, которое считается наиболее приземленным, он летает; может быть, он воплощает какие-то мечтания их всех?» (Стефан Братковский, «Культура»).
Какие мечтания имелись в виду — тогда их нельзя было высказать открыто, их можно было лишь подразумевать, о них можно было заставить «догадываться», и так рецензенты и делали. Тем временем, сам Лысяк не игрался в жмурки, когда прямо писал в «Зачарованных островах»: «Вечных империй нет, и не нужно здесь никаких пророчеств — нужно только терпение». В другом месте «Островов» он уточнял: «Все это только проблема времени и умения дождаться. Люди в течение этого времени будут умирать, но народы — нет. Терпение — со временем трава превращается в молоко». Читатели превосходно понимали, какую империю и какую «траву» имеет в виду автор. Цензор, которому голову закружил исторический антураж, эти антисоветские фразы пропустил, что граничит с чудом.
Несмотря на антикоммунистические встав очки (ни одна книга Лысяка, изданная до 1989 годом, не была от них свободна) — «Зачарованные острова» ни в коей мере не являются политической литературой. Так каковы же они? Среди этикеток, которые в то время наклеивались на автора, чаще всего повторялись две формулировки: «поэт» и «романтик», а в отношении стилистической манеры «Островов» охотнее всего использовался термин «поэтическая проза». Известный публицист, Михал Радговский, писал: «Моралист, романтик, поэт… Никто не сможет точно определить тип, к которому принадлежат эскизы Лысяка. Он свободен, словно птица». Этот элемент — аспект бунта, взрывную свободу, рвущую путы — подчеркивали (или, по крайней мере, предполагали) повсеместно. Впоследствии, в момент временного облегчения цензурного бремени по причине «Солидарности» (конец 1980 года), Кшиштоф Нарутович напишет в первой книжной биографии Лысяка: «Он признает исключительно зачарованные острова. Там уже все разрешено. Он ловит любой шанс посвящения в тайну, всякое артистическое приключение захватывает в собственное владение страстным и хищным образом (…) Это необыкновенно завлекательно — жить в ином измерении, в измерении красоты и приключений, словно призрак проникать сквозь слепые стены так называемой действительности, входя в волшебный сон».
При всех этих аплодисментах и восхищениях, нас должна удивлять нелюбовь Лысяка к его первым книгам. Уговоры его дать согласие на повторное издание «Зачарованных островов» длились долго, и они были наполнены трудами (трудами по убеждению со стороны издателя). Согласие мы получили лишь тогда, когда гарантировали автору возможность дать произведению новый «музыкальный стиль». Таким стилистическим педантом Лысяк сделался в последние пару лет, и не переиздает свои давние книги без стилистической переделки (конкретно же, грамматической, поскольку его поправки носят исключительно грамматический характер). Как тут не удивляться, когда мы знаем, что ранняя стилистика книг Лысяка пробуждала неустанные восхищения критики с самого начала, то есть, от «Островов» и «Колыбели»? Феликс Хржановский: «Изумительное перо!», Веслава Чапиньска: «По-настоящему большое искусство, большой писатель»; Хенрык Гурски: «Дух запирает»; Беата Совиньска: «А как же все это читается!»; Юлиуш Фосс: «Когда так много чертовски хорошей писательской техники, руки опускаются от зависти», Стефан Братковский: «Какое замечательное ремесло! Давно уже никто с таким умением не действовал на человеческие нервы!», и т. д. и т. п. Тем временем, сам автор считает свою первоначальную стилистическую манеру столь неудачной, он чуть ли не стыдится ее, и не дает права на новые издания, пока не сделает поправок, которые сам называет «музыкальными». Одно следует признать: утверждая в парк интервью, что он сам является «самым суровым критиком собственной литературы» — Лысяк не лгал.
И если нелюбовь Лысяка в отношении первоначальной стилистики таких (уже доработанных им «музыкально») произведений, как, например, «Молчащие псы» или «Флейта из мандрагоры», имела источник исключительно грамматический — то в случае «Зачарованных островов» дело было намного более сложным. Здесь Лысяк имел критические замечания и в отношении первоначальной «тональности» (как он сам это определил) книги. Когда мы спрашивали, что он имеет в виду конкретно, в конце концов, он признался, что произведение кажется ему сейчас несколько детским, то есть, переполненным юношеской наивностью и, иногда, своеобразной экзальтированностью, что сейчас его коробит. По нашему желанию он указал конкретные примеры. Мы же ответили ему на это, что для нас это фрагменты не столько экзальтированные, сколько трогающие именно юношеской откровенностью, еще не запятнанной брюзгливым цинизмом зрелого возраста. Тогда Лысяк, не сморгнув глазом, заявил, что второе, как раз, подходит ему больше, но согласился с тем, что изменение «духовной тональности» было бы подделкой в отношении оригинала, так что все закончилось лишь упомянутыми уже «музыкальными» (грамматическими) правками текста.
Четвертое издание «Зачарованных островов» отличается от первых трех еще и иконографией. Предыдущие издания имели всего лишь одну, небольшую, черно-белую вкладку с иллюстрациями. В нынешнем — две цветные вкладки и почти что сотня черно-белых иллюстраций в тексте[1]. На многих фотографиях мы видим автора в годы его путешествий по итальянским «зачарованным островам» (1971 и 1972), то есть, более четверти века назад, следовательно — Лысяка не актуального, поскольку молоденького. Одним словом: исторического, архивного. И тут появляется вопрос: а сохранило ли свою актуальность само содержание? Вот здесь прошу не опасаться, оно актуально до сих пор, ведь в «Зачарованных островах» автор занимается вечностью — культурой, цивилизацией, традицией Апеннинского полуострова. Все исторические памятники, которые он описал, находятся в тех же самых местах, даря ту же самую красоту, которая побуждала Лысяка вести рассуждения, не имеющие ничего общего с газетной актуальностью. Нынешнее время мало интересует автора — его волнует время бессмертное. Понятное дело, в метафизическом смысле. Так что, не имеет значения факт, что серьезно пострадала (в результате землетрясения) базилика святого Франциска в Ассизи — в главе, рассказывающей про Ассизи, Лысяк рассматривает проблемы, далеко выходящие за рамки старинных стен и фресок.
Если уж фотографии с автором на фоне исторических памятников являются достоверным свидетельством физической стороны того, давнего Лысяка, а его культурологические размышления — достоверным свидетельством духа (той, давней, «духовной тональности») — то, все же, можно сомневаться, а является ли само описание путешествия по Италии достоверным и полным свидетельством переживаний при столкновениях с материей. Возьмем, хотя бы, фотографию, которая была напечатана в мемуарах Лысяка («Лучший», Варшава, 1990) и фрагмент тех же воспоминаний[2]:
«Из Италии я привез фотографию, которая появилась в одном из тамошних цветастых, словно радуга журналов. На снимке был изображен настоящий роллс-ройс. В роллсе сидела звезда итальянского кино шестидесятых и начала семидесятых годов прелестная Розанна Подеста, а у ее голых, длиной до самого неба ног был виден тип, немного похожий на меня. Правда, мои дружки сразу заявили, что похожесть где-то такая же, как похожесть автомобиля „Волга“ на автомобиль „роллс-ройс“, и на этом мое международное плейбойство закончилось». На фотографии и вправду мы видим архи-двойника Лысяка в машине марки «роллс-ройс», у ног знаменитой тогда соперницы Джины Лолобриджиды и Софи Лорен. Как жаль, что авторское перо пропустило этот «зачарованный остров».
Не пропущенные же острова можно сложить в трассу без особых коллизий, если мы только ее можем представить (сам автор не давал хронологии своих итальянских блужданий и не складывал их топографически в последовательность «тура»). То есть, это не было одно путешествие, а различные выезды из Рима (где автор тогда учился) — на пару дней (конец недели) или на пару недель (во время каникул). Нанизать эти «острова» на один шнурок, словно бусины четок можно легко, и многие так и делают — уже почти четверть века «Зачарованные острова» служат польским туристам, посещающим Италию, «путеводителем». Точно так же, определенное число поляков пыталась посетить США с «Асфальтовым салуном»[3] в руке, то есть, с книжкой Лысяка в качестве путеводителя в поездке по той же самой трассе, с остановками в тех же местах — точно так же, только для большего числа земляков (значительного большего, ведь до Италии намного ближе) проводником были «Острова». И в качестве гида им можно пользоваться и сейчас, поскольку книга нисколько не устарела. Постарел сам автор, но ведь, отправляясь посетить Италию, мы не берем с собой живого автора, а только его произведение.
«В людях, населяющих острова, благодаря своему одиночеству, всегда есть нечто первобытное. Остров порождает обособление, обособление же рождает силу».
Наполеон.
Италия, кричащая тысячами холстов и страниц, разрисованная толпой запыхавшихся кистей и перьев, известная, словно алфавит и «Отче наш» — насколько же она была мне незнакомой. С каждым днем, с каждыми уходящими сумерками, в солнцах, отбеливающих мраморные колонны, в тени заулков и в плаче уходящей тирренской волны — Италия явилась мне архипелагом, до сих пор загадочным, вроде любовницы, становящейся все ближе, тем не менее, таинственной и никогда до конца не познанной. Я полюбил Италию любовью Колумба, а может — ребенка. Не ту, бесстыдно обнажающуюся перед жадными пилигримами, что уставились миллионами глаз в бедекеры и видоискатели камер, но мою собственную, выстроенную из собственных впечатлений, из паутинки трогательных переживаний, наполненную зачарованными островами, которые останутся навеки моими, по праву открывателя…
В этом космосе ценных и убедительных, хотя иногда и фальшивых существований, в мире, насыщенном красотой памятников, реальной, но разрекламированной до пресыщения и скуки, я находил собственные анклавы на холстах, на мозаиках и на фресках, в скульптуре, музыке и в архитектуре, в поэзии и в истории. И в себе самом. Я сворачивал с автострад в вонючие, наполненные всяческими красками улочки, прикасался к стенам, обветшавшим как лицо старика, искусно пропускал фронтоны соборов и добирался до живописных изображений в боковых нишах, накопивших не меньшую, чем алтари, красоту. С величественных, словно сама вечность, портретов я воровал поблекшие фоны.
Понять и полюбить эти картины, покрытые пылью столетий, эти поседевшие камни, эти послания из времени, которое ушло, но которое живет в них — это означало углубиться в их историю и легенду, и в мысли людей, которые их породили.
Это означало познать этих людей, проследить за движениями их рук и судорогами лиц, на собственной тропе прослеживать их путешествия, заглянуть в их мастерские и спальни, полюбить вкус того самого вина, что стекало с их губ, и загореть под тем же солнцем, которое вызывало улыбки их детей.
Это означало, сойти с дорог, траву которых поколения вытоптали до асфальта, и окунуться в дико растущую зелень на склоне, где еще не известная тебе красота перехватывает горло так сильно, что вырывает сердечный крик.
Это означало, отвернуться от исторических памятников, от живописных полотен и барельефов, и поглядеть на реакцию тех, которые смотрят на них, найти среди них жемчужины понимания, восхищения или отторжения, улыбки и слезы, более ценные, чем мрамор и мозаики.
Это означало, отойти на шаг и не глядеть с близи, ибо, иметь произведение искусства на расстоянии броска камнем вовсе не означает видеть всего. Разве этрусские гробницы не находят с самолетов, благодаря лишь отсюда заметной разнице в цвет почвы?
Это означало, закрыть глаза и осмотреть глубины собственной души, собственной надежды и немочи, беспомощности перед лицом вечной тайны (без которой нет ни одного из моих островов), собственной наглости и стремления к исправлению. Мир, перенасыщенный запахом выхлопных газов и столетий, до сих пор замкнут, словно стеклянный шар. Снаружи никаких приключений не может быть. Приключение живет только внутри человека.
Милан,
август 1972 г.
1. Девушки с лодочкой
«Источником всех интеллектуальных и художественных свершений является любовь».
Симона Кануэль
«Более всего меня удивляет то, что столько людей хотело бы понимать искусство. Я спрашиваю: а есть ли смысл в желании понимать пение птиц, углубить тайны ночи и красоты цветов? Влюбляясь в женщину, мы же не берем инструменты, чтобы измерить её формы. Тем временем, когда речь заходит об искусстве, люди хотят „понять“. Мне кажется, единственное, что люди должны понять: художник творит, ибо творить обязан»!
Пабло Пикассо
Маленькая улочка над Канале Гранде, столь близко, что чуть ли не в тени величественной базилики Санта Мария дела Салюте. Оплетенная виноградной лозой стена, а в ней — ворота из металлических, переплетенных и образующих любопытную композицию элементов, среди которых блестят слитки из цветного стекла. Эти ворота, сквозь ажурный узор которых просвечивают зеленые листья сада — произведение художника. Обычные двери были бы здесь святотатством, поскольку вход, под которым я стою, ведет к одному из величайших святилищ современного искусства — в музей госпожи Гуггенхайм.
Я застыл перед молчащим барьером, с бешенством вглядываясь в табличку с надписью «Фонд Гуггенхайма», под которой выписаны дни и часы работы, и проклинаю собственную глупость. Этот визит я отложил на последний день своего пребывания в городе чудесной лагуны, а теперь, когда уже очутился здесь, мне придется уйти не солоно хлебавши, ведь в этот день, мой день, врата фонда не открываются.
Улочка пуста, ни одного прохожего, время сиесты, солнце жарит немилосердно. Ярость нарастает и порождает решительность. Страстно давлю на кнопку звонка. Раз, два, три раза — все сильнее. Знаю, что поступаю глупо, но — а что еще мне осталось? И вдруг, из-за тонкой решетки, размещенной под кнопкой, над которой я так издеваюсь, раздается гневное:
— Кто там?
Придвигаю губы к решеточке динамика и микрофона, и в момент отчаянного вдохновения отвечаю с овсей бессмысленной серьезностью:
— Пикассо.
В динамике треск, затем мгновение тишины, стук женских каблучков на каменных плитах садовой дорожки, и с другой стороны ворот появляется девушка в черном коротком платьице, на фоне которого ярко выделяется белый, кружевной воротничок и столь же беленький фартучек. Горничная, носящая столь же банально типичную униформу, как горничные у романистов XIX века. Милая, с блестящими каштановыми волосами, ласкающими плечи и спину. Она недолго глядит на меня, после чего взрывается, но, по-видимому, без злости, разоруженная моей улыбкой.
— Вы меня обманули, Пикассо же старый!
— Ясное дело, что старый. Но ведь я могу быть его сыном?
(Это ужасно глупо, но сейчас мудрость заключается в том, чтобы не позволить разорвать протянувшуюся ниточку.)
— Но ведь вы — не он!
Девушка не уходит — хороший знак. Нужно спешить ковать железо.
— Мне крайне важно осмотреть эту коллекцию. Видите ли, синьора, сегодня вечером я покидаю Венецию и.
— Ничего не могу сделать, синьор, сегодня музей закрыт. Не повезло вам.
А это мы еще поглядим. Вроде бы и не везет, но я уже схватил за рога шанс свернуть невезению шею, и так легко не уступлю. Девушка говорит с явным французским акцентом, в связи с чем молниеносно перехожу на французский язык:
— У меня имеется международная карта особых привилегий. (Интересно, существует ли вообще нечто подобное?)
Девушку эти слова и смена языка явно застали врасплох: она автоматически отвечает по-французски и впервые улыбается.
— Покажите, пожалуйста.
Открываю бумажник и сую через отверстие в ажурной решетке цветную бумажку. Кости брошены, ведь в моей руке банкнота в пять тысяч лир. Как она примет это? Оскорбится или нет? Итальянка взяла бы, не колеблясь, но что сделает эта малышка? Мне кажется, что тишина растянулась на века, начинаю краснеть, но внезапно банкнота мягким движением вынимается у меня из руки и исчезает в кармане фартучка. Через мгновение я уже на другой стороне ворот. Победа!
Благодарность не подавляет во мне мыслей о том, что девушка кошмарно легкомысленна, потому что жадная — купит себе новую блузку или галстук своему «ragazzo»[4]. Через несколько месяцев мне стало известно, что из венецианской коллекции Гуггенхейм воры украли семнадцать шедевров — боюсь предполагать, что легкомыслие девушки могло иметь с этим нечто общее. Но виновата не только она. В то время, когда перед кражами произведений искусства, проводимыми, без преувеличения, в «оптовом» масштабе, не могут защититься даже самые охраняемые музеи, и когда директор Королевского Музея в Амстердаме утверждает, что «существует лишь один хороший способ — нужно возле каждой картины поставить охранника с автоматом» — на страже бесценной коллекции оставили горничную!
Ведя меня по зеленой аллее, девушка говорит:
— Если бы Мадам узнала, я бы потеряла работу.
— Мадам не узнает, она же не ясновидящая.
— Откуда вы знаете, — милым смехом отвечает француженка, — а вдруг она такая?
— Тоже не бойся, я — волшебник и защищу тебя от твоей Мадам.
«Мадам» — это знаменитая собирательница, Пегги[5] Гуггенхайм, которая начала собирать произведения современного искусства в тридцатых годах, а в 1938 году открыла в Лондоне свою первую картинную галерею («Guggenheim Jeune»). Ее дядя, основатель крупного нью-йоркского музея, Соломон Гуггенхайм, не разделял этих авангардных влюбленностей, поэтому, когда племянница написала ему из Лондона, что может продать ему прекрасный холст Кандинского, он воспринял это в качестве безвкусной шутки, более того — как оскорбление. Сюрреализм, дадаизм, кубизм, экспрессионизм и т. д. для него неизменно были шарлатанством — разъяренный тем, как племянница «полощет» родовое имя, он на долгие годы прервал с ней какие-либо контакты.
Пегги не сильно этим обеспокоилась и продолжила систематическое увеличение коллекции. Прекрасную оказию ей подарило нападение Гитлера на Францию. Тогда она находилась в Париже и, в соответствии с постановлением, каждый день покупала по картине или скульптуре. «Парижане распродавали все и смывались», — так она впоследствии прокомментировала неожиданный бум для собственного лобби. Она еще успела отослать в Штаты забитые шедеврами кофры, а затем сама поспешила за ними. В 1942 году она открыла в Нью-Йорке галерею «Искусство текущего века», развешивая картины без рам, на свисающих с потолка шнурах. Критика восприняла это с энтузиазмом. Когда разросшийся вокруг Манхеттена мегалополис надоел Пегги, она сбежала (1947 год) в полярно отличающуюся обстановку — в Венецию. Поселилась она в небольшом дворце восемнадцатого века на Большом Канале и здесь же разместила свою коллекцию (1951 год). Толпам она показывала ее два раза в неделю, и так оно и повелось, хотя сама она в шестидесятых годах вернулась на родину, и лишь время от времени посещает «жемчужину Адриатики» — как и сейчас, когда я нахожусь здесь. Дядюшка покинул земную юдоль, так что у нее появилась возможность перенести сто двадцать пять из двухсот шестидесяти шести собственных шедевров в нью-йоркскую «кругляшку» Райта, в знаменитый Музей Соломона Гуггенхайма. Американская критика захлебывалась от похвал, утверждая, коллекция является «не только блестящей визуально, но представляет собой величайшую художественную ценность, одновременно являясь монументальным документом исторического масштаба». Сто тридцать восемь объектов осталось в Венеции в качестве фонда этой королевы маршанок[6].
В саду стоит каменное кресло.
— Мадам любит фотографироваться в нем, — говорит моя «cicerone»[7]1. — В последний раз она снялась здесь с четырьмя тибетскими терьерами.
Вот оно как. ОТ вех других семидесятилетних женщин «Madame» отличается тем, что, кроме мохнатых песиков она обожает еще и авангардное искусство. «Chapeau bas!»[8]
Я поглощал все то, что находится внутри дворца, внутри сада и внутри залитого зеленью застекленного павильона. Шагалл, Дельво, Модильяни, Клее, Кандинский, Брак, Леже, Гриз, Мондриан, Миро, Дали, а из скульпторов Мур, Дакометти и Марини. Моя спутница без малейшего смущения рассказала мне, что возле стоящего между дворцом и садовой стеной «Ангеле цитадели» Марино Марини охотнее всего и дольше всего задерживаются дамы различного возраста, и если никого не видят поблизости — делают фотографии. Обнаженному всаднику с раскинутыми руками, который не управляет своим конем, направление, словно дорожный знак-стрелка, указывает его значительной величины пенис.
Сам я дольше всего задержался перед Пикассо. Как будто что-то чувствовал, блефуя у ворот. Наполненные желто-зелеными оттенками «Девочки, играющиеся лодочкой», написанные в 1937 году[9]. Они обнажены, части их тел, это геометрические глыбы, образующие анатомическое сплетение Пикассо. Что это означает? Имеется ли в этом символ или только какая-то секунда жизни, о которой великий Пабло говорил: «Меня интересует всякий аспект, всякое явление, всякое мгновение жизни». Я не боюсь не понимать этого, поскольку он говорил еще и следующее: «Если я сам не могу понять всех значений своих картин, то как же человек, который на них глядит, может узурпировать право на расшифровку того, что я сам предчувствую лишь интуитивно. От тех, кто глядит на мои картины, я требую лишь одного: чтобы они испытывали то же самое волнение, которое подтолкнуло меня к созданию этого произведения». Я чувствовал, что этот человек имеет право требовать, и испытывал вонение, поэтому исполнил акт поглощения картины самым оптимальным образом, пользуясь сердцем и чем-то, что является душой, исключая при этом мозг, рационализм и настырность в установлении значений был бы для меня сейчас помехой[10].
Глядя на «Девочек с лодочкой», я подумал, что верховный жрец искусства ХХ века столь чудесно писал женщин, от проституток до собственных жен, от «Девушек из Авиньона» до эротических рисунков, которые во многих странах (например, в Бразилии) конфисковывались как порнография — ибо он их имел столько, поскольку не представлял жизни без них, поскольку они были его жизнью более, чем что-либо иное. Словно Хемингуэй — он мог быть собой, будучи великим любовником, а время возвеличило его до ранга патриархального Сатира. Первая большая любовь Пикассо, модель Фернанда Оливье, сказала о нем после расставания: «Славу Дон Жуана он ценил выше славы великого художника».
Как правило, людям не слишком важно то, что у них уже есть, а скорее, то, в чем они абсолютно уверены. В отношении собственной славы у Пикассо не могло быть никаких сомнений — подобной славы перед смертью не испробовал ни один художник в истории искусства (другое дело, что она смогла расцвести только лишь благодаря условиям и возможностям ХХ века, с его массовыми тиражами журналов и выстроенным рынком произведений искусства). Что же касается собственной мужественности, в ней он не всегда был уверен на все сто.
Итак, вначале была натурщица, художники часто начинают с этого.
В один из осенних вечеров года 1904 от Рождества Христова Фернанда укрылась от непогоды в наиболее знаменитом на всем Монмартре богемном заведении, «Бато-Лавуар», где уже пару лет вегетировал Пикассо. Друг с другом они прожили восемь лет, бурных, как та стихия, что загнала ее тогда под крышу. Помимо него, она существовала тогда благодаря сигаретам, чаю и чтению книг. Он — благодаря своим «периодам». Расставаясь, они поделили нажитое: лежанку, печку, тазик и одноногий столик в стиле Второй Империи. Перед тем, как умереть (1966 год), она все это описала.
Во времена «кубистической революции» Пикассо познакомился с Гертрудой Стайн, первой крупной сторонницей его творчества, которая шептала: «Мой маленький Наполеон!» Но это не она заменила Фернанду, но таинственная Марсель (1912 год), которую он называл Евой, и с которой перебрался на Монпарнас. Он так никогда и не написал ее портрета, зато внутри различных картин помещал ее имя («Ева, моя красавица»). Через четыре года ее забрал туберкулез.
В 1917 году Пикассо отправился в Рим, чтобы проектировать и реализовать декорации для балета Кокто «Парад». Молодую американку здесь исполняла русская танцовщица их группы Дягилева, Ольга Коклова (Хохлова), и ее квазидетская прелесть с места очаровала художника. Дягилев предупредил его короткой фразой, которое означает: «Будь осторожен — русские женщины окольцовывают!», но которое весьма сложно перевести на другой язык, разве что во французском оно обладает своей певучей краткостью, чуть ли не ритмом: «Fais attention, une Russe, on I'epouse!». — «Издеваешься?!» — ответил Пабло, пожав плечами, и… год спустя уже повенчался с ней. Прежде чем расстаться, после множества «войн», в 1933 году, Ольга подарила Пабло сына Пауля (единственный признанный им законный наследник). Всю свою жизнь Ольга забрасывала Пабло письмами, вплоть до своей смерти в 1955 году.
Будучи уже ближе старости, чем молодости, Пискассо «снял» перед парижским универмагом семнадцатилетнюю швейцарку, Мари-Терезу Вальтер. Впоследствии он сказал: «Картины делают так же, как принц делает детей — с пастушкой». В Марии-Терезе приближающийся к «сумеречной зоне» творец нашел типичную пастушку — ласковую, не совсем ученую и полностью преданную ему блондинку, которая никогда не слышала ни о нем, ни о его работе, и не обладала ничем, что его эгоизм мог бы посчитать желанием соперничать с ним. Она стала анклавом сексуального комфорта, о котором мечтают все пользователи слишком интеллигентных дам с буйным интеллектом.
И вот именно тогда и случился крах. Когда фроляйн Вальтер родила дочку Майю, Коклова, не вытерпев соперницы, покинула дом, разбивая брак. Для средиземноморского «мачо» такое было вынести сложно — не он бросил, но женщина бросила его! Выдающийся знаток авангардного искусства, Хозе Пьере, констатировал, что «для Пикассо это было самым тяжелым поражением, которое он понес в своей личной жизни, ибо развод поставил под знаком вопроса не только его власть как мужа, но и мужское всемогущество (…) Нет сомнений, что Пикассо считал себя тогда жертвой и чувствовал, что ему угрожают кастрацией. Он почти что не брал в руки кисть и укрвлся в Жуан-ле-Пинс, прося Хайме Сабартеса пересылать туда его корреспонденцию на имя Пабло Руиса (фамилия отца) — в своей угнетенности он отождествлял себя со своим отцом, неудачливым художником и слабаком (как мы помним, Пикассо — это фамилия матери)».
«Пастушка» не могла тут послужить в качестве лекарства. Пикассо здесь нужна была не столько самка-мать, примитивная женщина, преданная ему и ребенку, сколько некто, кто мог дать ему духовную подпору, кто помог бы ему возродиться психически — муза. К своему спасению, среди членов группы сюрреалистов он познакомился с молодой брюнеткой, занимавшейся фотографией Дорой Маар. И она сделала все, что нужно, а тот факт, что каждый вечер ей приходилось из его объятий возвращаться к назначенному времени домой, словно школьница, стимулировал «machismo» Пикассо.
В свои шестьдесят, Пикассо ввел в собственную жизнь двадцатилетнюю зеленоглазую художницу Франсиску Жило, мать не признанных им официально детей — Клавдия и Паломы. Целые десять лет они занимались любовью и ссорами под солнцем средиземноморского побережья, пока в 1953 году она не ушла, говоря: «Невозможно жить с историческим памятником». В 1961 году великий испанец женился во второй раз — с встреченной им в 1953 году Жаклин Рокэ, которая называла его «Дон Пабло», и которая говорила о нем «Это гений и единственный любовник, которого я по-настоящему желала». Жаклин была последней из его «девушек с лодочкой».
Парадоксом жизни Пикассо стал факт, что, окруженный обожанием мужчин и женщин, прежде всего он был отшельником, он жил вне своего времени. У него не было учеников, контакты (чувственные) с детьми рвал, когда у него проходил мимолетный каприз отцовства, а с женщинами, когда, старея сами, они и его делали старше. Это же отшельничество и одиночество не нашло собственного конца даже тогда, когда в 1944 году он вступил в Коммунистическую партию Франции. Наиболее кратко это прокомментировал Сальвадор Дали: «Пикассо — испанец, я тоже. Пикассо — гений, я тоже. Пикассо — коммунист, я тоже нет». Когда Пабло достиг славы, он сделался величественно надменным. Его случае одиночество не было ценой за гениальность — было его щитом.
Этот монарх одиночества так говорил о нем: «Ничего нельзя достичь без одиночества. Я пытался создать для себя самое абсолютное одиночество, но мне это не удалось. С тех пор, как существует часовой механизм, создание полнейшего одиночества уже невозможно. Вы можете представить отшельника с часами? Следовательно, необходимо удовлетвориться „имитированным одиночеством“, как имитируют полеты для будущих летчиков. Но в этом ограниченном одиночестве необходимо погрузиться полностью». Леонардо да Винчи подписался бы под этими словами без колебаний.
Знаменитое отсутствие скромности Пикассо, это тоже один из элементов, которыми он подкреплял свое одиночество. Когда он был подростком, уже был уверен, что рисует лучше Рафаэля — только что же в этом шокирующего, если это правда? «Пикассо низверг нашу устаревшую концепцию скромного художника, чтобы заменить ее образом человека, постоянно гоняющегося за приключениями», — верно заметил Луи Жиллет. Приключением было творчество и женщины (обе эти вещи у Пабло были связаны неразрывно), а отсутствие скромности не заключалось в рекламе — вовсе даже наоборот, рекламу он презирал, в том числе, он терпеть не мог выставлять собственных работ, поскольку, как говорил сам: «Экспозиция требует отваги, но ведь и проститутка, когда обнажается, тоже демонстрирует отвагу». Его нескромность, эгоизм и высокомерие были панцирем, с помощью которого он отрезал себя от потребительской толпы. «Матисс, — писал Ухде, — интересуется только живописью, а Пикассо — только собой». Истинно. «Фанатично автобиографическое творчество», — заметил Канвайлер. Истинно. «Если кто-то, когда-то и создал сам свою историческую роль и не сделался при этом рабом обстоятельств, то именно таким человеком и было это ницшеанское чудовище из Малаги», — заявил Роберт Хьюгз. Еще раз — истинно! Сам Пикассо: «Я хотел стать художником, а стал — Пикассо. Yo el rey — Я — король!» В четвертый раз — истинно! Скромность была придумана серенькими ничтожествами, поэтому он желал быть надменным и одиноким, как и всякий монарх.
Живя во Франции, до конца он любил пользоваться испанским языком — это тоже был его анклав. У него были приятели, и некоторых он даже любил, взять хотя бы Леже, Элюара или Гэри Купера (с которым он страстно играл в ковбоев, хотя ему было уже больше восьмидесяти лет), но время забрало их у него. Умерли эти трое, и Макс Якоб, Аполлинер, Кокто, Матисс, Модильяни, Дерен и столько других. А он все еще оставался жить в своей старческой пылкости.
Когда я глядел на его «Девушек с лодочкой», ему уже было более девяноста лет. Проживал он тогда в укрепленной словно дворец кувейтского шейха вилле «Нотр-Дам-де-Ви» в Муген (южная Франция), и всякий прибывший туда слышал у калитки записанный на магнитофон женский голос: «Пабло отсутствует, он выехал в отпуск». Это был отпуск от толкучки окружающего мира. Монарх уже не давал каких-либо аудиенций; из чужих на виллу имели доступ только два человека: печатник, который делал оттиски с его графических работ, и портной Сапоне, который его одевал. Остальные люди были ему не нужны. Пикассо работал по двенадцать часов в сутки, переживая собственную старость в стиле отшельника, как Филипп II в Эскуриале и Сталин в Кремле. Если о чем и жалел, то о том, что потомство, скорее всего, не одарит его честью неблагодарности — единственной, которая была бы сравнима с его необыкновенной гордостью. «Художник, беспокоящийся мнением потомков, не может быть свободным» — и под этими его словами подписался бы Леонардо и множество других.
Как-то раз он буркнул Елене Рубинштейн: «И у тебя, и у меня большие уши. Знаешь, что это означает? Мы будем жить вечно, как слоны!»
Когда через несколько месяцев после приключения в Венеции я узнал о его смерти, то понял, что, по крайней мере, в отношении себя он не ошибался: он будет жить столь долго, как боги Древности и Возрождения.
Когда я покидал музей, моя проводница спросила, кто же я такой.
— Кто я такой? Ведь говорил же — волшебник. За этот час в городе, которому уже тысяча лет, я наколдовал дя себя остров из картины, направленной в будущее. Благодаря тебе.
Девушка широко раскрыла глаза, и так я ее и оставил.
2. Позолоченные символы поражения
Лорд Байрон «Ода Венеции»
- «О, Венеция! Венеция!
- Когда лагуны волны
- С грохотом ворвутся в дворцы твоих дожей,
- Народа крик пронзит затопленные залы
- Как жалоба в безбрежном море»
«… а потом нашим солдатам приказали снимать бронзовых коней с церкви Святого Марка, что местный люд принял очень близко к сердцу, ибо здесь они всегда страшно любили святого Марка и его золоченых жеребцов»
Генрик Сенкевич «Легионы»
Венеция. Мой остров на ста двадцати двух островках, разделенных ста шестидесятью каналами. Эти островки соединяют в единое целое триста семьдесят мостов и мостиков. Мой же венецианский архипелаг объединяется тенью тайны.
Мой — поскольку, быть может, славянский, во всяком случае, когда-то. Говорят, что те венеты, первоначально называемые винидами, которые, прибыв на территорию нынешней Италии, изгнали народ евгенов с северо-восточного куска суши, заключенного между Альпами и Адриатикой, и которые основали город Падаву, названный потом римлянами Патавиум, а сегодня называемый Падовой (Падуей) — были славянами! Геродот об этом не имел понятия, но некоторые польские, чешские и немецкие исследователи писали об этом. Но их писания не зафиксировались в сознании поколений. Наступление Аттилы столкнуло венетов к лагуне, названной впоследствии Лагуна Венета. На ее ста двадцати двух островках они основали рыбацкое поселение, из которого выросла Венеция. Выходит, Венеция имеет славянское происхождение?
Странно это, и в подобное трудно поверить. Мицкевич в первой лекции о славянской литературе с кафедры парижского Коллеж де Франс, 22 декабря 1840 года, прокричал это сообщение в ухо Запада, только оно тут же вышло через другое. Затем Эдвард Богуславский, на страницах своей «Истории Славян» (1888 год), пытался доказать этот же тезис рядом источников, только и это не возбудило сенсации, а уже после второй мировой войны все аргументы собрал Казимеж Улятовский, когда писал об итальянском Ренессансе. И все напрасно. Запад постоянно будет рассматривать это в качестве легенды, основанной на языковой ошибке, неверной интерпретации источников и еще черт знает на чем. Венеты — виниды — славяне. Слишком уж романтично, чтобы быть истинным. Если бы импрессионизм был средневековым направлением, эти же люди наверняка бы признали, что это только ошибка скрибы вызвала разницу между Моне и Мане. Для них венеты — это иллирийское племя — ибо так утверждал Геродот.
Попробуйте сказать венецианцу, что его прадед был славянином — он рассмеется вам в лицо.
Этот хохочущий венецианец не задумывается над тем, почему архитектура его города обладает неким особенным стилем, отличающимся от всего того, что творили в иных местах Италии. Благодаря учебникам, он знает, что это отличие вызвано византийскими влияниями по причине тесных исторических торговых контактов между Венецией и Византией. Этого для него достаточно. Ни его, ни авторов таких учебников ни на миг не заставило задуматься, почему, к примеру, в архитектуре Генуи (а Генуя установила контакты с Византией раньше, и ее торговый оборот был раз в семь больше, чем у самого Константинополя) — нет даже тени восточных влияний. Возможность влияния особенных интересов, вытекающих из этнических различий, нашему венецианцу никогда не приходила в голову.
Никогда он не задумывается и над тем фактом, что его сестра, жена и любовница — блондинки, что в Италии является крайней редкостью, зато в Венеции встречается довольно часто, и что в истории итальянской живописи только у венецианцев (Джорджоне, Веронезе, Пальма Веккио, Тициан) светловолосые женщины буквально роятся. Уверенности, основали ли славяне Венецию, нельзя иметь без всесторонних исследований, в том числе и антропологических. Но насколько же вкусной может быть сама только возможность!
В этом городе не только женщины со светлыми и рыжими волосами были моим приключением-тайной. Я нашел и другую: четыре чудесных коня. Женщины и кони. Не хватает только вина и песни, и тогда уже был бы комплект — в Италии естественный, как ежедневная сиеста.
Помню тот жаркий полдень. Солнце накаляло плиты площади святого Марка, а с лоджии венецианской базилики спускали деревянные муляжи знаменитых жеребцов, желая испытать возможность снятия оригиналов. Вполне возможно, они попрощаются с фасадом Сан Марко, и, возможно, я принадлежу к последнему поколению, которое видит коней на этом самом месте. Пейзаж Венеции попрощается с одним из своих чудес и сделается беднее.
Предварительное решение было принято летом 1971 года. Гордые кони, в течение веков глядящие (с высоты террасы над главным порталом базилики Святого Марка) в сторону площади Святого Марка и его «кампаниллы»[11], еще раз должны сменить место своего пребывания. Их снимут и замкнут в музейной клетке. Так закончится их длящаяся более двух тысяч лет свобода, закончится по вине современной цивилизации, которая приговорила Венецию к смерти. Состояние города ухудшается из года в год, а тем ухудшения воистину пугающий. Венеция опускается в воды лагуны с скоростью в несколько миллиметров в год, то есть, ее житель, родившийся в 1972 году от Рождества Христова, при своей жизни станет свидетелем опускания родного города приблизительно на тридцать пять сантиметров! Крушатся и делаются безлюдными старые дома, фундаменты церквей необходимо подстраивать, отпадает благородная штукатурка, съедаемая стоками промышленного центра Маргеры, что располагается неподалеку, на суше. Основным преступлением Маргеры является «air pollution», а результатом загрязнения воздуха становится рак камня и металла. Пятнадцать тысяч тонн концентрированной серной кислоты, ежегодно выплевываемых промышленностью, в соединении с влажным и соленым морским воздухом образуют смесь, которая терпеливо и неумолимо убивает всякий год шесть процентов мраморных скульптур, пять процентов фресок, три процента картин на холстах и два процента картин на дереве. Статуи, венчающие базилику Санта Мария дела Салюте, выглядят прокаженными калеками[12], словно вандал издевался над ними с помощью лома — вот как действует загрязнение воздуха.
Венецианские кони (как и всякая другая статуя, расположенная на открытом воздухе) подвергаются воздействию отравленной атмосферы, равно как и химических веществ, содержащихся в помете тысяч голубей, гнездящихся, на радость туристам, вокруг площади Святого Марка. Вот только, они намного ценнее, чем другие статуи, отсюда и взялось жесткое и неоднозначное решение, принятое суперинтендантом венецианских музеев, Франческо Валькановером.
Эти четыре позолоченных жеребца волокут за собой память о таком путешествии и таком секрете, что сами являются чуть ли не символом тайны. А еще — символом поражения. Нам неизвестно даже то, откуда они родом, кто их создал, а то, что знали ранее, оказалось фальшивкой. До нынешнего дня тысячи журналистов, литераторов и специалистов описывают их в статьях и энциклопедиях как «бронзовых коней». Так писали пятьсот лет назад, сто лет назад и пишут сейчас. Тем временем, они не бронзовые, а медные. Их тела, это на девяносто восемь процентов медь, и всего лишь два процента — олово с другими примесями. Точные исследования разъяснили очередную тайну их жизнеописания — но сколько же таких тайн осталось?!
Создали их греки или римляне. Именно «или», заменяющее неизвестную нам правду. Это «или» будет повторяться в течение всего описания их истории.
«Греческая» гипотеза, среди всего прочего, основывается на определенных источниках, в которых мы встречаем термин «коринфские», что подсказывает нам, будто бы кони были родом из Коринфа или какое-то время находились у коринфян. Зенон Косидовский[13], не первый, впрочем, назвал их «конями Лисиппа» — ужасно рискованно назвал, поскольку нет никаких доказательств того, что их создал Лисипп. Век, правда, сходится, поскольку один из выдающихся скульпторов античной Греции, Лисипп из Сикиона, жил в конце IV века до нашей эры. Но Лисипп — портретист Александра великого и творец новой схемы пропорций мужского тела, автор произведений с не встречающейся до сих пор силой и индивидуальностью выражения — творил, в основном, скульптуры людей и богов, а оригиналы его произведений не сохранились. И если бы кони были делом рук такой знаменитости, как Лисипп, разве не должно было такое событие отразиться широким эхо в древнем мире и не дойти до нас хотя бы в виде устных сообщений? Если они и вправду были родом из его круга, то, думаю, скорее уж. Они были созданы кем-то из учеников мастера. Имя которого до потомков не дошло. А может, они вышли из мастерской Лисистрата, брата Лисиппа, который сделался знаменитым, поскольку первым применил гипсовые отливки с живых моделей?
Одно здесь точно: кони и соединенная с ними колесница-квадрига находились в константинополе. Но достаточно отступить всего лишь на шаг, чтобы поиски правды разделились на три гипотезы.
«Греческая» гипотеза говорит, что ранее вся группа находилась в городе Хиос, на гористом острове того же самого названия, расположенном у побережья Малой Азии и сильно связанном с Афинами. Отсюда ее перевезли непосредственно в Константинополь, при чем, здесь мнения опять расходятся: сделал ли это сам Константин или только Феодосий II? «Грекоримская» гипотеза полагает, что с Хиоса квадригу перевезли во времена Нерона в Рим, где она украсила триумфальную арку, а уже оттуда ее вывезли в столицу Византии. И, наконец, «римская» гипотеза предполагает, что скульптуры были выполнены в Риме, по приказу Нерона, чтобы увековечить победу над парфянами, после чего Константин в 328 году забрал их на восток.
«Римляне» для поддержки своей гипотезы указывают на многочисленные римские медали и монеты времен Нерона (представляющие триумфальную арку, увенчанную идентичной квадригой и четверкой лошадей), упоминая, что у Нерона была слабость к бронзовым статуям, и что по его приказу греческий скульптор из Азии, Зенодоро, создал статую высотой в 119 метров, посвященную богу Солнца. Они же указывают на массивные шеи и крупные туловища коней, характерные для изображений лошадей из Лацио, в отличие от греческих скульптур, иллюстрируя это многочисленными примерами греческого искусства, изображающих лошадей.
И все же, «греческая» гипотеза имеет больше сторонников и более серьезные аргументы. В отличие от греков, римляне никогда не умели смоделировать коня с таким умением и экспрессией, которыми можно восхищаться у венецианских коней — примерами здесь могут быть, хотя бы: скульптура коня, созданная Бальбо (неаполитанский музей) или же римский конь, на котором изображен Марк Аврелий. А кроме того: римская бронза содержала семьдесят девять — восемьдесят процентов меди, тринадцать процентов олова и четыре процента цинка; только у греков можно было встретить «бронзу» с чуть ли не 100 процентным содержанием меди.
У истории искусства имеются свои въедливые Шерлоки Холмсы. Они не выкрывают преступников, но творцов, не раскрывают кулис позора, но кулисы славы — и это самая замечательная в мире детективная деятельность.
Венецианская легенда гласит, что всякий переезд знаменитых коней приводит к упадку какого-то могучего государства. И я бы не советовал смеяться над легендами. «Легенда — это сестра истории» (Вольтер). Правило, заключенное в венецианском предании, до сих пор оправдывалось без исключения — уже шестикратно!
Если принять то, что Константин забрал коней из Рима в Константинополь — это было первым вызванным ими упадков, первым аккордом ритмичного цикла смерти держав: Рим утратил свое ведущее значение в пользу столицы Византии. В Константинополе кони увенчали въезд на императорский ипподром, с крыши которого зрители наблюдали за играми. Очередного, увлеченного их красотой повелителя кони ожидали почти восемьсот лет. Им был самый выдающийся из всех венецианских дожей, творец многовекового могущества «королевы Адриатики», Энрико Дандоло. Родившийся в 1108 году (некоторые источники указывают 1110 и 1115 год), в 1173 году он был направлен в Константинополь в качестве посла. Император Мануил принял пришельца, которому было уже шестьдесят с нескольким лет, с необыкновенным «гостеприимством» — почти ослепил его. Это не помешало Энрико заметить позолоченных коней и хорошенько их запомнить. Около 1193 года он был избран дожем, после чего начал реализацию плана, отдаленной целью которого было сделать Венецию повелительницей Средиземного моря. Он завоевал далматинское побережье, изгнал генуэзцев из Поли и Истрии, а с помощью крестоносцев в 1202 году захватил Триест и Ионические острова.
И вот наступил 1203 год — год мести. 17 июля 1203 года девяностопятилетний Дандоло, ведя разъяренных крестоносцев из четвертого крестового похода, ворвался на стены Константинополя, установив на одной из башен хоругвь Святого Марка. Когда он уже не мог идти самостоятельно, его несли, в огне битвы, все время вперед. Столица Восточной Римской империи горела долгие восемь дней, и ей пришлось, по воле победителей, передать трон очередному Комнину, только гордыни она не утратила. В связи с этим, 13 апреля 1204 года Дандоло повторил штурм. Через год он умер, но, прежде чем закрыть глаза навечно, приказал отослать в свою любимую Венецию четырех волшебных коней с ипподрома. Несмотря на громадные сложности, связанные с перевозкой на корабле, конная четверка «помчалась галопом» по морю (1206 год) на галере капитана Доминико Моросини.
И одновременно пала византийская империя Комнинов. Это был уже второй аккорд разрушительного цикла, который породил легенду.
В Венеции коней устроили с наибольшими выгодами — ими украсили красивейшее произведение поздней византийской архитектуры, возводимую тридцать лет (1063–1094) базилику Сан Марко. Вырастающий из плана греческого креста, покрытый пятью громадными куполами, гордящийся чудесным интерьером, искрящимся мозаиками (среди которых более всего интересна «Саломея», дама, танцующая с головой Иоанна Крестителя на блюде; эта дама улыбнется мне через несколько месяцев) — этот собор непрерывно обогащали. Внешней жемчужиной богатейшего фасада стали четыре позолоченных коня, выставленные над головным порталом. Глядящие с этой высоты, они ожидали очередные шесть столетий нового, восхищенного ими «возницу», и очередного переезда.
В 1797 году, в тот момент, когда восходящая звезда европейского континента, двадцативосьмилетний генерал Наполеон Бонапарт завоевал Италию, могущественная когда-то и гордая Венецианская республика клонилась к упадку, как в военном, так и торговом смысле. Наступил процесс, характерный для любой империи — после апогея величия — убийственное благосостояние, перерождающееся в изнеженность и импотенцию государственной жизнеспособности.
Слабость государства является результатом слабости его граждан. Причем, не только моральной — физическая слабость играет здесь не меньшую роль. Чтобы поддержать физическую крепость венецианцы могли воспользоваться одним из трех исторических рецептов. Спартанский: обитатели Спарты считали, что врагом физического развития является обогащение и полнота (свою крепость они поддерживали неустанными войнами). Афинский: жители Афин считали совершенно иначе: не войны, но физические упражнения на стадионах. И, наконец, римский, который объединял оба предыдущих. Венецианцы XVIII века не применяли никакого рецепта, видимо, потому, что сделали свои выводы из исторических уроков. А история учила тому, что ни один из представленных выше рецептов не стоит ломаного дуката: спартанцы, афинянке и римлянке проиграли! Так что «жемчужина Адриатики» догорала, не потея от усилий, в шелках и атласе — как Петроний. Следует признать, что определенная прелесть в этом имеется.
Венеция эпохи войн Бонапарте с австрийцами объявила нейтралитет, что не мешало воюющим сторонам насиловать этот нейтралитет без каких-либо угрызений совести. Только французов, орудующих на территории Республики и несущих «варварские» идем Революции, ненавидели сильнее, в связи с чем против них нередко начинались бунты (Бергамот, Брешчия, Верона). Было убито несколько сотен итальянской армии Наполеона — а тот только и ждал подобной оказии. Когда же, вдобавок ко всему, был обстрелян и разграблен французский корсарский корабль, бросивший якорь у берега Лидо, и когда на свет вышли тайные сношения венецианцев с Австрией, в Венецию отправились адъютанты корсиканца, Жюно и поляк Юзеф Сулковский, везя Великому Совету Венецианской республики экстремистский ультиматум. В присутствии вымаливающих милости венецианских послов Бонапарте орал: «Я буду вторым Аттикой для Венеции! Ваше правительство совершенно одряхлело!» Правительство от страха распалось, а гордая Республика, которая еще могла защищаться на своих труднодоступных островах, упала на колени перед генералом, и французские войска (четыре тысячи человек, среди них и поляки) вошли в «красивейший салон Европы» (как назвал Бонапарте площадь Святого Марка) в средине мая 1797 года. В ходе сдачи города, пожилой дож Манин, последний венецианский дож, пал замертво.
Побежденная Республика, как и всякое из завоеванных Наполеоном крупных и малых государств, должно было заплатить выкуп наличностью (три миллиона) и материальными ценностями (еще три миллиона), и вместе с тем — отдать наиболее ценные произведения искусства (двадцать картин обогатили лаврский музей). Любящий искусство Наполеон в течение двух лет своей итальянской кампании (1796–1797) отослал на берега Сены десятки шедевров, в основном — эпохи Ренессанса (среди прочих, «Обручение Девы Марии» Рафаэля и «Святую Анну» Леонардо да Винчи), оголяя итальянские галереи и музейные собрания. Эти картины он ценил больше золота. Характерным в этом плане был случай с герцогом Пармы, который, после собственного поражения, не желая отдавать французам знаменитого «Святого Иеронима» Корреджио, предложил Бонапарте вместо этой покрытой красками доски астрономическую сумму в два миллиона франков. Наполеон на это ответил: «Два миллиона франков мы потратим быстро, а вот произведения мастеров будут украшать столицу Франции вечно!» — и отказал.
Так что, ничего удивительного, что и венецианских коней после захвата города сняли с фасада базилики (13 декабря 1797 года). На могучих четырехколесных платформах их везли в Париж настоящие лошади. 28 июля 1798 года оркестры толпы радующихся Парижа приветствовали позолоченную четверку в столице Республики. Поначалу их выставили внутри Тюильри, а в 1808 году перенесли на Триумфальную Арку.
Этот переезд является третьим доказательством истинности легенды — могущество Венеции превратилось в прах.
В Париже кони прожили неполных двадцать лет. В 1815 году, по инициативе императора Австро-Венгрии, Франца, и в силу парижского трактата, под надзором Антонио Кановы они были возвращены Венеции, где их снова установили на фасаде собора Сан Марко. Одновременно пала империя Наполеона. Это был уже четвертый раз.
В 1915 году, опасаясь бомбардировок, коней сняли с фасада и вскоре (1917 год) перевезли в Рим, в Палаццо Венеция — годом позднее пала империя Габсбургом. Это была смерть уже пятой империи.
В 1919 году кони вернулись на свое место, венчая портал базилики, но в 1940 году их опять сняли, снова опасаясь бомбардировок. Через несколько лет пал Третий Рейх. Легенда получила шестое историческое доказательство.
Старые венецианцы грозят, что демонтаж четверки коней приведет к новому упадку. Чьего упадка на этот раз?
Франческо Валькановер, видя дыры и трещины в телах коней, желает перенести их, после предварительной реставрации, в музей базилики (Музеум Маркиано) или же в соседствующий Дворец Дожей, а на их место поставить муляжи. Трудно отказать ему в правоте. Увечья бывают и украшением — не обладающая такой уж сильной художественной фантазией старинная скульптура, Венера Милосская, если бы у нее были целые руки, никогда не завоевала бы своей славы, никогда бы у нее не было даже части ее нынешнего очарования; довольно часто искалеченные шедевры обладают непреходящей красотой (у крылатой Ники Самофракийской нет головы) — только все это не означает, что мы должны были бы бездеятельно глядеть и терпеть прогресс разрушения. Прецедентом здесь может быть знаменитая бронзовая статуэтка фавна, которой наслаждаются толпы в раскопанных Помпеях — ведь это уже копия, оригинал находится в неаполитанском музее.
Но, быть может, легендарная угроза окажется сильнее, и венецианцы расстроят эти планы, остановив крах очередной супердержавы. Кто знает? Закон Моргенштерна говорит, что если неизбежные с логической точки зрения катаклизмы и не случаются, то это, в основном, потому, что их предвидели и про них заранее раструбили[14].
3. Il Palio[15]
«Меняются лишь тираны. Сама тирания не меняется»
Лак ордер «Мысли о деспотизме»
«Среди наивысших достижений человека находится конь — гордое и огненное животное, которое делит с нами труды жизни».
Жорж де Буффон «Конь»
Венецианцы любят своих позолоченных скакунов не только потому, что четверка с фронтона базилики Сан Марко является великим произведением искусства, но еще и потому, что итальянцы вообще дарят лошадей любовью. Это не любовь военного типа, наполненная бравурными конными атаками и скачками вооруженных всадников, характерная для сарматов, которые сразу же родились в седле и с саблей в руках, или же для донских казаков и еще нескольких народов. Это квази-мистическое чувство, глубокое и трогательное, наполненное уважением к природе, которая порождает такие чудеса, как конь. Подобное же чувство поклонения заставляло Коссаков[16] хвататься за кисть.
В Риме цезарей конь часто фигурировал в качестве мифологического символа, в настоящее же время он является символом красоты и своеобразным мифом. Высмеивающие англичан за их запанибратские отношения с собаками — итальянцы запанибрата с конем, сердцем и душой. Италия, это единое государство, где конь занимал должности консула и священника! Тот факт, что это происходило очень давно, в древнем Риме, не имеет особого значения, если учесть, что здесь Древность никогда не умирала.
Гай Цезарь Август Германик, называемый Калигулой, когда у него шарики совершенно заехали за ролики, именовал консулом своего любимого коня Инцитата. Консул Инцитат получил надлежащие ему ясли из слоновьей кости в мраморной конюшне, и тем самым, от других чиновников, дорвавшихся до кормушки, его отличало наличие четырех, а не всего лишь двух ног. Если учесть, что власть на четырех ногах, как более стабильная, пробуждает, вне всякого сомнения, большее уважение, чем двуногая — у нового консула имелись виды на дальнейшую, полную славы карьеру. Дополнениями к шикарной конюшне были: узда из жемчужин, пурпурные одеяния, а еще интендант, личный секретарь и многочисленные слуги. Коллеги-консулы прибывали толпой, чтобы ужинать с Инцитатом в его «дворце» или же за императорским столом, где коню подавали золоченный овес и самые изысканные вина. В то же самое время Инцитата записали и в коллегию священнослужителей. По ночам преторианцы становились на особый пост, чтобы никто не прервал сон достойного государственного мужа… простите, коня.
Но пользовался ли этот четырехногий государственный муж поддержкой народа? Это вопрос по сути своей риторический, ибо поддержка со стороны плебса или ее отсутствие не имели ни малейшего значения. Бригадир Стиллианос Паттакос, член бывшего афинского триумвирата (Пападопулос, Паттакос, Макарезос), так отвечал журналистам на вопрос, правдой ли является то, будто у греческого правительства нет поддержки народа: «Да мне смеяться хочется. Настоящее правительство в поддержке народа не нуждается. Это народ нуждается в поддержке правительства». То-то и оно. Точно так же звучала политическая доктрина Инцитата, который был государственным чиновником, не худшим, чем правительство греческих полковников было правительством. Консул и священнослужитель в одном лошадином лице наверняка смеялся (как и Паттакос) над бреднями о расположенности подданных, языка которых он не понимал, точно так же как военные — и не только греческие — не понимают гражданских. Шеф СА Рем, прежде чем позволил прибить себя своему дружку Гитлеру, частенько повторял: «Гражданский — это свинья, языка которой я не понимаю.» Это слова, буквально взятые из морды Инцитата.
Почему двор и римские патриции соглашались участвовать в подобном маскараде? Давно уже как-то все сошлись на том, будто бы Рим дрожал от страха перед жестоким Калигулой и выполнял самые идиотские желания тирана. Данное объяснение идет по линии малейшего сопротивления и — я уверен в этом — не отражает всей правды. В конце концов, Калигула пал жертвой своих противников (конкретно же, трибуна преторианцев, Кассия Хереи), и это, наверняка, случилось бы гораздо раньше, если бы безумный император приказал римлянам поклониться, скажем, собаке. Но конь? Конь — это дело другое.
На переломе XIX и XX веков в Европе огромной сенсацией был конь, называемый Мудрым Гансом. Его хозяин и дрессировщик, Вильгельм фон Остен, маньяк в квадрате, утверждал, будто бы Мудрый Ганс способен читать и считать, что, естественно, было глупостью. Председатель германского Психологического Общества, профессор Альберт Молл, быстро расшифровал примитивные штучки фон Остена, но тот не сдавался и устроил публичный показ с участием представителей прессы. Журналисты, естественно, высмеяли «сенсацию» и прямо назвали ее обманом; единственным исключением были итальянские газеты, которые поместили восторженные отчеты про «чудесного коня», распаляя воображение жителей полуострова. Итальянец способен признать глупым любое животное (исключая римскую волчицу), но не коня, который достоин консульского звания.
Генерал в отставке из Брешчии, когда я ему представился, воскликнул:
— Polacco! Bravi! Храбрый народ. Знаю, знаю, я был у вас перед войной с военной миссией, разговаривал с Пилсудским. Это был великий человек, вот только не нужно было ему ставить на лошадей, потому вы Гитлеру и проиграли.
Полчаса он выбрасывал из себя слова, словно пулемет, не давая возможности мне включиться. В своей уверенности он все знал и все понимал. И сводилось это к мнению: «Пилсудский поставил на лошадей». Говорил он это с ноткой сожаления, ведь конь — это всегда конь, вот только на войне. Старая явайская пословица гласит: «Если ты все понимаешь, значит — ты не все знаешь».
Я объяснял своему седоволосому собеседнику, что сентябрь 1939 года мы проиграли по иным причинам, только объяснял без особого результата, поскольку генерал был итальянцем, а итальянец любит глядеть на многие дела через призму коня.
Во всей мировой литературе не найти более трогательных и наполненных той мистической любовью слов о коне, как в новелле Пиранделло «Un cavallo nella luna». Один фрагмент «Коня на луне» — это нечто вроде элегии, отдающей дань смерти коня, только написанной прозой, очень трогательной и типично итальянской: «…преодолевая отвращение, она склонилась, чтобы нежно погладить морду коня, который с трудом поднялся с земли и оперся на коленях передних ног, представляя, несмотря на унижение и своей крайней нужды, остатки благородной красоты в движении шеи и головы».
На утверждение Спинозы, будто бы среди всех живых существ в качестве приятелей можно иметь только людей, Шопенгауэр ответил коротко: «По-видимому, он не знал ни одного пса!» Шпопенгауэр был немцем — итальянец, скорее всего, скажет так: «По-видимому, он не знал ни одного коня!», ибо итальянец свято верит в слова Россета «Конь любит человека и изо всех сил пытается сделать его довольным». При этом, итальянец платит коню такой же любовью.
Сегодня живым образом этой любви к Аполлону среди животных является Иль Палио. Пережить это можно только в Сиене.
Сиена, древняя Сена Юлия или же Колония Юлия Синенсис. Среди всех тосканских городов одна Флоренция может конкурировать с ней победно. Ее основали этруски на трех холмах (глина с этих холмов дает сырье для чудесных красок), колонизировал ее цезарь Август, а гвельфы и гибеллины раздули тут настолько убийственный огонь, что в течение определенного времени жизнеспособность выгорела и еще долго потом хромала. Долгие годы и столетия город был великолепным центром искусства средних веков и Возрождения, так что сейчас буквально кипит каменной пышностью. Величественная архитектура и ее бесценное содержание в виде скульптур и живописи, церкви, дворцы и музеи, таинственная оргия деталей на фасаде готического собора и ее баптистериум[17] с характерными для Италии реберными стенами, то есть, попеременными полосами черного и белого мрамора. В этом баптистерии потрясает изображение срубленной ради женского каприза головы Иоанна Крестителя («Пир Ирода» Донателло) — этот мотив Саломеи и смерти пророка еще вернется ко мне в миланской Бжезе, когда одно из произведений Луини напомнит мне его «Саломею».
Самый центр города у основания холмов занимает полукруглая Площадь дель Кампо в форме мелкой раковины, словно амфитеатр вогнутой в направлении ратуши. Именно здесь и происходит кульминация традиционного сиенского праздника: Иль Палио. Это лошадиные бега, скачки, подготовка к которым и сам ход имеют нечто общее с мистическим ритуалом, проводимым в честь коня. Начиная с 1686 года, Иль Палио проводится дважды в год: 2 июля и 16 августа. 2 июля — чтобы почтить Деву Марию из Провенцано, а 16 августа — в честь покровительницы города, Девы Марии Вознесенной в небо. Четверо суток перед каждым из этих дней Сиена живет исключительно Иль Палио, и говорят здесь только о лошадях. И, наконец, апогей, сражение лошадей, раскаляющее добела несколько десятков тысяч зрителей.
Слова «бега, скачка» здесь никак не соответствуют действительности. Хотя лошади и устраивают гонку, и хотя это скачка безумная, а иногда и крайне грубая, это не обычные бега, где решается вопрос денег, лавров для коня или всадника. Здесь речь идет о чести одной из частей города, и потому итальянец, вместо того, чтобы сказать про Иль Палио «скачка», скажет: «giostra di cavalli», что означает «состязания лошадей» или даже «турнир лошадей».
Начиная с XII века, Сиена топографически делится на так называемые «контрады», что-то вроде кварталов, имеющих собственные названия, герб, эмблему, знамя, цвета, собственную мини-ратушу, музей, церковь и собственного святого-покровителя, а еще — собственный фонтан для крещения детей, родившихся в этой «контраде». И у каждой из них имеется своя честь, подкармливая одной могущественной амбицией: быть самой крупной и знаменитой из всех «контрад»! В течение столетий на специфический, неповторимый климат и характер этого города, равно как и на культурнообщественную ментальность сиенцев, гигантское влияние оказывала священное, извечное соперничество «контрад». В настоящее время, в соответствии с законами от 1729 года, их семнадцать: Aquila, Bruco, Chiocciola, Civetta, Drago, Giraffa, Istrice, Leocorno, Lupa, Nicchio, Oca, Onda, Pantera, Selva, Tartuca, Torre и Valdimontone[18].
Их семнадцать, но в Иль Палио побеждает только одна, и это она забирает корону, на нее стекает все великолепие. И все это зависит от коня. Зная это, уже легче себе представить, с какой надеждой всматриваются в свою лошадь жители «контрады», а когда она станет победителем — с какой любовью. Нужно быть сиенцем, чтобы столь глубоко переваривать это таинство.
За четыре дня перед началом Иль Палио «контрады» присылают своих скакунов в муниципалитет, весьма часто даже не породистых, не имеющих длинных родословных, зато проворных и стойких. С этого момента лошади принадлежат властям, после чего их подвергают испытаниям, чтобы отобрать десять наилучших и наиболее достойных участия в Иль Палио. Потом эта десятка будет путем случайного выбора назначена по кварталам, и те десять «контрад», которым улыбнулось счастье, считает это наивысшей честью и улыбкой судьбы.
С этого момента каждая «контрада» старается создать для своего скакуна наилучшие условия и поверяет его самому лучшему объездчику. В то же самое время животное уже начинает носить символы и цвета своей «контрады» — их снимут только после скачки. Когда объездчик подтвердит, что конь не только достоин участия в состязании, но и обладает шансами на победу — он дает об этом знать сеньорам «контрады», те же начинают монтировать партию сторонников, что-то вроде сиенского лобби для скакуна, причем, не только в своей «контраде», но и в тех кварталах, которым в этом году лошади не досталось. Соперничество усиливается с приближением мгновения старта. Десять конкурирующих лагерей ненавидит друг друга от всего сердца, так, что любое средство, пускай и не обладающее хрустальной чистотой, кажется им подходящим для снижения шансов противника. Бывает такое, что встречаясь на улицах, соперники страстно оплевывают друг друга.
В день Иль Палио, бессчетные толпы заполняют украшенные улицы, по которым дефилируют «контрады». Центральная точка торжества находится перед фасадом каменно-кирпичной ратуши (конец XIII — начало XIV века), крупнейшего готического здания Тосканы, одной из тех ратуш-дворцов, которые итальянские города-республики возводили ради собственной славы. Рядом выстреливает в небо стройная, словно меч, башня Ла Манжия, построенная в 1349 году. На ее вершине в день Иль Палио развевается черно-белое знамя города. В самом же городе — столпотворение, крики, приветственные выстрелы из бомбард и звон колоколов, обезумевших от радости и бьющих как на пожар.
Самые достойные зрители (городские нотабли и т. д.) усаживаются внутри так называемой Лоджия дель Чирколо, остальные тысячи — на специально расставленных трибунах, на тротуарах, балконах, в проемах и окнах, и даже за стенками венчающих средневековые дома ажурных оградок-кренеляжей. Из окон и балконов свисают многоцветные ковры, дорогие ткани, гирлянды из лавровых листьев и цветов. В 19–00 начинается парад лошадей и всадников на Пьяццо дель Кампо.
Каждый конь окружен свитой из собственной «контрады»: толпой скороходов, оруженосцев, пажей, капитанов и, естественно, сеньоров квартала. Жонглирование флагами, карета, которую тянут белые тосканские волы, нарастающий шум. Некоторые процессии состоят из нескольких сотен лиц, одетых в цветастые (стилизованные под средневековье) костюмы. Если бы не зрители, одетые в современные тряпки, можно было бы сказать, что время отступило на несколько сотен лет. Но и так иллюзия очень сильная — Сиена переносится в средневековье.
У основания башни Ла Манжия находится небольшая, но замечательно резная часовня четырнадцатого века. Каждого коня подводят к ее алтарю, где священник благословляет его. Затем всадники устанавливают лошадей у стартового шнура. На башне, все сильнее, бьет campanone[19] и вдруг замолкает. Это и есть объявление старта. Веревка идет вверх. Рев толпы. Начинается сиенская средневековая олимпиада.
Кони с раскрытыми мордами, подгоняемые всадниками, несутся по дороге, окружающей раковину площади. Некоторые всадники держат хлысты, другие — громадные бичи из бычьих жил — не столько для своего коня, сколбко для соперников. Бывает, что бьют настолько сильно, что на теле надолго остается красная полоса. Всадники впадают в какой-то экстаз, в безумие, пока не начинают размахивать своими плетями вслепую, без какого-либо милосердия. Ведь на кону честь «контрады»! И подумать только, что в 1581 году, во время этой скачки с бичеванием победила молодая девушка, Виргиния из «контрады» Дракон. Старинные китайские хроники рассказывают, что лошадей ферганской («ferghana») породы, на которых ездили посланцы вдоль Великой Китайской Стены, заставляли мчаться с такой скоростью, что те потели кровью. Чтобы здесь происходило подобное, дистанция слишком мала. Всего лишь один круг. Всего лишь полутораминутная скачка.
Лошади достигают половины дуги, и тут первые из них падают, а их всадники вылетают из седел, словно из катапульт. Счастливчики объезжают неудачников, и турнир продолжается. Наконец — финиш, и рев толпы делается еще мощнее. А затем, в церкви, благословение победителя и фестиваль бессознательной радости той «контрады», чей конь пришел первым.
Триумфаторы получают огромное знамя, называемое Il Palio. Именно от него и взяли названия сиенские игры, которым уже более пятисот лет. Победившая «контрада» парадом проходит по городу. Ее пожилые и молодые члены плачут от радости. Ее название будет записано в муниципальных книгах — ради вечной памяти о событии. Конь завоевавший для нее эту славу, становится гордостью и любовью для «контрады». Конь — в Италии это звучит очень гордо.
4. Гладиаторы системы
«Безоружные пророки не побеждают».
Николо Макиавелли «Государь»
«Мы живем, благодаря молчаливой договоренности не говорить один другому правды, следовательно — мы живем лицемерием».
Элия Казан
Флоренция пережила трагедию в ноябре 1966 года, когда река Арно залила город, уничтожая тысячи его шедевров. Через шесть лет во Флоренцию пришел великий день, давший возможность забыть злые мгновения. Флорентийские археологи во время раскопок под собором Санта Мария дель Фьоре обнаружили гробницу с латинской надписью: «Corpus magni ingenii viri Philippi S. Brunelleschi Florentini», что означает: «Тело человека великой гениальности, Филиппа Брунеллески — флорентийца».
Гений архитектуры, который побудил Ренессанс к существованию, возведя знаменитый купол собора, упокоился как раз под ним, вот теперь нашли его могилу. Для историков искусства это имеет такое же значение, какое для бонапартистов имело бы обнаружение могилы Наполеона, если бы та была неизвестной, и такое же, каким для католического мира имело обнаружение могилы святого человека из Ассизи.
Именно в Ассизи я понял, чем может стать обнаруженная могила одного человека для миллионов других людей. Гробница в Ассизи — среди тысяч алтарей и святилищ Италии — это место особенное, которое поражает своей силой, словно раскаленным прутом, и подгибает колени всех, не обращая внимания на вероисповедание или отсутствие какой-либо веры. Достаточно иметь веру в человека и в какую-то ценность, которую невозможно пересчитать на монеты.
12 декабря 1818 года, после пятидесяти двух дней и ночей непрерывного труда, под главным алтарем базилики Святого Франциска в Ассизи было найдено тело святого. Крипта, где он теперь покоится на каменном ложе внутри высокой ниши, доступна для посетителей. Когда сходишь сюда из говорливого, многоцветного салона жизни на поверхности, тебе кажется, что мрачный, переполненный тишиной, сосредоточенностью и шепотами каземат — это словно священная гробница, обладающая небывалой силой воздействия. Насколько небывалой, я смог убедиться сам.
Гробница святого Франциска в склепе
По-моему, это был американец, высокий, молодой блондин с массивным телом, в джинсах и сандалиях. Он стоял и глядел с глуповатой, язвительной усмешкой на коленопреклоненных людей у алтаря под нишей. И еще он жевал резинку — намеренно, раздражающе, громко. Он чувствовал себя более высоким (а он и был выше, поскольку стоял), не таким глупым. Как он долго так себя чувствовал, не знаю. Помню лишь, что его глаза постепенно менялись, словно удивляясь тому, что его демонстрация встречает безразличие молящихся, а усмешечка сползала с налитого лица и застывала в странной судороге. Он перестал чавкать, затем выплюнул резинку и стыдливо сунул ее в карман, опустился на одно колено, затем на другое и склонил голову. Эту сцену я запомню до конца дней своих, хотя никогда ее, наверное, не пойму. Если бы мне эту историю рассказали, быть может, я бы и не поверил. Но я это видел.
В этом месте происходили и не такие вещи, и не у таких людей подгибались колени и совесть. Когда итальянцы решились-таки сломать ось «Берлин-Рим», и когда под конец июля 1943 года фашизм в Италии был свергнут, а маршал Бадольо встал во главе нового правительства — началась немецкая оккупация страны. Военным комендантом Ассизи стал полковник Мёллер. Задание его было простым: ввести «Ordnung» теми же самыми методами, которые до сих пор применялись во всех завоеванных странах Европы, и которые до сих пор страшат кошмарными снами европейцев, помнящих те времена. Итальянцы ненавидели немцев в течение всей Второй мировой войны, и эта нелюбовь до сих пор продолжается, поскольку до сих пор живы поколения, воспоминания которых пропитаны кровью. Всего лишь раз в течение своих итальянских вояжей я слышал крики «браво» во время киносеанса — когда в американском вестерне «Дикая банда» пулю в сердце получил немецкий барон, военный советник мексиканских мятежников.
Мёллер — как и другие немцы — не ненавидел итальянцев. Он презирал их, быть может, потому, что итальянцы — это самые паршивые солдаты в мире (еще двадцать с лишним лет после войны, британский «Панч» писал: «Со времен Леонардо у итальянцев всегда имелись замечательные идеи — во времена второй войны они единственные применяли танки исключительно с задним ходом»). Направляясь в Ассизи, Мёллер знал, что научит послушанию бунтующих «макаронников». И вот неожиданно, у гробницы святого этот человек познал милость просветления, словно легендарный волк из Губбио, которого Франциск усмирил на глазах толпы. В течение всего времени оккупации, Мёллер, в силу своего поста, защищал жителей города перед солдатней, наказывал своих подчиненных за нанесенные людям обиды и возмещал ущерб. Когда поступил приказ взорвать Ассизи, и когда саперы уже заложили взрывчатку, полковник Мёллер вышел в город и в ходе последней, одинокой прогулки по улицам он собственноручно разоружал часовые механизмы бомб. Это было паломничество к очищению, к тому, чтобы сбросить бремя войны — и к смерти. За эту последнюю прогулку, благодаря которой сегодня можно наслаждаться архитектурой и искусством Ассизи, полковник Мёллер был гитлеровцами расстрелян.
Не знаю, имеют ли право люди считать других людей святыми, но тогда я понял, что монах из Ассизи наверняка был лучше, чем остальной мир. Он не притворялся, будто бы любит людей и птиц — просто-напросто, он был этой любовью, весь, от кончиков волос, через лохмотья и до самых ногтей на ногах. Лучшие среди нас не могут полностью избавиться от эгоизма, злости и ненависти, а он — мог. Если любовь делает святым, во что я верю, то он был святым, как никто из людей после Христа. Он был веселым, расточительным сыном богатого купца, и внезапно отказался от своих денег и от своей позиции в обществе, чтобы надеть нищенское рубище — кто из миллионеров мог бы скопировать этот его подвиг? Он вернул семье свое имя и даже одежду — и ушел, словно выпущенная из клетки птица, на лоно природы. Словно герой Элии Казана, Еванджелех («toutes proportions gardees») он поменял Систему золотую на Систему сермяжную, освобождающую и дающую волю.
Старейшее из известных изображений Франциска, созданное ещё при его жизни; находится на стене монастыря св. Бенедикта в Субиако
Разве не является парадоксом тот факт, что все мы, которые обожаем свободу словами и требуем ее, словно голодные птенцы, которые пишем о ней поэмы — заботливо ухаживаем за кандалами Системы, которую сами же создали мучительными усилиями в течение прошедших веков? Она грязная и фальшивая, но это наше дитя, а мы — ее дети; это мы сформировали ее по образу преисподней и ярмарки, теперь же она формирует нас, а мы не можем освободиться. Может, именно потому мы столь быстро и легко склоняем головы перед человеком, который отбросил деньги и тем самым купил себе свободу. По-видимому, это было легче сделать несколько сотен лет назад, чем сейчас, когда свобода слишком дорого стоит для мультимиллионера, и когда Система окаменела, словно железобетонная плита. Наверняка.
И являются ли тот американец, с которого нечто, чего нельзя взять в руку, содрало наглость, и которого научило смирению, быть может, на мгновение, но, возможно — и на всю жизнь, и тот немец, которому это нечто подарило улыбку в момент смерти — достаточным доказательством, одним из тех, которые мы заядло ищем, а когда находим, радуемся как дети? Неправдой является сказанное Антонием после смерти Юлия Цезаря, будто бы «гадкие поступки людей живут после их смерти, а хорошие часто хоронятся вместе с их прахом». Прекрасные деяния монаха, являющегося эмблемой Ассизи, еще сегодня позволяют верить, что мы окончательно не одичали, и что мы нуждаемся в какой-то иной Системе, которую я не могу определить точно, но и так она будет понята, поскольку она не одного меня всякий день заставляет беспокоиться.
Чтобы ввести эту новую Систему, следовало бы совершить переворот, по сравнению с которым все остальные, совершенные человечеством — всего лишь банальные сценичные шутки. Мы прекрасно понимаем, что подобный бунт — это пустынный мираж, что он никогда не произойдет. Среди бесчисленных лиц Системы, в которой мы живем, основным лицом является ложь — она сама по себе неуничтожима и бессмертна. Попытайтесь сорвать чарчаф с этого лица, и вы увидите искривленные издевкой губы.
На левом фланге аркадного крыльца очень ценного средневекового святилища в Риме, Санта Мария ин Космедин, стоит огромный мраморный диск, похожий на мельничное колесо и весящий тысячу триста килограммов, на самом деле являющийся барельефом, изображающим усатого старца с открытым ртом, предположительно — мифического бога морей, Океана. Это странное колесо, обнаруженное когда-то среди развалин и поставленное на нынешнем месте в XV веке, при Сиксте IV, называется Bocca della Verita (Уста Правды)[20], а легенда гласит, что если лжец сунет руку в глубокий провал рта, та будет раздавлена. Руки суют все, и еще никто не ушел калекой. В основном, женщины — всякий день несколько десятков туристок фотографируется здесь с рукой во рту страшилища. Таким образом они доказывают свою верность. И каменный компьютер доказывает, что никто не врет. Большинство слов и поступков, которыми уже много веков мы одеваем собственную человечность, собственную цивилизацию и нашу Систему, обладает такой же истиной, сколько ее в фальшивых клятвах людей, пихающих руки в пасть каменного барельефа в Санта Мария ин Космедин.
Монах из Ассизи, переворачивая свою собственную Систему, не перевернул Системы мира. Зато он подарил всем, что стоят коленопреклоненными у его могилы, мгновения болезненной и стыдливой задумчивости, а это намного больше, чем подъем на Эверест.
Он не был единственным во всей истории. Время от времени, на Земле появляется, словно метеор, человек, желающий покончить с ложью, лицемерием, коррупцией, преступлениями и эксплуатацией человека человеком. Один раз он принимает вид средневекового монаха, в другой раз — ренессансного художника, философа новых времен или политика, он носит костюм, бурнус, мундир или повязку из листьев на бедрах, у него скошенные глаза и желтоватая кожа, либо же он черный как эбеновое дерево, он пользуется лучиной или лазером. И проигрывает. Это та единственная вещь, которая объединяет их всех — тех, что жили тысячу лет назад, две с лишним тысячи лет назад, и сто лет назад, и в течение нашей собственной жизни.
Во Флоренции стоит монастырь Сан Марко, где два монаха-доминиканца в XV веке сотворили два мистических и совершенно различающихся мира. В первой половине того столетия Фра Анжелико покрыл стены монастыря вдохновенными фресками («Христос Пилигрим» и другие), а во второй — великий Джироламо Савонарола, находясь в окружении этих изображений, проклинал людскую никчемность. По-видимому, он слышал тот же голос, который приказал Франциску Ассизскому: «Иди и исправляй дом мой, который, как сам видишь, валится». Он видел резче других и старался исправлять пламенным словом, но разве способно слово изменить человека, который привык слушаться только палку? Бродя по коридорам Сан Марко, я слышал его вибрирующий под сводами, пышущий ненавистью к преступным деяниям голос — слова, которые он метал в молчащую толпу, словно камни, слова, слова, беспомощные слова.
Портрет Савонаролы кисти Фра Бартоломео, около 1498 г.
Памятник Савонароле в Ферраре
Савонарола — как и святой Франциск — родился богачом. Он был внуком прекрасного врача, и с детства его готовили к той же стезе. Только он, вместо того, чтобы лечить тела, предпочитал лечить души, а честность ценил гораздо выше золота. В двадцать три года он тайком покинул родительский дом, выбрав для себя монастырь доминиканцев в Болонье, а через шестнадцать лет (1491 год) стал настоятелем монастыря Святого Марка во Флоренции[21].
Всю свою жизнь, не останавливаясь, он клеймил грязную Систему, которую застал на Земле. Этот спокойный, с врожденной безмятежностью разума и добротой в общении с грешниками доминиканец — менялся самым полярным образом, когда вступал на амвон. Мрачное лицо, прорезанное искривленным, словно орлиный коготь носом, искажалось в гримасе гнева или эмоций, из уст сыпались молнии, а из глаз текли слезы, потому что говорил он не только устами, но и сердцем, и бывало, что он рыдал во время проповеди. Поначалу его слушала лишь горстка прихожан и гостей Сан Марко, но вскоре начали наплывать толпы, и Савонарола был вынужден перебраться в главный собор Флоренции. Окружающая его толпа делалась больше, ибо никто еще не приносит людям такого успокоения, как вдохновенный проповедник, который осуждает людские проступки. После двухчасовой бури, к которой мы относимся словно к таблетке аспирина, мы выходим из мрака святилища на улицу, чтобы и дальше лгать, воровать, перекупать и подпитывать подлость — только теперь мы уже чувствуем себя лучше и делаем вид будто бы пережили «катарсис». И нам это весьма подходит. С одним только условием — что проповедник не относится к собственной роли слишком серьезно и принимает правила игры. Если же нет — мы меняем проповедника.
Мир, с момента его сотворения, наполнен критиками, клеймящими Систему таким остроумным образом, чтобы не оскорбить действующих монархов, чтобы, «клеймя», подлизаться к сильным мира сего и купить похвалу лично для себя. Савонарола был другим. Он прямо называл преступления правителей, вскрывал светскую жизнь священнослужителей, обнажал политическую проституцию. Он сам отрекся от всего ценного, оставив только череп из слоновьей кости — символ ничтожности земной власти и славы. Из самых дальних деревушек Италии люди месяцами шли пешком, чтобы услышать его голос, под влиянием которого люди обращались к Богу, женщины надевали более скоромные платья, а великие опускали глаза.
Савонарола любил народ и после изгнания семейства Медичи создал во Флоренции квази-коммунистическую народную республику с теократически-демократическим правлением. Сам он не занимал хотя бы самой скромной должности в органах власти республики. Это было ошибкой, которая проявилась очень скоро, ибо, правое дело, не подкрепленное мечом, не имеет ни малейшего шанса на победу. Это было ошибкой, большей чем его фанатизм, доходящий иногда до абсурда (например, сожжение «не соответствующих требованиям морали» произведений Ренессанса).
Казнь Савонаролы на Площади Синьории (Флоренция)
Савонарола проиграл очень быстро, и даже не потому, что в 1497 году его отлучил от церкви ВЫСТЕНПНЫ папа Александр VI, развратную жизнь которого безжалостно бичевал Савонарола. Проиграл он по двум причинам — обе их первым отметил своим зорким оком и объяснил Макиавелли, осудивший Савонаролу за то, что он желал проводить реформы, но был пророком невооруженным. То, что он не взял в собственные руки вожжи власти, было первой причиной. Автор «Государя» так написал о Фра Джироламо: «Все безоружные пророки проигрывали, поскольку чернь легко позволяет себя убедить к началу какого-либо предприятия, но она не умеет остаться при нем длительное время. Брат Савонарола погиб под развалинами собственных инноваций, поскольку у него не было ни единого средства вынудить народ оставаться верующими».
Невозможность жить по вере длительное время — это было второй причиной. Люди могут жить без греха ради праздника, чтобы поправить самочувствие и набраться сил для будничного покера. Но когда им приказывают жить в соответствии с моралью в постоянной и чистой Системе, они видят ее как концентрационный лагерь и начинают ненавидеть. Именно те обратившиеся к Богу грешники, та толпа, которая обожествляла Савонаролу — при первой же возможности обратилась против него, и при постоянном подзуживании со стороны князей Церкви, стиснула ему горло. Посаженного в тюрьму брата Джироламо после длительных пыток осудили на смерть через удушение, после чего его тело было сожжено в пламени костра (1498 г.).
Если невозможно мечтать о собственном рабе, о лукулловых пирах, о проститутке помимо надоевшей жены, о том, как это здорово заставлять других людей кланяться тебе и о щепотке эротических извращений — зачем тогда вообще жить? Вот философия тех, кто поджигал тот костер, то есть — наша. Простой человек способен жить в нужде и рабстве, в кандалах собственного и чужого сволочизма — но никогда в духовной аскезе. Можно умертвлять тело, но не душу. Будучи неспособным понять это — Савонарола сам подписал себе смертный приговор. Не станем себя обманывать — сегодня мы тоже придушили бы этого монаха, если бы тот появился среди нас. На его шее не хватило бы места для всех желающих его смерти рук.
Зато мы обожаем почитать подобных гладиаторов, когда из жизни они уже перешли в историю. После убийства мы бы, вне всякого сомнения, поставили ему памятник. Целых два столетия молодежь засыпала цветами место, где тело Савонаролы превратили в пепел, а простой народ сохранял его изображения словно величайшее сокровище.
Все это вспомнилось мне в Ассизи, перед гробницей одного из тех Божьих безумцев, которые пытались изменить систему. Над криптой с останками святого высятся базилика и монастырь, наполненные чудесными фресками Чимабуэ, Джотто, Мартини и Лоренцетти. Это уже другой мир и другие волнения. Только мысли о людской глупости и беспомощности те же самые. В соответствии с конкордатом 1929 года, подписанным между Муссолини и Апостольской Столицей, базилика и монастырь должны были быть возвращены Ватикану. Только Апостольская Столица решилась принять их только при условии предварительной полной реставрации зданий и бесценных фресок. Итальянское правительство выразило согласие. После сорока трех лет задержки итальянская судебная система заблокировало предназначенные для этой цели средства — заблокировало в силу закона, который не позволяет финансировать расходы чужого государства (формально, эти здания являются частью иностранного государства, Ватикана). Ад абсурда, в котором умирают шедевры. Трудно думать обо всем этом без гнева.
Я перехожу во двор монастыря с его крытыми галереями, к прохладным стенам, успокаивающим, словно умелая повязка. Все-таки, насколько же похожи галереи таких аббатств, как же умеют они притягивать к себе и пробуждать доверие, без слова, не требуя благодарности. Во всяком случае, они никогда не лгут.
5. Благословенная тишина монастырей
«Бесконечная тишина ведет к печали и приносит образ смерти. Тогда необходима помощь смеющегося воображения».
Жан-Жак Руссо «Мечтания одинокого путника — Прогулка 5»
«То, что ты видел, было ночью, пустотой, темнотой, зимней мглой, смешанной с могильным туманом, неким пугающим покоем, тишиной, из которой не доносится ни шороха, даже вздоха; мраком, в котором ты не мог заметить ничего, даже призрака. То, что ты видел, было внутренностью монастыря.
И все же, помимо этой темноты, что-то здесь крылось, кроме тьмы был свет; в этой смерти была жизнь… Попробуем туда войти, ввести туда читателя и рассказать вещи, которых книгописатели никогда не видели, и, что за этим идет, не могли рассказать».
Виктор Гюго «Отверженные»
Итальянские монастыри. В Италии имеется 60 000 (прописью: шестьдесят тысяч) монастырских зданий. Чтобы коснуться рукой каждого из них, не хватило бы и жизни, даже столь долгой, как молчаливая жизнь монаха за стенами.
Особенно красивы те маленькие и совсем уж маленькие конвенты, что расселись на скалах, вознесенных над зеленью окружающих их гор и долин, иногда труднодоступные и похожие на настоящие острова, нередко — опустевшие и мертвые. Они тихие, так что будут становиться красивее в таком темпе, в котором наша жизнь познает наполненные стрессами и децибелами ускорения. Турист, со своим пузом, комплексами и вывешенным языком, когда уже чисто случайно забредет сюда, чувствует звук этой тишины. Она настолько громкая, что вначале разрывает его уши, для которых ранее была лишь абстракцией, но потом — успокаивает. И может случиться, что этот человек проснется, как тот мельник, когда прекращается скрежет мельничного колеса, и подумает: благословенная тишина. Нет, он не сорвет со шкурой ту Систему, которая его вынянчила, с ее автомобилем, транзистором и лифтом — он возвратится в город, представляющий собой непрестанное землетрясение. Но на мгновение, когда его очарует молчание древних стен и зеленый пейзаж за готической аркадой, он проклянет город, и в этот один миг по-настоящему будет достоин себя. Когда же он вернется в город, он не забудет этой тишины и будет тосковать по ней. Стены заброшенных монастырей — анклавы покоя и замедления ритма — они, словно вода посреди пустыни.
Внутри наиболее красивы — колодцы. Они вырастают из маленьких двориков, словно стволы срубленных деревьев. Покрытые плесенью барельефы наземного сруба и мастерски кованое железо подъемников, разрисованных ржавчиной и оплетенные виноградной лозой. Одноглазые телескопы матери Земли, через которые она изучает историю, происходящую на ее поверхности. Их столько же, сколько и монастырей. А рядом — их противоположность: «кампаниллы»-колокольни, стройные башни-шпили, прокалывающие облака; колодцы, выкопанные в противоположную сторону, в сторону неба.
Мой красивейший монастырь итальянской земли я обнаружил совершенно рядом с Орвието.
Все дороги этого города с его этрусским происхождением сходятся на площади перед собором, знаменитый фасад которого, начиная с XIII века отряды людей-мурашек моделировали в форме готического триптиха из мрамора, бронзы и мозаик. Но, чтобы оценить само Орвието, чтобы «взять его в руку», распрямить ладонь и глядеть словно на маленькую, мастерски инкрустированную модель, и влюбиться — нужно от него сбежать. Необходимо перескочить ответвление проходящей рядом Автострады Солнца, вновь подняться на холмы и добраться до одного из моих зачарованных островов — Ла Бадии.
Это монастырь, основанный в XII веке, и которому когда-то присвоили имена святых Севера и Мартира. Ла Бадия имеет собственную легенду, как и всякий зачарованный остров. Легенда гласит, что когда в VI веке в провинции Валерия умер святой монах Северо, тело его перевозили на телеге, которую тянули два бычка, и вот останки очутились рядом с Орвието. И тогда-то, одна из благородных матрон этого города, синьора Ротруда, попыталась, ведя за собой толпу, овладеть останками, но, как только она прикоснулась к гробу, рука ее приросла к крышке. Дав торжественное обещание, что тело будет захоронено в церкви Святого Сильвестра на вершине соседствующего холма, Ротруда обрела свободу. После того, как присяга была выполнена, церкви дали нового покровителя, святого Севера, а затем к ней пристроили аббатство. Так родилась Ла Бадия.
Своей мощной, многогранной «кампаниллой» монастырь высится над округой, за исключением города, так как занимает холм чуть пониже городского, а слава не доходит до ног богатого соседа. Именно отсюда, с вершины, после тяжелого подъема по темной трубе лестнице, когда уже встанешь в ярком солнце на высшей платформе, рядом с колоколом, названным «Виолой» (скрипкой) по причине неземной, шелковистой тональности его звона — открывается панорама всего города, и вид этот — просто сказочный. В безбрежном море зелени, облепливающей холмы и тянущейся до самого горизонта, выстреливает вверх рыжий монолит камня, увенчанный кружевами стен и крыш Орвието, словно пестрый остров в зеленом океане или, скорее, словно удлиненный корпус молчаливого судна, наежившегося шпилями мачт и серыми плоскостями парусов. В этот вид можно всматриваться очень долго.
Говорливый и украшенный словно гордый князь город, с перетекающими по улочкам толпами туристов, наполненный голосами, криками и треском фотоаппаратов, гордый своей значимостью и славой — он редко когда глянет на нищего, покорно стоящего на противоположном холме. Только нищий, заколдованный в молчании своих каменных одежд, которые столетия вымыли дождем и отгладили ветром — это истинный аристократ, красивый, словно старое дерево, и, как оно, седой, которому морщины лишь прибавили достоинства, а мудрость веков привила снисходительность к блеску и шуму… Он не ищет их, словно город, который, желая жить, обязан блестеть, обязан притягивать к себе толпы, ослеплять их и говорить: глядите и любуйтесь мною!
Пропитанная меланхолической печалью Ла Бадия трогает вид случайно забредшего сюда гостя, который набожно ласкает взглядом ее извечные камни, вдохновенный чувством, которого отполированные стены памяток из туристических брошюр никогда не способны вызвать. Прекрасные и ценные, они слишком живые и вечно молодые, ибо вечно обязаны трудиться на свое содержание, им нельзя смыть помады и погасить улыбку — затоптанные, измученные магниты для туристов и их долларов, поцарапанные перочинными ножами, общелкиванные фотоаппаратами, ощупанные и загрязненные стадами глупцов. А вот тут — тишина и время, которое, хоть и проходит, стоит здесь на месте — бесконечная, безмятежная старость нищего, который знает, что Господь дал счастья ему больше, чем князю, только он ничего не говорит, жалея того.
Только лишь когда нищий встанет у кареты, чтобы открыть дверцы, княжеские кружева искрятся сильнее, а бриллиантовые запонки блестят ярче и увереннее. Только в Ла Бадии можно полюбить город Орвието, разрезающий зеленое море, окружающее хребет каменного фундамента. Тихий монастырь — это нищий, что открывает вид на блестящий город. Почему же я полюбил нищего сильнее?
Быть может, по причине запаха трапезной? Я не собираюсь говорить вам о мистическом запахе стен, рассказывающих о счастливых и трагических событиях, которые столетия наслоили в их интерьерах, но об истинном запахе. Когда приоткрываются скрипящие набитым на дубовые доски железом ворота, можно войти в длинный столовый зал, который прорезают протискивающиеся через форточки узкие потоки солнечного света. Солнце выжимает матовые отблески из оловянных мисок на длиннющем, могучем столе, вокруг которого выстроились массивные, оплетенные лозой табуреты, и достаточно лишь прикрыть глаза, чтобы посадить здесь фигуры в капюшонах, и вогнать в уши тихое жужжание молитв и звон ложек. И сразу же мысль: откуда этот запах? Грубо атакующий ноздри пресный дух то ли хлеба, то ли кухни, то ли горячих тряпок, не вычищенного котелка. Я касаюсь толстых столовых досок — столешница влажная, древесина, по-видимому, недавно мытая, парит (остаток от недавних гостей, дело в том, что в монастыре расположился скромный постоялый двор). Но ведь это старинный стол, за которым в течение столетий трапезничали монахи. Они приходили сюда, жевали, пили, глотали, молились и умирали, их места занимали следующие монахи, и их пот, слюна, разлившаяся похлебка, мокрые клочки истершихся на локтях ряс, все это — втираемое в столешницу в течение веков — парит сейчас и дает тот летучий запах, которого не вынюхаешь из самых лучших романов или исторических исследований, который просто невозможно описать — запах XIII, XIV, XV века. Именно он, прикрытые глаза и работающее на всю катушку воображение являются единственной в мире машиной времени; они переносят, пускай и иллюзорно, на мгновение, в ту самую эпоху. И кто же о таком не мечтает, о подобном волшебстве и очарованности?
Эти монастырские настроения, вызываемые из прошлого, бывают такими же различными и отличающимися, как белое не похоже на черное. Атмосфера набожной сосредоточенности, молитвы, тишина, прерываемая лишь звуками колокола и… карнавал, праздник цветастых костюмов, звуки музыки, искушение — шепотком на ухо и вихрем танца, горячечный говор и фривольные песенки. Внутри монастыря? Посреди ультра-католической Италии? Именно, внутри монастыря и только лишь среди итальянцев.
В двух километрах (на северо-запад) от Венеции, на пяти разделенных каналами и соединенных мостами островках обустроился городок Марано, где проживает не более восьми тысяч итальянцев. Я плыл туда вдоль островка Сан Микеле, обремененного кладбищем Венеции, на корыте, которое здесь называют «vaporetto», когда же доплыл, шатался по улицам и посещал: музей стеклодувного искусства, поскольку Марано — это знаменитый центр средневековых стеклянных дел мастеров (в XIII веке именно здесь венецианские стеклодувы основали свой цех), готический дворец Муля, а так же святилища: романско-византийскую базилику Санти Мария э Донато, в которой топтал прелестные мозаичные полы, и ренессансную церковь Сан Пьетро Мартире с алтарем кисти Джованни Беллини. И монастырь, а в нем я посетил тень Джакомо Казановы. Именно здесь танцевали и флиртовали.
Возьмите мемуары этого ведущего плейбоя нового времени и наешьтесь досыта описаниями его поездок в Марано, где скучали по нему прекрасные женщины в монашеских одеяниях. Впрочем, а где они по нему не скучали? Женщины были смыслом его жизни, источником удовольствий и источником хлопот, без которых жизнь бесплодна, словно сожженная солнцем пустыня. С тем только, что если женщин он искал, то монастырей, скорее, избегал, но по удивительной иронии судьбы именно монастыри неустанно искали его. В молодости он даже был помазан в священники, а когда сбросил сутану, монастыри не забывали о нем и раз за разом протягивали к нему объятия, маня прелестями своих интерьеров. Точно такое же происходило с ним и в Польше.
Перед нами начало 1766 года. Находящийся с визитом в Варшаве синьор Джованни Джакомо Казанов, кавалер де Сенгальт, позволил — несмотря на всю свою ловкость — втянуть себя в игры между почитателями двух итальянских танцовщиц: Бинетти, приятелем которой он был, и Катаи, приятелем которой был коронный подстолий, генерал Францишек Ксаверий Браницкий[22], знаменитый, как безудержный забияка.
В день святого Казимира, в самом конце представления «на театруме», Браницкий под каким-то мелким предлогом сцепился с Казановой в ложе, а когда кавалер де Сенгальт пожелал дипломатично смыться — услышал громкие слова: «Венецианский трус». Сформулированное подобным образом «приглашение на танец» изменило намерения Казанов. Со шпагой в руке он ждал Браницкого под театром, кормя себя горькими и язвительными мыслями о поляках, которые «еще сохранили дикие инстинкты варваров, а их многословная дружба и заядлая ненависть обладают чертами сарматов и скифов» — но не дождался. На следующий день, утром, письмом, наполненным галантными и вежливыми словами, итальянец вызвал Браницкого на дуэль. Браницкий принял вызов столь же вежливым образом, а поскольку был превосходным стрелком (он мог расщепить пулю надвое, стреляя в лезвие ножа), настаивал, чтобы использовать пистолеты. Еще он просил, чтобы устроить все как можно скорее, справедливо аргументируя это тем, что на следующий день весь город обо всем узнает, и король запретит поединок. После краткой дискуссии Казанова принял оба предложения, обнимаясь с Браницким (по просьбе последнего) и даже хорошенько с ним пообедав. Правда, Браницкий постился (зная, что на дуэли лучше иметь пустой желудок), выстоял мессу и принял причастие.
Было 5 марта 1766 года. К трем часам Браницкий подъехал к дому кавалера на легкой коляске, и они отправились вместе. У Казановы не было секундантов, и он во всем положился на противника, которого сопровождали адъютанты и даже некий генерал. Браницкого этот жест весьма тронул. Но вскоре они вновь начали ссору, поскольку, когда через четверть часа поездки они прибыли в парк, и генерал, желая отменить дуэль, протестовал против поединка в границах юрисдикции маршалека[23] — Казанова на это ответил, что будет драться даже в церкви, разве что Браницкий перед ним извинится. Поляка эти слова взбесили и он приказал сопернику взять и проверить пистолет, на что кавалер пообещал «проверить оружие на его лбе», в связи с чем, Браницкий с вызовом снял шапку.
Казанова
и его соперник, Ксаверий Браницкий
Расстояние составляло десять-двенадцать шагов. Казанова встал боком к противнику, после чего оба выстрелили одновременно, так, что был слышен один грохот. Браницкий упал с грудью, простреленной навылет под седьмым ребром, кавалеру же пуля пробила левую руку. Люди Браницкого кинулись с саблями, чтобы зарубить триумфатора, но поляк, не потерявший сознания, крикнул:
— Прочь, разбойники, от кавалера де Сенгальта!
Через мгновение Браницкого перенесли на постоялый двор, а Казанова на санях встреченного крестьянина направился в Варшаву. По дороге его обогнал приятель Браницкого, подполковник Бышевский, разыскивающий «убийцу» с обнаженной саблей в руке — по счастью, итальянца он не узнал. Тот же, по причине отсутствия в столице знакомого ему Адама Чарторыйского, начал горячечно искать другое убежище. Самым лучшим укрытием тогда были монастыри, поэтому, особенно долго не раздумывая, Казанова побежал к францисканцам; когда же монах, стоявший у ворот, загородил ему дорогу, считая, будто бы перед ним преступник, итальянец свалил его с ног пинком и ворвался в монастырь силой. Отец-настоятель, хочешь — не хочешь, разместил его в бедной келье и только лишь после вмешательства посетивших Казанову сановных лиц (в том числе, подляского, калишского и виленского воевод), предоставил незваному гостю более достойные апартаменты.
Тем временем, Бышевский сходил с ума, разыскивая итальянца. Когда он наехал на директора театра, Тома тиса, то ли потому, что принял его за Казанову, то ли потому, что Тома тис ничего ему не сообщил, выстрелил в «начальника спектаклей» с нескольких шагов, не обращая внимание на присутствие здесь же князя Любомирского и графа Мощеньского, когда же последний вмешался, по получил удар саблей по щеке, потеряв при этом три зуба. После этого Бышевский схватил Любомирского за воротник (!) и, заслоняясь его телом, сбежал от гнева людей Тома тиса. Тем временем, власти окружили монастырь драгунами, чтобы защитить Казанову перед местью, и так вот монастырь сделался для кавалера де Сенгальт своеобразной тюрьмой.
Казанову посещали и утешали многочисленные враги Браницкого, но вот с рукой дело обстояло не самым лучшим образом. Пуля размозжила палец и застряла в ладони. Правда, хирург Гендрон пулю вынул, но собравшиеся на консилиум врачи приняли решение, что ладонь придется ампутировать. Но здесь уже кавалер де Сенгальт доказал, что, будучи храбрым, он еще обладает и умом. Конкретно же, он приказал выставить врачей за порог. Благодаря этому, он спас руку, которая, хотя и посинела до локтя, но гангрены избежала — полностью ее работоспособность восстановилась спустя несколько месяцев.
Из монастыря Казанова вышел только на пасхальные праздники и через несколько дней получил аудиенцию у короля Станислава Августа, который знал о подробностях дела. Поединки были запрещены, и монарх спросил:
— Почему же это у тебя рука на перевязи?
— Ах, это ревматизм, милостивый государь.
— Советую тебе в будущем его избегать, — гневно ответил «король Стась».
Хотя Браницкий выжил, и все как-то разошлось, вскоре Казанов пришлось покинуть Варшаву: с запада пришли известия о его финансовых махинациях в Англии, Франции и Италии.
Лечась в варшавском монастыре, кавалер де Сенгальт наверняка вспоминал монастырь на острове Марано, где проводил время намного веселее, танцуя на балах в костюме арлекина. Дело в том, что во время венецианского карнавала разрешалось устраивать балы и на территории монастырей. Гости танцевали в парлатории[24], а монахини глядели на них из-за большой решетки.
Насколько же богаты воспоминания стен итальянских монастырей. Эти горячие глаза из-за решетки глядели так, что я, смешавшись, отправился к выходу.
Марано я посещал гораздо раньше, чем прибыл в Орвието. Но здесь, в Ла Бадии, мне вспомнился тот монастырь, на водах Адриатики. Кое-какие из моих зачарованных островов не представляют собой территориальной целостности, и их конструкция пополняется во время поездок, в местах, удаленных одно от другого, но скрепленных скобой размышлений сестер-монахинь.
6. Города умирают как люди
«Прошлое — это бездонная пропасть, поглощающая все преходящее».
Пьер Николь «эскиз о морали»
«В этом доме кто-то читал, размышлял или открывал кому-то сердце. Вон в том, возможно, другой кто-то пытался исследовать пространство, трудился над расчетами туманной Андромеды.
Сколько же здесь закрытых окон, погасших звезд, усыпленных людей. Их цивилизации — это всего лишь нестойкая позолота: с земной поверхности их сотрет вулкан, какое-нибудь новое море, засыплет песком ветер»
Антуан де Сент. — Экзюпери «Земля людей»
Из Орвието в одну сторону лента шоссе бежит к Автостраде Солнца, в другую же сторону едут посвященные — и таковые едут весьма редко. Ибо там, неподалеку (уже не помню — час или полчаса на автомобиле) находится нечто небывало прекрасное и печальное: два зачарованных острова, о которых туристические бедекеры молчат. Город-призрак в глубине озера Боль сена и мертвый город под облаками — Чивита ди Баньореджио.
Ехать надо через провинцию Витербо, через дикую, безлюдную местность, наполненную вымершими вулканами и лесистыми плоскогорьями, с запирающими дух пейзажами, прорезанную глубокими оврагами речных русел, которые туземцы называют «cavoni». Среди холмов вьется знаменитая ВИА Кассия, ведущая из Рима в Сиену. Эта старинная Автострада Солнца была построена, вероятно, еще на древней этрусской дороге, ведь когда-то эта земля была колыбелью и сердцем лиги двенадцати этрусских городов. На каждом шагу здесь натыкаешься на следы этрусков, таинственного народа, о происхождении которого и до нынешнего времени ничего определенного мы не знаем, и который создал оригинальную культуру, от которой, несмотря на жестокость природы и бешенство римлян, осталось множество реликтов, но ни единого целого города, ни одного полного архитектурного памятника — дома или святилища. Хотя…
Озеро Больсена на закате Солнца
Съезжая с ВИА Кассия, ты находишься уже очень близко к лежащему над озером Больсена городку с тем же названием. Когда-то здесь был один из этрусских центров, и назывался он Вольсинии. Берега озера описать я не берусь — тут необходимо, действительно, жонглировать рифмами, как Байрон, чтобы запихать такую красоту в клетки слов и перенести на бумагу. Гораздо важнее то, что скрывает глубина. В Вольсинии я нашел легенду о затопленном городе, который показывается в купальскую ночь, словно призрак.
Археологи, с тех пор, как археология существует, мечтали об этрусских Помпеях, о городе, который природа замкнула в сейфе из лавы или воды (полностью, то есть, богатый домами, колыбелями и собачьими ошейниками — богатый всем), и который теперь можно было бы извлечь на поверхность и исследовать, и наслаждаться, и снова исследовать — до полного счастья. Только мечта эта до сих пор остается сном. Англичанин Лоуренс в своей замечательной работе об этрусских городах писал, что они подобны цветам — расцвели и быстро увяли, не оставив после себя ничего, кроме скрытых под землей луковиц. Эти луковицы — это этрусские гробницы и развалины фундаментов храмов, которые можно увидеть хотя бы в Орвието. Но вот если бы хотя бы один полный дом!
А ведь на берегах озера Боль сена с беспамятных времен кружит легенда о древнем городе, который скрывают глубины. В течение всего лишь одного дня я слышал ее неоднократно — от рыбаков. Каждый здешний рыбак молится о том, что случилось с немногочисленными его приятелями — чтобы и он был посвящен в тайну. Ибо рыбак, которому повезет, в купальскую ночь, при полной Луне, может увидеть спящий на дне озера город. А жена Карло, того самого, что потерял ногу, и сейчас только чинит сети, маленькая женщина с жирными волосами и ужасно громадными грудями, в прошлом году слышала звон колоколов и пение женщин, столь же монотонное, как пение ее и ее подруг на мессе у отца Лоренцо. И не она одна. Взять хотя бы ту малышку из Мартаны, которую отправили в сумасшедший дом — ее нашли на берегу, первого января, это будет уже несколько лет. Говорят, что видела утопленницу. Тоже не единственную — известно ведь, что утопленницы из Больсены выходят в новогоднюю ночь. Я же подумал, что, быть может, она видела тень Амаласунты, что спряталась в глубинах вод перед тенью мужа.
Вместо моторной лодки, я нанял парнишку с обычной, весельной лодкой, и мы поплыли к двум островам: Бизентине и Мартане. Именно на этом, последнем, убили Амаласунту. Она была необыкновенно красивой и необыкновенно умной, а как же иначе — ведь она была дочкой Теодориха Великого[25]. После смерти первого мужа она стала регентшей, а когда умер и ее сын, вышла замуж за своего родственника, Теодата, и отдала ему корону остготов. Страшное дело, когда женщина, без остатка отдающаяся мужчине, понимает, что тот — трусливая каналья. Но дело еще более страшное, когда тот понимает, что она знает это. Теодат, поняв это, пленил ее посреди озера, на Мартане, и в 534 году приказал задушить. С того времени минуло тысяча четыреста тридцать девять ночей на святого Сильвестра[26].
Я остановил лодку между островом и берегом. Ничего не видать. Грязная зелень, а дальше уже только непроникновенная для глаз темень. Дно близко — всего лишь сто сорок шесть метров. Когда в 1692 году море затопило Порт Рояль на Ямайке, глубина над «пиратским Вавилоном» была точно такая же, тем не менее, спустя восемьдесят восемь лет после катастрофы, адмирал Гамильтон доносил, что с палубы судна видел дома. Еще позднее, в тридцатые годы XIX века, лейтенант Джеффри доносил Адмиралтейству о вершинах башен и крыш Порт Рояль, видимых на дне залива, неподалеку от канала, ведущего к Кингстону. Глубина была аналогичной, это правда, вот только на этом дне время и вода работали дольше чуть ли не на две тысячи лет.
Наклоняюсь за борт, а Джузеппе, торс которого распирает тельняшку, скалит зубы в усмешке.
— Ничего не получится, синьоре. Подождите купальскую ночь.
Ждать я не могу, даже если бы и верил в собственное счастье.
— Джузеппе, ты и вправду веришь в это?
— Верю, синьоре. Мой дед видел. Мой отец — нет, но я увижу, наверняка увижу! Время у меня еще есть.
«Мой дед видел» — заявление очевидца. Видел и рассказал. Так почему же не верить? У очевидцев нет конкуренции, ведь это же живые доказательства. Царь Александр III приказал привести старого крестьянина, который собственными глазами видел в 1812 году битву при Бородино.
— Так точно, Ваше Императорское Величество, я влез тогда на дерево и видел сражение с самого начала до самого конца. Наполеона видел — бааальшой мужчина, огромного росту, как гора, с длинной белой бородой до самых колен.
Шутки шутками, но та вера, которую представляет Джузеппе, заразительна. Я ничего не вижу, но начинаю инстинктивно чувствовать, что там, внизу, что-то есть, какие-то улицы и оконные проемы, сквозь которые бесшумно проплывают обитатели глубины — молчаливый мир, наполненный развалинами и площадями, и разбросанными по дну или закопанными в нем человеческими костями; мир, напитанный красками ночи и тишиной, не нарушенной ритмом жизни. Я чувствую это босыми ногами, опирающимися о доски корпуса, словно сквозь них проходит ток этой тайны. И мне как-то не по себе.
Утопленницы и бабские сплетни. Все это не стоило бы и ломаного гроша, и историю можно было бы посчитать сказкой, если бы не факт, что в течение последних пятидесяти лет, бури, сотрясающие водами Больсены, часто выбрасывали на берег этрусские черепки и фрагменты каменных скульптур, а рыбаки из своих сетей доставали не только рыбу, но и бронзовые статуэтки. Сейчас уже готовится экспедиция аквалангистов-археологов. Менее трех тысяч лет назад землетрясение, тряхнувшее Апеннинским полуостровом, залило вулканический кратер, и так образовалось Lago Bolsena. Ученые верят, что эта вода залила тогда этусский город. И лелеют безумный план, что когда уже найдут руины, то прикроют их стеклянной чашей, и тогда город можно будет осматривать через стекло, как мы глядим на рыб в океанических аквариумах Японии и у янки. Если они выиграют — вернусь сюда, чтобы поглядеть через стекло.
Теперь же дорога ведет вверх. Оставляю призрачный город, спящий на дне озера, чтобы вскарабкаться на вершину стоящего среди гор конуса, добраться до совершенно иной тайны, чтобы меня коснулось идентичное беспокойство.
Озеро теряется среди зеленых плоскостей, а потом поднимаешься выше и выше, все с большим трудом, и вот последний овраг, поворот над пропастью и я вижу… живую иллюстрацию к сказкам о принцессах, замкнутых на вершинах стеклянных гор. Гора — или, скорее, солидная каменная пирамида, словно копия вытянутых по вертикали рисунков Шанцера, тянущаяся к небу и увенчанная под облаками пятном застроек. Пока что еще весьма далеким. Выходить нужно далеко от подножия, у маленького колодца, и подниматься вверх по тонюсенькой, почти что стапятидесятиметровой нитке моста, висящего над пропастью, чтобы очутиться у вершины этой скалы, в Чивита ди Баньореджио.
Истерзанная пирамида, выстреливающая из дна зеленой чаши среди гор, для которой город — словно тесноватый берет, была идеальным, безопасным местом для поселения в неспокойные времена раннего Средневековья. Городок развивался под боком Баньореджио, старинного центра этрусской культуры, и вместе с ним был поглощен феодальной территорией Орвието. И тут пришел XVII век и тот памятный день. Скала задрожала, и в средневековых или же ренессансных улочках разыгрался сущий ад. Грохот трескающихся стен, летящие на землю камни, дома, валящиеся с грохотом в зеленую пропасть в сотни метров, плач детей, безумный ор толпы. Несколько секунд — и тишина. А может, днем ранее, встревоженные первыми толчками, они смогли уйти? Кто знает? Могу ли я представить подобное, смог ли бы выдержать, смог бы воспротивиться гонящему меня прочь испугу? Они не смогли убить этот страх и еще раз довериться природе — после землетрясения уже не вернулись, оставляя нажитое за века, свои дома, мастерские, теплую похлебку, хлеб в печах и полотно на ткацких станках. Город умер. И до сих пор не проснулся из смертного сна.
Города живут, как люди, переживают свои взлеты, моменты счастья и сердечные приступы, но умирают, как боги — стоя, в глубинном молчании, без слез. Таких городов-трупов существует множество, но никто их не хоронит, потому они разлагаются открытыми, иссекаемые жарой, и загнивая по причине сырости, беспомощными. Люди забывают о них, точно так же, как забывают о свергнутых с тронов богах, ибо в этом лучшем из миров помнят только победителей и только им вручают медали. Триумфатор забирает все, а побежденный гладиатор не может ожидать даже милости того, что его добьют. Вот он и будет умирать, пытаемый безразличием, прощаясь гаснущим взором с повернувшимися к нему спинами.
Такие города-призраки я уже видел в Югославии. Старый Бар, шапка скального массива, неподалеку от залива, в тридцати километрах к югу от Риеки. Были у него большие иллирийско-греческие и византийские традиции, но ему страшно не повезло. После двукратного взрыва боезапасов (1882 и 1912 годы), жители покинули город навсегда, и природа быстро справилась со стенами. Все реже кого-то трогает спящая печаль камней. Да и кто желает вслушиваться в мелодию смерти?
Ту же самую мелодию можно услышать и здесь. Нет, не услышать — почувствовать. Пустые улицы, ветер носит серую пыль, ритмический стук бьющейся о стену фрамуги на петле, съеденной ржавчиной до толщины папиросной бумаги. Оригинальные средневековые и ренессансные конструкции, домики, прижавшиеся один к другому в ужасе и молчании, сокрушенный скансен древней архитектуры, забытый и никому не нужный, угасающий…
Висящие за окном банка и круг колбасы! Выходит, здесь кто-то живет! Рынок: старец на ступенях сует мне под нос цветные открытки, напечатанные где-то в Баньореджио или еще дальше. И на трупе можно заработать.
— Ну да, да. — кивает он, — нас здесь человек тридцать, больше десятка детей. В школу они ходят в Баньореджио, а к младшим приезжает женщина, учителка, значит. Зачем? Зачем здесь живем?… Я, синьор, продаю открытки, а другие… кто их знает. Чего? Да, вы правы, синьор, это гробница, но если больше негде, то и здесь.
Трудно поверить.
На площади — церковь святого Донато. Высокая, средневековая колокольня, ренессансный, переделанный, фронтон, довольно-таки хорошо сохранившийся, а внутри все мрачное и черное. В глубине, во мраке, пламя свечи. И другой старец, накрывающий белой скатертью столик у алтаря. Нет, возле кучи кирпичей и камня, оставшихся от алтаря.
— Сегодня, синьор, воскресенье. К семи вечера приезжает падре из Баньореджио. Да, да, всего раз в неделю, в воскресенье, чтобы провести мессу. Через полчаса.
Не снится ли мне все это? Месса на развалинах, в этой пыли, известие и горах отбитой штукатурки на полу. Как же все это удивительно непонятно, и как же трогательно прекрасно.
Этот город умер, но здесь тлеет искорка, словно та свечка в глубине нефа, освещающая мрак над разваленным алтарем. Но этот алтарь через мгновение вернется к жизни, этой свечки не погасила даже катастрофа трехсотлетней давности — разве не символично это? Как легко природе поколебать тем, что человек создал — культурой, цивилизацией, верой — и как же трудно убить все это и захоронить. Этого не удается даже природе, так разве не является она всего лишь слугой? Сколько столетий ведут за собой человечество эти последние, и, тем не менее, вечные, никогда не догоревшие свечи? Они сильнее лазерного луча, они позволяют сохраниться искорке жизни на нашем плоту «Медузы», они уничтожают сомнения, порождают доверие.
Эта тишина, это мертвое, обаятельное молчание манит к интимности собственных мыслей; и уже хорошо то, что никого вокруг нет.
Несколько шагов, и я стою на краю пропасти. Каменные ступени, когда-то, наверняка, ведущие в сад или на террасу, сейчас сломанные, повисли в воздухе, над громадным пространством света. Падают камни, ежесекундно, то один, то сразу несколько, и я даже не слышу, как где-то в пропасти подо мной завершается их полет. Этот дом рухнет через день, месяц, год. Слабая туфовая скала систематически крошится и обрушивается, а вместе с камнем по кусочку летят к кладбищу в пропасти и стоящие на краю дома. Сколько их уже обрушилось в течение веков?
Темнота спадает неожиданно. Сюда приезжаешь уже после посещения Орвието и Ла Бадии, то есть, всегда после полудня. А ведь еще раньше я был в Боль сене, так что здесь меня застали сумерки и ночь. И это удача, ведь во мраке чудесная тайна усиливается и околдовывает больше. До самого края горизонта тянутся холмы, зелень которых сейчас с каждым мгновением темнеет — тишина делается все громче, у нее свой певучий, цыкающий ритм — может, это цикады или сверчки. Откуда-то из-за гор вдруг доносится пение трубы, какая-то жалостливая нота колыбельной, рваной и хаотичной, добирается досюда, пройдя десятки километров. Может, это из Баньореджио или из одного из тех одиноких хижин на склонах? Представляю себе, как там, в деревне, репетирует мальчишка, которому отец вручил инструмент на день рождения, и мне хочется плакать. Как перелить на бумагу растроганность? Не умею.
Звон колокола, бьющийся среди стен, вырывает меня из этого сна, и я возвращаюсь в церковь, на мессу среди развалин, чтобы еще раз увидеть мистическую свечу. Я чувствую себя по умневшим и лучшим. Причиной тому — этот огонек во мраке.
7. Каменный феникс на Монте Кассино
«Все-таки, сколь замечательна была идея древних — помещать
святилища на вершинах гор!»
Мадам де Сталь «Коринна»
«Пожертвовав собою, поляки превратили это место в памятник солдатской славы»
Фред Майдалань «Кассино — портрет битвы»
Вдалеке отсюда, далеко к югу, имеется такая свеча, заколдованная в камне. Для этого по Автостраде Солнца нужно спуститься в нижнюю часть итальянского сапога, через Рим — к Наполю. Когда-то эти два города соединяла античная Виа Касилина. В средине этого пути, когда уже проедешь Арче, Чепрано и Аквино, с обеих сторон, до самого края видимости, выпирают холмы. Ритм зеленых конусов, а дальше — стена скал с окраской размытого расстоянием бледного железа и с вершинами, покрытыми снежными капюшонами, а еще дальше, одно только небо. Провинция Фрозиноне.
Только одна из этих пирамид, зеленых от подножия до дна синевы, может похвастаться белой шапкой, такой же, как у далеких гигантов. Но это не снег, а монастырь. Он избрал для себя самое нижнее, крайнее нагорье массива Монте Кассино, переходящего в массив Монте Каиро — величественно крутое и сформированное, висящее над маленьким городком, прижавшимся к склону. И называется он — Монте Кассино. Священная Мекка польских туристов в период безнадежного романтизма Между Эпохами. Помня разрывы гранат и вопли умирающих людей, зная про бессмысленное военное убийство — как же мало мы о ней знаем. Для нас — одно поле славы, для человечества — каменный пламень веры в выживание, вечный, который невозможно погасить ни огнем, ни бомбами. Феникс распрощался с мифом и застыл на вершине этой горы.
Монастырь, и правда, чем-то похож на птицу. Ширококрылый, осевший расставленными ногами на платформе вершины, белый словно альбатрос — он не позволил убить себя истории и людям, более жестоким, чем история. Поваленный — он поднимался и возрождался в славе, вне времени, всякий раз гордый и прекрасный. Жизнь свою он продолжал от вечности, ибо даже святой Бенедикт из Нурсии, который прибыл сюда в 529 году (когда еще нагорье еще называлось Кассинум), и который возвел белый монастырь, не был родителем, а всего лишь продолжателем.
Аббатство Монтекассино
Фасад храма
Почему он выбрал именно это место? Процесс выбора места под строительство бывает мистическим богослужением, переполненным странными решениями. Психология выбора места. Сознательный выбор, совершаемый человеком, или же выбор случая, который должен человека заменить. В этом случае, случайность заменяет собой мысль. Когда в силу альтрандштадского договора (1707 г.) в Силезии разрешили выстроить шесть евангелических церквей, одна из них была возведена в Цешине. Краеугольный камень заложили в 1710 году. Легенда гласит, что месторасположение святыни выбрали с помощью пушечного ядра, которое выстрелили с самой средины цешинского рынка 24 марта 1709 года.
Правда, случайность — это выбор нетипичный. Как правило, человек берет на себя бремя этой ответственности и одним движением пальца решает: здесь! Когда доминиканцы попросили Ле Корбюзье, чтобы тот выстроил им монастырь под Лионом, великий архитектор выбрал покрытый лесом склон в Эво и возвел замечательное произведение современной монастырской архитектуры — конвент Сен-Мари-де-ла-Туретт. Впоследствии, он так рассказывал об этом: «Я прибыл на место. Со мной, ка всегда был мой альбом для эскизов. Я вычертил дорогу, линию горизонта, сориентировался в положении Солнца, отобразил топографию местности. И наконец выбрал место, где возведу это. Делая подобный выбор, совершаешь законный или уголовный акт, ибо в жесте окончательного решения насилуешь природу ради требований композиции».
Святой Бенедикт из Нурсии совершил данный акт, поскольку того требовали три мотива. Первым мотивом была проходящая рядом Виа Василина, обеспечивающая монастырю связь с миром. Вторым — вопросы обороны: монастырь был выстроен на труднодоступной скале. Третьим мотивом — желание заявить о триумфе новой веры чуть ли не символическим образом. Богобоязненный монах застал на вершине нагорья языческий алтарь Аполлона, и он размозжил его настолько основательно, что остались всего лишь клочки, использованные в качестве фундамента христианской часовни. Рядом находилось святилище Аполлона и Юпитера — его он уже так просто разрушить не мог, поскольку пороха тогда еще не изобрели. Но тогда, одним лишь движением кропила он превратил античное строение в церковь Святого Мартина из Тур, образуя сердцевину самого знаменитого христианского монастыря Италии. Так вот языческие стены слились со стенами новой веры, а Древность поднялась по щелям каменных блоков строящегося конвента и заразила его бактериями неуничтожимости.
Когда уже этажи резиденции бенедиктинцев наслоились один на другой, пришли лонгобарды, и в восьмидесятых годах VI века монастырь разрушили. Более века руины зарастали травой, только фитиль с таящимся огнем не покрывался пеплом. В 710 году Петроний из Брешчии отстроил монастырь, придав ему великолепное одеяние, и раздутая искра вновь вспыхнула ярким пламенем. Правда, слишком долго это не продолжалось. Через сто с лишним лет (883 год) на пятисотдвадцатиметровую гору ворвались сарацины, убили аббата, святого Бертария, и устроили ему гробницу из горящих развалин. Белый монастырь пылал цветами Феникса — золотом и пурпуром — и вздымал к небу над холмами черные облака, как гнездо из мирры[27] для птицы, что стала героем античной легенды. А поскольку монастырь был подобен Фениксу — то возродился после прошествия столетия, в 994 году. Монахи, сбежавшие в Теано и в Капую, вернулись на вершину и еще раз выстроили церковь и аббатство, снова еще краше, ибо из почвы, удобренной людскими останками, рождается всякий раз новая, более прекрасная жизнь. Извечная тайна и правило выживания — смерть порождает жизнь, мертвые тела сдабривают почву судьбы, чтобы рождались новые и более могучие жизни, но столь же краткосрочные в бесконечной цепи воспроизводства.
Когда аббат Дезидерий (XI век) строил величественную базилику, двери для нее он заказал в Константинополе. Крестовые походы открыли глаза Запада на великолепие искусства Ориента, так что Дезидерий не колебался, направив взор на восток. Константинопольские мастера прибыли по его вызову, и Монте Кассино стало знаменитым в качестве пробуждающего латинскую душу от сна центра изобразительного искусства. Там сформировалась школа, обучавшая несравненных мастеров мозаик, фресок и книжных миниатюр. Отсюда же, во времена правления Болеслава Храброго[28], в Тынец прибыли первые бенедиктинские монахи.
Минуло несколько веков, и неумолимые часы смерти прозвонили очередную беду. В 1349 году неожиданное землетрясение превратило монастырь в развалины. Но и ритм возрождения тоже был неумолимым — вновь была начата реконструкция, и очень скоро монастырь вновь обрел тот же блеск, сказочную внешность и богатство. Интерьер базилики вновь ошеломлял богатством ценнейшего мрамора и самой изысканной орнамента листики, а библиотека своим замечательным собранием книг привлекала ученых изо всей Европы.
Этот пламень сиял все более ярким светом, пока не наступил 1944 год, и пока не началась битва за Монте Кассино, называемая еще и битвой за Рим, поскольку целью союзников был захват столицы. Путь с юга на север защищали пересекающие полуостров от Тирренского моря до Адриатики массивы Аурунчи, Абруцци и Майелла. Природная баррикада, достигающая высоты в две тысячи восемьсот метров. Немцам не нужно было расстраивать здесь систему фортификаций, ведь этот горный редут защищал себя сам, точно так же, как защищались бы Высокие Татры. Немцы заняли ее, назвали Линией Густава и ожидали появления безумцев, которые попытаются заняться самоубийственным «альпинизмом».
Единственной калиткой, открывавшей дорогу на Рим в этой стене, была забитая германскими силами, имеющая ширину менее десяти километров, то есть, узкая словно струйка крови на виске, долина реки Лири, на флангах которой высились вершина массива Монте Майо, высотой в 940 метров, и монастырское нагорье. Выпускников итальянских офицерских школ издавна учили, что жерло, раскрывающееся под Кассино, «добыть невозможно». Но у союзников не было выбора, и они были вынуждены ударить. Это стоило им ста двадцати тысяч убитых, раненных и пропавших без вести. Битва продолжалась пять месяцев.
Выпускники итальянских офицерских школ так же были знакомы из истории с исключением, которое лишь подтверждало правило о невозможности захвата прохода. Удалось это в VI веке византийскому военачальнику Велизарию, но тогда долину практически никто не защищал. В 1944 году Линию Густава защищали превосходные солдаты. Сердцевина редута, массив Монте Кассино, по приказу главнокомандующего германскими войсками в Италии, фельдмаршала Кессельринга, была занята 1 парашютно-десантной дивизией. Эта была — без преувеличения — элита гитлеровских войск. Все солдаты этой дивизии, тщательно отобранные в плане физического состояния и вышколенные до совершенства, были фанатическими нацистами из добровольческого призыва. Их называли «зелеными дьяволами».
Первое наступление (5-й американской армии) на германские укрепления вокруг Кассини сорвалось в январе 1944 года. Впоследствии, уже все очередные штурмовые волны отражались от Линии Густава и стекали по склонам каскадами крови, хотя в бравурные атаки шли превосходные отряды союзников: 36 (техасская) и 34 американские дивизии, батальоны Раджпутана и Гурка (гималайский) из индийской дивизии, батальоны «Ройял Эссекс» и «Ройял Сассекс» из 4–1 британской дивизии и многие другие. Обе стороны охватила такая боевая ярость, которую Европа видела не часто.
С течением месяцев, это сражение перестало быть крупным сражением Второй мировой войны, оно стало чем-то, что выросло за пределы контекста событий на континенте, за пределы этой войны и всех других войн, оно поднялось над сражающимися народами и идеями, за которые велась борьба, над самим временем. Для «зеленых дьяволов» это были германские Фермопилы и призыв «Не пройдут!!!» оживлял их, когда уже опадали руки. Британский историк Фред Майдалань так писал о них в книге «Кассино. Портрет битвы»: «Для них Кассино обладало мистической ценностью. Они умирали здесь зимой, отразив три наступления, выдерживая бомбардировки из орудий и с воздуха; и это все так же увлекало их, как увлекало и Гитлера, который приказал им держаться любой ценой. И они защищались до последнего, считая эту задачу миссией, выходящей за пределы целого мира той войны».
Невезением «зеленых дьяволов» был тот факт, что когда уже отбросили американцев, англичан, французов, канадцев, арабов, азиатов, новозеландцев и другие народы — против них бросили дьяволов бело-красных. 11 мая, в 23–00, началась операция «Хонкер» (шипение диких гусей), и на штурм пошли правнуки тех, кому сто тридцать шесть лет до того, под Сомосьеррой, тоже сообщили, что позицию «взять невозможно» — солдаты 2 Польского корпуса. Один британский офицер так говорил тогда доктору Маевскому из 3-го батальона Карпатских Стрелков: «Вы заявляете, что возьмете Монте Кассино? Желаю удачи. Даю слово, что до конца жизни буду снимать шляпу перед всяким встреченным мною поляком, если вам это удастся». Если этот офицер жив, если он человек чести и не левша — его правая рука, должно быть, страшно устала снимать шляпу. Дело в том, что через шесть (всего лишь через шесть) дней убийственных сражений, 18 мая 1944 года, в 10–20 над развалинами монастыря развевался польский флаг — его поместили там подольские уланы.
Когда битва уже завершилась, командующий 5-й американской армией, генерал Кларк, сказал: «Польский корпус смог сделать то, чего не смогли сделать все мы — он захватил Монте Кассино», а командующий 15-й группы армий, генерал Александер: «Это был великий день славы для Польши, когда вы завоевали эту крепость, которую сами немцы считали невозможной для захвата. Если бы мне дали возможность выбирать между солдатами, которых я хотел бы иметь под своим командованием, я выбрал бы вас, поляков». То же самое говорил и император Наполеон, маршал Марат, великий князь Константин и множество других.
Я пишу: «над развалинами монастыря», потому что к тому времени монастырь уже не существовал. Перед битвой немцы эвакуировали монахов и вывезли большую часть монастырских сокровищ (до нынешнего дня итальянцы ведут битву за возвращение многих тысяч произведений искусства, украденных «сверхчеловеками» со знаком свастики), но сам монастырь занимать не стали. Его окружала ничейная земля. Тем не менее, 15 февраля 1944 года «летающие крепости» союзников с помощью пятисот семидесяти тонн бомб (чтобы полностью разрушить город Ковентри в 1940 году, немцам хватило шестьсот тонн) смели белый монастырь с поверхности земли. Поскольку необходимости в этом не было — это было ошибкой, теперь немцы захватили развалины — руины являются гораздо лучшим укреплением, чем целые строения, стены которых валятся во время боя на головы защитников. Не будучи необходимостью — это стало и преступлением, ведь монастырь был бесценным памятником истории.
И вот тогда пламя заколебалось. Нужно было принять решение об отстройке, но сомнения оставались. Нет, не по причине огромных расходов на это предприятие, но по причине уважения к принципам того, как правильно поступать с развалинами произведений строительного искусства.
Время, покрывающее патиной дела рук человеческих, порождало памятники, по прохождению столетий эти памятники и осознание того, что жизнь им следует удлинять, породили новую профессию — реставраторов памятников архитектуры. Эти люди более ста лет спорили, какими должны быть принципы правильной реставрации. Ключом разлада была реконструкция, то есть восстановление прекратившего свое существование монумента. «Король реконструкции», знаменитый Виойе-ле-Дюк, одерживал триумфы в XIX веке, так что провозглашаемые им принципы низвергли два сына Италии: Камилло Бойто (1836–1914) и Густаво Джиованнони (1873–1948). Их теории легли в основу довоенного законодательства реставрации памятников архитектуры — так называемой Афинской Карты 1933 года. Среди ее базовых предположений была абсолютная недопустимость создания искусственной, псевдоисторической архитектуры, то есть, реконструкции, что подтвердила и Венецианская Карта 1964 года.
Когда после войны итальянцы встали перед дилеммой: отстроить монастырь таким, каким он был, то есть, реконструировать, либо же реставрировать развалины или же возвести над ними современное здание, решение им было принять крайне тяжело, ибо («nobles oblige») ранее они сами выбороли правило недопустимости реконструкции. Тем не менее, они нарушили его, а Бойто и Джиованнони не перевернулись в своих могилах, ведь и они должны были понимать, что военные годы на какой-то краткий период изменили законы реставрации. Тогда было признано, что в исключительных случаях допускается возможность отстроить, чтобы вернуть к жизни последнюю (перед недавним уничтожением) фазу объекта, которая еще не стерлась из памяти живущего поколения, и от которой сохранилась значительная часть субстанции памятника — в отличие от реконструкции, являющейся возведением полно размерного макета, какой-то фазы в развитии давно уже не существующего исторического объекта. Таким исключительным случаем были военные разрушения и необходимость возвести некоторые памятки из развалин, чтобы доказать: эффектом военного безумия, разожженного Гитлером, не может стать триумф варварства над многовековым культурным наследием континента.
Имеются такие объекты-символы, которым нельзя погибнуть, не только ради их исторической ценности, но и для того, чтобы не погибло человеческое достоинство; чтобы зло не набрало уверенности, будто бы оно всемогуще, и чтобы оно поняло, что бомбы проигрывают вере, и что они не гасят огней, освещающих мрак пути всего человечества. Так что, существуют такие свечи, которые никогда не должны услышать шипения догорающего огня. Итальянцы отстроили монастырь. Для Монте Кассино нет окончательной смерти, которая бы прервала ритм выживания Феникса через возрождение.
Монте Кассино сейчас (2010) — внутренний дворик (художественная фотография)
Сколько же споров возбудила эта реконструкция! Ведущий теоретик и практик реставрации Италии XX века, Альфредо Барбаччи, писал: «Когда от исторического памятника остаются только развалины, не следует искушать себя возможностью отстроить его (…) Копия исторического памятника, выполненная из совершенно нового материала, ни в коем случае не сможет удовлетворить наших эстетических и чувственных требований. Точно так же, безрезультатно мы могли бы утешать отца, оплакивающего смерть сына, предлагая ему двойника». Трудно отрицать. Нынешний монастырь — это лоснящийся белизной новых камней, отвращающий холодом и стерилизованный от всяческого характера исторической памятки макет в масштабе 1:1. Он не пробуждает тех чувств, которые дарят нам античные камни. Сегодня. Ведь это истина с двойным лицом, и это второе лицо ожидает завтрашнего дня. Ведь сколько уже раз Монте Кассино поднималось из руин. Красота здесь будет лишь вопросом легкой патины. Время — всемогущий лекарь — затрет блеск новизны, камень посереет и вытрется, и все вернется к многовековой норме. Немножко грязи, и красота святилища обретет аутентичность. Грязь, порождающая красоту — вот вам парадокс, достойный Уайльда, а породила его сама жизнь.
Приблизительно в средине XIX века, администратор собора в Пизе, считая, будто бы этим обретет больше заслуг, приказал провести полную очистку металлическими скребками внутри баптистерия, покрытого известковыми осаждениями. Эта инициатива вернула столбам, сводам и стенам первоначальную белизну, зато на долгие годы уничтожила чудесный настрой интерьера, уворовав у него характер аутентичности. Воистину, не все то золото, что блестит.
На вершину, к монастырю, ведет крутая, вьющаяся спиралью дорога. Когда-то по этой дороге поднимались пешком или верхом, в сухой пыли или грязи, тут же осаждающейся на сапогах. Культура асфальта позволяет въехать удобно, на автомобиле, а когда уже подъезжаешь, появляется чувство, будто летишь на аэроплане. По одной стороне стена зелени, а с другой — ни пятнышка, потому что рядом с колесами уже пропасть, и когда автомобиль описывает петлю за петлей, виден только кружащий пейзаж, массивы гор, зеленые долины, городки и деревни — маленькие, словно из кубиков, и люди — движущиеся черные точечки, безликие и нереальные, и все ниже и все дальше.
И вот таким птичьим полетом вокруг возвышенности въезжаешь на стоянку перед порталом, увенчанный тремя буквами «РАХ». Что звучит как оскорбление и издевка, ибо история редко когда говорила этим стенам: «Pax tecum»[29], гораздо чаще предлагала развалины. Эта надпись не констатирует факт, а только выражает надежду, что чадная вонь горящих инкунабул и треск мраморных плит больше уже не вернется, и никогда уже монастырю не понадобятся возможности и воля Феникса.
Сразу же за калиткой, в маленькой лавочке, дряхлый монах продает черно-белые открытки. На каждой из них по два снимка: ризница перед 1944 годом и после (развалины), библиотека перед 1944 годом и после (руины), Лоджия Рая перед 1944 годом и после (сплошные руины) и так далее. Чудовищное сопоставление. И обложка, какая — то странная — узкий, покрытый плотной мелкой печатью бланк. Присматриваюсь по внимательнее — и какое изумление. Это почтовый формуляр с банковскими реквизитами фонда реконструкции монастыря. И побуждение для щедрых дарителей: квитанция каждого взноса будет навечно помещена в монастырский архив. Так собирали средства двадцать пять лет назад, и это же продолжается и сейчас. Нет ничего более красноречивого, чем этот бумажный листок.
На между-военной фотографии сквозь аркады галереи Браманте виден покрытый деревьями склон соседствующего холма. Сегодня из колоннады виден тот же пейзаж, вот только склон уже не пустой. Среди зелени белеет ступенчатая трапеция. Английский турист спрашивает у гида:
— Что это такое?
— Это мемориальное кладбище Польского Корпуса.
— Даааа? А мне показалось, что это вертолетная площадка. Что, не могли устроить этого в другом месте — пейзаж портит!
Насколько же болезненна эта издевка. Еще чуть-чуть чуть и из гнева родилось бы ругательство! Ведь этот англичанин может быть сыном того офицера, который обещал нам кланяться до смерти за захват Монте Кассино.
Польский горнист капрал Эмиль Чех трубит в честь отступления немецких войск.
Я всматриваюсь в громадный крест «Виртути Милитари», выложенный более темными плитами на светлой площадке перед амфитеатром кладбища. Но это так далеко, и солнце уже заходит, так что с этого расстояния виден только лишь маленький знак, как если бы тот висел на груди солдата, стоящего в шаге от тебя.
8. Переулок Дориа
«Моя замечательная мать — женщина, обладающая сердцем и умом. Это мужественная и благородная особа. Она привила мне гордость и научила меня, как в течение всей жизни сохранять достоинство. Ей благодарен я всеми своими удачами, всем добрым, что я совершил. О Летиция, моя мать!..»
Наполеон.
Артур Оппман (Ор-От) «Переулки».
- «Когда заблудишься здесь, вечерней порой,
- Когда над городом протекает внимательная тишина,
- Бывает так, что очнешься, словно в иные времена,
- Которые близки и свойственны только тебе.
- Прошли столетия, ты же знаешь, что когда-то
- Ходил здесь, как когда-то, после стольких веков,
- И в нишах видел те же статуи,
- С той же дрожью в сердце, с той же слезой на глазах».
Маленький польский островок в Риме. Насколько же он красив, и какая увлекательная стоит за ним история.
Пьяцца Венеция (слева — Палаццо Венеция)
Памятник Виктору-Эммануилу
Если, стоя на Пьяцца Венеция (Венецианской Площади) мы повернемся тылом к белой глыбе крупнейшего в Европе памятника (памятник Виктора-Эммануила, называемый «алтарем Отчизны», поскольку здесь же располагается могила неизвестного солдата) и пойдем прямо перед собой, под «балконом Муссолини», вдоль длинной стены Палаццо Венеция, который выстроен из камней разбираемого Колизея — мы прямиком войдем в темный провал маленького и необычно прохладного переулка Виколо Дория. Он настолько узкий, что, стоя посредине и раскинув руки, складывается впечатление, что до каждой из стен остаются буквально миллиметры, и он настолько короткий, что часто даже не отмечен на картах Вечного Города. В нем заключено нечто привлекающее и в то же время мрачное, если красота может быть мрачной. Увенчанный у верхушки узенькой полоской неба между вздымающимися гордыми дворцами — для этой архитектуры он представляет собой воздушную расширительную щель, наполненную тенью и мраком.
Эта не знающая солнца щель, это переулок поляков. Мы приходим на Виколо Дория, когда печально и тоскливо на душе, когда осточертел итальянский галдеж, устный и письменный, когда что-то начинает пожирать тебя изнутри. Нажимаем на кнопку звонка на внутренней стене каменного портала, рядом с которым висит табличка: «Польская Академия Наук — Библиотека и Центр Обучения в Риме». Затем карабкаемся по истертым поколениями ступеням и погружаемся в тишину этого анклава польского духа, в его старинные комнаты, пахнущие старыми книгами и старинным временем, наполненные резной мебелью и уютные, словно наши мамы, и берем в руки польскую книгу. Тень переулка дает успокоение телу, поджариваемому солнцем юга; а польская научная станция делает то же самое с душой. Переулок Виколо Дория — улочка поляков.
Все, что ее окружает, и что сливается с ней, обладает здесь собственной традицией, громадной и великой, как сама история, все обладает своим весом и каменной гордостью ценной архитектуры.
Со стороны шумной и богатой Виа дель Корсо стеной «польского» переулка является Дворец Асте-Ринуччини-Бонапарте, четырехэтажная глыба, фасад которой украшают: наполеоновский орел с распростертыми крыльями, каменное чудо подоконников и окон, входной портал и большой зеленый балкон, выдвигающийся из угла здания. Этот дворец, возведенный (1660 год) архитектором Маттио ди Росси для семейства д'Асте — по сравнению с другими «palazzf» Рима, взять хотя бы дворцы Боргесе, Фарнезе, Рус поли или соседствующий, Дориа, это маленький, скромный «palazzino», гордый только своим расположением в центре Вечного Города, благородными пропорциями своей архитектуры и следами, оставшимися от женщины, которая когда-то удостоила чести эти интерьеры, проживая здесь осень своей жизни. Этой женщиной была Летиция Бонапарте из семейства Рамолино — мать императора. Потому сейчас говорят просто: Палаццо Бонапарте, хотя тогда, когда она здесь проживала, дворец называли Палаццо Ринуччини.
Палаццо Бонапарте (слева и прямо — переулок Дория)
Мать великого корсиканца купила этот дом через три года после Ватерлоо, в начале 1818 года, заплатив двадцать семь тысяч пиастров, и закрылась, словно в монастыре, в девяти обширных комнатах второго этажа, заполненных произведениями Жерара, Гроса, Изабейя, Кановы и Бартолинит. Каждое из этих произведений искусства представляло ее ребенка или же память о каким-нибудь триумфе на пути ампирной эпопеи. В прихожей, у основания лестницы, находилась обширная ниша со статуей Наполеона работы Антонио Кановы, впоследствии вывезенной в Англию; ее — как по иронии судьбы — выставили у основания лестницы лондонского Эпсли Хаус, где размещается Музей Веллингтона.
На третьем этаже располагались гостевые апартаменты для семьи, верхний этаж занимали слуги — одни корсиканцы. В угловой спальне Мадам всегда стояли цветы, бюст и полевая кровать сына, а камин украшал бюст внука, короля Рима. Одно окно этой комнаты открывалось в прохладный мрак Виколо Дория, второе — на Венецианскую Площадь. Сидя и молча часами в этой комнате или — если вечер был теплый — у балюстрады углового балкона, закрытыми глазами она всматривалась в маленький остров, лежащий в безграничном океане, на котором умирал ее сын. И так в течение двадцати лет.
С ее пребыванием здесь связан таинственный визит человека, лицо которого помнит лишь темная улочка, истоптанная ногами поляков. Стены какой-то из комнат стали свидетелями непонятного и необъяснимого в свете законов и лабораторных систем нашего рационально мыслящего мира. Современная наука беспомощна перед такими явлениями, но разве современная наука не является до сих пор слепым щенком?
Наполеон умер 5 мая 1821 года, в 5:49 утра в Лонгвуде на Святой Елене. Известие об этом добралось с острова в Лондон 4 июля, в Париж — 5 июля, в Рим, официально, не раньше 6 июля. Оптический телеграф, изобретенный мсье Шапке, действовал только на суше — океан должны были преодолевать везущие новость парусники. Но именно в день смерти, 5 мая 1821 года, после полудня, перед Палаццо Ринуччини появился никому не известный путник. Так никогда и никто не узнал, кем он был, поэтому во всех последующих документах и научных работах применялось определение «незнакомец». Этот человек начал валить кулаком в двери, когда же их открыли, он начал настойчиво требовать аудиенции у матери императора. Не без сопротивления, его допустили к ней. Тогда он приказал свидетелям покинуть комнату. Те вышли, но, опасаясь неизвестно чего, не до конца закрыли дверь. Пришелец приблизился к седой даме и сказал:
— Мадам, когда я произношу эти слова, Наполеон уже освободился от собственных забот и болт. Он счастлив.
После чего вырвал из-под одежды спрятанное там распятие и начал кричать в экстазе, с лицом Савонаролы и горящими огнем глазами:
— Ваше высочество, прошу Вас поцеловать Искупителя и Спасителя вашего любимого сына.
Впоследствии он заверил, что мадам Бонапарте еще увидит Наполеона, который прибудет, чтобы освободить Европу через много, много лет, наполненных кровью и огнем, опустошающим континент, «чтобы исполнить волю Царя Царей!!!»
После этого он поклонился и, не говоря ни слова, вышел и исчез в переулке Дория — в «польском» переулке. Больше уже никто его не увидел, а смысл его слов поняли двумя месяцами позднее. Показания прямых свидетелей (дворецкого Колонны и компаньонки, мадам Мел лини, а так же привратника и лакея) не позволяют усомниться в истинности описанной выше сцены.
Каким чудом незнакомый пришелец узнал про смерть Наполеона уже в тот же самый день, когда она наступила, находясь столь далеко, в тысячах километров от Святой Елены? В первой половине XIX века, когда спиритизм с оккультизмом, а так же всяческие тайные знания праздновали триумфы, объяснение бы нашли легко. В третьей четверти нашего столетия, когда научный рационализм скомпрометировал всяческую магию и внечувственный опыт — такой ответ только высмеяли бы и сделали бы все, чтобы усомниться в достоверности сообщения. Сегодня, самые серьезные институты в мире на полном серьезе проводят эксперименты с медиумами-телепатами, и когда отсутствие объяснения стольких явлений научило закоренелых рационалистов скромности — уже никто не осмелится смеяться. Сами, со своей находящимся в пеленках знанием, мы достойны насмешки, а мир наших чувств столь же мрачен, как небольшой переулок возле Пьяцца Венеция.
Через два месяца после визита таинственного медиума, пожилая женщина, из лона которой появился «бог войны», поняла, о чем говорил незнакомец. Она уже предчувствовала, что на этой смерти ничто еще не закончится: «Они все умрут, — говорила она, — а я останусь сама и буду их оплакивать. Моим предназначением было родить и похоронить их всех. Моим уделом стали боль и плач». Она угадала. Впоследствии смерть забирала у нее очередных детей, а она продолжала жить, всматриваясь в выполненный чародейской рукой Давида бюст сына и в его раскладушку, которую она поставила у окна. Через окно были видны далекие верхушки Капитолия и солнце, которое уже не могло вернуть улыбку на ее лицо. Римлянке, проходящие мимо Палаццо Ринуччини, ускоряли шаг и прерывали беседы. Неписанное, но среди всех уважаемое правило гарантировало этому месту тишину и покой.
Когда в конце января 1823 года в Рим с официальным визитом прибыл один из крупнейших коронованных негодяев эпохи, враг ее сына и убийца мужа ее дочери Каролины, Марата — Фердинанд I, после смерти Марата король Обеих Сицилий — был отдан приказ устроить иллюминацию по всему Косо и Венецианской Площади, без какого-либо исключения. Все окна на трассе проезда должны были быть освещены «a giorno» — «как днем». Мадам Мерен об этом сообщили (специального курьера к ней выслал кардинал Консальви). Она ответила одним предложением:
— Передай кардиналу — министру, что если бы тип, ради которого готовят это празднество, убил члена его ближайшей семьи — его преосвященство не зажгло бы свечей, чтобы отдать ему честь.
Вечером, в день прибытия Фердинанда, когда Рим сиял потоками света из тысяч окон — дворец Ринуччини был единственным зданием, черным словно гробница. Иностранцам, идущим через площадь и спрашивающим, кто проживает в этом мрачном доме, отвечали шепотом: «La madre di Napoleone… Povera!»
«Бедняжка!» — все римлянке, ведомые какой-то странной всеобщей интуицией и чувством, любили эту женщину и сочувствовали ей.
Великий французский бард, Беранже, писал:
Этих строк нельзя перевести на наш (польский) язык так, чтобы они остались поэзией, ибо — как сказал Эллиот — «поэзия является чем-то, что гибнет, благодаря переводам». Означают же они попросту:
В 1836 году пряжа ее жизни, в которой было немного счастья и море печали, достигла конца. Скромная табличка внутри дворца упоминает ее здесь пребывание. Сколько же легенд ходит об этом здании, которое, несмотря на свои барочные формы, так превосходно гармонизирует со средневеково-ренессансной суровостью Венецианской Площади.
Вторую стену переулка образует Палаццо Дория-Гавотти — гордость барочной архитектуры Рима. Это комплекс зданий, растянувшийся на громадном пространстве, от Виа дель Косо до Виа дель Плебисчито и до самых площадей Колледжио Романо и Грациоли. Теперь он обладает позднебарочными формами, но его история началась уже в 1435 году на развалинах монастыря Сан Чириако, и создавалась она такими творцами как Антонио Гранде, Пьетро да Кортона, Браманте, Габриеле Вальвассори, Паоло Амели и Буисири-Вичи. Дворец часто менял владельцев (поочередно: дьяконат при Санта Мария ин Виа Лата, кардинал Фацио Сарторио, Франческо Мария делия Рокере, семейство Альдобрандини и семейство Дория-Памфилии). Здесь, во времена Ампира (стиля Первой Империи, то есть, стиля Наполеона Великого) проживал французский губернатор, месье де Миоллис. Сегодня часть комнат принадлежит частным владельцам, а остальные — это музей, где размещается знаменитая галерея Дория с картинами Веласкеса, Караваджио, Караси, Гуэрчино и других. Следующих двенадцать помещений — это польская научная станция с библиотекой — польский островок в городе, в который ведут все пути. Точнее же: Виколо Дория, номер 2.
Такое посольство нашей культуры было необходимым с тех пор, как представители польской мысли попали в Рим. Чепель и Урсинус в XV веке, Бовский (Бзовиус) в XVII, Альбертранди в XVIII, Вейссендорф, Орпишевский, Яржембски и десятки других, которые выстраивали польско-итальянскую духовную связь. Она усилилась настолько, что даже польский гимн, написанный на итальянской земле, в епископском дворце в Реджио Эмилия, содержит название этой страны. Впрочем, гимн дождался множества итальянских переводов, из которых наилучшим, по-видимому, вышел из под пера композитора Арриго Бойто, сына итальянца и польки. Вот фрагмент. Звучит странно, но трогает:
В XIX веке римским островком для поляков было существующее еще с XVIII столетия Antico Caffe Greco — Старинное Греческое Кафе, находящееся на Виа деи Кондотти. Здесь сиживали: Мицкевич, у которого имелся свой любимый уголок внутри одной из комнат, и написанный маслом портрет которого висит на стене; Словацкий, Нор вид, Красиньский и множество других. Сейчас Антико Каффе Греко, хотя и сохранило свою историческую — насколько я слышал — форму, уже не может быть островком для поляков, ибо сделалось настолько эксклюзивным и дорогим, что поляк может всего лишь раз (ради «зачета») позволить себе выпить кофе в его шикарных зальчиках.
Источником официальной римской научной станции поляков будет лишь инициатива так называемой Expeditio Romana Польской Академии Ремесел, которая после многих лет странствий основала свой плацдарм (1921 год) в польском приюте при церкви Святого Станислава Епископа (улица Бот теге Оскуре). Этому способствовал тогда общественный климат, итальянцы называли Польшу «Niobe slava» («славянской Ниобой»[31]) и способствовали нашему стремлению к свободе и достойному представительству польской национальной культуры. Но уже в 1933 году стены приюта начали покрываться трещинами под бременем многотысячного книжного собрания, основой для которого была частная библиотека Юзефа Михайловского. В 1939 году станцию перенесли буквально на несколько шагов дальше, в располагающийся поблизости дворец Дория.
Сегодня, когда поляк входит сюда и, находясь так далеко от своей страны, дышит чистейшим польским духом, очень сложно осознать перед какой задачей встала когда-то горстка энтузиастов, членов Expeditio Romana, а так же их последователей, сражающихся с массой барьеров и армией людей, таких как могущественный австриец Зикль, затрудняющий создание польского острова в Вечном Городе. Это сражение небольшой горстки против многолюдной силе зла имело нечто от романтического отчаяния, которое сейчас осталось лишь в кино — в «Великолепной семерке», «Пушках острова Наваррой» или в «Профессионалах». Сравнение головоломное, но честное и довольно верно передающее масштабы.
Читатель, если ты когда-нибудь попадешь в Рим (что сделать несложно, учтя направление всех дорог в мире) и почувствуешь себя одиноко — вступи в прохладную тень переулка Дория, встань перед покрытым трещинами порталом и нажми на металлическую кнопку звонка. Ты будешь мне благодарен.
Кто-то и когда-то сказал, что у нас есть две отчизны, Польша и Италия. И этот кто-то был прав.
9. Искалеченные Мадонны
«Удивительно то, что в величии каждого из гениев всегда можно найти зерно безумия».
Жан-Батист Вольер «Лекарь поневоле».
«Христос Микеланджело не мертв, он спит, и подобное впечатление призывает мысль о величии Воскрешения, точно так же, как Мадонна, держащая Его на коленях, кажется нам чудом молодости.
Так что, в результате, „Пиета“ Микеланджело вызывает в нас, скорее, восхищение, чем печаль».
Майкл Ливей «Раннее Возрождение».
Помню тот теплый день, когда Рим затрясся от перепуга, от стыда, от сжигающего гнева. Я был тогда в городе и бежал среди других к Святому Петру, чтобы увидеть искалеченный шедевр. У Мадонны не было левой руки и ноздрей, ее левый глаз получил удар молотком и ослеп. Я стоял вместе с множеством людей и, как они, молчал. Было так тихо, что только вспышки ламп фотографов профанировали мертвенность интерьера, в котором повисла боль. Потом толпу удалили, и скульптуру передали врачам по камню. Реставраторы должны были стать окулистами и хирургами.
21 мая 1972 года
Книга о Ласло Тоте
Вандализмом можно назвать случай, когда разбили витрину, порезали ярмарочный коврик или бросили об стену чешской хрустальной вазой. Но сделать то же самое с шедевром изобразительного искусства — это уже не вандализм, это уже преступление. Если же в этом случае мы и говорим: «вандал», то высказываем лишь жалкий эвфемизм.
Творения людского гения становятся жертвами преступлений, как и люди; иногда раны удается излечить, но иногда — и нет. Причины преступлений бывают разными: фанатизм, зависть, желание прославиться, бессмысленная злоба и даже набожность. В Сиене когтистые пальцы излишне религиозных ревнителей сцарапали с панно XIII века нарисованных демонов. В улыбку Моны Лизы метнули камнем. А вот теперь — «Пиета»[32] Микеланджело.
Как и в случае любого преступления, смягчающим обстоятельством бывает невменяемость. Человек, искалечивший «Пиету», был безумцем, то есть — одним из нас. Человек, который ее создал, был гением, следовательно, тоже безумцем, только другого, наиболее редкого и ценного покроя.
Микеланджело Буонаротти родился в 1475 году в Капризе, над темной речкой, носящей то же самое имя, извивающейся среди долин и гор провинции Ареццано. Мать сразу же отдала его жене каменотеса, жителя Сеттиньяно, так что искусство оживления мрамора он, вне всякого сомнения, всосал с молоком. В двадцать три года он подписал договор на создание «Пиеты» для собора Святого Петра в Риме. Кандидатов для этого почетного задания было много, но выбрали юношу, что можно объяснять направляющей рукой судьбы или Провидения, поскольку любые рациональные объяснения удовлетворить нас не могут. Молодой человек был замкнутым, вспыхивающим как огонь, нелюдимым и мстительным, но он же был и гордым, знающим свою цену, поэтому, когда формулировали акт заказа, с улыбкой, демонстрирующей абсолютную уверенность в себе, он подписал примечание, помещенное его свидетелем при составлении контракта, Джакопо Галии; дописка эта гласила, что юноша создаст произведение, «которого никакой иной мастер не был бы в состоянии исполнить». Зазнайство глупца представляет собой наглость, но гордость гения — священна, ибо понятие скромности является уделом ничтожеств.
Три года (1497–1500) бил он молотком и резцом в каменную глыбу и, действительно, наколдовал нечто, чего никто иной сделать бы не смог — Микеланджело совершил революцию в скульптуре. Первым в истории данной темы он не педалировал на пафосе и разрывающей свое произведение боли. У его Мадонны не было унылых, искаженных страданием черт лица. Выполненный с мертвого натурщика Христос, беспомощный и худой, лежал на коленях и на лоне окутанной в мягкие одежды и пленительно красивой молодой, высокой женщины. Молодость Мадонны и старость Ее Сына, вроде бы, отрицали материнство, но когда Рим сбежался, чтобы восхищаться скульптурой, и когда творцу указали на то, что он изобразил Богоматерь слишком молодой и красивой, он ответил: «Разве не знаете вы, что добродетельные женщины сохраняют большую свежесть, чем нескромные? Эта Женщина не испытывала плотского желания и зачала по воле Божьей; но Сын Ее подвергался всему, что есть человеческое, кроме греха, и оно сделало его старым!» Столь великолепно, как и резать камень, Микеланджело мог обосновать свои эстетические вкусы с религиозной точки зрения. Выраженные с помощью капитального познания анатомии тайна рождения мужчины из женского лона и фатум смерти — здесь проявились гениально.
Не прошло и половины тысячи лет, как к часовне в базилике Святого Петра приблизился тридцатитрехлетний австралийский геолог венгерского происхождения, Ласло Тот. Никем не задержанный, он перескочил балюстраду алтаря, выхватил молоток и начал бить им Матерь Божью, крича: «Я — Иисус! Я — Иисус Христос!!!» Считая себя Сыном Божьим, он не нанес какого-либо ущерба телу Иисуса, сконцентрировав всю свою ярость на Мадонне, безумствуя против ее женственности и красоты, лишившись возможности отличать изображения от реальности, которую это изображение символизирует. Он воспользовался тем же самым орудием, что и Микеланджело. Страшна универсальность предметов — нож убивает и режет хлеб, топор дает дрова для обогрева и разбивает череп, клещи вырывают гвозди, но и ногти. Молоток в руке гения порождает красоту, а использованный безумцем — калечит ее и убивает.
Страшные удары спадали многократно, и первой поддалась левая рука Мадонны, отбитая до самого локтя, затем складки материи, полупрозрачное веко левого глаза. Куски мрамора летели в стороны, но лицо женщины не переставало быть прекрасным и печально задумчивым. Безумец видя это, впал в совершеннейшее бешенство и теперь избивал только лицо. Пятнадцать ударов! Один из них отбил нижнюю часть носа, и Микеланджело застонал в своей могиле. Вытесывая лица — дольше всего он ласкал именно носы; это был комплекс, вызванный у него самого кулаком. Шлифуя носы своих скульптур, он всегда думал о своем и скрипел зубами от бешенства. Как-то раз, ревнивый соперник, паршивый рисовальщик Торрджиано, ударил его в лицо так сильно, что — как впоследствии сам хвастался Чел лини — «размозжил хрящ словно облатку». Когда Микеланджело пришел в себя, уже до самого конца жизни всякое зеркало показывало вечную деформацию черт его лица. По-видимому, он жалел, что нос его не обладал структурой гранита. Только и каменный хрящ Мадонны тоже треснул, словно облатка. Это всегда вопрос орудия, которым наносишь ущерб — железо является значительным прогрессом по сравнению с кулаком. С тем только, что человеческое тело не всегда удается вернуть в первоначальное состояние, а вот камень можно реставрировать.
Когда безумца оттащили от «Пиеты», искалеченная Божья Матерь выглядела ужасно. Реставраторы поклялись, что вернут ей давнюю красоту, и свое слово сдержали. Специальная группа экспертов из ватиканского музея искусств, используя все достижения науки и техники, провела реставорацию — под управлением директора музея, профессора Диоклезиана Редиг де Кампоса — возможно, самого великолепного произведения искусства, которое человек когда-либо вырезал из каррарского мрамора. Бенедиктинский[33] труд! В течение семи месяцев эти люди были одновременно флорентийскими ювелирами и марсельскими каторжниками на галерах. Их критиковали за то, что они творят подделку, воспроизводя не существующие фрагменты и затирая следы реконструкции. В критике этой какое-то зерно истины имеется, но когда мы встаем перед альтернативой: оставить шедевр скульптуры искалеченным или дополнить, четко выделяя новые элементы — что-то внутри нас кричит: нет!
В связи с этим «нет!» из самой глубины сердца, совершенно маргинальным является факт, что в 1964 году, при оказии перевозки «Пиеты» в Нью-Йорк, с помощью рентгена было выявлено, что левая рука Мадонны была перед тем уничтожена в XVIII веке и затем воспроизведена (хотя и с недостатками) неизвестным скульптором, так что, разбивая левую руку скульптуры, Тот не уничтожил оригинал, но всего лишь копию. Столь же маргинальным является и то, что, в результате шума, вызванного этим сообщением, С. Лавин провел тщательные исследования и опровергнул сенсационную гипотезу на страницах «The Art Bulletin» (март 1966 года). Какое нам дело до всего этого? Мы хотим иметь ее прекрасной, как когда-то.
Поэтому нам вернули ее такой же красивой, как и перед варварским актом. Нет — «еще более красивой»! Статую выкупали в растворе перекиси водорода, и белый мрамор обрел теплые, розоватые тона.
А после того ее сунули за пуленепробиваемое стекло и пообещали сделать то же самое со всеми скульптурами Базилики. Теперь уже «Пиета» будет спрятана за стеклом, и в этой клетке сделается отдаленной и таинственной. Лист стекла, который не помешает зрительному восприятию — пересечет ту едва заметную и для каждого зрителя субъективную гуманистическую ниточку, соединяющую произведение искусства с потребителем, тот флюид, с помощью которого смотрящий человек воздействует на скульптуру, а скульптура — на человека.
Для людей клетка — это проклятие и конец свободы. Для произведений искусства — тоже, но сейчас она становится единственным их безопасным убежищем. Она становится очередным паршивым правилом окружающей нас действительности. Клетки, бункера и пуленепробиваемые стекла для шедевров становятся условием «sine qua non» музеев в современном мире, в котором полно Ласло Тотов.
Уникальный взгляд на «Пиету» — с высоты птичьего полета
На итальянской земле огромное количество произведений искусства находится на расстоянии вытянутой руки любого прохожего. Эти произведения никто не охраняет, и даже трагедия ватиканской «Пиеты» ничего в этом плане не изменила. Буквально через неделю после несчастья, один римский журналист устроил «проверочку»: с молотком в руке он набросился на другой шедевр и длительное время изображал «удары». Никто ему не помешал, ба, никто этого и не заметил! Уставшему репортеру не осталось ничего иного, как прервать «акт уничтожения», вернуться в редакцию и накропать статью, вызвавшую очередной шок.
Средства, которые итальянское правительство выделяет на охрану культурного наследия, буквально комичны. Нехватка сотрудников настолько велика, что невозможно даже обеспечить для посещения всей территории Римского Форума! Об артистическом наследии Италии заботится 3210 человек (по сравнению с 8 тысячами необходимых охранников), еще 95 археологов, 92 историка искусств, 107 архитекторов и 58 техников, в то время, как в одном только нью-йоркском Metropolitan Museum работает 180 квалифицированных сотрудников (данные относятся к средине 1972 года). В интервью для римского «Daily American» (18–19 июля 1971 года) на один из вопросов я ответил: «Итальянцы больше заботятся о туристах, чем о памятниках, которые они туристам презентуют!» Когда я возвратился в Италию через год — ничего не было поправлено: Колизей все так же раздражает своим плачевным состоянием, а колоннады Святого Петра обоссаны так, что трудно пройти рядом, не затыкая нос. Обвешанные фотокамерами и долларами дамы пост-бальзаковского возраста, прибывшие из Техаса или с берегов Рейна, все так же царят в Риме всякое воскресенье — и на здоровье, но пускай часть денег, которые они оставляют у подножия памяток культуры, идет на спасение тех же монументов!
Между тем, что сделал Буонаротти, и тем, что натворил Тот, имеется некая едва уловимая связь. Наполненная парадоксами и контрастами, но, тем не менее, она есть. Я заметил ее и, благодаря ей, выстроил очередной остров моей задумчивости над судьбами людей и их произведений.
Всего лишь два раза в истории к «Пиете» в соборе Святого Петра крались с тайным намерением и с молотком. Во второй раз это сотворил безумец, чтобы уничтожить красоту; а первый раз — творец, чтобы убить людское беспамятство. Оба желали прославить собственные имена. Дело ведь в том, что звучит странно, создание шедевра было недостаточно, чтобы Микеланджело мог радоваться славой творца с начала XVI века. Его имя быстро затерялось в отбрасывающей сияние тени скульптуры, и вскоре он узнал, что иностранцы приписывают «Пиету» какому-то «миланскому скульптору». Тут в нем вспыхнуло пламя амбиции. Он отправился в часовню и за одну ночь, при свете единственной свечи, выбил на скульптуре собственное достоинство. Не на цоколе, а на лете, проходящей наискось по одеянию Богоматери, как будто желал пленить Мадонну исключительно для себя. Тот тоже думал исключительно о Мадонне.
Средневековый художник очень редко подписывал свои произведения, а уж скульптуры — практически никогда, потому во время творения Микеланджело не думал про подпись. Его позднейший жест был символическим — мастера Ренессанса, в приливе понимания собственного величия, сделали из подписи и из автопортрета (следовательно, из саморекламы) правило. Но столь грубая подпись, которую совершил Буонаротти, должна была дать уверенность, что уже никто не похитит авторства этой статуи. То же самое — как свидетельствует Аристотель — совершил гений Античности, Фидий, создавая скульптуру Афины на Акрополе: в средине ее щита он поместил свой портрет, который соединялся со скульптурой секретным устройством, если бы кто-то пожелал удалить автопортрет, пришлось бы уничтожить всю фигуру. Но вернемся к связи «Тот — Буонаротти».
«Пиета Ронданини»
Нанося удары «Пиете» ватиканской, безумец сделал ее похожей на другую «Пиету», которую ваял Микеланджело, и которую сейчас называют «Ронданини», по названию дворца, где скульптура первоначально располагалась. К тому времени за творцом было уже практически все: фрески Сикстинской капеллы, «Давид» и капелла Медичи, и еще восемьдесят девять прожитых лет. Он уже угасал, и рука отказывалась его слушать — писал он уже с величайшим трудом. Только эта рука не перестала быть рукой мастера; не имея возможности удержать пера, она крепко держала молоток и резец; они были легче, поскольку не были для Микеланджело мертвыми орудиями, но биологическими продолжениями конечностей. С огромным трудом он создавал в желтом мраморе стоящую фигуру Богородицы, из объятий которой выскальзывает недвижимое тело Сына. Это была скульптура — прощание. 12 февраля 1564 года Микеланджело с рассвета и до заката ваял, 14 февраля ему стало плохо, 18 февраля — его не стало. Он оставил две фигуры, едва-едва извлеченные из камня, всего лишь наброски, фактура статуи была полна следов от ударов, шероховатая и неровная. Сегодня «Пиета Ронданини» является жемчужиной Пинакотеки миланского Кастелло Сфорцеско, и у тех, которые не знают, что Микеланджело не успел закончить статую, создается впечатление, будто бы кто-то бил по ней молотком. Точно так же, как Ласло Тот по «Пиете» из Ватикана.
И наконец, наиболее непонятное, странная случайность или просто ирония судьбы… Дважды в истории безумец изуродовал молотком «Пиету» Микеланджело. Вторым был Тот, а первым… Микеланджело Буонаротти! Эта «Пиета» должна была украшать его собственную гробницу. Четыре громадные фигуры стояли вокруг могилы: Христос, уже снятый с креста и поддерживаемый Богородицей, которую, в свою очередь, поддерживают Никодим и Мария Магдалина. У покрытого широким капюшоном Никодима были черты лица творца — в первый и последний раз Буонаротти извлек из камня собственное лицо. Он ваял эту группу, обрабатывая капитель гигантской древней колонны, очень долго, много лет, в одиночестве, почти в тайне. Только Вазами и еще один человек видели его один раз за этой работой. Этот второй свидетель пишет: «Он не похож на силача, но за четверть часа отесал больше твердого мрамора, чем смогли бы сделать три молодых каменщика часа за четыре. Он бил в камень с такой страстью, что мне казалось, будто бы каменная глыба разлетится. С каждым ударом он отбивал материала на четыре пальца, но столь близко к отмеченной им черте, что с каждым ударом грозила опасность все испортить». И, в конце концов, трагедия случилась: в скульптуре проявилась внутренняя трещина, деформирующая одну из голов. И тогда полубога Ренессанса охватил приступ гнева, перед которым склонялись папы и князья. Он схватил молот и с бешенством начал разбивать собственное произведение — бил так, что сыпались искры, пока наконец «Пиета» не разлетелась на куски, которые впоследствии собрали, соединили и выставили во флорентийском соборе. У Тота, когда он поднимал и опускал молоток, разбивая лицо Мадонны, были точно такие же глаза, неистовые и бешеные. Разве не были они оба безумцами?
Ну конечно же, Микеланджело был сумасшедшим! Если бы он не был безумцем — разве был бы смысл им заниматься? Человек ютящийся в нормальности, в анонимной толпе — размоется в космосе, ставшем бесплодным по причине конвульсий мозга, и уйдет бесследно. Не исключено, что первый встречный сумасшедший, сбежавший из больницы для психически больных, может высказать больше истин, чем энциклопедии. В крупных умах всегда имеется щепотка безумия.
Даже эстет должен согласиться с тем, что безумие художника обладает чем-то возвышенным. Так что оба были безумцами — творец и разрушитель. Вот только проявления их ярости различались громадьем гения Буонаротти. Ну а помимо того — сколько аналогий кроется в их поступках в отношении «Пиеты». Разве это случайно?
История — это понятие не риторическое. История, дама химерическая, один раз жестокая, в другой — всепрощающая, но, чаще всего, она таинственная и упрямая, жонглирующая судьбами произведений и людей так сложно, что те укладываются в сплетения, которые так просто не понять, в сути и парадоксы, которые мы привыкли называть случайностями или же закономерностями, в зависимости от того, понимаем мы их, или нет. Я вовсе не удивлюсь, если когда-нибудь кто-то докажет, будто бы сутью каждого, пускай самого случайного на первый взгляд события является закономерность. И это вовсе не будет противоречить словам Фене лона, что «вся наша жизнь — это цепочка случайностей», поскольку именно случайность является закономерностью.
(Немного от переводчика)
Нам своими глазами удалось увидеть одну из работ Микеланджело Буонаротти, которая тоже называется «Пиета», но которая отличается от описанных в этой главе. Здесь Дева Мария держит не умершего Христа, а живого младенца. Только Она уже знает Его судьбу, потому и печалится…
Эта «Пиета» — одна из самых ранних у Микеланджело. Сам творец выполнил много скульптурных изображений Девы Марии и Иисуса. Конкретно это очутилось в Брюгге, в Бельгии. Данная «Пиета» — единственная, проданная за пределы Италии, в течение жизни художника, и одна из немногих скульптур Микеланджело находящихся за итальянской границей. Группа была выполнена для сиенского собора, но два торговца из Брюгге, Ян и Александр Москроэн, выкупили ее и привезли в Бельгию после одной из своих коммерческих поездок в Италию, в 1506 году. Располагается скульптура в соборе Девы Марии, в самом центре города.
«Пиета» из Брюгге
«Пиета» из Познани
И еще одна «Пиета» — копия ватиканской, имеющаяся за пределами Италии. Она находится в церкви Девы Марии Скорбной в Познани. Эта копия были использована в ходе реставрации оригинала после трагедии 1972 года.
10. Полунагая мраморная королева
«Герцогиня Полина, ты воистину коасивейшая женщина в мире. И ты будешь самым великолепным украшением моего двора».
Наполеон.
«Во многом можно было бы отказать сестрам Наполеона, только не в темпераменте. В этом, быть может, проявлялся их гений. В чудесном предназначении собственного брата они видели несравненную возможность успокоения голода любви — ведь в их распоряжении находилось столько офицеров и солдат».
Генерал Тибо «Мемуары»
Произведения вглядывающегося в Древность[34] Микеланджело сравнивали с античными скульптурами, которые в то время представляли пробный камень красоты. Когда через триста лет случилось очередное воскрешение классицизма, к этому пробному камню обратились еще раз, хотя казалось, что уже не достигнет умения Фидия и Буонаротти. Только такой человек нашелся. Ваял он гениально, так что опять начали сравнивать произведения творца новой эры с шедеврами Древности. Именно он вызвал то, что еще раз у итальянцев, после того, чем гипнотизировал меня Микеланджело, я познал столь же сильное волнение при виде красоты, заколдованной в обработанном резцом мраморе. Человека этого звали Антонио Канова.
На мою первую встречу с ним я шел по шикарной римской Виа Венето, а далее — по парковым аллеям Виллы Боргезе, вдоль стен из чудесных дубов, орехов и пиний. Эти последние, благодаря песчаной почве заставляют вспомнить сосновые леса над Вислой с их настроением. Главную аллею замыкает Казино Боргезе — резиденция, выстроенная в 1605–1613 годах голландцем Васанцио для кардинала Счипионе Боргезе, племянника папы Павла V. Кардинал был меценатом искусств и до конца дней своих заполнял комнаты небольшого дворца различными шедеврами. В 1782 году Марко Антонио Боргезе провел обновление резиденции и разделил ее на две части — Музей и Галерею, в этих работал участвовал и польский художник Тадеуш Конич, называемый Таддео Полакко. В 1891 году туда были перенесены шедевры живописи из римского Палаццо Боргезе, а через двенадцать лет все выкупило итальянское правительство, после чего Вилла Боргезе стала доступной для туристов.
Характерно, что у большинства мировых музеев имеется своя «эмблема», произведение, являющееся самым знаменитым экспонатом коллекции — алтарем данного конкретного святилища искусства. Например: Лувр — это «Мона Лиза» Леонардо, Мусе Коррер в Венеции — это «Куртизанки» Карпаччо, Галерея Академии — это «Буря» Джорджоне. В Вилле Боргезе таким символом — жемчужиной коллекции является скульптура Полины Боргезе-Бонапарте, сестры Наполеона, которую называли «прекрасной Полеттой». Она считалась красивейшей, наряду с госпожой Рекамье, женщиной эпохи, а ее постель «посетил» весь тогдашний мужской «monde» Европы, не исключая нашего принца Пепи. Среди них был и Канова, но этот не только занимался любовью. Канова увековечил Полину в камне, создав наиболее знаменитую неоклацисстическую скульптуру. Большая часть туристов, которые прибывают со всех концов мира в Виллу Боргезе, желает приглядеться к мраморному телу и чертам лица сестры императора. Музей и Галерея владеют произведениями Рафаэля, Рубенса, Кранах, Перуджино, Тинторетто, Корреджио, Тициана и Ван Дейка, только главной приманкой является мраморный шедевр Кановы и легенда, которая оплела эту мраморную статую и эту женщину.
Она была одним из восьми детей корсиканского адвоката Карло Буонапарте. Эта фамилия, замененная впоследствии на Бонапарте (точно так же, как и корсиканскую Паолетту заменило офранцуженное имя Полетта), вскоре открыла многочисленному семейству первые салоны старого континента. Чуть ранее, Наполионе, который был чуточку ниже ростом своих сестер, должен был бросить Европу на колени, но этот процесс длился недолго, и маленькая корсиканка вскоре познала наслаждение танцевать на балах во дворцах.
Преждевременно созревшая шатенка с матово белой кожей, прелестными глазами и с великолепным телом очень скоро пожелала царить в мужских сердцах, и с триумфом делала это целую четверть века. Оним из немногих поражений Наполеона был факт, что, несмотря на многочисленные усилия, ему так и не удалось усмирить южный темперамент сестры. Рифмоплет Арно писал после встречи с Полиной: «Она является композицией физического совершенства и странных моральных ценностей». Двузначность конца этой фразы была обоснована, но столь же правдивыми были слова Максима де Вийемареста «6 ее деликатной кокетливости скрывалось нечто, даже не знаю что — что-то нереальное». История жизни этой женщины представляет собой один громадный, живописный праздник любви.
В 1793 году семейству Бонапарте пришлось покинуть Корсику по политическим причинам, и они перебрались в Марсель. Через много лет, когда уже под крылышками Бурбонов антибонапартисты забрасывали умиравшего на Святой Елене «бога войны» потоками искусно приготовленной грязи и помоев, англичанин Льюис Голдсмит электризировал общественное мнение сообщением, будто бы, находясь на грани нищеты, Летиция Бонапарте вела в Марселе публичный дом, в персонал которого включал и ее собственных дочерей. Слава неколебимой морали матери императора уже тогда имела под собой слишком прочную основу, чтобы поверил в эти бредни, что вовсе не означает, что поведение Полины в Марселе было безупречным. После нескольких мимолетных увлечений она связалась с 41-летним ловеласом, пресыщенным и развратным «Маратом золотой революционной молодежи», Фрероном — и любовь ее была полна корсиканской страсти и жарких, словно огонь признаний: «ti amo sempre apassionatissimante, per sempre ti amo!»[35] Наконец, мадам Петиции все это надоело, поэтому она просила сына: «Мой любимый Буонапарте, помоги мне убрать эту новую помеху». Как правило, Наполеон убирал помехи радикально — в начале 1797 года Фрерон получил пинка, а через несколько месяцев слишком уж жаркая по вкусу семьи семнадцатилетняя девица была «ради святого покоя» выдана замуж за товарища победных сражений ее брата, за 25-летнего Эммануила Лек лерка. Тот, вне всякого сомнения, слышал про Фрерона, но, ошеломленный красотой девушки, видимо, считал, что Паулетта в качестве жены забудет о девичьих безумствах. Это чьей там матерью является надежда?…
В то время, как мадам Леклерк в парижских салонах переживает любовные триумфы, сравнимые с победами брата во время итальянской кампании, и одаряет наивного мужа очередной порцией рогов, Наполеон (1799) захватывает власть. В тот исторический день, 18 брюмера, Полетта находилась в театре, когда вдруг один из актеров воскликнул со сцены: «Граждане! 6 Сен-Клу революция! Генерал Бонапарте избежал удара кинжалом от депутата Арно и его сообщников!» В ложе раздался пронзительный крик — Полина, при известии об опасности, грозившей брату, пережила нервный шок. И это не было приступом искусственной истерии — она, как никто иной среди семейства, любила Наполеона по-настоящему. Он же, который осыпал золотом братьев и сестер, который надел на них короны и ради которых перекраивал Европу, чтобы одарить их, он, которому они платили черной неблагодарностью, которые все время дулись и устраивали против него заговоры, этот гениальный психолог, оценивающий людей одним взглядом — сурово осудил эти ничтожества, обладающие аппетитами пираний и носящие ту же самую фамилию, но не мог перестать любить их и поддаваться им. В океане его снисходительности таяли и капризы Полины, единственной среди семейки, одаренной сердцем, чувствительным не только в отношении любовников, но и в отношении людского несчастья, обладающей способностью на огромные пожертвования и истинным чистосердечием, которого не мог убить даже ее стихийный эротизм, балансирующий на самой грани нимфомании.
Сражающийся за «правильное» поведение сестры с упорством и эффективностью Дон Кихота, Наполеон, в 1801 году, именовал Леклерка начальником экспедиции в Санто Доминго и ворча при этом: «Женщина должна быть тенью мужа и делить его судьбу», — указал Полине направление на Антильские острова. В то время, как ее муж, называемый на островах «светловолосым Бонапарте» громил взбунтовавшихся негров, Полина обретала новые триумфы под пальмами, не делая разницы между маркизом и канониром, доказывая тем самым, что ее привязанность к непостоянству является тем самым рифом, на котором должны потерпеть крушение морализаторские попытки ее братца. Только благословенный покой тропиков лопнул как мыльный пузырь, когда на помощь мятежникам пришла желтая лихорадка — «vomito negro»[36]. Ее нельзя было расстрелять или заколоть штыком. Среди тысяч жертв очутился и «милый сопляк» Полины (так она называла мужа).
Полина плачет, но не перестает быть царицей острова. Наполеон писал ей: «Будь достойна своего положения!» — и она достойна. Когда орды врагов осадили Кап, и свита пожелала заставить ее спасаться на корабле, Полетта яростно заявила им: «Что, боитесь? А я — нет. Я сестра генерала Бонапарте». Вскоре она покинула этот ад и в первый день 1803 года вновь ступила на землю Франции.
В Париже длинный ряд ее старых и новых поклонников привел к тому, что семью вновь охватила паника. Единственным спасением могло быть новое замужество, поэтому, когда на берега Сены прибыл 28-летний брюнет с антрацитовыми глазами, потомок одного из наиболее знаменитых семейств Европы, богатый словно набоб герцог Камилл Боргезе, началась деликатная «combinazione» с целью захвата этого имени и состояния. Успех был достигнут легко, поскольку синьор Камилло влюбился в Полину по самые уши и даже пытался ускорить брак. Салоны язвили: «Наконец-то в семействе Бонапарте появится настоящая герцогиня». Салоны не знали о том, что очень скоро семейство Бонапарте накроет Европу своей тенью, которые толпы монархов будут целовать, стоя на коленях.
В 1806 году Наполеон — уже император и величайший повелитель континента — подарил супругам Боргезе микроскопическое герцогство Гуасталла, в результате чего, между братом и сестрой случился существенный разговор:
— И что же это за Гуасталла, мой добрый братец?
— Это местность и замок в Парме.
— Агаааа! Местность и замок. А у моих сестер имеются целые государства и министры! И что я там буду делать?
— Что пожелаешь.
— Что пожелаю?! Наполионе, я выцарапаю тебе глаза, если ты не начнешь относиться ко мне получше! А мой бедный Камилло, для него ты тоже ничего не сделаешь?
— Но ведь он же кретин.
— Естественно, только какое это имеет дело?!
Полина Боргезе — герцогиня Гуасталла
Чтобы подсластить пилюлю, через пару лет император именовал «бедного Камилло» губернатором Пьемонта, только Полина уже не могла жить в Италии, среди обожающих ее женственных менестрелей, и она сбежала в Париж, чтобы дополнить хоровод собственных любовников несколькими солдатами брата. Удивительно — в основном, они брались из штаба маршала Бертье, поэтому в армии их называли «маменькими сынками Бертье». Одному их этих «маменьких сынков», командиру гусарского эскадрона, де Канувиллю, Полета неосторожно подарила прекрасный воротник из соболей, полученный ею от Наполеона, который, в свою очередь, получил его в подарок от царя Александра I. Во время одного из парадов, конь украшенного этими соболями Канувилля нарушил строй, обратив внимание императора. Он сразу же узнал меха, все понял и впал в ярость:
— Бертье!!! Что делают в твоем штабе подобные сволочи, как этот вот, когда на полях гремят пушки?!
Уже через несколько дней Канувилль мог наслаждаться грохотом пушек (причем, с близкого расстояния) по другой стороне Пиринеев. В ту же самую Испанию был сослан и другой «маменькин сынок Бертье», капитан драгун, де Септейль. В битве под Фуэнтес снаряд оторвал ему ногу. Узнав об этом, герцогиня вздохнула: «Ужасно, вновь на одного танцора меньше». В ту же Испанию Наполеон сослал и ее управляющего (салоны называли его «постельным управляющим»), Форбина, и многих других дамских угодников. Но это сражение с ветряными мельницами завершилось еще одним Ватерлоо.
В течение 1810–1814 годов между родственниками шла война, ибо Полина осмелилась публично оскорбить императрицу Марию Людовику, в результате чего ей был запрещен доступ ко двору. Своей женской интуицией Полина почувствовала, что австриячка — это не имеющий своего характера манекен, настолько же подлый, сколько еще и глупый. До Наполеона это дошло только тогда, когда вторая жена бросила его в несчастье. Впрочем, а кто тогда его не бросил, начиная с его маршалов и заканчивая мамелюком Рустамом? Все — только не Полина. За несколько дней до битвы под Лейпцигом (1813 год) она отдала брату триста тысяч франков и свои наиболее ценные украшения (точно так же она поступила и перед Ватерлоо), когда же Наполеона держали в плену на Эльбе, она прибыла туда, чтобы делить с ним одиночество.
После триумфального возвращения с Эльбы в Париж, Наполеон обнаружил в бумагах придворных писак Людовика XVIII описание романса между собой и… собственной сестрой. Эта грязная история была снабжена штампом «6 печать», поскольку все выдумки пасквилянтов (одна из крупнейших каналий того времени, уже упомянутый Льюис Голдсмит, среди всего прочего, обвинил Наполеона в… содомии!) фабриковались с единственной целью: уничтожить рождающуюся тогда и все более укрепляющуюся наполеоновскую легенду. Необходимо было в обязательном порядке оплевать и обгадить императора, чтобы имя его переставало электризовать народы, словно имя святого.
Полина — герцогиня Боргезе
На Святую Елену Полине выехать не разрешили. Последние годы жизни она провела в Италии, оплакивая смерть любимого брата. Умерла она в Вилла Строцци, под Флоренцией, в возрасте сорока пяти лет (9 июня 1825 года), от рака. У ложа ее смерти находились всего лишь: единственный из ее братьев (Иероним) и супруг-герцог, с которым она помирилась после длительного периода раздельной жизни, и которому она перед смертью солгала, в благодарность за вечную терпимость и доброту: «Никого я не любила, кроме тебя!» Через минуту она попросила дать ей зеркало, долго гляделась в него и прошептала: «Когда я умру, заслоните мне лицо и, умоляю, не проводите вскрытия могилы».
Этой ее последней воли исполнить не удалось — каждый день толпы людей видят ее лицо и ее анатомию в Вилле Боргезе. Полина, в виде Венеры Победной, лежит, опирая голову на правую руку, держа яблоко в левой ладони, полунагая, наполненная прелестью. В ее лице резец художника на веки зачаровал красоту, в ее глазах — космос посвящения в мистерии любви, в ее изогнувшемся теле — лень насыщения, а в ее яблоке — похоть (в древние времена и в соответствии с греческой мифологией, яблоко представляло собой символ похоти, и оно же было «медалью» для победивших красоток). Здесь имеется и то самое «физическое совершенство» Арно, и «деликатная кокетливость», о которой упоминал Вийемарест. Детали: ложе, постельное белье, орнаменты, подушки и модная прическа — принадлежат исключительно эпохе ампира, благодаря чему, реальность и античный идеал переходят один в другой. Создаваемая в течение пары лет (1805–1808) скульптура была настолько удачной, что пятидесятилетний Канова, который во время работы влюбился в модель, после завершения работы признался, что боится влюбиться в собственном произведении.
В отличие от красивых женщин, некрасивые стыдятся собственной наготы, и потому закрытый купальник никогда не будет рожден скромностью, но всегда из осознания собственного недостатка или же из старости, которая редко когда бывает привлекательной. Когда одна из придворных дам, фыркавших при виде скульптуры, спросила у Полины: «Как же вы могли позировать обнаженной?!», та только пожала плечами: «Так ведь в мастерской было тепло».
11. Белый архипелаг
«…и тогда приходят критики и философы, чтобы объяснить послание художника. Наибольшим врагом искусства является общественное мнение, в любом из своих многочисленных проявлений».
Герберт Рид «Искусство и человек».
«До меня дошло, что на эту белую плоскость сотни тысяч лет глядели одни только звезды… Что делаю здесь я, живой, сред этого безупречного мрамора? Я, подлегающий уничтожению, я, чье тело сгниет, что делаю я здесь, в стране вечности?»
Антуан де Сент-Экзюпери «Земля людей».
Моя встреча с Кановой — это встреча с Неоклассицизмом, стилем (или, скорее, направлением мышления и проникновения этой мысли в произведения искусства), по-видимому, наиболее спорным из всех, созданных нашей цивилизацией до средины XIX века. Чувствуя восхищение к его плодам, и перекормленный книгами, наполненными язвительными мнениями, этим надуванием губ критиков — я разыскивал его на этой земле. Я разыскивал его источники, восстания, любовь и страдания, которые его породили.
Неоклассицизм был революцией. Он нанес удар «fêtes galantes» и «fêtes champetres» рококо, то есть, придворным и «пастушеским» сценам флирта, равно как в постелях будуаров, так и на лоне природы, истекающим гедонизмом и развратом. Он снес засахаренные до несварения желудка «esprit» и «charme»[37] рококо и возвел плотину перед неустанным балом золотой аристократической молодежи, развалившейся на холстах словно боги и богини. Этот удар, который был нокаутом для пропитанного духами будуара, терроризирующего искусство, нанесли абсолютно независимо друг от друга три титана, в одно и то же самое время, в течение всего лишь шести лет, с 1783 по 1789 год. Давид написал «Клятву Горациев», Леду спроектировал знаменитые парижские рогатки, а Канова выполнил модель надгробного памятника для папы Клеменса XIV. Эти три шедевра, свободных от всклокоченных драпри и избытка украшений, демонстрировали спартанскую простоту и благородный монументализм. Это было началом — европейское искусство еще раз преклонило голову перед Древностью.
Сами они называли свое творчество «правдивым, истинным стилем». Название «неоклассицизм» было изобретено (в качестве уничижительного термина) через много лет, в средине XIX века, критиками искусства и «учеными мужами», для которых воскрешение античности означало плагиат, наполненный безличным холодом и художественной мертвенностью. Это они прозвали парк шедевров Кановы «эротической мерзлотой». Они не полюбили эти мраморные статуи, я же дрожу от восхищения, когда их вижу. Возможно, правы именно они, а я — нет, но мы стоим на противоположных полюсах в святилище поглощения искусства — так какой мы можем вести диалог?
Томами своих ученых размышлений они привили эту ненависть и презрение целым поколениям, это они убедили их, будто бы Полина в Вилле Боргезе — это мраморная глыба льда. Герой романа Алехо Карпентьера «Царство земное», чернокожий Солиман, который на Сан Доминго был массажистом Паулетты, значительно позднее находясь в Риме, ночью посещает одну из горничных Дворца Боргезе и находит там мраморное изображение своей бывшей госпожи:
«В глубине небольшого кабинета была одна только статуя. Статуя совершенно нагой женщины, которая покоилась на ложе, держа в руке яблоко и словно протягивая его кому-то. Пытаясь совладать с хмелем, Солиман неверными шагами побрел к статуе, от изумления сознание его, помутненное винными парами, несколько прояснилось. Это лицо было ему знакомо, и тело, тело тоже напоминало ему о чем-то. В тревоге он стал ощупывать мрамор, словно вглядываясь, внюхиваясь в его поверхность осязающими кончиками пальцев. Потрогал груди, обхватив их снизу ладонями. Провел рукою по животу, задержав мизинец во впадине пупка. Погладил мягкий изгиб спины, словно собираясь перевернуть изваяние на другой бок. Пальцы его искали округлость бедер, мягкость подколенной впадины, упругость груди. И движения его рук разбудили память, вызвали образ давно минувших лет. Он не в первый раз касался этого тела. Он уже растирал эту щиколотку, таким же точно круговым движением унимая боль от растяжения связок. Тогда под пальцами у него была плоть, сейчас камень, но очертания были те же. Теперь ему вспомнились полные страха ночи на острове Ла-Тортю, когда за запертыми дверьми предсмертным хрипом хрипел французский генерал. Вспомнилась та, которой он должен был почесывать голову, убаюкивая ее. И внезапно, повинуясь властному зову чувственной памяти, Солиман стал массировать каменное тело, проводя ладонью по мышцам, по сухожилиям, растирая спину от хребта к бокам, пробуя большим пальцем упругость груди, выстукивая мрамор костяшками пальцев. Но холод камня передавался коже рук, и негр вдруг замер, ощутив, что запястья его цепенеют, словно их зажала в тиски смерть, и он закричал. Вино снова ударило ему в голову. Статуя, желтоватая в свете фонаря, была мертвым телом, перед ним был труп Полины Бонапарт. Труп, только что остывший, только что утративший трепет и зрение, может быть, еще возможно вернуть его к жизни. Негр кричал, кричал во всю мощь своего голоса, словно грудь его разрывалась, и отчаянные крики гулко отдавались по всем обширным покоям виллы Боргезе. И таким дикарским стало его лицо, так загрохотали по полу каблуки, превращая в барабан перекрытие меж кабинетом и находившейся под ним часовней, что пьемонтка в страхе скатилась вниз по лестнице, оставя Солимана наедине с Венерой Кановы».[38]
Даже самого Карпентьера они убедили, что этот мрамор — это «только что остывший труп», и таким они видели весь Неоклассицизм, поскольку я вижу в каменной Полине бессмертную Еву, ожидающую Эроса с яблоком. Один из моих римских приятелей, западногерманский историк искусств, Георг Кемптер, целых два напоенных солнцем часа в парке Боргезе убеждал меня, что я слеп, и что силой моего накормленного ампирной легендой воображения оживляю ледяную сосульку.
Кто же это убедил его, будто мир, которого мы касаемся кончиками пальцев, более реален, чем тот, который творят сердце и воображение? И что закрытые глаза видят меньше широко раскрытых? Его учителя влили ему под веки атропин ненависти к неоклассицизму — так какой же, псякрев, может быть между нами диалог?
Антонио Канова
Странно все это. Ведь я же читал у Вен тури и у других о том, под конец жизни Канова, увидав в Лондоне греческие шедевры из Парфенона, воспринял это очень драматически, считая, будто бы растратил талант, ибо все время шел за призрачными указаниями воскресите ля Античности, Винкельмана[39]. Совершенство греческого искусства, и даже искусства всех времен, Винкельман находил в нескольких скульптурах, которые даже не были греческими оригиналами, и заразил последующие поколения культом именно такой Древности. Так почему же я продолжаю склонять голову перед Кановой? Быть может, потому, что не поверил в бредни о драматичности переживаний по причине «напрасно растраченного таланта». Кто способен доказать, что трагедией Кановы, попросту, не было отчаянием, что другие творцы ранее ваяли столь же феноменально?
Тем не менее, все это для меня так же непонятно. Ведь мой связанный с Кановой остров, который я нашел чуть севернее Падуи и Венеции, в маленьком Поссаньо, родном городе Кановы, должен был убедить в правоте скептицизма и презрения моих соперников. Этот остров — это чистейшая и буквальнейшая Арктика ваяния, белый архипелаг Кановы — гипсотека. А чем же иным является гипс отека, как не мертвым следом творческой мысли? Почему же этот остров не обокрал меня от моих увлечений?
В 1835 году брат Кановы, епископ Джованни Сартори Канова, начал свозить в дом, где родился Антонио, гипсовые модели его произведений, оставленные в римском ателье скульптора. Так родилась гипс отека Поссаньо, вторая гипс отека Европы (в Копенгагене свою гипсотеку имеет северный соперник Кановы — Торвальдсен[40]). К этому времени Кановы не было в живых уже тринадцать лет.
Сегодня, когда вступаешь в величественный интерьер, из всех его уголков, из-под стен и из ниш, глядят мертвые глаза гипсовых фигур. Соседства бывают самые странные. Римский папа гипсовыми глазами глядит на обнаженные бюсты и лона. Голые женщины, прозрачные белизной, делаются нереальными и не способными пробуждать желания. В эпоху неоклассицизма обнаженность, связанная с искусством столь же сильно, как и в Античности, приняла символическое значение. И, точно так же, как и в античном искусстве — прекрасная и агрессивная, она придавала моделям больше достоинства, чем богатые одеяния, которые, якобы, «человека не красят».
Пугающая, тотальная белизна. Белы стены и белы скульптуры, и все вместе образует удивительнейшую полярную пантомиму, наполненную тишиной, достоинством и сном. Белый Геркулес застыл в движении, наполненном ужасающим гневом и напряжением всех мышц; три белые грации, ласкаясь, прижимаются одна к другой; белая Летиция, мать императора, небрежно отдыхает в кресле с легкой улыбкой. Легчайшая тень становится здесь черной как ночь и четко вырисовывает контрасты. Белый туман тишины окутал мифические и ампирные фигуры словно одно огромное семейство, которое уже не размножается, но никогда не теряет своих лет, своей молодости или преклонных лет — время здесь остановилось и тоже, как все окружающее, сделалось белым. Я чувствую холод — белизна этих тел, словно вырезанных изо льда или же вылепленных на японском конкурсе снеговой скульптуры, понижает температуру окружения.
Эта снежная толпа вызывает впечатление нереальности. Калитки памяти открываются, показывая какие-то фотографии, какие-то кошмарные образы антарктических экспедиций. Скотт и его люди, когда молчаливая смерть достигла их у полюса, застыли точно так же, точно так же побелели и должны были выглядеть подобным образом. Когда недавно (1972 год) в Андах разбился уругвайский самолет, группа потерпевших крушение целых семьдесят два дня, долгих словно столетия, прозябали на снегу, поедая трупы своих товарищей — чтобы выжить. Один из них сделал фотографию, отошедшую весь мир: среди белых горных вершин они сидят, съежившись, глядя с отчаянной надеждой в пространство, откуда никак не приходит помощь. Белые, словно гипсовые статуи, ослепшие, ненавидящие самих себя и весь мир. Когда спасение наконец-то пришло, и когда их вновь ввели в салон цивилизации, их исповедники не осудили каннибализм, человечество же почувствовало себя перед ними как бы виноватым и мелким. Только это уже не могло их освободить от того, что они замкнули в себе, когда практиковали весь этот ужас. Они стали жрецами болезненного посвящения, которое другим людям будет чуждым на все века. Когда к одному из этих спасшихся, молодому Рою Харли, подошел журналист, парень глянул ему прямо в глаза и сказал: «Ну какой может быть диалог между мною и человеком, беспокоящимся повышением цен на бензин или же тем, где провести Новогоднюю ночь?» Действительно.
Белый остров гипсовых статуй Кановы в Поссаньо произвел на меня большее впечатление, чем десятки оживленных солнцем шедевров из живого же каррарского мрамора, отбрасывающих рефлексы по всему итальянскому сапогу. Я склонил голову перед Кановой.
Для поляков он не ваял, хотя его просили (1812 год) выполнить две кариатиды для спроектированного Айгнером памятника Наполеону, который должен был украшать стену Сенаторского Зала Королевского Замка в Варшаве. Только у Кановы не было времени или желания (кариатид этих впоследствии создал Торвальдсен, но на берега Вислы они никогда не добрались — сгорели в замке Кристианборг). Тем не менее, одно произведение Кановы в Польшу попало, причем, надолго — жаль только, что не навсегда. Это «Персей», путешествие которого, проходящее и по сарматской тропе, кажется продолжением мифа.
Во время победной кампании 1797 года генерал Бонапарте заключил с папским государством трактат в Толентино, в силу которого множество бесценных произведений искусства покинуло Ватикан и отправилось в Париж. Среди них была одна из чудесных древних статуй — «Аполлон Бельведерский». В 1801 году Канова, по образцу вывезенного шедевра, заделал статую Персея, держащего одной рукой меч, а второй — отрубленную голову Медузы. «Варшавская Газета» писала (июнь 1801 года) о новом шедевре: «Все считают, что эта работа среди красивейших памятников древности помещена может быть». «Персей» был выставлен в Ватиканском Бельведере на цоколе, который перед тем занимал Аполлон. Здесь он вызывал всеобщее восхищение, вот только сам творец не был доволен, поскольку в статуе было несколько дефектов, портящих фактуру мрамора. В конце концов, по согласию Пия VII, Канова выполнил копию, которую выставили на пьедестале, а «зараженного» сына Зевса и Данаи скульптор забрал в свою мастерскую.
В 1816 году, после падения Первой Империи, большая часть вывезенных в Париж произведений искусства была возвращена, и «Аполлон» вернулся на свое место в Ватикане. Канова, являясь доверенным лицом папы римского, лично следил за перевозкой множества сокровищ искусства. Делал он это в силу должности, поскольку Пий VII удостоил его очень почетного титула Ispettore Generale delie Belle Arti (Главного Инспектора по Изобразительным Искусствам), тем самым воскрешая функцию, которой в 1515 году Рафаэля одарил другой римский папа, Леон Х, который дал художнику должность Comissario delie Antichita di Roma (Комиссара Римских Древностей). Охраной произведений искусства когда-то руководили великие художники, сегодня же этим занимаются чиновники, и не всегда великие.
Когда «Аполлон» добрался до Рима, «Персей» уступил ему место — его перенесли в соседнюю нишу Бельведера, где он стоит и сейчас. Во время этого переезда, образец «Песея» (уже десять лет) находился над Вислой.
В 1804 году в Рим прибыли Валерия и Ян Феликс Тарновские. Пани Тарновская, увидев бельведерского «Персея», восхищенно писала на страницах дневника: «Это произведение Фидия нашего века», а когда узнала, что в мастерской Кановы стоит копия статуи, начала умолять скульптора, чтобы тот продал ее. Творец согласился, хотя и не без сопротивления, и еще перед 1809 годом ему по частям выплатили договоренные три тысячи дукатов. В 1806 году статую перевезли по морю в Одессу, откуда на волах ее тащили в Хорохов. Правда, в имение Тарновских в Дзикове «Персей» так никогда и не добрался. Когда под ее громадным весом начали трещать стены хороховского дома, Тарновские вывезли «Персея» в Вилянув, являющийся владением Потоцких. Правообладателем статуи был Юлиуш Тарновский, а когда он погиб в Январском Восстании, «Персей» стал собственностью четырех внуков Яна и Валерии Тарновских. Один из них, Ян Тарновский, хозяин в Дзикове, около 1870 года продал статую венской фирме по торговле произведениями искусства «C. J. Wawra». За следующую ему четверть суммы, полученной от продажи, профессор Ягеллонского Университета, Станислав Тарновский, приобрел от находящегося в финансовых хлопотах сына Адама Мицкевича рукопись «Пана Тадеуша». Вывезенный из Вены в Зальцбург, «Персей» долго еще пребывал на территории Австрии. Только лишь в 1967 году его выкупил нью-йоркский Metropolitan Museum of Art.
Как жаль, что великое произведение Кановы не осталось у нас. Вокруг этой проблемы все еще продолжаются более или менее открытые полемические разногласия — в 1969 году по этому вопросу (на страницах польской прессы) столкнулись Артур Тарновский и профессор Станислав Лоренц. Любуясь в Ватикане гордым Персеем и вспоминая его польскую Одиссею, трудно не вздохнуть. Владелец вправе сделать со своей собственностью все, что ему заблагорассудится — жаль только, что не для всех владельцев не являются мудростью слова Наполеона: «Деньги тратятся быстро, произведения искусства украшают наши дома вечно».
Антонио Канова так часто работал для Наполеонидов, что, хотя он никогда не обрел подобного титула, его можно назвать придворным скульптором Наполеона. Он ваял крупных и мелких Бонапарте с одинаковой страстью, которой были безразличны ранги, приметы и недостатки, и всегда с одним и тем же искусством. Великие произведения делают бессмертными малых людей — так Канова обессмертил Полину Боргезе, а да Винчи — жену итальянского патриция. Но вот когда модель перерастает произведение искусства, происходит обратная вещь. Брат Полины, Наполеон, делал бессмертными портреты и статуи, с помощью которых его «фотографировали», и не всегда эти произведения выходили из гениальных рук. Канова изваял его бюст, а затем (1811 год) выполнил прекрасную бронзовую статую для обожавших корсиканца жителей Милана, представив обнаженного императора в античной аполлоновской позе. Оригиналом я наслаждался во дворе миланской Буеры, мраморной копией — внутри лондонского Эпсли Хаос (Музей Веллингтона), а гипсовой моделью — в белоснежной толпе гипс отеки Поссаньо.
Бог войны с телом Аполлона будит у глядящих изумление и усмешку: «Ах, эти художники, льстящие своим божкам,» — ведь всем известно, что император был низкого роста, зато мало кому известен факт, что пропорции тела императора были настолько чудесными, что сам Давид, увидав раздетого Наполеона, издал возглас восхищения. Разве это не доказывает, что король, когда он гол, может быть более одет, чем даже в горностаях, намного больше, чем того хотел Андерсен?
12. Рассказ о «неаполитанском версале», о сыне корчмаря и о том, как умирают стоя
«Успех всегда порождается дерзостью».
Вольтер «Катилина».
«Пускай же этот великий титул, выбитый на моей могиле, Показывает будущему, что я его уважал».
Пьер Корнель «Серториус».
Обнаженный Бонапарте, глава всех голяков, заполняющих Поссаньо, и был тем самым чудотворцем, который с несравненным мастерством одевал нагих в горностаевые мантии. Всех тех сыновей бондарей и лавочников, контрабандистов и юнг, всю ту дореволюционную босоту, безумно храбрую, лишенную каких-либо угрызений совести и голодную в желании захватить кусок мира и для себя — он вознес их до постов маршалов, затем — герцогов и королей, и раздал им Европу, пядь за пядью, дворец за дворцом. Один из красивейших дворцов Италии — «неаполитанский Версаль» в Касерте — получил Марат.
Иоахим Мюрат был сыном корчмаря, малым, сопливым повесой, шатающимся между родной деревней Ла Бастиде и школой в соседнем Кахорс. Когда он подрос, отец выслал его в духовную семинарию в Тулузе, но Иоахим, лишь только получил первое помазание, тут же был его лишен и выброшен «к чертовой матери» за роман с красивой обитательницей Тулузы и за проведенную из-за нее дуэль. По причине вышесказанного, он стал искать счастья в армии. Он был достаточно пристойным, чтобы все женщины, от посудомоек до графинь, испытывали к нему слабость, а так же достаточно физически крепким, чтобы без особых церемоний стать членом (1787 год) как раз марширующего через Тулузу 12-го полка конных стрелков. В этот момент ему исполнилось ровно двадцать один год, и уже до конца жизни он не сходил с коня, если не считать коротких антрактов, когда он ел, спал и занимался любовью.
Портрет Мюрата кисти Шмидта (1814), Касерта
Всякий «homo sapiens», несмотря на возраст и пол, ожидает своего волшебного дня. Иногда — всю жизнь. Мюрат ожидал неполных восемь лет. Точно так же, как в библейском цикле: семь первых лет было худых, а упомянутый золотой день пришел в восьмой год — конкретно же, в 1795-ом. Впрочем, Мюрат собственной саблей сам нарушил ритмичность цикла и продолжил период благоденствия, умножая семь на три, до двадцати одного года, то есть, практически до самой могилы. Золотым днем нашего кавалериста было славное 13-е вандемьера (5 октября 1795 года), что вовсе не означает, будто бы тринадцать было счастливым числом Мюрата, октябрь — счастливым месяцем, а концовка пять — счастливой датой, потому что расстрелян он был 13 октября 1815 года. Но оставим магию чисел и вернемся в тот день.
Ночью с 12-го на 13-е вендемьера, когда парижские реакционеры готовили наступление на Конвент, не было никаких сомнений, что победа будет принадлежать тому, кто овладеет артиллерийским парком в Саблонс. Перед командующим войсками конвента, молодым генералом Бонапарте, встал столь же молодой капитан кавалерии Мюрат и пообещал доставить эти пушки. Противники выступили практически одновременно, но после пятичасовой гонки Мюрат первым добрался до орудий, овладел ими и доставил в Париж. Когда настал день, Бонапарте уже не оставалось ничего другого, как просто расстрелять картечью атакующие толпы мятежников.
Бонапарте с Мюратом воспользовались своим шансом — с того дня их карьеры ускорились головокружительно. Генерал стал императором, а сын корчмаря, соответственно: полковником, генералом, зятем Наполеона, маршалом, великим адмиралом, великим герцогом Берга и Кливии и, наконец, королем Неаполя. Все эти титулы превышал один, первоклассный, хотя и неформальный — короля кавалерии Ампира. Убийственные атаки на десятки пушечных пастей неприятеля Мюрат, как правило, вел, вооружившись… позолоченной тростью, а когда под прусской Илавой (1807 год) над императором впервые навис призрак поражения, он повел по льду самое крупное в свете наступление (девяносто кавалерийских эскадронов) и спас Великую Армию. Именно таким образом, бравурной и гасконской дерзостью, он ковал славу наиболее великолепного из «les beaux sabreurs» (прекрасных рубак) эпохи.
В «неаполитанский Версаль» он въехал, когда ему исполнился сорок один год.
Королевский дворец в Касерте, жемчужина Кампании, в двадцати двух километрах к северу от Неаполя, был рожден благодаря повелителю Королевства Обеих Сицилий, Карлу III де Бурбону, и таланту неаполитанского архитектора Людовико Ванвителли. Строительство было начато в 1752 году от рождества Христова, и с какой, доложу вам, помпой! Когда утром 20 января Карл III вместе с супругой помещал в фундаменте с помощью серебряной кельмы краеугольный камень и мраморную кассету с золотыми и серебряными медальонами, дипломаты, сановники и собравшиеся толпы могли видеть план дворца в натуральную величину — его образовывали выставленные по эскизу ряды королевских войск. Через четверть века Ванвителли, его сын Карло, Марчели Фонтона, Франческо Коллечини и главный садовник, Пьетро Берноскони, возвели замечательный классицистический дворец с 1742 окнами, освещающими 1200 комнат, а вместе с тем — гигантский парк с водопадами и статуями, истинный шедевр итальянской садовой архитектуры.
Бурбоны радовались дворцу всего лишь половину столетия, поскольку в 1803–1804 году им не повезло, так как они уселись не в тот поезд, вагонами которого были державы антинаполеоновской коалиции. Поезд сошел с рельсов под Аустерлицем, и Наполеон одним лишь декретом выгнал всех королей прочь, отдав Неаполь своему брату Иосифу, а когда тот занял трон Испании (1808 год) — первому кавалеристу эпохи, Мюрату. До настоящего дня ампирные кабинеты (в основном же, спальня) Мюрата в Касерте очаровывают своей красотой, а их фотографии помещены во всех альбомах, касающихся прикладного искусства Первой Империи.
Ампирные (прежде всего, благодаря устройству интерьера) апартаменты Иоахима в Касерте, это пять комнат, заполненных, в основном, мебелью, привезенной в находящейся неподалеку Вилла Реале (Портика). В двух прихожих на стенах спят многочисленные портреты членов семьи императора и знаменитых людей эпохи, в том числе, Люциана Бонапарте (Роллан, 1811 год), Иосифа Бонапарте (неизвестного автора), матери Наполеона, Петиции (Мартин, 1801 год), маршала Маслены (Викар, 1808 год) и самого Мюрата (Шмидт, 1814 год). В первой из этих прихожих, под прекрасными плафонными фресками (Хилл и Каммарано) висит анонимный холст «Мюрат, посещающий приют в Неаполе». Рядом с ним я задержался.
Повелители, посещающие приюты, госпитали, сиротские дома, лазареты. Повелители, гордящиеся своим гуманизмом. Мюрат не отличался от них, ведь в то время подобные картины были «обязательными», как и во все остальные времена, вплоть до настоящего дня, когда их заменили фальшивые фотографии. Бесстыдные апологеты императора обожали изображать его с помощью красок «среди больных», «среди страдающих» и т. д. Он смеялся над этим (хотя и вправду, довольно часто посещал больницы, проверяя их уровень и состояние) — только нам нельзя смеяться. Кому-нибудь, кто пожелает высмеять картину типа «Наполеон среди больных», вначале следует вспомнить, что это именно Бонапарт инициировал педиатрическое лечение. По его приказу была основана (1802 год) первая специализированная детская больница — парижский L'Hopital des Enfants Malades. В других странах Европы такие заведения появились на несколько десятков лет позднее: в Петербурге (1837 год), Вене (1839 год), Львове (1854 год), Кракове (1876 год) и в Варшаве (1878 год).
Так что, стоит вспомнить хотя бы этот факт и чуточку подумать. Затем уже можно и насмехаться — если только кому-то придет на это охота.
Спальня Мюрата — это наиболее часто посещаемый зал дворца. Ничего удивительного, ведь это энциклопедический пример ампирного оснащения интерьеров. Два комода (на них бронзовые фигурки Мюрата и Наполеона), письменный стол, ложе и шкафчики — все это из красного дерева и богато изукрашено бронзой, в чистейшем стиле Империи. Стулья с инициалами Иоахима на обивке — это позолоченное дерево. С плафона Фонди и Бизоньи свисают — точно так же, как и в обеих прихожих — шикарные люстры, немецкого производства. Две последние комнаты апартаментов Мюрата практически полностью лишены ампирных элементов. Зато их много в других апартаментах дворца, хотя бы в спальне Фердинанда II, только эти интерьеры уже не пользуются столь большой популярностью — там не хватает духа золотого кавалериста.
Ампир не дождался особого признания историков искусства. Его творения были определены как академические, неуклюжие, мертвые копии Античности, довольно часто — преувеличено усложненные, напыженные и тяжелые, без той выразительности, прелести и элегантности, которые были свойственны древнему искусству. В этих утверждениях имеется большая доза правоты, но и не меньше — преувеличения, поскольку стиль Империи, помимо серости, породил и совершенно поражающие своей красотой произведения искусства, и мнения многих ценителей не сильно-то совпадают с мнениями книжных авторитетов. Экстремизм научной критики иногда бывает не менее академическим, чем тот академизм, в котором обвиняют Ампир.
Поляки, пускай и не выделяющие Ампир в качестве стиля, любят его время. Великое Герцогство Варшавское — семилетний луч света в черную эпоху неволи, что длилась почти полтора века. В течение же этих семи лет не нас били, но мы били, воскрешая гусарскую легенду — этого достаточно, чтобы сентиментальное отношение к Ампиру дожило на берегах Вислы до наших дней.
В моем путешествии по коридорам и комнатам острова в Касерте есть нечто от погони за духом этого живописного всадника, который мечтал о короне поляков, равно как и мы сами мечтали дать ему ее. Мы любили Мюрата, а он любил нас. Прежде всего, любили наших женщин — поскольку они самые красивые, затем, нашу кавалерию — поскольку она самая боевая, или все наоборот, кто его знает? Когда под Островном (1812 год) русские столкнули французскую пехоту в узкий враг, и когда их ситуация стала критичной, Мюрат выбрал для проведения атаки польских улан, и, указывая направление, крикнул всего одно слово:
«ДетииииииШ….» В мгновение ока дети сломали хребет врага.
Не всем известно, что Мюрат, прежде чем получить трон Неаполя, был близок к тому, чтобы получить польскую корону. Когда 28 ноября 1806 года он въезжал во главе своей кавалерии в освобожденную от пруссаков Варшаву, его встретил самый теплый прием со стороны толп столичных жителей. Напротив Мюрата выехал князь Юзеф Понятовский, срдечными речами его приветствовали Ян Малаховский и другие представители столицы. В самом конце, когда к Мюрату обратился знаменитый сапожник, полковник Ян Килиньский, произошло нечто неслыханное. Килиньский не знал французского языка, а Мюрат не понимал ни слова из того, что по-польски говорил бывший соратник Костюшко. Когда Килиньскому намекнули об этом, тот прервал свое выступление на полуслове, после чего, с воодушевлением истинного сапожника заорал во всю глотку: «Salve Rex Poloniae!»[41]. Собравшиеся толпы повторили окрик тысячекратным эхо, а Мюрат, слыша это, даже покраснел от гордости и поклонился Килиньскому с истинной благодарностью.
Поселился он во дворце Потоцких на Краковском Предместье, где хозяева предоставили ему весь партер, и с первой же минуты начал кокетничать с сарматами. Свой гардероб он увеличил на польский плащ для верховой езды и на солидную шубу, а коллекцию головных уборов дополнил несколькими польскими шапками. Очередной повод для того, чтобы очаровать поляков (польки и так были достаточно очарованы го внешностью и статью), стал устроенный в честь императорского зятя бал с карнавалом, который проходил 22 января 1907 года во дворце Потоцких. На балу, который посетил сам император, уже забавляющийся Валевской, Мюрат хвастался своим умением танцора, нося парадный мундир, украшенный трехцветным султаном. Как писала в своих мемуарах Анна Потоцкая: «Поляки наверняка бы украсили короной этот славный султан». Наконец, сам Понятовский, беседуя с Мюратом (в связи с идентичностью темпераментов, эти два человека весьма любили друг друга), предложил Иоахиму роль претендента на польскую корону. Так что Мюрат охотно позировал в качестве повелителя этого «королевства грязи», как называли Польшу французы. Он настойчиво сравнивал себя с другим солдатом, взошедшим на польский трон, Яном Собесским, и все время просил рассказывать себе историю его выборов. Потому, когда Бонапарте наконец-то развеял все эти великие надежды — и Мюрат, и обожающие его сарматы пережили болезненное разочарование.
Правда, вскоре Мюрат утешился Неаполитанским королевством, а дворец в Касерте, без сомнения, был побольше и побогаче Королевского Замка в Варшаве. Касертой он радовался меньше, чем Бурбоны до него — всего лишь семь лет, последние семь жирных лет в 21-летнем цикле успеха сына трактирщика. Для изгнанных хозяев дворца (правящих «по воле божьей», а не по милости корсиканца) он всегда оставался сыном кабатчика, от которого несет солдатней и пропитанными потом сапожищами, немытым и бесправно валяющимся на атласах и коврах их Версаля. Но, даже если бы он принимал ванный из молока и одевался исключительно в брабантские кружева — для них он был всего лишь хамом и ничем более.
В конце концов, его, сына трактирщика с короной на голове, сцапали в 1815 году, уже после Ватерлоо, и начали против него справедливейший судебный процесс в силу такого вот декрета:
«Ст. 1 — Генерала Мюрата будет судить военная комиссия в составе, определенном военным министром.
Ст. 2 — Осужденный может воспользоваться правом на религиозное обслуживание не более, чем полчаса».
Вторая статья данного документа предвосхищает гитлеровские полевые суды.
В состав военного суда вошло восемь офицеров: Фасиел, Скальфаро, Натали, Ланцета, Камилли, де Венж, Мартеллари и Фройо — все они получили свои чины, не считая других милостей, от Мюрата. Каждый из них мог отказаться от участия в отвратительной пародии на процесс ценой потери чина и тех месяцев ареста — весьма низкая цена за спасение чести! Только никто этого не сделал.
В то время Бурбоны во всей Европе желали радикально покончить с людьми-символами наполеоновской эпохи, мстя за годы унижений. Через два месяца после «процессом» над Мюратом, в Париже завершался идентичный судебный фарс в Париже. Когда ночью с 6 на 7 декабря 1815 года Палата Пэров Франции в открытом голосовании отвечала на вопрос: «Виновен ли маршал Ней в государственных преступлениях?» — сто шестьдесят (из имеющихся ста шестидесяти одного человека) выслуживающихся перед Людовиком XVIII сановников ответило утвердительно, тем самым подписывая смертный приговор национальному герою Франции, который пару десятков лет отдавал свою кровь на полях сражений от Сьюдад Родриго до Бородино, и которого называли «храбрейшим из храбрых». И здесь многие из присутствующих были обязаны подсудимому своим значением и богатствами. Только нашелся во всем этом Содоме один праведник, человек, который ни в чем не был обязан Нею, да и к бонапартистам относился без каких-либо симпатий, но который с молоком от собственных родителей всосал уважение к собственному достоинству. Этот человек поднялся со своего места и громко сказал: «Non!». Это был молодой аристократ, герцог де Дрогли. Этим словом он желал защитить сына бондаря, которого, по крайней мере, признал равным себе.
Мюрат, сын корчмаря, подобного счастья не познал — среди его судей истинных аристократов не было, хотя в жилах некоторых текла голубая кровь. Это одно из множества доказательств того, что никто аристократом не рождается. Это еще необходимо заслужить, по крайней мере, одним словом.
Сын корчмаря сумел повести себя как урожденный монарх. Его осудили без его участия (без его присутствия перед судом), а прокурору, который пожелал допросить его в тюремной камере, он презрительно бросил: «Это не мои судьи, это мои подчиненные. Для меня было бы позором становиться перед столь жалким трибуналом. Я — Иоахим, король Обеих Сицилий. Прочь». И в этот момент он стал королем по-настоящему, эти слова в отношении истории были его тронной речью, а провозглашенный приговор стал священным коронационным актом. Судьба любит смеяться — это не Наполеон своим жестом, но Бурбоны своей подлостью короновали Мюратом перед Богом и законом.
Последние мгновения двух знаменитых наполеоновских маршалов, расстрелянных в течение двух месяцев в Пиццо и в Париже, были настолько идентичными, что, читая исторические документы, у вас появляются очередные размышления над таинственными совпадениями судеб и событий, разделенных временем и пространством. Не только обстоятельства были похожими — в этом как раз ничего удивительного не было — но те же поступки и даже те же самые слова! Они как будто бы сговорились, или же, словно расстрелянный ранее Мюрат подсказывал Нею, что тому следует делать и говорить. Оба не позволили завязать себе глаза. Иоахим подходящему с повязкой офицеру сказал: «Слишком часто я глядел смерти в глаза, чтобы теперь ее бояться!», а Мишель Ней: «Разве вы не знаете, что солдат смерти не боится?». Иоахим сам командовал расстрельным взводом. Он выставил солдат и сказал: «Пощадите лицо, цельтесь в сердце!». Это произошло 13 ноября 1815 года. Ней, которого расстреливали 7 декабря 1815 года, крикнул солдатам: «Товарищи, прямо в сердце!».
Когда уже в силу своих легитимных привилегий совершения мерзостей и преступлений Бурбоны стерли Мюрата из жизни, они возжелали стереть его еще и из истории и легенды. Безумцы. Целыми годами они яростно мстили, а он все время являлся — еще более великий, вставал из могилы и светил им в глаза романтической славой храбреца. Они желали его уничтожить, но как же можно убить труп — убить можно только раз.
Когда в 1839 году в громадном тронном зале дворца на архитраве размещали сорок четыре медальона с изображениями королей Неаполя, начиная от Руджеро Нормана до Фердинанда II — Мюрата пропустили, чтобы еще раз насладиться местью коронованых особ. Мало того. Еще ранее Бурбоны приказали зарисовать в зале Александра Великого две наполеоновские фрески: «Капитуляцию Капри» Шмидта и «Битву под Илавой» Шухрланда. Только фрески не пожелали замалевываться — тут короли проиграли.
Неаполитанские Бурбоны. Кто сегодня помнит о них? Зато Мюрат — это легенда: великолепная, героическая, вечно сияющая. Он стал повелителем моего касертанского ампирного острова, который лишь утвердил меня во мнении, что «хорошо смеется тот, кто смеется последним». Даже если смех этот должен был раздаться через много, много лет. Все это лишь проблема времени и умения дождаться. Люди в течение этого времени будут умирать, но народы — нет. Немного терпения — трава со временем превращается в молоко.
13. Мафиози
«Люди слишком редко могут быть абсолютно злыми или абсолютно добрыми».
Николо Макиавелли «Размышления»
«Прежде, чем нам удастся узнать человека, мы знаем только его слова. Хочешь не хочешь, но мы должны принимать их за добрую монету, ожидая, пока они будут проверены поступками».
Мадам де Севинь в письме графу де Криньян, 1670 г.
Рядом с Касертой, над рекой Волтурно располагается Капуя. Я прожил там шесть недель и узнал ее всю, от пустых ренессансных крепостных рвов, где сейчас мальчишки играют в мяч, и до вершин старинных колоколен. Капуя мертва, но не так, как Чивита ди Баньореджио, а так, как и многие те удивительные городки Юга, застывших, сонных, задумавшихся над замечательным прошлым, которое минуло и не возвращается. Время вымело говор жизни из этих улочек и небольших площадей, замедлило ритм и набросило паутину летаргии, в которой иногда еще можно услышать неаполитанскую песенку. Хотя это всего лишь параллель Неаполя, но мы находимся на Юге, и насколько же он чужд Северу с его промышленным рокотом, ревом машин и толпами рабочих, спешащих на свои заводы. В ленивых южных местечках, как нигде иначе, видно деление на бедных, непонятно что делающих в течение всего солнечного дня, и на богатых, носящих костюмы и белые сорочки — на плебс, поющий песни, и на патрициат, приглашающий Бетховена, хотя его не понимает и не чувствует.
Симфонический концерт в храме Святого Элигия, травертинный фасад которого принадлежит к числу наиболее любопытных фронтонов итальянского Сеттеченто (XVIII век). Приехавший из Неаполя знаменитый оркестр «Алессандро Скарлатти» под управлением Праделлы устроился на хорах и вокруг алтаря. В нефе же развалились все «onerevoli» этого города со своими матронами, любовницами, отпрысками и соседями, все достойные получить прелестно напечатанные приглашения, украшенные гербом города и подписью синдика. Бедняки остались снаружи со своими песенками.
Капуя. Храм Святого Элигия
Капуя. Развалины античного амфитеатра
Первые движения рук дирижера и первые же звуки заставляют метаться огни свечей. Или это только ветер, проникший со стороны входа? Желтые рефлексы скользят по неподвижным лицам, вызывая иллюзию движения губ и век. Вагнер — «Идиллия Зигфрида»; затем «Ноктюрн» Мартуччи, более соответствующий, ведь на дворе уже ночь, а здесь — полумрак, с которым беспомощно сражаются свечи. И наконец, «Четвертая симфония» Бетховена бьет в стены, в колонны, своды, статуи и мозаичные полы, как бы желая их взорвать, разрушить, покрыть трещинами. Пламя свечей сходит с ума, следуя движениям руки дирижера. «четвертая». Не столь знаменитая, как «Героическая» или «Пасторальная», но столь же прекрасная. А в этом мрачном нефе, обрисованном мерцающими огоньками — чудесная, околдовывающая, словно сказка, которую рассказывают ночью, после того, как погасили лампу.
Лица. Сонные, холеные, бессмысленные — ничего не понимающие. Печатные приглашения и завтрашнее упоминание в газете, а еще то, что можно показать новый костюм или женщину, платье или дорогое колье, и почувствовать себя более лучшим, достойным, вознесенным, да еще и строить из себя любителя Бетховена — вот это было самым главным. Я благодарен им, что они устроили этот замечательный концерт в храме, и что почтили меня приглашением, но когда я вижу, как они, которым уже осточертели взаимные поклоны, улыбки, перешептывания на ухо, весь этот спектакль комплиментов и пустых фраз, потом засыпают под музыку, которой они не понимают и не любят, как уже мечтают, чтобы все это, наконец, закончилось, как сопят, кашляют, нетерпеливо вертятся — тогда я их ненавижу.
Вот если бы можно погнать все это разодетое во фраки стадо буквально метров триста дальше, в прозябающий над рекой монастырский храм Святой Екатерины. Внутри — сплошные развалины, пыль, осколки, вонючий мусор. Не знаю, когда его забросили. По соседству в течение нескольких сотен лет располагался крепостной склад амуниции, так что, может, опасались взрыва. Но пороховой погреб давно уже пуст, и сам уже валится, но и храм никому уже не нужен. Гибнущая архитектура играет свой концерт, отчаянный и предназначенный для свалки, потрясающий сильнее, чем звуки Бетховена, но этого ведь они не слышат, не желая слышать.
Шпиль монастыря Св. Екатерины
Ночные концерты в итальянских храмах, это нечто невообразимо прекрасное — чтобы почувствовать, это нужно пережить самому. В Риме, в одном из храмов неподалеку от Форума (толком уже не помню, но, по-моему, это был храм Санта Франческа Романа), такие концерты происходят регулярно, и тогда архитектура — вместе с музыкой и полумраком — порождают неземное настроение. Приходит молодежь, и та, что в галстуках, и та, что принадлежит к хиппи — все садятся на полу, на свернутых рулонах ковров, присаживаются на корточки в нишах и, держа голову между коленей, вслушиваются, напитываются мелодией. Помню такой концерт струнного квартета Рейста из Берна — играли Гайдна, Шуберта и, кажется, Онеггера под конец. И долго, долго играли на бис. Мы вышли поздно, а над Колизеем уже висели звезды.
На Сицилии мне тоже довелось послушать чудесную музыку в церкви, вместе с необычным «чичероне», но это уже часть совершенно иной сказки, мало что имеющей общего с музыкой. Я ехал в Палермо по южной трассе, вдоль моря, и после ночлега в Агридженто, неподалеку от Монталлегро, у меня испортилась машина. Старший на станции AGIP заявил, что ремонт займет не менее суток, я же не мог ждать. Так что решил дальше ехать на автобусе. Забрал из автомобиля чемодан, фотоаппарат и книгу о раскопках, что лежала на заднем сиденье. И тут я услышал вопрос:
— Вы археолог?
— Нет. А почему вы спрашиваете?
— Потому что обычные туристы не возят столь специальных работ, — незнакомец внимательнее глянул на обложку, — к тому же, английских, изданных еще перед Первой войной.
— Я архитектор и историк искусств.
— Ну да, я мог и догадаться. Если вы не имеете ничего против, с удовольствием подвезу вас до Палермо, я как раз туда направляюсь.
— Буду только благодарен, я спешу.
— Да не за что. При случае, я смогу поговорить о том, что нас интересует. Вообще-то, я люблю ездить в одиночестве, но еще больше люблю беседовать об искусстве. С женщинами можно поговорить лишь о том, во что их одеть, а с мужчинами — как их раздеть. Поэтому никогда не подбираю людей, ездящих автостопом. Уже чрез минуту они угощают сигаретой и начинают травить анекдоты, а потом, уж до самого конца, про блядей.
— Вы не любите женщин?
— Совсем даже наоборот, я их обожаю, но только лишь когда они со мной одни. Разговаривать же предпочитаю об искусстве. Сам я археолог.
— И на кого вы работаете?
— Как это на кого? На себя.
— Я имел в виду институт, учреждение или нечто подобное. Ведь.
— Нет, нет, ничего подобного. Я независимый археолог.
В этот момент бак его «альфы-ромео» закончили поить бензином, и мы тронулись.
Он был молод, даже сорока не исполнилось, но старательно уложенные волосы уже были покрыты патиной элегантной седины. Лицо у него было коричневым и перепаханным морщинами, словно у старого моряка, руки обладали той же фактурой. Темные очки он не снял даже тогда, когда пустился дождь, и когда начали ритмично работать «дворники». Его последние слова я не понял. Что могло означать «независимый археолог»?
— Что означают ваши слова: «независимый археолог»?
— Просто, я независимый. Когда-то, когда я закончил институт, то работал в Риме на правительственную контору. Зарабатывал гроши, как и всякий археолог. Моя девушка не хотела так жить и нашла себе адвокатишку, который зарабатывал раз в двадцать больше, чем я. А потом я поумнел. Встретил приятеля, который копал самостоятельно. С тех пор уже копаю ни для кого чужого, сам продаю все, что найду. Если бы не это, сейчас бы шел пешком, а не ехал в машине.
— Признаюсь, я не слишком понял.
— Ничего особо сложного здесь нет. У меня имеется пять ребят, сейчас, правда, их четверо, потому что один приболел. Копаем мы ночью. Я плачу им процент от цены, которую получаю за объект. Вслепую не продаю, я не лавочник. У меня имеются постоянные клиенты в США, Швейцарии и ФРГ. Иногда приходится долго ждать, пока не согласую все мелочи и перевозку. С последним хуже всего. Греческую богиню полутораметровой высоты пришлось хранить год, прежде чем ее удалось вывезти.
Он говорил очень экономно, скорее даже — бесстрастно сообщал, не модулируя голоса, и не отводя глаз от заливаемого дождевыми струями лобового стекла. И только затем я заметил, что он ни разу не улыбнулся. У моего водителя было каменное лицо, словно и вправду его изваяли резцом.
— Вы же поступаете незаконно, это обычная кража.
Эти слова не произвели на нем какого-либо впечатления, он даже не повысил голос.
— Нет, приятель. Я не ворую картин из храмов.
— Не вижу разницы.
— Тогда это значит, что вы слепы. Я не ворую, а всего лишь извлекаю из земли то, что оставили там мои предки. И, благодаря этому, живу как человек, а не как нищий. Бедность мне знакома, и я ее ненавижу. Честное слово, приятель, я знаю такие места в Кампании и здесь, на Сицилии, где достаточно сунуть палец в землю и можно обнаружить этрусскую статуэтку или греческую брошь.
— Вы говорили, что любите искусство!
— Потому что люблю, люблю больше, чем какую-либо бабу.
— Но ради денег вы оголяете свою страну от шедевров. Предполагаю, что вы богаты, но ведь не покончили с этим делом.
— Это правда. Когда-то я делал это исключительно ради денег, а теперь исключительно из спортивного интереса. Опять же, реже. Знакомо ли вам то чувство, когда земля открывает вам нечто ценное, чтобы вернуть это вам? Я никогда не охотился, но нечто подобное должен испытывать охотник, когда попадет в цель.
— Вы — итальянец, и обворовываете свою страну.
— Мы ведь уже определили, что не обворовываю, так что давайте придерживаться соответствующих слов. И я вовсе не итальянец, хотя родился здесь, не европеец и не азиат, приятель. Я — гражданин мира. Это не я устанавливал границы, не я занимался работорговлей или же ликвидировал рабство; не я делил и объединял народы и расы, не я придумал названия стран, барьеры для людей и различные религии. Все это отвратительно. Вроде бы мы и братья, но травим газами в Аушвицах и забрасываем бомбами во имя тех бесстыдных линий на карте, которые оскорбляют человечность. Все мы происходим от одной обезьяны, сотворенной единым Богом. И сколько мы себя не помним — существуют границы, вот мы и поверили, будто бы они были вечно. Но ведь это неправда, и вы об этом знаете. Впоследствии мы выдумали героизм ради защиты этих границ. Какая чушь — защищать можно лишь человеческое достоинство, а защищать границы — это защищать ложь. Вы же знаете все те.
— Я знаю, а вы — нет! — резко перебил я его.
— Дааа? И чего же такого я не знаю, а вы — знаете? Скажите, будьте добры.
— Историю, причем, свежую. Мой отец в 1939 году защищал те линии, те черточки, на которые вам плевать! Быть может, с философской, более того, с гуманитарной точки зрения вы, в чем-то, и правы, только это правота фут урологическая. А мой отец, защищая в 1939 году границы Польши, защищал собственное достоинство. Наше достоинство. Ваше — тоже!
Долгое время он молчал, так что слышен был писк плохо отрегулированного «дворника» и стук дождевых капель. Затем он заговорил:
— Вы меня неверно поняли. Сражение против агрессора — это очевидная необходимость, тем более, когда народу грозит уничтожение. Я не это имел в виду. Я хотел сказать, что не должно быть границ между людьми, не должно бть никакого деления вдоль и поперек, не должно быть нападений и защит. Знаю, что это утопия… пока что. Вы слышали о таком городе, который строят почитатели Шри Ауробиндо в Индии, неподалеку от Пондишери?
— Ауровилль.
— Именно. Они съехались туда со всего света, у них различный цвет кожи, и они хотят жить совместно, в новой системе, нет… как бы это назвать…
— В новом Завете.
— Да! Они желают построить общество, свободное от лжи, ненависти, мерзости и от разделения на лучших и худших. Все станут лучшими, ибо целью, которую дал им Ауробиндо, является глубинная эволюция человека, совершенство тела и разума. Вы верите, что им удастся?
— Нет.
— Почему же — нет?
— Потому что они — люди, и окружены людьми. Христос тоже дал людям шанс, которым те не воспользовались. Улучшать тело и чувства легко, это может любой йог. А вот реформировать Систему — сложно. Перед тем следовало бы ее уничтожить. Возможно, такое удастся внукам их внуков, если только все очередные поколения будут воспитываться в том же духе. Эти же, из Ауровилля, раньше или позднее, разделятся на касты, из «лучших» выделятся «самые лучше», и город превратится точно в такой же ад, как и всякий людской улей. В такие революции я не верю. На первый взгляд, они переворачивают Систему, Завет, на самом же деле — дают себе лишь мгновение сектантской иллюзии. Это икотка истории, с каждым поколением — одно и то же, полет Икара. Вы этого не знаете?
Снова он долго молчал.
— Знаю. Потому и не поехал туда, хотя меня много раз и тянуло. Но, повторяю вам — для меня границы не существуют, я не признаю их. Я ничего не продаю сволочам, но людям, таким же, как вы и я, разве что они побогаче, чем наши, так называемые «меценаты искусств», так что они могут обеспечить этому искусству необходимую опеку и реставрацию. Я занимаюсь этим, как раз, из любви к искусству, и мне плевать, верите вы в это или нет. Если бы мы передали американцам управление над нашими раскопками и реставраторскими работами, то на этом полуострове сохранилось бы в тысячу раз больше памятников истории и искусства, чем их сохранится до 2000 года. Недавно по телевизору показывали визит какого-то государственного мужа в Белом Доме, и камера скользнула по этрусской статуэтке, которая стоит там. Я испытывал истинное удовлетворение, потому что это именно я пару лет назад продал эту фигурку в США.
Я молчал.
— Так вы поняли, приятель?
— Да.
— Вы верите мне?
— Нет.
— Дело ваше.
— А вы бы поверили, если бы незнакомец начал признаваться вам в преступлении? Слишком большой риск.
— Абсолютно никакого.
— Вы не боитесь властей?
— Здесь, на острове, власть — это мы.
— Мы, это кто?
Он не ответил.
— И вы не опасаетесь того, что я мог бы вас обвинить? Я же могу пойти в полицию.
Тут он повернулся ко мне лицом и впервые усмехнулся — странной, мертвой судорогой — открывая два ряда безупречно белых зубов.
— И не думай об этом, приятель. Плохо бы сделал. Для себя — плохо.
В его тоне не было угрозы, скорее уже — снисходительность, но я чувствовал себя так, словно меня огрели дубинкой. Чуть позже он прибавил:
— Сегодня не стоит быть делятором, это не выгодно, оно приносит только неприятности и неодобрение.
Очень мудро он ударил. Деляторство — доносительство, которое во времена императора Тиберия стало обязанностью, санкционированной законом и весьма выгодной. Это не проституция, как говорится повсюду, а именно оно было древнейшей в мире профессией. Тацит писал о людях, называемых «delatores»: «Наибольший разбойник мог оскорблять и обвинять честных людей, лишь только брал изображение цезаря в руку. Опасались даже рабов и вольноотпущенников. Награды доносчикам были не менее ненавистны, чем их преступления: одни из них, добравшись, словно до добычи, до жреческих и консульских должностей, другие, добившись положения прокураторов и влияния при дворе, мутили и низвергали все, сея страх и ненависть». Только лишь Траян приструнил деляторов и укротил позорное занятие.
Постепенно небо прояснилось. Мы проехали Менфи, как вдруг он свернул с шоссе влево, к морю, говоря:
— Я покажу вам кое-что, что, возможно, изменит приговоры, которыми вы так легко разбрасываетесь.
Через несколько минут мы добрались до Селинунт, греческой колонии, основанной в 625 году до нашей эры и разрушенной руками карфагенян через неполные четыреста лет. Мы остановились перед много колонным дорическим храмом, импозантным и прекрасным, но ведь всего лишь одним из многих точно таких же античных храмов этой земли. Я спросил, что здесь такого уже необычного. Тогда он показал мне снимок, на котором была изображена лишь куча развалин, куски колонн и балок в бесформенной мешанине, похожей на огромный термитник.
— Здесь изображен тот же самый храм Геры, только, каким он был несколько лет назад. Мусорник, свалка. Из этих валявшихся в куче фрагментов был заново собран практически весь храм. Ему возвратили величие, что присутствовало здесь две с половиной тысячи лет назад. Другими словами: оживили труп. Я был среди инициаторов этой операции, и в этих камнях есть и мои деньги. Я забираю их у этой земли, но иногда и возвращаю. Я и вправду люблю искусство.
Селинунт. Храм Е (Храм Геры)
Это была самая прекрасная анастилоса, которую я когда-либо видел в Италии. Термин «анастилоса» — то есть, составление, повторная композиция исторических памятников из тех же оригинальных фрагментов, из которых те состояли перед разрушением — происходит от греческого слова «anastilosis» (возведение), образованного двумя корнями: «ana» (вверх) и «stilos» (столб, колонна). Я уже видел анастилосы в Риме, Остии, Помпее, Геркулануме, Фесте и Вероне, а на Сицилии, буквально несколько часов назад — в Агридженто. Но ни одна из них не восхитила меня столь же сильно, как этот храм, наново склеенный из собственных костей. Это и вправду было чем-то необычным, как необычным был и этот человек. Я его осуждал, но, тем не менее, начинал понимать. Он вызывал гнев, это правда, но и уважение. Зло и добро смешиваются в каждом из нас, точно так же, как мудрость и глупость. Все это варится, словно в дьявольском котле, и формирует наше внутреннее «я». И от этого не убежать.
В Палермо мы приехали вечером. После ужина он взял меня на органный концерт в церкви. Я заслушался без остатка и погрузился в собственном мире. Последний аккорд вырвал меня из этого колдовского состояния, и тогда я увидел, что кресло рядом с моим опустело. Больше я уже никогда его не видел.
14. Тень великого мага
«Жажда бессмертия — самое сильное из всех желаний».
Оливье Патру «Речь в защиту».
«Наши знания и восприимчивость наших чувств до смешного малы. В нас дремлют какие-то, еще не открытые, но всего лишь предполагаемые чувства, впечатления и силы, которые, когда они разовьются, позволят нам видеть тысячи проявлений, по отношению к которым мы пока что слепы. И вот тогда-то границы знания многократно расширятся».
Алессандро Калиостро.
Палермо, античная база карфагенян, которую римлянке захватили в 253 году до нашей эры, сегодня сделался базой бессмертной мафии, которую Рим не способен усмирить, несмотря на многолетние усилия. Город чудесно расположен внутри горного театра, названного Conca d'Oro (Золотая Раковина); его основание обмывают морские волны.
В Палермо я не изменил себе. У каждого из моих зачарованных островов имеется какой-то элемент или целый космос тайны. У этого острова — тоже.
Палермо насыщено архитектурой искусством эпохи арабов и норманнов, дворцами, храмами, площадями, улицами, камнями и зернами песка, более древними, чем самые старые здания. Я посещал все это, спасался от сорокоградусного солнца в прохладе нартексов, крытых переходов, портиков и комнат, и вдыхал красоту, которую обязан был вдыхать в соответствии с положениями всезнающих «Путеводителей по Палермо» и «Guides de Sicile»[42]. Но больше всего я разыскивал одного человека, который никогда не переставал увлекать, беспокоить и раздражать людские умы, и который до нынешнего дня считается одной из самых таинственных фигур, которые когда-либо появлялись на Земле. Я истоптал улочки старинного квартала Калса, расспрашивая: не знаете ли вы Джузеппе Бальзамо? Я просверливал глаза закутанных в черные платки женщин, что сидели на порогах домов, и мой взгляд спрашивал: слышали ли вы про Джузеппе Бальзамо? Стены и лиц женщин, похожие друг на друга, замшелые и потрескавшиеся — молчали.
Все, что сегодня мы знаем об этом человеке, совершенно ненадежно, окутано туманом тайны, гипотетично. Увлеченный его фигурой Гете, требовавший: «Света, больше света!», решил, что именно он осветит этот мрак. Для этого он отправился в столицу Сицилии и, уже позднее, с удивительным для создателя «Страданий молодого Вертера» рациональным скептицизмом, нарисовал портрет графа Алессандро Калиостро, пользуясь исключительно темной палитрой красок. Это именно он выявил, что на самом деле Калиостро звался Джузеппе Бальзамо, и что он был родившимся в 1743 году сыном местного купца, а затем монахом, фельдшером, лекарем, вором и фальшивомонетчиком, и, наконец — верховным магом, которому помогала мутить наивных людей его жена — красавица, дочка торговца краденым, Лоренца Феличиани (она же, Серафина Феличчиани). По словам Гете — когда Калиостро посадили в тюрьму в Палермо за кражу шестидесяти унций золота и подделку документов, касающихся земельных владений, Лоренца соблазнила сына одного из великих сицилийских герцогов и сделала так, что одуревший вьюнош побеспокоил президента палестры, вынудив го освободить шарлатана. Это говорит Гете. Но через сотню с лишним лет позднее, увлеченный той же самой страстью доктор Марк Хавен, известный калиостролог, назвал открытия поэта, которые уже успели окаменеть в энциклопедиях, поэтической сказкой, и он утверждал, что мы ничего не знаем, поскольку у нас нет каких-либо достоверных доказательств.
Так кем же он был? Сицилийцем или португальским евреем? Сыном богача с Кипра или братом самоубийцы Занновича, называемого князем Албании? А может, как он сам утверждал — внебрачным сыном Великого Магистра Мальтийского Ордена, Эммануэля дель Пинто, и княжны Трапезунта? Эта последняя версия когда-то была на устах всей Франции, тем не менее, посольство Мальты в Париже никогда от нее не открестилось. Сам Калиостро, хотя сам эту ж версию и сотворил, быстро от нее отказался, со всей серьезностью заявляя, что родился перед Потопом, и что он бессмертен. Как-то раз, когда его сопровождало много людей, он спросил у своего слуги:
— Был ли ты со мной на свадьбе в Кане Галилейской, вместе с Иисусом Христом?
— Нет, мой господин, — ответил тот, — ведь я служу вам всего лишь полторы тысячи лет.
Он проехал практически по всей Европе, побывал в Африке и Азии. Жил в Греции, Египте, Аравии, Персии, Германии, Англии, Франции, Португалии, России и Польше, на Мальте и на Родосе. На Мальте ученый Альтотас ознакомил его с тайнами химии, а в Германии шарлатан Шрёдер, которого впоследствии называли «немецким Калиостро», обучил множеству магических трюков. «Граф Калиостро» — это не было единственным титулом или именем, которыми этот человек бесправно пользовался. Он представлялся так же в качестве графа Феникса, графа Харата, маркиза д'Анна, маркиза Пеллегрини или попросту — Тишио, Мелина или Бельмонте. Он эпатировал современников воскрешением мертвых, призванием духов, лечением неизлечимо больных, размягчением мрамора, увеличением бриллиантов, трансмутацией неблагородных металлов в золото и другими колдовскими занятиями. Всю жизнь он разыскивал древо жизни, эликсир молодости и секрет философского камня (все это входило в обязательный репертуар тогдашних кабалистов и алхимиков). Многим людям он предсказал их судьбы, в чем можно сомневаться, но не следует сомневаться в том, что он предсказал разрушение Бастилии (сдеал он это в 1786 году, в присутствии множества свидетелей, с помощью медиума, девочки по имени Пупилла). Правда, революцию предсказывали Шамфорт, Казотт, Вольтер, Руссо и другие, которые не претендовали на звание ясновидящих.
Будучи наиболее известным из знаменитых «chevaliers d'industrie» своего времени (Сен-Жермен, Казанова и другие), он был еще и обладающим значением масоном. К этому времени, масонство, в особенности, в своих высших степенях (розенкрейцеры), было охвачено манией тайных наук и переживало время бума. По некоторым оценкам, в 1740–1790 годах в мире существовало сто тридцать семь тысяч масонских лож, членами в которых были почти двадцать миллионов человек. Авантюрист покроя Калиостро не мог остаться безразличным в отношении подобной силы. Уже в 1770 году он вступил в ряды розенкрейцеров, а потом устанавливал все более тесные контакты с различными ответвлениями масонов. После смерти верховного мага, масоны XIX и ХХ веков открещивались от него, утверждая, будто бы он в их рядах был самозванцем, но когда жил, все европейские ложи, которые он посещал, принимали его с большим почетом.
Желая реализовать свою мечту о реформировании и объединении лишенного единого духовного руководства масонства, «его очищении и направлении к свету», Калиостро создал — в качестве исходной базы для достижения цели — масонство собственного обряда. Источником для него стала найденная в Лондоне рукопись Джорджа Костона, открывающая магические и оккультные тайны древнего Египта. Свое масонство граф назвал Египетским, самого же себя именовал Великим Коптом. В соответствии с разработанным им самим кодексом — целью Египетского масонства было «физическое и моральное возрождение человека, так, чтобы он вернулся в стояние до первородного греха». Физическое возрождение давал философский камень и жезл из акации, имеющий силу райского древа жизни, а моральное возрождение вызывалось пентаграммой, возвращающей ангельскую невинность. Эти великие тайны, открытые Илией и Енохом, были сохранены благодаря египетским мудрецам. Стоит прибавить, что Калиостро революционизировал масонство, вводя в него женщин, которым ранее это было запрещено. Конкретно же, он создал женскую ложу (Изида) египетского масонства, Великой Мастерицей которой, естественно, стала его жена (в качестве Серафины — царицы Савской).
После основания первой египетской ложи в Митаве (1799 год), Великий Копт отправился в Петербург, где установил связь с Великим Мастером российского масонства, Елагиным. Но через несколько месяцев ему пришлось покинуть столицу России по варшавскому тракту. По двум причинам: фаворит Потемкин слишком уж горячо, по мнению ревнивой царицы, обхаживал супругу «чудотворца», в результате чего чета Калиостро получила приказ выехать из Петербурга. Это во-первых. А во-вторых — графа давно уже упрашивал приехать на берега Вислы великий коронный подскарбий, Адам Понинский, масон, известный повсюду (и не в одной только Польше) исключительной никчемностью, опять же известный вор общественных и личных денежных средств. Понинский к этому времени переживал финансовый кризис и мечтал, будто бы чудотворец произведет для него в своей реторте много-много золота.
Прибыв в Варшаву в ауре гениального алхимика, Калиостро попал на исключительно податливую почву. Угроза банкротства заставляла некоторых богачей-масонов искать спасение в алхимии, тем более, что из-за границы приходили самые сенсационные сообщения о производстве золота из самых банальных материалов. Меха поддерживали огонь в «атанорах» (алхимических печах), упомянутые вести из-за границы подпитывали мечтания, и так и крутилось это безумно колесо, регулярно захватывая даже королевский двор. Вот только, что реторты даже самых опытных алхимиков — Кортума, Хольцхаузера, де Сальверта, Казимира Понятовского, Мочиньского и других — не хотели давать золота. И как раз в это время в варшавских салонах появился Калиостро.
Пониньский разместил синьора графа и его возбуждающую всеобщее восхищение супругу во дворце на улице Вербовой, где Кали остро провел несколько рекламных демонстраций своей «сверхъестественной» силы. Его коронным номером был сеанс с «голубицей», которой могла быть особа безукоризненно чистого поведения, следовательно — это мог быть только ребенок. Вводимый магом в транс медиум (восьмилетняя дочка служанки-француженки) безошибочно описывал неизвестное девочке место, которое перед тем граф указал зрителям. Еще сильнее изумил зрителей феномен «повторной материализации». Листок с автографами присутствующих Кали остро сжег у них на глазах, а потом вскрыл пакет, который держала «голубица» и который был покрыт кабалистическими печатями, и в котором лежал тот самый листок. Не все наблюдающие эти «чудеса» гости нервно царапали ногтями подлокотники кресел. С губ одного из них не сходила скептическая, слегка насмешливая улыбка. Но это был единственный в комнате, исключая Кали остро, «посвященный» — Великий Мастер польских масонов и наиболее выдающийся алхимик Жечи Посполитой, граф Фредерик Август Мошиньский, который прекрасно знал тайны подобного рода сеансов, и который знал, что трюк с «материализацией» способен выполнить любой ловкий иллюзионист.
Но главной целью визита не были колдовские сеансы, а производство золота. 7 июня 1780 года мастер приступил к работе, располагая специально приготовленной для него лабораторией на Воле[43]. В течение шести недель помещенный вовнутрь ал химического яйца меркурий (ртуть), посыпаемый таинственным красным порошком из «pierre lumineuse»[44], должен был трансмутировать в серебро, а затем — в золото. Пониньский дал Калиостро в помощь (а точнее, ради контроля) Мошиньского, что вызвало страшное раздражение чудотворца. Пришелец терпеть не мог, когда ему глядели через плечо, а Мошиньский следил тщательно, очень даже тщательно. Вскоре между ними вспыхнули скандалы. Мошиньский нашел в ал химическом яйце Калиостро, лавровый лист. Великий Копт был взбешен и обвинил в этом неуспехе контролера, назвав его «святотатственным чудовищем». Когда, наконец, серебряный этап закончился успехом, и когда уже собрались начать золотой финал, случайно стало известным, что серебро, обнаруженное внутри яйца, предварительно… было куплено Калиостро в Варшаве, а меркурий, благодаря которому серебро должно было образоваться, вместе с тиглем валяется в садовых зарослях. 26 июня Великий Копт покинул дворец на Воле, а на следующий день (тоже втихую) — Варшаву, мчасть в сторону западной границы[45]. Добычу он вывозил неплохую — некоторые предполагали, что она составляла от восьми до десяти тысяч дукатов. Торжествующий же Мошиньский издал (1786, анонимно, по-французски) брошюру под названием «Калиостро, демаскированный в Варшаве». Но тот же самый Мошиньский, подчиняясь какой-то удивительному, квази-мазохистскому влечению, ездил по всей Европе за Калиостро, выслеживая его, поливая грязью и в то же самое время — обожествляя. Неисповедимы меандры человеческой психики, в которой любовь превращается в ненависть и наоборот.
Несколько последующих, после польского приключения, лет — это период основных успехов мага. Страсбург, Лион, Париж — повсюду он вращался в самых лучших компаниях, окутанный вуалью таинственности и обожанием своих почитателей. Только фортуна — та еще куртизанка, и для Калиостро так же не было исключений из этого правила. По причине интриг фальшивой графини Ла Мотт-Валуа и кардинала де Рогана наш герой впутался в знаменитую аферу с ожерельем королевы[46], в результате чего его, вместе с женой, поместили в Бастилию. Рассерженное общественное мнение ему, правда, удалось подкупить необычно умным и наполненным юмором мемориалом в собственную защиту, так что через несколько месяцев заключения суд возвратил ему свободу, но при этом ему было приказано незамедлительно покинуть Париж. Он выехал в Англию; в Кале его провожали тысячи людей.
В 1789 году Великий Копт прибыл в Рим, чтобы свое Египетское Масонство возложить у ног папы римского (многие ритуалы взят из церковных обрядов), тем самым, придав ему мировое значение. Но в Вечном Городе его нагнала инквизиция. Обвиненный в ереси и распространении практик иллюминатор, после пыток Калиостро был приговорен к смерти. В апреле 1791 года Калиостро, стоящему на коленях перед папой и прикрывшему голову черным полотном, прочитали приговор, который Пий VI милостиво заменил на пожизненное заключение (Лоренцо пожизненно поместили в монастырь).
Этот мой остров, равно как и несколько иных посреди итальянской земли, словно мост, растянутый между двумя плацдармами. Первым было Палермо, а вторым — Сан Лео[47]. Когда через Сардинию я вернулся на голенище итальянского сапога, то про Калиостро не забыл, и двумя месяцами позднее вынюхал его след в Марии, в провинции Пестро-Урбино. Именно там, к юго-западу от Сан Марино, раскинулась гористая местность Монтефельтро, сердцевину которой образует горная крепость Сан Лео. Немного в Италии имеется мест столь же демонических, как эта скала, что вызвано ее демонической красотой и мрачной легендой, королем которой сделали Калиостро.
Туда я ехал на автобусе, который карабкался по шоссе, вьющемся среди холмов, пока не добрался до Сан Лео. Два конца скалы различаются по высоте. На том полюсе, что пониже, располагается маленький городок Сан Лео, история которого тонет во мраке, достигающем времен правления готов, и который, поочередно, называли: Монтефельтро, Фельтрия, Сан Леоне ди Монте Фератро (XII век), Монте Феличиано и Сан Лео. Сейчас здесь стареют всего три сотни жителей и несколько ценных памятников, в том числе — собор с романской внешностью и готическим интерьером. Второй полюс, на вознесенном на целых шестьсот тридцать девять метров над уровнем моря мысу, образует крепость Сан Лео, построенная в средние века, а затем увеличенная по приказу Федериго да Монтефельтро фортификационным гением Ренессанса, Франченско ди Джиорджио Мартини, который, среди прочего, подарил ей две замечательные, соединенные ангулом бастейи («fom'on»).
Тот самый храм в Сан Лео, романский снаружи и готический изнутри
Крепость считалась одной из основных твердынь Италии, а Макиавелли писал о ней, что это произведение искусства. Она и вправду была таким чудом. Черной же легендой она обросла, когда папство превратило крепость в тюрьму. Здешние люди шептал на своем странном наречии: «Un soi Pepa, un soi De — in soi Fort d'San Le», что означает: «Один — папа римский, один — Господь Бог, и одна лишь крепость — Сан Лео».
Внутри крепостных стен располагается замковая резиденция. Турист может осмотреть две небольшие коллекции оружия и микроскопическую пинакотеку, включающую «Christo Morto» из школы Мантеньи. Другой «Мертвый Христос» Мантеньи впоследствии породил мой остров в Милане, но там, в Сан Лео, меня интересовал только Калиостро. По лестнице, под готическим сводом, я поднялся в самую древнюю часть крепости, на маленький дворик. В замковом крыле с левой стороны двора находятся две камеры. Та, где сидел Орсини[48], мне была безразлична. Та, где сидел Калиостро — нет.
Она маленькая и холодная, поэтому ее называли «pozzetto» — маленький колодец. В этом колодце фальшивый граф Алессандро Калиостро по приговору папы прожил четыре года, четыре месяца и четыре дня. Ритм воистину кабалистический. Утром 26 августа 1795 года человек, утверждавший, будто бы он бессмертен («Я тот, кто есть») — перестал существовать. Похоронили его, якобы, в чистом поле, неподалеку от крепости, без сопровождения священника.
Камера Калиостро — в ней всегда можно увидеть живые цветы…[49]
Официально Калиостро умер от приступа апоплексии, только доктор Хавен утверждает, будто бы он был убит руками пособников инквизиции, что вовсе не исключено. Легенда, распространяемая почитателями Великого Копта говорила о том, что он выпросил у тюремных властей исповедника, после чего задушил священника и, благодаря его сутане (или же на масонском воздушном шаре) удрал, после чего осел в Америке. Когда 7 декабря 1797 года легионы генерала Домбровского захватили Сан Лео после двухчасового штурма, генерал, якобы, расспрашивал про Калиостро. Офицер Джевецкий посетил тогда камеру мага и описал это в своих воспоминаниях. На стенах было полно непонятных ему кабалистических рисунков, в том числе, наверняка, и пробитый стрелой змей с яблоком во рту, увенчанный тайной цифрой — знак Калиостро.
Этого таинственного человека историография признала шарлатаном. Правильно ли это? Частично. Определенные его показы (к примеру, алхимические), несомненно, были шарлатанством; другие же (например, лечение руками или же «хилерство», а так же введение медиумов в транс) были результатом его биологических (терапевтических) и гипнотических способностей. Хотя, даже с алхимией не все завершено. Почти две сотни лет считалось, будто бы знаменитые «чудеса» Калиостро или Сен-Жермена, представляющие собой увеличение объема драгоценных камней (Сен-Жермен настолько увеличил бриллиант Людовика XV, что камень удвоил свою стоимость) — это фокусы высочайшего класса. Тем временем, в последней четверти ХХ века британским ученым в Оксфорде удалось увеличить алмазы, бомбардируя их атомами углерода…
Калиостро был, вероятно, замечательным телепатическим медиумом. Сейчас нам уже известно, что человеческий мозг высылает различного вида волны. Так же мы знаем, что человек все еще не способен комплексно применять свой мозг, например, работать каждым полушарием мозга раздельно, в одно и то же время. Современная нейрофизиология установила, что мы используем всего лишь несколько процентов наших серых клеток, о чем Калиостро прекрасно знал еще двести лет назад (см. эпиграф). Нейрофизиологи предполагают, что одним из исключений был Наполеон, который определенные умственные действия реализовал параллельно (например, он диктовал несколько писем одновременно), что говорит о том, что, скорее всего, полушария его мозга действовали независимо одно от другого. Современный энцефалограф, предполагая, что нам еще не известны все тайны и возможности клеток, прикрытых шлемом черепа, одновременно доказывает, что издеваться над Калиостро было бы поступком, говорящим о невоспитанности.
15. Храм автострады Солнца
«Задание архитектора заключается в возведении красивых зданий. И это все».
Филипп Джонсон.
«Оригинальные произведения архитектуры, несущие явный знак индивидуальности, сегодня стали такой же самой редкостью, как и искусные изделия кузнечного ремесла».
Ганс Нерт.
Итальянская Autostrada del Sole, самая длинная европейская дорога, на которой для автомобильного движения нет никаких помех, это одна из самых замечательных и прекрасных инвестиций подобного типа в мире. Лишь немногие автострады по обеим сторонам Атлантики способны конкурировать с этой королевой каменных рек, которая пересекла весь сапог Италии, соединяя Тарвизио на австрийской границе с Мессинским проливом. Стоило это дорого, очень дорого — в денежном выражении, в общественно-политическом смысле (транспаранты демонстрантов: «Стройте больницы и дома для престарелых, а не автострады!») и в людях. Река, которая с ревом пробивает себе новое русло, всегда поглощает человеческие жизни. Итальянский монополист в деле дорожного строительства, общество «Autostrade», сделало много для обеспечения безопасности работающих, тем не менее, без несчастных случаев не обошлось. В ходе прокладки бетонной ленты через долины (десятки колоссальных виадуков) и горы (тоннели, тоннели) погибло много рабочих и членов технических групп, быть может, даже слишком много. И это заставляет удивиться, не правда ли?
Когда зимой 1812 года сотня польских и французских саперов генерала Эбле, стоя по грудь в воде, среди плывущего льда, спасла остатки Великой Армии, перебрасывая, благодаря многочасовому тяжелому труду, два моста чрез Березину — восемьдесят восемь человек, включая командира, заплатили за этот героизм жизнью, и это было нормально, поскольку была война и поскольку стояла зима. Но когда в ХХ веке, во времена благословенного мира, десятки работников гибнут во время наведения мостов между солнечными холмами — это уже никак не нормально. И тут же в голову лезут настырные сравнения — урагана войны с бурей технического прогресса, танка с бульдозером. Где тут разница? Я знаю — эти сравнения достаточно примитивны, сам вопрос отдает демагогией. Тем не менее, матерью их является не жонглирование пустыми словами, а слезы женщин, потерявших своих мужей и любимых на этом пути. Так что будет лучше не судить о словах, поскольку это слов, взятые из эпитафий. (Будущих историков наверняка удивит или даже шокирует факт, что нынешние поколения потрясены миллионами жертв двух мировых войн, а вот миллионы жертв автомобильного движения проходят как-то незаметно).
В честь тех, кто отдал свои жизни Автостраде Солнца, компания «Autostrade» поставила памятник. Это должен был быть громадный памятник, больший чем те, что ставят солдатам, ибо цена человеческой жизни в мирное время увеличивается непомерно. И вот так, на обочине автострады, под Флоренцией, вырос храм-памятник: Церковь Автострады Солнца (Chiesa dell' Autostrada del Sole). Увидеть его — это означает понять, что это второй, после часовни в Рошамп, возведенной Корбюзье, самый великолепный пример современной сакральной архитектуры Европы. В качестве символа религиозного строительства наших времен, он простоит века, возможно, даже те столетия, в ходе которых уже не останется следа от последнего камня.
Эту церковь знают специалисты, но вот туристы et consortes не имеют о ней понятия. Это вовсе не означает, что они ее не видят. Ее видят все, ибо, направляясь в Флоренцию, нельзя не проехать рядом, а кто же из записных бродяг способен пропустить Флоренцию? Только они не хотят знакомиться с этим храмом, поскольку у него имеется один отвращающий дефект: он новый, совершенно новый. Он не является «памятником», а жующие резинку стада валят в Италию, чтобы осматривать памятники искусства и старины, и памятников здесь такое изобилие, что не хватит жизни, чтобы на каждом из них выцарапать собственное имя и пробитое стрелой сердце, так что есть ли смысл выцарапывать в новом камне? Это сделают внуки наших внуков, когда этот камень покроется патиной.
Тем не менее, это памятник, вопреки глупости и вопреки законам времени. Итальянцы великие произведения искусства определяют именем «monumento» (памятник), неважно, то ли ему тысяча лет, то ли всего тысяча дней. В этом заключена великая истина. Принципиальная разница между строительством и живописью, скульптурой, литературой и музыкой не заключается в трехмерности, параметрах или выразительных средствах, но в том, что строительство никогда ожидает годами своего открытия. Искусство строительства не знает Модильяни и Нор видов — красота Парфенона, Тадж Махала, готических соборов и виляновского дворца не было замечено через века: архитектура получает лавры немедленно, от собственного поколения, или же не получает его никогда, и правило это настолько сильно, что не существует даже воспетых пословицей исключений, которые могли бы это правило подтвердить. В момент получения лавров — здание автоматически становится памятником, ибо, вопреки утверждениям всех на свете энциклопедий, памятник — это не означает красивый и покрытый патиной времени, но просто красивый, настолько прекрасный, что его следует сохранять для будущих поколений словно наибольшую святыню. В соответствии с этим правилом, Chiesa dell' Autostrada del Sole является одним из замечательных памятников Италии. Мне жалко тех, которые, направляясь во Флоренцию, не притормозили у берегов этого острова.
По вопросу проектирования нового храма, общество «Autostrade» обратилось к великому мастеру европейской архитектуры, Микелуччи, автору знаменитых памятников эпохи фашизма и великолепных храмов в Ларделло (1956) и Виладжио Бельведере (1969). Джованни Микелуччи, родившийся в 1891 году в Пистои, несмотря на преклонный возраст, никогда не переставал быть «enfant terrible» итальянской архитектуры. Но это дитя было ведь гениальным. Когда в 1965 году (уже после реализации проекта Храма Автострады), в Болонье, на первом Национальном Конгрессе Сакральной Архитектуры, инициатор его проведения, кардинал Леркаро, сказал: «Необходимо обладать чудесной гибкостью и творческой „вечной молодостью“, чтобы творить произведения современные, и в то же время, несущие определенный заряд добрых традиций, воспринятых обществом» — во время разогревшейся впоследствии дискуссии, Микелуччи выкрикнул: «У кого из вас есть столько веры и сил, чтобы разрушить исторические стены наших городов, чтобы возвести там новые храмы?!» Сошедший с ума футурист? Этот человек и его слова далеки от стереотипов, и столь же далеки от банальности его произведения. Несмотря на возраст — возможно, только он один среди итальянцев сохранил ту вечную молодость, которая позволяет творить новые святилища, не обремененные духовной стерильностью и характерным униформизмом современной культовой архитектуры, и в то же самое время — в полном значении этих слов — современные и прекрасные.
Для архитектора, предложение строительства храма, принадлежащего королеве всех дорог, является тем же самым, чем для актера было бы предложение сыграть роль Гамлета в лондонской постановке, коронующей празднование шекспировского юбилея. Ведь умыслы многих творцов палит не гаснущее пламя мечты, чтобы реализовать объекта, входящего в круг строительства, который можно было бы назвать архитектурой дороги. Микелуччи предоставили шанс построить символ такой архитектуры на очень славной дороге.
Что же это такое — спросит кто-то — эта самая архитектура дороги? По чему можно ее распознать — по размещению, функции, конструкции, внешнему виду или по чему-то другому? Ответ на эти вопросы звучит так: ее распознают по признакам движения, заключенном в каждом из указанных выше элементов. Архитектура дороги — это одна из старейших, если не самая древняя архитектура на свете. Первобытный человек, перемещаясь с места на место, либо выбирал себя для ночлега пещеру, либо — когда подходящей пещеры или грота не находил — строил шалаш с помощью ветвей и шкур. Эти шалаши и были первыми объектами архитектуры дороги, представляющей собой строительство, нанизанное на трассы людских путешествий. Когда-то: на тракты, пустыни, безграничные степи и луга, дикие леса и скальные ущелья, а сегодня — на блестящие черно-серые ленты шоссе и автострад.
Великие, мучительные Одиссеи наших предков, паломничества людских мурашек в поисках новых земель — все эти гигантские переезды человека стимулировали явление архитектуры дороги, неразрывно связанной с движением, динамикой и сообщением. Таборные возы цыган и повозки бродячих комедиантов или циркачей были классическими примерами подвижной, мобильной версии такой архитектуры, поскольку, служа перемещающемуся человеку, они сами обладали способностью двигаться. Каменная и кирпичная архитектура дорог и тоже служит бродяге, только сама не может даже пошевелиться. Ее переносим ость имеет нематериальный характер, а в материализованной форме проявляется локализация объекта при коммуникационных полосах и его же функция, строго приспособленная к локализации. В подобной системе, объектом архитектуры дороги были когда — то: придорожная корчма, постоялый двор и часовенка у полевой тропки, сей час это, к примеру, мотель, а так же бензозаправочная станция, станция по обслуживанию автомобилей и церковь, выстроенная с мыслью не только о местных прихожанах, но и о проезжающих. Идеал здесь достигается тогда, когда коммуникационная локализация и функция сопровождаются: внешней формой (тело) и конструкцией, характерной для структур, служащих путешествию, таких, как, например, шатер, палатка.
Архитектура дороги. Стремление к бескрайним рубежам, бег, куда глаза глядят, и людское бродяжничество, динамическое перемещение по ниткам путей, и мрак, когда спишь под крышей извечной жилой структуры библейских кочевников, индейцев, азиатских народов и пастухов — под шатром? Шатер — прекрасный символ дороги, и вместе с тем, символ жилья человечества на дороге жизни. Ле Корбюзье прикрыл часовню в Роншамп ладьей, символизирующей Ноев ковчег или же лодку Петра. Микелуччи выбрал шатер, ибо динамизм только его формы мог гармонично содействовать с динамизмом автомобиля и самого пути. И вот художник спроектировал нагромождающиеся шатровые формы, придавая им сильнейшую динамику — пространственное движение. Только лишь после него американцы и канадцы освятили форму шатра в религиозном строительстве путем сотен реплик.
Компания «Autostrade», финансируя строительство этого храма, желала возвести памятник жертвам автострады и предоставить верующим автомобилистам возможность побеседовать с Богом на пути. Но Микелуччи решил, что силой своего художественного выражения, переданного в структуре, он остановит здесь любого водителя, даже если тот верит в черта. Это не могло удаться, поскольку есть люди, для которых красота не способна снять ноги с педали газа, зато он остановил, по крайней мере, тех, которые верят в высшую ценность искусства, и которые разделяют мнение Шатобриана: «Невозможно получить откровение через пароходы и железную дорогу — все это не цивилизация».
Значение и красоту Храма Автострады нельзя рассматривать в качестве «искусства ради искусства», то есть, в качестве эстетической ценности самой для себя, но как гениальный пример одного из двух направлений, которые в послевоенную четверть века доминировали в европейской и мировой сакральной архитектуре. Эти два направления — это холодный рационализм, подчиненный функциональности, и направление лирического ваяния и сплавления архитектуры с природой. Великолепным козырем второго направления была знаменитая часовня в Рошамп, содержащая буквально невероятный заряд творческой поэзии и пластики. Она, часовня, стала символом романтических поисков в строительстве и по праву заслуживала имя «прикладной скульптуры». Вторым шедевром, обладающим признаками скульптурного символа, является «сакральный шатер» Микелуччи.
Реализация «шатра» продолжалась около трех лет; в апреле 1964 года он был сдан в эксплуатацию. Так была укомплектована новая станция автострады Firenze-Nord, состоящая — помимо храма — из мотеля, офисного здания и других объектов, от которых произведение Микелуччи отгорожено лентой шоссе и зеленой зоной. Символику этой структуры легче всего заметить издали, с автострады. Тогда низкие боковые стены (известняк «fiordoro» предоставили каменоломни Сан Джулиано в Пизе) кажутся всего лишь цоколем для громадных плоскостей шатра, что штурмуют небо своими неортодоксальными формами.
Насчитывающий несколько тысяч квадратных метров интерьер «шатра» — живой, поскольку в нем всей силой воздействия структурных форм играет скелет конструкции, выставленный глазам зрителя, вырванный, словно бебехи из стен и прекрасный, благодаря самим пропорциям и формам. Столбы, балки, подтяжки и опоры из белого сардинского цемента очаровывают шероховатой, неподдельной наготой своей железобетонной фактуры, метаясь — именно таково первое впечатление — в конвульсиях, в самых удивительных сплетениях, навязанных им рукой инженера Ламбертини (консультанта Микелуччи по строительству), чтобы уже через мгновение открыть превосходную логику конструктивной системы, методику этого безумия. Отлитые с небывалой точностью столбы, которые иногда кажутся столярными изделиями, здесь просто необходимы, словно сплетенные у вершины шесты вигвама. Мягкие заломы бетона выглядят так, как будто бы их формировал удар топора — иллюзия, будто бы мы имеем дело с деревом, придает этому интерьеру больше тепла.
Интерьер Храма Автострады — это небольшой «город», наполненный делением на большие и меньшие пространства. Наряду с доминирующими: одним нефом (спроектированным в форме креста), нартексом и баптистерием с ведущей к нему галереей, здесь имеются и мелкие «пространственные ячейки». Результатом стала эластичность, свобода выбора для человека, углубляющегося в ограниченное стенами пространство. Здешняя архитектура поможет найти человеческую общность, но, в случае необходимости, даст ему возможность обнаружения одиночества, изолированного угла для размышлений. Многочисленные уровни, галереи, переходы, заломы стен дают впечатление, будто бы вся структура вибрирует, находится в постоянном напряжении и движении, одновременно ничего не теряя от величественного покоя. Чтобы понять гармонию этих кажущихся противоположностей, нужно войти вовнутрь храма. Динамическое пространство Микелуччи прикрыл динамичным же «полотнищем шатра» — вот и вся творческая последовательность.
Главный вход
Входя через бронзовые ворота Фаццини, мы попадаем вовнутрь храма, и этот интерьер, сам по себе произведение искусства, идеально гармонизирован с архитектурой. Это святилище является первоклассным примером правильного сотрудничества архитектора и художников со скульпторами при создании околдовывающего сакрального настроения. Выбор художников, которые декорировали объект был проведен Международным Институтом Литургического Искусства. Микелуччи нашел с ними общий язык — вот и все.
Второй нартекс разрезан пятью поперечными стенками, на которых размещены барельефы Грека и Крочетти. Они представляют святых покровителей десяти главных городов, через которые проходил «путь солнца» в момент строительства святыни — Амброзия (Милан), Юстины (Пьяченца), Хилария (Парма), Крисанто и Дарио (Реджио Эмилия), Джеминиано (Модена), Петрония (Болонья), Петра и Павла (Рим), Сильверо (Фрозиноне), архангела Михаила (Касерта) и Януария (Неаполь).
Над главным алтарем обращает внимание замечательный витраж Марчелло Ювенале (со святым Иоанном Крестителем), выстреливающий солнечные лучи в направлении мраморных плит пола и дальше, благодаря рефлексам. Барельефы (Вентури и Биджи), бронзовые фигуры (Перроне), мозаики (Монтарини) и огромное распятие Виварелли — все они, наивысшего класса, только не они производят апогей потрясающей задумчивости. Над небольшим алтарем балконной часовни на стене висит сердце, вырезанное Анджело Бьянчини. Только это не то сердечко с открыток, в форме треугольника с двумя закруглениями, а настоящее человеческое сердце — сочная, двух частная мышца, насос для крови и милосердия. Это правда, что наиболее гениальные изобретения отличаются простотой — Бьянчини понял, что салонное сердечко будет словно салонный стишок, живописный, но пустой, а изображение натурального сердца — это драма Шекспира, приковывающая к себе чувства, душу и совесть — в нем нет фальши украшательства, есть только боль. Для этого алтаря каменное сердце Бьянчини является распятием.
Другое очаровательное настроение, для меня — романское, я обнаружил в баптистерии в форме ротонды, где крестильная чаша — здоровенный шмат шведского гранита — прикрыта крышкой, украшенной барельефами Манфрини. Эти средневековые настроения, которые Микелуччи пробуждает с легкостью, отличающей руку великого художника, совместно творят романтизм его современной структуры. Истинная архитектура — это ваяние.
Микелуччи не признает стереотипов — об этом я уже говорил. Вот очередное доказательство: колокольня, по-итальянски «campanilla». Здесь же даже итальянцы должны писать это слово в кавычках, ибо звонница Храма Автострады является отрицанием типичной итальянской «кампаниллы», той характерной вертикали, что прокалывает облака. Колокольня Микелуччи — это выдвинутые над самой землей, горизонтально, бетонные опоры, между которыми висят колокола.
Я прощаюсь со своим зачарованным островом на Автостраде Солнца. Являясь сегодня примером авангардной строительной виртуозности ХХ века — когда-нибудь он станет для историков искусства тем же, чем сейчас для нас является базилика Сан Марко в Венеции, дворцовая часовня в Ахене, Айя София в Константинополе, церковь Святого Михаила в Хильдесхайме и другие шедевры, которые, словно драгоценная бижутерия, украшали развитие человеческой цивилизации. Я сравнил их с драгоценными камнями — возможно и несправедливо. Лучше сказать так: камни, обычные камни, только это камни, отмечающие путь.
16. Бергамская исповедальня
«Чтобы жить на этом свете, недостаточно быть честным»
Александр Дюма-отец в «Графе Монте-Кристо».
«Откровенность, идущая из самого сердца, показывает нас такими, какими мы есть. Откровенность — это любовь правды, это отвращение к надеванию масок, это желание покаяться в своих грехах и уменьшить их подобным признанием».
Франсуа де Ларошфуко «Размышления».
Из Тосканы нить Автострады Солнца идет к северу и достигает Ломбардии. Там, у подножия Бергамских Альп, на холмах расположилось живописное Бергамо, которое считается одним из самых старых городов северной Италии — он был основан на несколько веков раньше Рима. В кровавом миксере исторических событий Бергамот переходило из рук в руки столько раз, сколько можно ударить мячик во время теннисного матча. Им владели этруски, галлы, римлянке, Аларих и Аттила, остготы, лонгобарды, венгры, германские и франконские императоры, гибеллины и гвельфы[50], весьма долго — «царица Адриатики» Венеция, а потом — французы, австрийцы, и, видимо, сам черт. Господствующий со скалистого холма над Новым Бергамо остров Старого Бергамот переполнен памятниками культуры, истории и искусства словно тесный музей, который, не имея запасников, просто должен впихнуть все свои сокровища в немногочисленные залы. Истинная толкучка шедевров.
Если города обладают полом, то Бергамо — это женщина. Она такая же стройная и капризная, и настолько красивая, что помада рекламы была бы просто излишней. Ее тело, это большая прямоугольная площадь — Пьяцца Веккия; и сразу же над ним, отделенная всего лишь узеньким портиком, шея — Кафедральная Площадь; и, наконец, голова — базилика Санта Мария Маджиоре. Когда видишь на карте план центра старого города, эта форма кокетничает с тобой настолько убедительно, что не оставляет ни малейших сомнений.
Любая женщина, даже та, которая презирает пудру и румяна, жаждет иметь бижутерию. Шею бергамской красавицы украшает чудеснейшее колье с массой драгоценных камней, которые шлифовали многие поколения мужчин. Колье образует две полуокружности со стороны лица и спадает в направлении Пьяцца Веккиа. Пьяцца Веккиа — это Старая Площадь. Какая бестактность, это бесстыдное название. Женские тела проигрывают ходу времени, только сами они, женщины, возраста не имеют, они молоды, пока желают быть молодыми, а когда же они не хотят подобного? Их шеи не стареют, ибо, когда кожа утрачивает фактуру атласа, ее прикрывает блеск алмазов, или снежная белизна кружева, либо — самая благородная — льняная косынка.
Бергамо. Старая Площадь
А колье? Колье — это королевская ограда вокруг Соборной Площади, которую образуют: Палаццо делиа Раджионе (старая ратуша, называемая еще Старым Дворцом), ее башня со средневековыми часами, маленький баптистерий, возвышение базилики и ренессансная жемчужина Бергамо — Капелла Коллеоне. Именно она является наиболее ценным и наиболее мастерски оправленным бриллиантом и образует застежку этого колье.
Капелла Коллеоне
Баптистерий
Капелла является таковой только по названию и нынешней функции — когда-то это был мавзолей, который построил для себя знаменитый кондотьер из Бергамо, служивший Венецианской Республике. Более всего впечатляет изысканный фасад из полихромного мрамора всех цветов радуги. Не перегруженная декорациями, она производит обратное впечатление, словно взрываясь богатством, гейзером орнаментов, медальонов, статуэток и арабесок, умело гармонизированных и привлекающих точностью исполнения, достойной часового мастера. Коллеони не дождался завершения строительства — еще в 1476 году, через год после смерти заказчика, работы, проводимые замечательным скульптором и архитектором Амадео, все еще продолжались. И это не было случайностью, скорее, правилом судьбы. Строить себе катафалк при жизни, означает провоцировать белую даму на жатву. Смерть прибыла, совершенно не заботясь о завершении царственного «castrum doloris».
Мой бергамский остров наполнен женскими деталями, мягкими и теплыми, словно запах дерева. Деревянная исповедальня храма Санта Мария Маджиоре, самая прекрасная из всех, которые я когда-либо видел. Фантони чарами вызвал этот шедевр на свет в 1704 году, с которым никакая иная исповедальня стиля рококо или барокко не осмелится сравниться. Король исповедален позднего (почти что рококо) барокко — как это гордо и помпезно звучит — именно так я ее назвал, поскольку именно такой она для меня и останется.
Позднее барокко, наполненное амурчиками, застывших винных лоз и рождественской пышности — это стиль женский (хотя и менее женским, чем зрелое рококо) — многими считается несерьезным. Дама, что кокетничает слишком уж настырно, пробуждает насмешку. И сколько же насмешек уже стекло по растительно-мягким линиям искусства в стиле барокко-рококо, столь далекого от благородства романского стиля и стройности готики. Дело в том, что позднее барокко красиво лишь тогда, когда оно подобно изысканной, элегантной женщине, одетой в богатое, но стильное платье, украшенная со вкусом, который дает только инстинкт истинной женщины. Мужские черты только убивают это барокко с примесью рококо. С большим количеством украшений платье может быть восхитительным, а вот мужской костюм делается вульгарным, словно торс, покрытый сплошными татуировками. Рококо — это мужская куртизанка.
Нелегко оторвать взгляд от исповедальни Фантони. Исповедаться — это ведь означает не только открыть душу перед ксендзом-посредником, ибо открыть ее можно перед Богом в одиночестве, в лесу, который представляет собой самый прекрасный собор. Исповедь — это сломить свой внутренний стыд и показать носящему сутану человеку свою интимную грязь. Как же легко спрятать в карман свою личную, облепленную меленькими свинствами вредность, и бить себя в грудь втайне, и насколько трудно преодолеть себя и вытащить все наверх, в присутствии ближнего.
Оскар Уайльд писал («De Profundis»): «Самым возвышенным для человека моментом — в этом у меня нет ни малейших сомнений — это тот момент, когда он падает на колени, бьет себе в грудь и признается во всех грехах своей жизни». Вот только является ли исповедь доказательством истинной откровенности? (Тот же Уайльд писал «De Profundis» в тюремной камере, сломавшийся и униженный.) Неужели исповедь — это всего лишь потребность, акт веры или отчаяния, нечто обязующее, что с откровенностью и чистосердечием мало чего имеет общего? Что легче, вышептывать истины о себе в тишине исповедальни или же кричать правду о ближнем ему в лицо? Тем более, когда этот ближний твой начальник.
Чистосердечие в отношении самого себя — это обязанность, вид внутренней дисциплины, о которой Габриэль д'Аннунцио говорил, что это «наивысшая добродетель свободного человека».
Откровенность бывает роскошью, которую, иногда, могут себе позволить высшие сановники Системы, чтобы продемонстрировать величественное превосходство над чернью и над моралью — это самый первый случай. В 1933 году Гитлер совершенно откровенно орал слушателям, предсказывая разрыв нацистов с «мещанской моралью»: «У нас нет потребности идентифицировать себя с мещанскими представлениями о чести и репутации!». Они и не идентифицировали, творя различные вещи, в том числе, отравляя людей газом. Это, как раз и была, та «откровенность» знати, о которой говорил герой написанной писателем из Ганы, Армахом, книги «The Beautiful are not yet born» («Красивые еще не родились»), скромный железнодорожный чиновник, ведущий честную жизнь, вопреки собственному убеждению, будто бы «честность — это привилегия шутов и трусов».
Во втором случае мы имеем человека из толпы. Для него откровенность не является жестом — столь дорогостоящие жесты он не может себе позволить (Давид де Брюйес писал: «Какже легко быть честным и откровенным, когда ты богат. Бедняку быть честным намного труднее».). Когда кто-то раз подвигнется на честность в слое или поступке — это отчаяние. Когда он сделает это же во второй раз — это уже акт отваги, за который получаешь побои от хранителей Системы. Третий раз — это уже дорогостоящая неразумность. Если же он попробует быть в этой игре честным в четвертый раз, стадо посчитает его глупцом, отделит его от «разумных» и в качестве наказания присудит ему одиночество. Если же и это не склонит его к «исправлению» — он делается самоубийцей в обществе. Он проиграл. Неважно, открыл или только попытался открыть душу в присутствии начальника, жены, приятеля или подчиненного. Бывает, что общество прощает преступникам, но никогда — мечтателям и идеалистам. Быть может, прав был тот рабочий из пьесы «Мандат», написанной другим африканским автором, сенегальцем Усманом, который пришел к выводу, что в мире, где полно волков, «честность — это правонарушение»?
Тот факт, что ты знаешь откровенных людей, которым это удалось, ничего не меняет. У каждого правила имеются свои исключения — без них правила перестали бы быть обязательными. В любой игре случаются моменты везения — без них игра утратила бы свою привлекательность. Если рискнешь откровенностью, создашь девяносто девять процентов шансов на то, что проиграешь. Зато очутишься среди тех, благодаря которым стоит жить.
Единственным — помимо себя самого — человеком, в отношении которого ты можешь быть безнаказанно откровенным, это исповедник. Только какой ценностью обладает откровенность, если за нее тебе не грозит удар плеткой? Такой же, как и штыковая атака, когда атакующие знают, что неприятель будет стрелять бумажными пулями. Потому мы и не боимся становиться на колени в исповедальне. Выходим же мы из нее с искренним решением сражаться с новыми искушениями, а ведь известно, что «простейший способ бороться с искушением, это поддаться ему» (Тристан Бернар). Вот именно. Так оно все и крутится уже сотни лет. «Epur si muove!»[51]
Andrea Fantoni 1659–1734
и его деревянный шедевр
Я бы предпочел, чтобы этот предмет мебели Фант они был не столь красивым. Стоя на коленях в нем, я мог бы забыть обо всем именно тогда, когда следует извлечь все из глубин памяти, и я бы поглощал его супер-искусство, лучащееся из сплетений резных деталей. Какие-то амурчики, гербы, символы, виноградные гроздья. И листья — самые универсальные ширмы. С одинаковой легкостью можно заслонить ими половую импотенцию, равно как и не знающую границ глупость. Тот факт, что в первом случае мы используем фиговые листки, а во втором — лавровые, значения не имеет.
Я подхожу к исповедальне Фантони поближе. Сейчас внутри развлекаются две молоденькие немочки или австрийки, щебеча сдавленным смехом. Одна из них сидит и слушает, а другая «исповедуется». Какой-то пожилой мужчина прерывает забаву и выгоняет девиц. Взамен он получает злобный взгляд двух пар глаз. Женщины и исповедальня Фант они, феминизм и барокко, тайна в тайне. Мадам де Лонгевилль написала любовнику: «Как раз отхожу от исповедальни. Провела здесь три четверти часа и имела удовольствие говорить исключительно о тебе».
Мужчины реже ходят к исповеднику, но, когда уже это делают, относятся к исповеди иначе. Возможно, из-за отсутствия экзальтации. Здесь я имею в виду людей обычных — сановники не вмещаются в какие-либо обобщения в связи с жестами — поступками, которые они способны позволить себе чаще, чем серая масса. Законы для великих всегда были исключительными, и раньше, и теперь. Исповедник гетмана Браницкого, после ритуального «покаяния» магната, осмелился спросить: «Так какие же еще вельможный гетман грехи против Бога совершить соизволил?» — это пример из позавчера, вчера, сегодня и, наверняка, завтра.
Мой бергамский архипелаг, его феминизмы, исповедальня Фантони, мои мысли и размышления — все это замкнуто стеной бастиона, ценной, как и все фортификации. Жилые дома мы возводили тысячи лет назад и сейчас возводим; храмы и театры появлялись многие столетия назад и появляются сейчас, стадионы служили людям в древности, равно как служат и теперь. Все общие в плане функций типы строительства пережили века, и они до сих пор живы, до сих пор они эволюционируют — умерли только фортификации. Мы закончили их строить, похоже, что уже навсегда. Это странно, ведь войны живее всех живых. Но войны, точно так же, как и участвующие в них люди, в течение истории надевали на себя все более легкое снаряжение. Когда-то и фортификации носили тяжелые панцири, сейчас же им хватает легкой униформы из колючей проволоки, а невыгодные каменные «доспехи» отправились в те же музейные запасники, где на манекенах надеты железные рыцарские доспехи.
В своем плане укрепления Бергамо имеет форму сердца, их рисунок столь же выразителен и четок, как сердечко на именинной открытке. Странный каприз природы придал скале форму символа любви, а Паоло Берлендис и Пьетро Раньола вели в XVI веке линию фортификаций по склону — отсюда и сердце. Злорадным жизненным парадоксом является тот факт, что для возведения этих «сердечных» укреплений нужно было разрушить восемьсот зданий и церквей, в том числе, храм святого Александра, покровителя города, принявшего здесь мученическую смерть в 278 году. И сделано это было без малейшей тени жалости, закрыв глаза на бездомных детей, заткнув уши перед плачем изгнанных матерей и проклятиями стариков — без малейшего сердечного участия. Военная архитектура была госпожой тех времен — и госпожой жестокой. Четыре тысячи человек в течение тридцати восьми лет клало камень на камень, пока в 1599 году стены не зависли над крепостными рвами, четко обрисовывая форму сердца. Сатанинская ирония!
Так что я предпочитаю всю женственность Бергамо, чем один-единственный мужской акцент, замкнутый внутри сердца упомянутых укреплений, на самом его краю. Правая выпуклость сердца — это бастион святого Августина, а в нем — средневековая, наполненная шедеврами церковь, которой покровительствует тот же святой. Всего лишь день продолжалась перемена этого храма в казармы, функционирующие впоследствии сто шестьдесят лет! Когда я добрался туда, то понял, что не понимаю ничего, и что в Италии меня ждет множество таких черных уроков.
Церковь святого Августина была частью монастыря, выстроенного в XIII веке. Он сгорел в 1404 году, но через тридцать восемь лет ее возвели из пожарища, получая нафаршированную романским стилем готику, во славу святых Филиппа и Иакова и ради нужд конвента. Здесь писал свой «Лексикон» брат Амбруаз да Калеппио, а Филипп Форести и Ренато Калви создавали свои истории. Лютер останавливался здесь во время паломничества в Рим. Останавливались здесь и другие, любовались произведениями искусства, которыми время и люди украсили стены храма. Однонефовый интерьер церкви хранил живописные полотна (которые создавали Тальпино, Лотто, Ольмо, Виварини и Превитали), рельефные фоны и мастерски сделанные каменные надгробия.
В 1797 году в храм вошли австрийцы и заявили, что здесь могут быть устроены замечательные казармы. То, что им мешало или было ценным, пошло на свалку или на продажу, остальная часть внутренних украшений вынуждена была вдыхать смрад войны. Это правда, что во время московской кампании французы превращали церкви в конюшни, но только в исключительных случаях, поскольку остальные здания были сожжены их врагами. Губернатор Растопчин превратил в золу половину Москвы и собственный дом, наложив на руины проклятие; шокированный Бонапарте, видя эту оргию огня, шептал: «Что это за люди! Это ведь скифы!» Что оставалось французам — спать на снегу или внутри церкви? Венецианцы обстроили в Старом Баре могучей бастейей церквушку X века, пожизненно превращая ее в крепостной каземат — но ведь это было четыреста лет назад. В Бергамо храм осквернили, когда человечество уже переелось Возрождением и Просвещением, и это состояние длилось до 1958 года.
Благодаря целому казарменному столетию (XIX век) интерьер памятника был практически уничтожен, но он не пересек границы полнейшей разрухи. Храм рассчитывал на мудрость ХХ столетия, но оно устроило две войнушки, так что казармы были нужны и такими сохранялись до 1958 года, после чего граница была перейдена. Помните ли вы «Святотатство» Гроттгера? Винтовки, опирающиеся на распятие, патронташи на груди Христа, а у его ног барабан с игральными картами и пустая бутылка. Возможно, в Бергамо было и не так, но именно так подсказывает воображение.
Но церкви святого Августина повезло в том, что ей позволили жить. Не все реликты Средневековья обрели подобную милость. Как-то ночью несколько грузовиков подъехало к церквушке XIII века, стоявшей на дорогостоящем участке в самом центре Салерно. Водители закрепили цепи к слабым стенкам и дали задний ход. Здание, естественно, завалилось. Это вызвало мягкий протест со стороны епископа Салерно, но его мало кто услышал, поскольку участок, на котором сейчас можно видеть уродливый современный дом, стоил немалые деньги. В Бергамо от святого Августина тоже кое-что сохранилось: благородный готический фронтон, деревянный плафон с нарисованными на балках фигурами, что помнят еще Коллеоне, и остатки старинных фресок.
Какую же функцию исполняет 600-летний неф сейчас, когда солдаты уже ушли. В Польше мы бы сказали, что пожарного депо. Здесь проводятся всякие собрания, концерты и местные празднества. Если возникает необходимость укрыться кучей под крышу — добро пожаловать к святому Августину, в старенькие, гниющие стены. Чтобы было хоть чуточку приличнее, сюда же сунули международный кинофестиваль, так что глаза умников могут следить за движущимися картинками с экрана, прячущего мертвые изображения на плоскости стены. Фрески, которые когда-то вросли в эту стену, а сегодня уже прозрачны, словно тени, не пробуждают ничьего сожаления — они могут умирать, и пошли они все к черту. Стоимость одного лишь фильма могла бы вернуть им жизнь, но это совершенно уже безумная мысль.
К фестивалю я не успел, так что попал на обычный сеанс, и когда Клинт Иствуд, герой «Грязного Гарри», стрелял с экрана, я чувствовал, что эти пули попадают в тени фресок. Как-то раз, в Венеции, я видел баскетбольный матч на покрытии, установленном внутри зала монастыря Милосердия. На стене висел запрет «Курить запрещено» (ведь табачный дым вреден спортсменам), а мяч постоянно бился о ренессансные скульптуры и фрески шестнадцатого века, жаждающие хоть капельки людского милосердия — это было то же самое. Церкви святого Августина уже более полутысячи лет. Во скольких странах континента ее восприняли бы в качестве сокровища нации!
И все равно, я не понимаю, потому и спрашиваю. И вот объяснение мне дает человек, закончивший Академию и давно уже занимающийся спасением гибнущих памятников искусства; следовательно, мы ничем не отличаемся в любви к ним, и, тем не менее, отличаемся полностью, поскольку он итальянец. И он говорит, по-настоящему удивленный:
— Синьор, было бы хорошо, если бы мы успели помочь всем памятникам, а вы тут беспокоитесь объектом, которому всего несколько сотен лет?! Таких молодых церквей и дворцов у нас столько, что если бы их правильным образом сохранять, следовало бы переквалифицировать в реставраторов всех итальянцев, не исключая кормящих матерей. Вы откуда приехали?
— Из Польши.
— Аааа… понимаю.
Я тоже уже начинаю понимать.
Когда Пясты на переломе тысячелетий возводили часовню Островя Легницкого, фундамент которой является жемчужиной наших исторических памятников — туфовые, прекрасно сохранившиеся до наших дней стены этрусского Некрополя в Орвието насчитывали более полутора тысяч лет, а камни Колизея осматривали панораму Рима уже тысячу лет. Ценных камней в Италии столько, сколько звезд на небе, и очень многие из них требуют спасения. Вот как звучит ответ.
17. «Время — это архитектор, человек — всего лишь каменщик»
«Открывая оптическую перспективу, Ренессанс так же открыл перспективу истории, осознавая, сколь громадное значение заключается в том, чтобы оставить потомству памятников искусства»
Майкл Левей «Ранний Ренессанс».
«Громадные строения — как громады гор — являются произведением веков. Каждая волна времени наносит свой ил, каждое племя выкладывает свою частичку здания, каждый отдельный человек приносит свой камень. Время — это архитектор, человек — всего лишь каменщик».
Виктор Гюго «Собор Парижской Богоматери».
За сколькое из того богатого наследия многих веков Италия должна быть благодарна крупным меценатам — герцогам и графам, правителям республик и родовых кланов, которые в одной руке держали, попеременно, меч, кнут и скипетр, а во второй — золото и контракты для художников? За многое, но, наверняка, не за столько, как многие предполагают. Только лишь ко второй половине ХХ века историкам удалось доказать, что Лоренцо Великолепный (il Magnifico) свою славу щедрого и просвещенного мецената, содействующего искусству Ренессанса, по большей мере заслужил благодаря рекламе, распространяемой в последующие годы кланом Медичи, чем собственной культуре и щедрости.
Как же до сих пор мало — вопреки иллюзиям — мы знаем о самом Ренессансе, об этом удивительнейшем течении европейской цивилизации, которое было настолько смелым, что окрестило себя само, не ожидая (как ожидали готика, барокко и неоклассицизм), пока поколения смилуются и дадут ему название, и которое поставило Природу на столь высокий пьедестал, что «довело ее чуть ли не до того, чтобы она, Природа, бросила вызов христианству» (Майкл Левей). Ренессанс, как правило, ассоциируется у нас с искусством, но это искусство было всего лишь камешком, да и то — не главным, ренессансной мозаики, которую образовывали мощные течения мысли, философия, наука, литература, музыка и т. д. Ренессанс — как художественный стиль — если его вообще можно называть стилем (лично я предпочитаю называть это явление направлением), был всего лишь живописной обложкой многогранного явления под названием Возрождение. Я понимаю это именно так.
После свержения Лоренцо Великолепного (1449–1492) всего лишь один покровитель искусств кажется мне достойным короны среди ренессансных меценатов: Федериго иль да Монтефельтро (1422–1482). Этот герцог эпохи Возрождения был по-настоящему храбрым воином, по-настоящему мудрым повелителем, по-настоящему либеральным меценатом искусства и наук и настоящим человеком. Как-то раз он сказал Веспазиано да Бистиччи, что всякий правитель обязан быть человечным — «essere umano». Сам он был человечным, ибо в нем присутствовали и «umanita» (человечность), и «lo spirito» (дух). Веспазиано, собравший для своего господина прекраснейшую библиотеку, впоследствии восхищенно писал о нем, неустанно повторяя «Tanta umanita».
Какие имеются у нас доказательства того, что Веспазиано не ошибался или не приукрашивал? Например, гранитное, умное лицо Федериго на портрете кисти Пьеро делла Франческа, приятеля герцога. Пьеро дела Франческа был гением, так что эта картина, вне всякого сомнения, была зеркалом, в котором профиль Федериго отразился и застыл на века. Стоя перед диптихом, частью которого является это лицо, находящимся во флорентийской Галерее Уфицци, я верил Бистиччи. А если вы скажете, что никакое зеркало, пускай даже созданное рукой гения, не отражает души человека, и потребуете доказательств? Победив в битве под Вольтеррой, Федериго мог, как и всякий триумфатор, потребовать от побежденных золота, драгоценностей, лошадей и дани. Он же потребовал рукопись Библии на древнееврейском языке, с богатыми иллюстрациями. Все остальное было для него пылью, не стоящей внимания. Какие вам еще нужны доказательства?
Портрет кисти Пьеро делла Франческа
Федериго да Монтефельтро и его сын Гвидобальдо, портрет кисти Педро Берругюэта
Столицей Федериго да Монтефельтро был Урбино, которым семейство Монтефельтро владело с XIII века. Федериго оказался гордостью семьи, города и всей Италии. Именно там он разместил свой двор, изысканная, пропитанная гуманизмом атмосфера которого распространялась на всю Европу, формировала умы и шлифовала таких гигантов, как Рафаэль, которому повезло родиться в Урбино. Кастильоне сделал этот божественный двор фоном для своего «Il Cortegiano», книги, с которой поляки знакомы, благодаря переводу шестнадцатого века, сделанному Лукашем Гурницким («Дворянин»). Колыбелью двора Федериго да Монтефельтро и эпицентром упомянутого нами распространения был Герцогский Дворец — Палаццо Дукале.
В город я вошел через ворота в стенах бастионов, словно паломник тамошней эпохи — а впрочем, разве не был я им? Я прошел мимо «Monumento a Rafaello», затем по улице Рафаэля, мимо дома его семьи, через Площадь Республики и по улице Гарибальди (в Италии нет города, в котором не было бы улицы и площади, носящей это имя) и прошел ко дворцу. Для Федериго его строили Лючиано да Лаурана и Франческо ди Джорджио Мартини. Монтефельтро, гордый и желавший сравняться с Медичи, требовал строительства шедевра, богатого не только украшениями и потраченными средствами, но и художественным уровнем, который герцог мог оценить безошибочно, поскольку в архитектуре разбирался не хуже тех, которым он платил за возведение дворца. И они подарили ему истинный шедевр, создавая (во второй половине XV века) произведение «скорее божественное, чем человеческое».
Вазари писал об этом дворце, что он настолько красив и настолько мудро выстроен, как никакой другой дворец тех времен. Прошло несколько сот лет, и ничего не изменилось — Палаццо Дукале в Урбино до сих пор остается одним из чудес нашего континента. Не знаю, чем больше следует здесь восхищаться: ритмом этажных аркад фронтона, по бокам которых высятся остроконечные башни, и этот фронтон наполнен грацией, которую можно встретить только в самых гордых резиденциях; порталами и лестничными клетками, каждая из которых представляет собой отдельное произведение искусства; комнатами, среди которых имеется замечательный кабинет — «studiolo» Федериго; знаменитейшим эркером (королем всех эркеров) или же произведением Лаураны — дворцовым двором, прелестным, словно итальянская «канцона», окруженным деликатными аркадами, что несут на себе каменный перечень военных успехов заказчика, законченный заявлением, что его мирные добродетели (великодушие, либерализм и религиозность) были не меньшими. Удвоенный идеал этого человека (воина и гуманиста) был заключен в архитектуре. Она тоже в одинаковой степени «militare», как и «umana». Идеал тамошних времен в наиболее полной форме — в человеке и его доме.
Если Монтефельтро был королем меценатов молоденького к тому времени Ренессанса, то такого же титула среди меценатов поздней готики, следовательно, чуть более раннего отрезка времени, заслуживает Джиан Галеаццо Висконти, отец очередного из моих зачарованных островов, который нельзя разместить на карте, но в странной тайне итальянского перехода от готики к ренессансу, в этом могущественном усилии мастеров архитектуры и их величественных покровителей и меценатов. Два мыса этой тайны, словно два полюса одного и того же мира — это Милан и близлежащая Цертоза ди Павия.
Портрет Джиан Галеаццо Висконти, приписываемый Джованни Амброджио де Преди
Джиан Галеаццо Висконти и три его сына, в качестве моделей для росписи в храме Мадонны (Цертоза ди Павия)
У Джиана Галеаццо Висконти, графа Вирту (1351–1402) голова была переполнена намерениями, которые перерастали историю. Но он и сам перерастал свою эпоху бешеной гордостью, амбициями, гибкостью правления и поступками, что были поступками монарха. Он строил великие планы, а своим городам дал могущество и благосостояние и насытил их красотой архитектуры, словно заботливый садовник, украшающий собственный сад редкими цветами. Практически одновременно по его приказу было начато строительство монастыря в Павии и собора в Милане — оба эти строения должны были быть готическими. Первое из них, после двухсот лет непрекращающихся работ, стало замечательным примером итальянского Ренессанса, а вот второе строилось более четырехсот лет, и оно было закончено в начале XIX века в стиле той же готики, в котором и было начато, и которое стало самым великолепным готическим собором Италии. Почему так произошло?
Намного больше прославленной красоты этих двух шедевров строительно-декоративного искусства меня заинтересовало путешествие вслед за тайной. А уже из поисков ответов на вопросы родился мой остров с двумя различными полюсами красоты.
Работу неподалеку Павии начались в 1396 году по проекту Бернарда Венецианка и Христофоро да Кониго. Сам Кониго, Джованни Солари и Джуинифорте Солари возвели вокруг очертания латинского креста стены, образуя тело здания с тремя нефами в стиле романских соборов Ломбардии.
Начатое в готическом стиле произведение быстро сменило свой характер, поскольку люди, его возводившие, испытывали явную нелюбовь к готике и классическим формам, зато — тосковали по романскому стилю. Никем не принуждаемые, обладая свободой выбора и принятия решений, они искали новые формы — так родился ломбардский Ренессанс. Завершили чудо следующие мастера: Джоаванни Джакопо Дольчебуоно, два Монтегацци, Джованни Антонио Амадео (Омодео), Бенедетто Броши, Кристофоро Ломбардо и Галеаццо Алесси, сотворив прекраснейший фасад, совершенный шедевр итальянского Ренессанса. Оригинальность этой наполненной статуями и полихромией декоративной стены является чем-то совершенно беспрецедентным в истории архитектуры. Искрящаяся плоскость настолько богата, что трудно ее синтезировать визуально даже специалисту. И, что наиболее важно, вся эта орнаментация (в основном, инкрустированный мрамор), выкладываемая почти сотню лет, при меняющихся творческих направлениях, обладает одной общей чертой: она служит не ради декорирования архитектуры, но является целью самой по себе, создавая не цельную скульптурную композицию, но интегральную — в плане творческого замысла.
Совершенно иначе сложилась судьба собора в Милане, строительство которого было начато всего десятью годами раньше (1386). Храм с пятью нефами форсированно возводили и украшали мрамором из Кандольо приблизительно до средины XV века, а затем, в течение всего Кваттроченто — в стиле Пламенеющей Готики; и в этом стиле собор будет последовательно реализован вплоть до XIX века. Именно здесь такая последовательность является беспрецедентной в истории строительства. В эпоху Ренессанса темп работ слабеет, зато усиливаются проектные инициативы. «Il Duomo» (Собор) все время будет баловнем Милана, который не щадит денег на свою престижную инвестицию. Практически все миланские архитекторы того времени работают в тени готической структуры храма, и это стало причиной того, что Возрождение не вторгнется в город волной, достойной столицы Ломбардии. Упомянутые творцы (за исключением Пеллегрини) настолько обожают храм-гигант, что остаются слепыми к новым течениям, победно завоевывающим Италию.
В 1570 году работы энергично возобновляются под руководством величайшего мастера позднего Ренессанса Италии, Пеллегрини (Тибальди Пеллегрини, 1527–1597), который единственный не поддался чарам готики миланского собора, пытаясь ввести ренессансные элементы в траченной молью версии этого стиля, склоняющегося к эпохе барокко. Его последователи (Буцци, Ричини, Соаве) готику вернули, и работы тянулись вплоть до 1805 года. И тогда всего один жест Наполеона придал строительству небывалый темп. За семь лет (1807–1813) Пол лак, Занойя и великолепный Карло Амати завершили фасад в качестве последнего элемента гиганта, естественно — в готическом стиле, что был моден более четырехсот лет назад.
Так что же стало причиной того, что судьбы двух зданий, начатых одной рукой и в то же самое время, пошли столь различно? Не лежит ли суть этой тайны в извечной проблеме свободы творчества? Была ли такая свобода у миланских мастеров? Пеллегрини, который своим позднеренессансным бунтом желал разорвать цепь готического наследования, проиграл — строительство вернулось к готике. Было бы это доказательством давления — давления со стороны тех, которые правят, финансируют и требуют? Художник, создающий картину со своей обнаженной любовницей, может ее раз десять перерисовать или вообще порвать на куски. Художник. Работающий из милости патрициев великого Милана и, благодаря им, имеющий возможность есть — обязан был слушаться. Заказчики, обвешанные золотыми знаками миланского совета не имели понятия о стилях, зато имели понятие о ранге решений городских властей. Смена распоряжений оскорбила бы достоинство власти, вызвала бы издевки со стороны черни. Начинали в готике, платили за готику, платили за нее с самого начала, и вот теперь — ради прихоти господ художников, которым нравятся новинки — похерить вложенные в собор средства? Художники и архитекторы не предназначены для того, чтобы указывать, это им указывают! Власть, тем более, власть наследственная, решает один раз и никогда не ошибается! Так ли они рассуждали?
А может, дело было совершенно в ином? В верности, обычной людской верности первоначальному творческому замыслу, который сильнее смены стилей и направлений в архитектуре? А если верность — то, значит, и любовь к создаваемому! Разве можно осуждать любовь? В течение четырех веков строительство велось по-готически, хотя стили приходили и уходили, словно морские волны. Они полюбили готику, так кто же буркнет им теперь: глупцы, чтобы не подвергнуться презрению за непонимание чувств?
Так как же все-таки это произошло? Не знаю. Судьбы великих произведений, словно судьбы людей, полны тайн и неизведанных шагов, и как раз потому они такие прекрасные и способны тронуть нас. Впрочем, а можно ли вообще найти окончательный ответ? Не обладают ли вопросительные знаки, к которым мы направляем свои усилия, формой сервантесовских ветряных мельниц? Эмпедокл сказал: «Все является тайной, ничего нельзя установить наверняка».
Сегодня, когда обходишь вокруг собора, и когда потом тебя охватывает величественный лес пятидесяти восьми колонн интерьера, трудно даже сосчитать резные фигуры, украшающие здание — всего их 4225! Совершенно фантастически, ни с чем не сравнимо, все это выглядит ночью, когда на фасад падает свет от громадных реклам противоположной стороны площади. Только неоновый колодец лондонского Пикадилли Сёркус столь же плотно вышит цветным светом. Громадные красные, зеленые, желтые, голубые и белые надписи (Candy, Monti, Nuova Cora, Accutran и десятки других) выстреливают разноцветные полосы и тени в каменные детали. Какой удивительный симбиоз — реклама нижнего белья в качестве источника своеобразного «son et limiere»[52] для готического шедевра.
Апрельской ночью архиепископ Милана проводит здесь пасхальную мессу. В полночь, на каменных плитах соборной площади загорается громадный костер, инициируя церемонию освящения огня. Затем, уже внутри собора — проходит освящение воды. Площадь, молчащая под ногами толпы, внимающей этой мистерии, помнит иное старинное торжество, настолько великое, что не одна Италия, но вся Европа прислушивалась к ней, затаив дыхание. Днем ранее я был в Монца и видел корону, наверняка, наиболее древнюю из ныне существующих, главную актрису того еще празднества.
Монца — это городок над рекой Ламбро, очень близко от Милана — где-то километров двадцать к северу. Он является живым музеем бесценных реликтов искусства (а какой из итальянских городов не такой?), в основном, средневекового, но своей славе он обязан исключительно автомобильным гонкам (Формула I) и небольшой металлической наголовной ленте, хранящейся в сокровищнице мраморного собора, построенного в четырнадцатом веке. Железная корона лонгобардов — сколько же вещей видела она, на скольких достойных головах, лысых или покрытых буйными волосами, покоилась она в течение веков? Если бы она могла говорить. Вопреки названию (Corona ferrea), она сделана из чистого золота, покрыта эмалями и драгоценными камнями, и только внутри нее вмонтирован тонкий железный обруч, который, как гласят легенды, был выкован из гвоздя, которым Иисус был прибит к кресту. Византийские мастера изготовили ее по приказу баварской княгини, Теодолинды, для ее второго мужа, повелителя лонгобардов, Агилульфа, который и короновался железно-золотым венцом в качестве короля Ломбардии (590 год). Впоследствии Теодолинда приказала возвести в Монца базилику святого Иоанна Крестителя и поместила корону там. С тех пор каждый, кто короновался королем Италии, на время брал железную корону из священного хранилища. Среди всех прочих, так поступали: Карл Великий (774 год), Фридрих III Габсбург (1452 год) и Карл V (1530 год). И наконец, в 1805 году, ее извлекли для Наполеона.
В день Иоанна Крестителя жители Монца повесили на улице свою корону…
Существует какая-то странная связь между этой короной и возведением II Duomo di Milano (Миланского Собора). Джиан Галеаццо Висконти, который инициировал строительство храма, всю жизнь понапрасну мечтал о короне объединенной Италии; Наполеону, который довел строительство до финала спустя четыреста лет, удалось то, чего не достиг Висконти — он надел на себя железную корону в качестве короля Италии. Меандры истории, меандры людских судеб, их достижений, намерений и исполнений, вечная, священная неожиданность.
Когда итальянцы предложили императору французов трон Италии, было решено, что коронация пройдет в Милане, в соответствии с древним обычаем германских императоров, которые в Риме принимали корону Запада, а в Милане — корону Италии. 8 мая 1805 года Наполеон Бонапарт въезжал в Милан. Его приветствовали залпы орудий и колокольный звон, а так же крики «виват!» тысячных толп. Как правило, итальянцы легко поддаются чарам богатых церемоний, но то, что можно было видеть в момент появления кареты, везущей императрицу Жозефину и Наполеона, прецедентов не имело. Милан сходил с ума при виде «бога войны». Тот же, окруженный толпой сановников и духовенства, первые свои шаги направил к собору, где привстал на колени.
В памятный день 26 мая 1805 года (было отмечено, что погода была лучше, чем в день парижской коронации), император с супругой прошли из дворца, в котором проживали, до расположенного неподалеку собора по специально выстроенной галерее, паркет которой был покрыт ценными коврами. Жозефина уселась в кресле, а Бонапарте поднялся по ступеням алтаря. В кульминационный момент фантастической церемонии, обладавшей масштабом, который итальянцы никогда не видели до того, со своей богатейшей оправой, которую проектировал знаменитый художник Аппиани — архиепископ Капрара благословил железную корону, а Наполеон снял ее с алтаря и надел себе на голову со словами: «Dio me I'ha data, guai a chi la toccheral» («Бог мне ее дал, и беда тому, кто ее коснется!»). Впоследствии слова эти стали девизом итальянского Ордена Железной Короны.
Корона вновь вернулась в Монца. Хотелось бы знать, не отправится ли она в Миланский Собор еще раз. Это кажется нонсенсом, но разве история, которая, якобы, любит повторяться, не претворяла уже нонсенсы в реальность? Предвидеть будущее, это то же самое, что и нырять посреди океана — умрешь еще до того, как достигнешь дна. Если бы во времена Тиберия какой-нибудь пророк предсказал конец могущества Римской Империи в течение двух — трех веков, все посчитали бы, что у него не в порядке с головой. Если бы в день после Аустерлица кто-то накаркал бы Наполеону — его, каркающего, отослали бы в больницу для умственно больных в Шарентоне. Не бывает вечных империй, и не нужно никаких пророчеств — необходимо лишь терпение. Наши века и тысячелетия, это микроскопический период мутаций в насчитывающей миллионы лет истории человека и его предположений. «Panta rheil» («Все проходит») — святые слова Гераклита. История насмехается над предсказаниями, над «верняками», над тем, что «невозможно». Политических ясновидящих не бывает. Существуют только мадемуазели Ленорман[53].
Неоновая ночь над соборной площадью. Как тихо! Снуют тени Висконти и Наполеона. Я часто вспоминаю корсиканца в этих поездках по итальянскому архипелагу. Но его следы ведь встречаются здесь на каждом шагу, а за ними долгим маршем идут призраки солдат с Мазур, Великопольски и Галиции, которые тогда, под его знаменами маршировали перед фасадом «Иль Дуомо ди Милано», что документировал своим рисунком адъютант генерала Домбровского, Элиаш Тремо. Именно здесь, в ломбардской земле, «дал пример нам Бонапарте»[54]… Ночь. Ветер приносит мелодию мазурки. Это здесь, под самым собором.
18. Пейзажи боли и улыбка Саломеи
«Наивысшая боль — это боль в молчании»
Иоахим дю Беллей.
«Выйдя же, сказала она матери своей: Чего я должна просить?
Та же ей ответила: Головы Иоанна Крестителя».
Евангелие от Марка.
Мой очередной остров в архипелаге ломбардской земли, это миланская Брера, а точнее — самый центр небольшого зала, из которого можно наслаждаться двумя картинами.
Пинакотека Брера — словно Сезам. Она насыщена шедеврами Рафаэля, Карпаччо, Тинторетто, Лото, Тьеполо и других, у которых в жилах текла кровь гениев. Но снова и снова проявляется мотив славы, рекламируемой столь громко и столь настырно, что это становится мучительным и приводит к безразличию. Все те шедевры можно пройти, глянув и низко поклонившись, но как пройти мимо этих двух без аффектации? Я просто не мог. Одинаково знаменитые, они, все же, намного сильнее, путают твои чувства и заставляют подламываться ноги, приковывая тебя надолго и заставляя размышлять о жизни, порождающей подобное искусство, и о смерти.
Обе картины называются «Мертвый Христос» — одна принадлежит кисти Мантеньи, другая — Беллини. Почему здесь останавливаются разумные и глупцы, и почему здесь все ищут столько ответов? И какой же это мудрец повесил их тут, одну напротив другой, предвидя, что они будут двумя крыльями одних врат — они задерживают в маленькой комнате всякого, даже тех, кого не тронул своей философией и мастерством Пьеро делла Франческа, ни сладкой мягкостью и сочными красками Рафаэль.
Андреа Мантенья (1431–1506) из Падуи, выразитель античных тягот, художник, график, археолог и собиратель из Северной Италии, который великолепно соединял серьезность и твердость классических форм, почти готическую жесткость и сказочность пространства. Некоторые из его произведений — это бесценные драгоценности итальянского Возрождения.
«Cristo Morto» — лежащий на смертном одре Спаситель, а рядом с ним лица оплакивающих Его женщин (альтернативное название: «Оплакивание Христа»), лица здесь сформированы по образцу античных мрачных масок, трагичных и закаменевших в скульптурной судороге. Историки не могут согласовать даты создания картины (гипотетический разброс очень велик, между 1457 и 1503 годами) — лично я предпочел бы 1467/1480 годы, размещая шежевр, скорее всего, в раннем, мантуанском периоде творчества Мантеньи, уже наполненном жестким реализмом и бравурной перспективой (сторонником которой Мантенья останется навсегда). И какая же необычная это перспектива! Разве кто-то другой осмелился бы писать Христа лежащим, глядя со стороны пробитых гвоздями стоп так, что линия взгляда находится чуть ли не на высоте вырванных в коже дыр? При этом мы получаем ужасное сокращение перспективы, дающее возможность заглянуть покойнику в ноздри. Такая перспектива человеческого тела подобна перспективе улицы, которую художник творил бы, лежа на мостовой. И потому она такая жестокая. Мы называем ее «лягушачьей перспективой».
Если упомянутая перспектива смерти является (по моему личному мнению) наиболее потрясающей в истории живописи, то идентичный ранг достигает и колорит картины Мантеньи — архиколорит смерти. Мрачные краски, которыми жонглировал Эль Греко, и которые считаются образцом красок смерти в мировой живописи, по сравнению с этими — чуть ли не ярмарочные, приближающиеся, скорее к комиксам Диснея, чем к смерти. Эта трупная, словно гниющая, розовая. Этот коричнево-серый бежевый тон с зеленовато-голубым оттенком, а может что-то совершенно иное, здесь все очень сложно уточнять — этот тон не мог быть получен с помощью художественных красок, это цвет умирания. Откуда Мантенья нашел ее для своей палитры? Сколько же тайн у моих зачарованных островов…
Пиета. Джованни Беллини
Визави Мантенье, на противоположной стене — «Мертвый Христос, Дева Мария и святой Иоанн» («Пиета») (1467/71) Джованни Беллини (1430–1516) — насколько же далека эта картина от жесткости и героизма Мантеньи. И насколько же близка — соседством в Брере, в умах знатоков и в жизни (Мантенья был учителем Беллини и мужем его сестры). То, что скорее всего замечается у Беллини, верховного жреца венецианского искусства эпохи Ренессанса — ба, основателя той ренессансной Венецианской Школы, которая существовала пару сотен лет — это настроение тишины, концентрации и покоя, исходящее от персонажей, молчаливая задумчивость, которой аккомпанирует музыкальность красочной палитры.
Собственно говоря, точно так же и здесь. Мертвый Христос стоит, поддерживаемый с обеих сторон (матерью и святым Иоанном Евангелистом), руки у него зеленоватые, совершенно лишенные жизни, с великолепной конструкцией и рисунком каждой жилки. Дева Мария подпирает Его ниспадающую голову собственной щекой, вглядываясь в него умными глазами и не обращая внимания на то, что колючки тернового венца ранят ей виски. Зато святой Иоанн отвернул лицо в другую сторону, глаза у него расширенные, бессознательные, и раскрытый рот. И здесь он наиболее интересный, наиболее потрясающий.
Вся группа демонстрирует характерный для Беллини покой и статичность; лица даже не передают боль, это всего лишь ситуация ужасна, смерть; а вот лица — нет: кожа на щеках гладкая, не искаженная даже малейшей гримасой, нет ни боли, ни отчаяния.
Тайна заключена в лице святого Иоанна. Отчаяние, то самое чудовищное, то, которое уже на грани безумия, когда хочется грызть стену зубами, можно представить двояко: сумасшествием деформированных черт лица, губами, искривленными в судороге муки, когда оскаленные десны дрожат от плача, а из горла исходит животный рык, когда пальцы искривились в когти. Но ведь можно и по-другому. Есть такие границы отчаяния, такие грани сердечной боли, что у тела нет уже сил биться в муках, и оно отказывается подчиняться, реакция его наполняется мягким темпом замедленной кинопленки, рот широко раскрывается, словно во сне, и из связок извлекается долгий, протяжный стон, с тем же напряжением и высотой, который, словно вопль сирены несется в пространство, поглощаемое открытыми, но ничего не видящими глазами, в вечность, беспрерывную, все дальше и дальше, и нет ей конца…
Именно таким непрерывным стоном выплевывал свое отчаяние пытаемый старик в фильме «Битва за Алжир». Один из самых спорных режиссеров последних лет, американский индеец Сем Пекинпах, в завершении своего шокирующего вивисекцией жестокости фильма «Дикая банда» («Wild Bunch») представил это еще лучше — смертельно раненный десперадо, умирая, стоит на широко расставленных ногах, с отброшенной назад головой, одной рукой держась за сердце, а вторую не отнимая от спускового крючка пулемета, скашивающего волну атакующих врагов. Глаза, уставившиеся в небо, ничего не видят, а из раскрытого в последний раз рта исходит долгий, протяжный вопль в одной и той же тональности, песнь боли на одной ноте, отражающаяся эхом в горах и заставляющая стынуть кровь. У святого Иоанна Беллини спокойные черты лица, только уста беззвучно раскрыты, но, когда мы видим это, на первый взгляд, каменное лицо, то слышим тот крик смертельного отчаяния, уносящийся в далекий пейзаж венецианского мастера, крик, застывший навечно, словно тела обитателей Помпей, которые уничтожила раскаленная лава, и гипсовые отливки с которых теперь выставили в стеклянных музейных витринах.
«Cristo Morto» Беллини редко упоминается среди его величайших шедевров. Но те, которые посещают Бреру, останавливаются рядом с ним дольше всего — тот самый крик, отражающийся от стен Пинакотеки, заставляет их остановиться и вслушиваться. Кто же из людей не кричал так из глубин терзаемой болью души?
Чуть-чуть офф-топ: Сложно сказать, то ли родственные связи Мантеньи и Беллини были такими тесными, то ли было модно и прилично писать те же самые сюжеты чуть ли не одинаково (и вставлять автопортреты себя самого и своих близких в картины), но… поглядите сами. Сюжет один и тот же: «Принесение в храм». — Прим. перевод.
Автопортрет Мантеньи (крайний справа) с женой (крайняя слева) на полотне «Принесение во храм», 1465–1466, Берлинская картинная галерея
Беллини, «Принесение во храм» (художник, предположительно — крайний справа)
Жорж Брак сказал: «Наука успокаивает. Искусство предназначено для того, чтобы волновать».
Когда-то иное живописное изображение с лицом другого Иоанна тронуло меня столь же сильно, и даже не потому, что голова святого Крестителя там была лишена туловища, но по причине соседства иного лица, женского. Где и когда? Путешествуя по коридорам Бреры, я пытаюсь перелопатить джунгли минувших переживаний, пока, наконец, не попадаю в зал, где висит «Мадонна среди роз» Луини, и калитка памяти неожиданно распахивается, словно колдовские ворота при звуках волшебного пароля. И паролем, как раз, является Луини, который возвращает меня к собственной «Саломее», к той самой женщине, для которой срубили голову святого Иоанна. Я нашел ее во флорентийской Галерее Уффици, и там осматривал ее лицо.
Десятки мастеров искали моделей, чтобы представить это лицо рядом со срубленной головой пророка. Лука Лейденский, Дюрер, Тициан, Карло Дольчи, Филиппо Липпи, Густав Климт, Обри Бердслей, Регно, Бёклин, Ленбах, Крамской и многие-многие другие. На картине Липпи в образе Саломеи танцует его любовница, бывшая монашенка Лукреция Бути — опустив глазки, скромненькая, с невысказанною пристойной грацией. Саломея Тициана — это его родная дочка, реплика известного портрета красивой девушки, глядящей на нас и высоко поднимающей поднос (правда, на сей раз она поднимает поднос не с фруктами, а с головой святого Иоанна). Или же те итальянские девушки Донателло, в творчестве которого столь часто, чуть ли не как мания, появляется мотив мужской головы, отрезанной женщиной — в барельефе «Пир Ирода» (1421–1427) на купели баптистерия сиенского собора, и в флорентийской скульптуре «Юдифь» (1455) на площади перед Палаццо Веккио. Но только Луини в качестве модели избрал… Джоконду.
Бернардино Луини (умер в 1532 году) — о его жизни мы знаем гораздо меньше, чем о судьбах двух мастеров, которых я встретил на острове Бреры. Его искусство было открыто только в XIX веке, и тогда же его признали замечательным мастером ломбардского Ренессанса. Потом о нем снова забыли, но его картины украшали уже знаменитые галереи, и теперь они сами напоминают о себе зрителям, которые верят не только в художников из альбомов Фламмариона. Правильная композиция, богатый и теплый колорит, и сильная выразительность — это все Луини. А еще, тень недосказанности, след тайны — это тоже он. Как и Леонардо.
Художник, который ищет тайну — разыскивает ее, переваривает внутри собственной души, а из души переносит на холст. Рука не столь впечатлительна, но след на холсте остается. Луини разыскивал тайну Саломеи, пару раз писал ее, и он не был первым, не был и последним. Эта женщина соблазнила больше творческих умов, чем Клеопатра, Мессалина и Лукреция Борджия вместе взятые. Мастера пера не остались сзади. Первым был Исидор из Пелузия, который в V веке приписал ей имя: Саломея, ведь евангелисты никаких имен не упоминали. А потом ринулись целые толпы творцов, среди которых были Нивардус из Фландрии, Гутцков, Малларме, Хейсе, Геллерт, Рихард Штраус, Оскар Уайльд, Флобер, Байнвилль, Гейне, Зудерманн, Хельд и Каспрович.
Историки установили, что сердцевина рассказа святого Марка истинна. Сын Ирода Великого, Ирод Антипа, взял в жены супругу своего брата Филиппа, Иродиаду, и чудовищность этого поступка публично осуждал пророк-аскет, обожаемый народом Иоанн Креститель. Оскорбленная царица сделала так, что его бросили в темницу. Когда Ирод праздновал день своего рождения, пышный праздник украсила своим танцем дочь Иродиады и Филиппа. «Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним; царь сказал девице: проси у меня, чего хочешь, и дам тебе; и клялся ей: чего ни попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства. Она вышла и спросила у матери своей: чего просить? Та отвечала: головы Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя. Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице, и принес голову его на блюде, и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей».[55]
У Луини, хищно оскаливший зубы палач бросает голову святого в чашу, которую держит Саломея. Крупный специалист по Саломее, Хьюго Даффнер, писал, что мертвая голова святого Иоанна на холсте Бернардино Луини — это ухоженное лицо тогдашнего (начало XVI века) «голландца-авантюриста», героя салонов, привлекающего взгляды дам. Это правда — это лицо мертво, в том числе и с художественной точки зрения. Только Даффнер не досмотрел того, что Луини она интересует в самую последнюю очередь — самой важной для него является Саломея. Совершенно прекрасная, с нежной кожей, с лицом, отвернутым от кровавой сцены, со своими спущенными глазами, она совершенно девственная. Быть может, Луини подарил ей черты лица, с которыми Саломея выбита на древней иудейской монете — они очень похожи. Это личико горит румянцем, словно у девушки, которая впервые услышала гадкое ругательство или любовное признание, а на губах блуждает улыбка — улыбка Джоконды. Сложно не заметить этого, если вам известен шедевр из Лувра. И трудно удивляться — Луини был учеником Леонардо. Он не воровал у своего учителя эту улыбку, в которой прячутся все женские тайны, следовательно, все тайны человечества — он ее лишь взял на время для своей богини, желая сравниться с учителем. Улыбка Саломеи — как и улыбка Моны Лизы — переросла сама искусство, ведь в ней соединяются преступление и невинность. А еще, видимо, боль, страх или… насмешка.
Немного офф-топ: Лысяк пишет, что Луини писал Саломею дважды. Во время поисков иллюстративного материала, я наткнулся на вторую Саломею Луини из Венской Галереи (положа руку на сердце, она мне нравится больше, представленные выше слова Вальдемара Лысяка в отношении венской Саломеи звучат даже ярче. И сразу же вспомнилась история, связанная с тайной «Джоконды», о которой Лысяк писал на страницах «Французской тропы» — эскиз Рафаэля. Поглядите и вы, не кажется ли, что это одно и то же лицо… — Прим. перевод.
Луини "Саломея" (Вена, Музей истории искусств)
Эскиз Рафаэля
Какую тайну знает, над чем насмехается эта женщина, столь невинная у Луини, столь далекая от междувоенной Саломеи-демона австрийца Климта? Может, над тем, что через четыреста лет после смерти получила имя, которого сама никогда не носила? Или же над тем, что впоследствии десятки умников, кормящихся пером, приказали ей любить попеременно собственного отчима и святого Иоанна, над тем, что, по мнению иных, она мстила пророку за то, что он ее отверг, а по мнению иных — просила его голову, чтобы понравиться Ироду? А, может, это радость от того, что никто из ее портретистов ничего о ней не знает и совершенно ничего не понимает, ибо она была женщиной, следовательно, мужчина никогда ее не поймет?
Женщины отбирают жизни у мужей, хахалей, сыновей, братьев, чужих мужчин, подчиненных и подданных — по разным причинам. Ради того, чтобы сохранить порядок в государстве или ради каприза — это владычицы. За израненную свою любовь — это преданные любовницы, которыми владычицы тоже бывают. И, наконец, ради идеи — это Юдифь, держащая голову Олоферна, или женщина из фильма Аррабала «Да здравствует смерть» («Viva la muerte»), которая выдала собственного мужа на расправу, считая это карой за убеждения, угрожающие — по ее мнению — уничтожением всего того, что было дорого ей: отчизны, Церкви, семьи. Один рецензент писал о ней:
«Парадокс и проблема этой женщины заключаются в том, что она, чуть ли не полностью, является желанием действовать во имя „высшей цели“, желанием творить добро и одно только добро, любой ценой; она является квинтэссенцией ненависти ко злу и отвращения к греху, она же является таким искажением сознания путем самой возможности испорченности, глубинным призванием становится искоренение этого греха (…) Здесь следует учесть, что с точки зрения этой женщины ее поступок ни в коей степени не является изменой, вероломством, подлостью или преступлением. Он не следует из слабости или упадка характера, из низких или подлых побуждений, из злой или неправой воли. Если бы было так — мы бы имели дело с еще одной версией описания людской свалки истории, но тогда не было бы проблемы и не было бы значительного произведения искусства. Нет, фильм Аррабала и персонаж этой безумной женщины, которая — хотим мы того или нет — достигает масштабов героев античной трагедии, они совершенно из других измерений».
А разве просьба Саломеи не обладает масштабом античной трагедии? Не была ли она уверена в том, что, ликвидируя христианина, она ликвидирует угрозу всему тому, что было ей дорого? Или это был всего лишь гадкий каприз, глупость, пустая девичья ненависть? Или всего лишь послушание по отношению к матери? Мы не знаем — именно потому она и смеется. И этот смех направлен не нам — она смеется над нами! Расшифровывать тайну этой улыбки, это пытаться через лаз, пробитый сквозь всю Землю, добраться до Солнца, спрятанного на другой стороне планеты — ты встретишь ту же самую невозможность и золотой щит, висящий на небе так же высоко, убегающий за горизонт и такой же недостижимый.
И наконец — разве имеет значение, какую истину скрывают уста Саломеи? Оскар Уайльд сказал: «В религии — это попросту мнение, переданное посредством традиции. В науке — посредством новейшего открытия. В искусстве — посредством нашего последнего увлечения». Я соглашаюсь с Уайльдом, который, по-видимому, женщин понимал, поскольку их не любил, и который написал «Саломею» по-французски специально для Сары Бернар. Содержание этой пьесы плевать хотело на историческую истину, но перед алтарем искусства это не имеет никакого значения. «Наивысшей степенью развития лжи является ложь в искусстве. Святилище искусства будет недоступно тем, которые не любят Красоту больше Правды», — писал Лорд Парадокс. В завершение его драмы дочь Иродиады целует голову пророка. «Убейте эту женщину!» — восклицает остолбеневший Ирод Антипа. Солдаты наваливают на Саломею тяжелые щиты и душат ее.
Насколько же слабой была вся это солдатня, и насколько легкими были щиты, раз отобрали всего лишь жизнь, но не размозжили той усмешки, что пережила века. Если бы я мог ее погасить — то сделал бы это, вот только где найти щит, более могучий, чем искусство ренессансных мастеров? Можно убить злую женщину, но никогда — лукавой и коварной женственности, тиражируемой в миллионах экземпляров в каждом поколении, искушающей и порабощающей. Это она и есть — вечная усмешка цариц жизни. Если бы не факт, что без нее жизнь превратилась бы в черно-белое кино — могу поклясться, что никто не был бы более достойным Нобелевской премии, чем мудрец, который изобрел бы способ превратить женщину снова в ребро.
19. Нож Леонардо
«Будущее можно увидеть в минувших вещах».
Ретру.
Адам Аснык.
- «Несчастное человечество!..
- Что гонит его на росстани страшные,
- Что силой толкает с цветистых лугов
- Под лезвие ножа?»
Один из тех, кого я люблю более всего, Антуан де Сент-Экзюпери, писал: «Тайна является элементов вселенной». А Мария Домбровская вторила ему: «Тайна, тайна, которой окутаны, несмотря на вечные „расшифровки“, все наши шаги, жесты, чувства и мысли на этой земле».
Леонардо да Винчи, учитель Луини, чудесным образом понял, что сутью всего нам известного является тайна, ибо мы ничего не знаем. А когда понял это — написал руку и нож.
Дорога, которую он прошел, чтобы добраться до этого клинка, должна была быть длинной, словно марш через пустыню. Никогда и никакая женщина не оказала на него влияния и не испортила этого марша. Воистину, он должен был знать, по образцу людей Востока, что «великая мысль — это конь, а женщина — это путы на ногах этого коня». Он жил глубиной интеллекта, а не чувств. И по этой причине был вечным анахоретом, и потому его считали кем-то вроде Фауста. «Когда ты сам, то принадлежишь исключительно себе», — эти его слова звучат будто кредо. До конца жизни вокруг него сновала какая-то мгла нереальности, заставляющая окружающих относиться к нему с опаской. «Только в одиночестве ты находишься в компании», — говаривал Тиберий.
Ночи сам на сам, с собственным мозгом, наполненным клубящимися и безумными мыслями, кусающими минувшую будничность и направленных к будущему. Я так и вижу, как он сидит, держа голову растопыренными пальцами, как он отталкивает от себя тот нож, как еще верит в крылья, которые позволят ему преодолеть насилием мертвенность собственного тела и взлететь высоко-высоко. Он верил, что очутившись ближе к облакам, поймет на какую-то частицу больше, что когда глянет на Землю с высот, поглотит ее сильнее. Он желал стать птицей.
Ромен Роллан восклицал: «Существует только одно наслаждение — творения» («joie de creer»). Для Леонардо творением было поиском, нет, скорее — открыванием, проходкой сквозь породу с помощью мозга. Только это давало ему наслаждение. Являясь человеком Ренессанса, он уже был гражданином будущего. Он слушал речи Сен-Жюста и трубы Наполеона, сидел в гондоле братьев Монгольфьер и пил вино с братьями Райт, потом спорил с Эйнштейном относительно какого-то уравнения. Свои изобретения он производил легче, чем иные — слова. Его любимым ребенком был орнитоптер — огромные крылья нетопыря с ручным и ножным приводом. Через несколько сотен лет была сделана (по десяткам эскизов Леонардо) модель этой летающей машины, и когда сейчас я гляжу на эту мертвую птицу, что-то перехватывает мне горло. Оригинал не пережил даже одного-единственного полета[56].
Эскизы орнитоптера, сделанные да Винчи
Орнитоптер — который взлетел!
Мы мало знаем о его полетах, но уже после смерти Леонардо в записках Джироламо Кардано, сына его приятеля, нашелся следующий пассаж: «Да Винчи пытался летать, и его встретила неудача». Но, возможно, речь шла не о самом Леонардо, а о его помощнике — Астро? Мифология говорит, что когда 6 октября 1499 года французский король Людовик XII триумфально въезжал в Милан, его шествие вели два ангела с золотыми подвижными крыльями да Винчи. Астро, желая придать блеск торжеству, достал металлические прототипы этих крыльев, закрепил их на руках и спрыгнул с высокой крыши. Упал и страшно покалечился. Если это правда, то насколько же покалечилась тогда дедаловская душа Леонардо! Через два месяца он покинул Милан и выехал во Флоренцию. За собой он оставил таинственный нож в ничейной руке. К нему он вернется через семь лет.
Эти крылья, которые проиграли, должны были стать одной среди многих дорог нахождения истины и всезнания. Второй была наука. Еще одной — искусство. Да Винчи очень быстро осознал, что художник, который не углубит тайн природы, будет всего лишь лакеем искусства, но никогда — его любовником. Потому столь много времени он посвящал научным исследованиям: аэростатическим, гидравлическим, метеорологическим, математическим, физическим, химическим, природоведческим, геологическим, анатомическим и всяческим иным. Его распирало аристотелевское сильнейшее желание познать тайны Природы. Всю жизнь он наблюдал ее и с усердием исследовал через призму интеллекта, презирая давление традиций и догм. Классическое знание и Древность мало интересовали его — для познания правды он стремился, бросая вопросы и делая служащие ответам эксперименты. Вопросы, на которые не хватало столько ответов. Так что: «Art et Science» — «Искусство и Наука».
Когда он пользовался кистью, это тоже было эмпиризмом — рисуя, он продолжал поиски, все время он искал. Когда же находил ключ к решению проблемы или же когда открывал какую-то частицу тайны, продолжение переставало его интересовать. Потому большинство живописных работ Леонардо не закончено. Процесс «возведения» был для него во сто крат важнее финала, завершение произведения не могло быть целью, а только границей процесса познания. Когда находил, бросал кисти, если же не мог увидеть дна, которого искал, кончал более или менее нежно, но при этом оставлял символ вечной тайны. Два среди немногих шедевров, которые он записал практически полностью, это «Джоконда» и «Тайная Вечеря». «Джоконде» он оставил улыбку, «Вечере» — таинственный нож.
Практически в каждой завершенной работе Леонардо скрывается знак вопроса. Один или несколько. В «Мадонне среди скал» (1483–86) сам мглистый фон и фигуры, и все значение картины таинственны. Здешний ангел — это почти что сфинкс. О «Моне Лизе» мы не знаем ничего — о ее таинственной улыбке, о том, была ли модель беременной, как утверждает на основании собственных исследований лондонский врач, Кеннет Киле, да и вообще, кем она была (тут существует пара гипотез). «Святой Иоанн» Леонардо сегодня держит в вознесенной руке крест, но крест этот был дорисован позднее. В первоначальной версии Иоанн указывал вверх ладонью с вытянутым пальцем — в чем-то презрительным, чуть ли не святотатственным жестом. Точно таким же, хотя и горизонтальным жестом и идентичной рукой указывает на нечто неведомое ангел-сфинкс («Мадонна среди скал»), а на губах у него блуждает тень беспокоящей усмешки, которую я боюсь назвать другим прилагательным. И наконец, тот миланский нож.
В 1494 году, по приказу миланского герцога, Лодовико иль Моро, архитектор Джуинифорте Солари возводит трапезную при миланском монастыре Санта Мария делие Грацие. Через год Донато Монтрфано записывает южную стену прямоугольного зала, создавая «Распятие». Северная стена пуста, и она ждет Леонардо, который ранее предложил герцогу свои услуги в знаменитом письме, которое сейчас часто цитируют. В 1495 году, а может, в 1496, да Винчи начинает рисовать, не прерывая при этом работы над «летающей машиной». Махолет-орнитоптер и «Тайная вечеря». Крылья и нож. Одновременно. В этом весь Леонардо да Винчи.
Идея написать последнюю трапезу Христа и Его Апостолов проклевывалась у Леонардо уже давно, еще во Флоренции, где он работал для Сфорцы. Художник выполнил десятки эскизов деталей, обнаженные фигуры в движении, в споре, с мягкими и гневными жестами, и приготовил плоскость стены, нанеся на нее подложку из смолы, гипса и клея. Затем писал несколько лет, но как только закончил — картина начала раскрашиваться, лущиться, терять цвет, одним словом — паршиветь, с чем безуспешно сражались веками с помощью различных техник реставрации. Дело в том, что фреска бывает стойкой лишь тогда, когда ее создают по правилам, водными красками по сырой штукатурке. Тем временем, Леонардо не желал ускорять углубления посредством кисти неземной психологии Тайной Вечери, и он провел эксперимент, к сожалению, неудачный: «фреску» он создал масляными красками, не имея понятия о том, что гидроокись кальция из штукатурки растворяет и разлагает масла, чему весьма способствует и влага.
Действие «Тайной Вечери» Леонардо разместил в затемненном свете сумерек — это время дня он любил особенно, поскольку именно тогда тайны вселенной выползают из своих нор, чтобы материализоваться в виде далеких и непонятных нам звезд. «Полный свет уничтожает форму, делает ее плоской, — писал да Винчи в своем блокноте. — Предметы, более темные, чем воздух, вдалеке делаются светлее; а те, которые светлее воздуха, когда они отдалены, становятся темнее». Потому он ловил для себя краткое время между днем и вечером, находя тот свет, который берет для себя понемногу от двух этих периодов суток. В таком вот полумраке, за длинным, уставленным едой столом, сидит Иисус со своими учениками. В качестве фона у них имеются окна и затуманенный пейзаж — космос. Они что-то обсуждают и жестикулируют губами и руками, спокойно или возбужденно, громко и тихо. С Христом их тринадцать, следовательно, у них должно быть двадцать шесть рук. И хотя всех кистей рук не видно, нам видны направления движения конечностей, и тут оказывается, что кистей на картине двадцать семь — одна лишняя! Двадцать седьмая кисть держит нож.
Эта кисть с ножом появляется из-за спины Иуды, между Андреем и Петром, с левой стороны кадра. Лезвие направлено вверх, то есть, оно не могло бы резать хлеб — этот захват указывает на готовность нанести удар, на угрозу или предостережение. Чей же это захват? Нож находится близко к руке Петра, но если бы вооруженная десница должна была бы принадлежать Петру, настолько вывернутое запястье сломало бы ему кость. Угол наклона и движение правого предплечья и локтя Петра исключают, чтобы это он мог держать этот нож. Его рука не могла вывернуться по спирали, поскольку она ведь не резиновая. Но это и не рука Андрея или Иуды, поскольку никто из них тремя руками не обладает. Чья же тогда?
Я вонзаю взгляд в этот клинок и в пальцы, стиснутые на рукоятке. Как же сложно открывается самый странный из моих островов итальянского архипелага! Время, которому еще помогла экспериментаторская ошибка Леонардо, было жестоко к фреске — картина не похожа на красочные «Тайные Вечери», которые висят на стенах стольких домов, и которые можно купить в любому уголке Италии, какого хочешь размера.
Тайная вечеря (неизвестный автор 16 века) копия фрески Леонардо да Винчи
Но, по странной иронии судьбы, этот фрагмент сохранился даже неплохо, без множества потерь и перерисовок. И хотя Леонардо, в отличие от художников раннего Возрождения, избегал резких контуров и затирал края всякой формы, моделируя объемы мягкой тенью — этот нож и эта кисть, словно вопреки всему, четкие и выразительные. И еще кое что. На столе стоят тарелки, наполненные едой, куски хлеба и фрукты, он весь заставлен блюдами, но на нем нет ни единого ножа! Единственный, который существует во всем панорамном кадре «Тайной Вечери», это клинок, который держит таинственная рука. «Вечерю» внимательно осматривали Парини, Гете, Наполеон и Манцони — невозможно, чтобы они пропустили этот нож. Многое я дал бы за то, чтобы узнать их мысли о нем.
Неужто и здесь художник сделал ошибку? Не заметил, забыл зарисовать или уже не мог по причине специфической природы фрески? Какие уж тут шутки, мы же говорим про да Винчи. Массу подобных ладоней, которые затем волшебным образом воспроизвел краской на стене, перед тем тщательно изучал, делая эскизы на пергаменте — жемчужиной королевской коллекции замка Виндзор до нынешнего дня остаются эскизы кистей рук святого Иоанна или святого Фомы. Выходит, это было сделано сознательно? А если сознательно, то что хотел он этим сказать, что передать, над кем насмеяться или кого-то обвинить? Никто уже на эти вопросы не ответит.
Быть может, это нож рока, подвешенный над тайной вселенной, который когда-нибудь ее рассечет, но момент выберет самостоятельно. Возможно. Макушиньский, который в своих летучих сказках поместил больше истины, чем ее имеется в собраниях ученых трактатов, вложил в уста египтянина, говорящего о собственном предке, такие вот слова: «…мозг его знал все мудрости мира, а сердце его было громадным, потому Бог его и убил, чтобы он не возвысился и не познал ту тайну, в результате которой Бог и является Богом — если бы он открыл ее, не было бы тогда разницы между человеком и Аллахом, что является господином тайны и убивает ею, словно ножом». Вот именно.
Есть в этом послании нечто театральное. Леонардо обожал подобные инсценировки. Среди его наиболее ранних полотен имелась наполненная тайной и ужасом «Медуза» — мифологическое создание, формы которого он придумал сам, а точнее, подсмотрел и объединил, исследуя реальных пресмыкающихся и насекомых. После этого он выставил это свое «invenzione» в пустой, темной комнате, голые стены которой удваивали драматический эффект, и пригласил в нее отца. Тот вошел и тут же в испуге выскочил. Это не только рожа чудища вытолкала его за дверь, но и вся атмосфера молчаливого спектакля.
Отец был первым лабораторным кроликом при исследовании психологических реакций. Впоследствии Леонардо уже не колебался, и во многих своих картинах оставлял то «нечто», которое должно было пробуждать вопрос / страх или шок. Он предвидел, что тайна, которую сам он не преодолел, долго еще останется непреодолимой. И он сигнализировал нам это, только закодированным языком — его послания, это ренессансный шифр не от мира сего, залитый неярким, сумеречным светом. И он, видимо, веселится, видя наши изумленные лица, точно так же, как его развеселил страх отца.
Уже тогда да Винчи открыл, что потому стольких вещей невозможно понять, стольким явлениям попеременно мы приделываем мистические и научные объяснения, потому что тайна жизни, вселенной, всего на свете до сих пор остается похожей на глубокий колодец с истиной на самом дне, мы же не форсировали и первого колодезного сруба. Метерлинк предчувствовал это, размышляя над внутренней красотой: «По мере того, как человек спускается вниз по ступеням жизни, он вгрызается еще и в тайну большей массы печали и бессилия (…) Осознание неосознанного, в котором мы живем, придает нашей жизни величину и значимость, которые та никогда бы не имела, если бы мы полностью не исчерпали то, что знаем, или если бы, не приглядевшись, считали, будто бы то, что нам известно, гораздо важнее того, чего мы не знаем».
Да Винчи, который коленопреклонялся перед наукой, считая ее единственным сверлом, позволяющим вкручиваться в самое дно истины и правды, должен был, наконец, понять ее бессилие перед тайной. Величественные крылья, которые мы столь поспешно пристегиваем современному знанию — разве не похожи они на крылья Леонардо, из-за которых покалечился Астро? Насколько же слабыми механизмами являются глаза, мозги и стеклышки повелителей лабораторий, и сколь же часто те подводят, проигрывая в битве с непонятным. Двадцать два года назад психоаналитик Эммануил Великовский, практически только лишь на основании исследований библейских книг и старинных документов, сформулировал в книге «Worlds in collision» («Столкновение миров») гипотезу, что около четырех тысяч лет назад случилась космическая катастрофа, из-за которой из Юпитера родилась планета Венера. Кроме того, Великовский утверждает, что:
• Солнечная система сформировалась в окончательной форме несколько тысяч, а не, как считают астрономы, миллиардов лет назад.
• Развитие высших существ на Земле, в основном, определяли мутации, проходящие во времена космических катастроф, но не медленная, длящаяся миллионы лет эволюция.
Эта особенная теория, противоречащая научным положениям, вызвала массу издевок, презрения и возмущений со стороны звезд почти всех научных дисциплин, с астрономами во главе. Знаменитый химик Гарольд Юрей высмеял книгу Великовского. Харлоу Шепли, в то время корифей американской астрономии, прозвал автора «Столкновения миров» «одним из наиболее начитанных шарлатанов», а его коллега, Дин, высказался о книге коротко: «Враки, и ничего более, кроме врак».
И вот через два десятка лет старый, измученный человек дождался триумфа. Хотя его гипотеза о рождении солнечной системы, скорее всего, защититься не способна, космические путешествия начали доказывать отдельные точки его рассуждений, в том числе и те, которые современная наука посчитала чушью. Примером является утверждение Великовского про очень тяжелую атмосферу Венеры. Над этим смеялись, но в 1966 году смеяться перестали, когда советский космический зонд «Венера 3» был раздавлен во время приближения к Венере атмосферой планеты, оказавшейся в 95 раз тяжелее земной. Кроме того, оказалось, что и вправду:
• Юпитер высылает сильное радиоизлучение.
• Солнце обладает сильным электрическим полем.
• Планета Венера обладает температурой в несколько сотен градусов Цельсия.
• Поверхность Марса покрыта трещинами.
• Лунная порода проявляет первоначальный магнетизм.
Одно из этих утверждений (радиоволны Юпитера) критиковал сам великий Альберт Эйнштейн, но сменил мнение, когда в начале 1955 года шокированные астрономы Carnegie Institution сообщили о том, что приняли сильные радиосигналы, идущие с Юпитера. Через девять дней Эйнштейн умер, а на его рабочем столе нашли открытый экземпляр «Столкновения миров».
Великовский не применял супер-машин и супер-лабораторий современности. Все, что он открыл, вычислил логически из древних источников, доступных нам уже сотни лет. Самые знаменитые учебные заведения планеты выпрашивают у него возможности проведения лекций в их стенах, но никто не в состоянии понять, каким чудом этот человек, не являясь ни химиком, ни физиком, ни астрономом, открывает тайны вселенной, изучая выкрошившиеся иероглифы и пожелтевшие пергаменты. Ибо, разве, наряду с изумлением, не возбуждает это наш страх? Лоренс Даррелл писал в своем «Александрийском квартете»: «Истинной поэзией нашей эпохи и ее наиболее плодотворной поэмой является тайна, начинающаяся и завершающаяся неизвестностью».
Большинство людей, если бы спросить их о том, куда бы хотели они перенестись, если бы им можно было раз воспользоваться машиной времени, в прошлое или будущее, выбирают второй вариант. Не потому ли, что они носятся с настырной мечтой прикоснуться к большему числу ответов и познать очередную часть тайны и правды из бесконечного сериала жизни? Я же — я выбираю шаг назад, чтобы спросить у Леонардо про тот нож.
«Partir c'est mourir un peu». Только мое прощание вовсе не означает смерти моих зачарованных островов. Путешествие по ним не имеет конца, и наверняка никогда его не найдет, ибо, где можно найти конец увлечениям? Любовь, подкармливаемая воспоминаниями, бывает сильнее той, которую мы переживаем в данный момент.
Перевод: Марченко Владимир (mw), 25.12.2010 Как всегда, посвящаю этот перевод моим девушкам: Люде, Наташе и Лере, старым приятелям Сереже Т., Максу, Игорю, Вите и многим другим, без которых эти книги просто не были бы переведены.