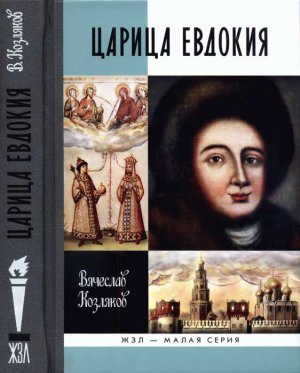
СТАРИНА И НОВИЗНА
Она присутствует в русской истории унылой, надоевшей женой, освободившись от которой Петр Великий уплыл на выстроенном им корабле Российской империи и захватил с собой в вечное путешествие нас, потомков, чтобы мы больше никогда не вспоминали о Московском царстве как об оставленном береге. Запертая в монастырь, царица Евдокия Федоровна, как и полагается монахине, словно бы умерла для мира. Все триумфы и фейерверки петровского царствования были не для нее. И только первый ее сын, наследник Петра царевич Алексей Петрович, остался олицетворением вечной связи с порушенным, «бабьим» миром прошлого века. Царевич, согласно официальной версии, умер потому, что отверг эту новизну Другими словами — не захотел разделить в своем сердце мать и отца.
Невидимое глазу стороннего наблюдателя «женское влияние» на молодого царя-реформатора, будущего триумфатора Полтавы и первого русского императора — «Отца Отечества», все-таки существовало. У Петра была семья, в которой он почитал мать Наталью Кирилловну. Угождая ей, он рано женился, взяв по ее выбору в супруги Евдокию Лопухину. Он был хорошим племянником, неизменно отмечал именины любимых тетушек, заботился о сестрах, особенно о младшей, единокровной Наталье Алексеевне. Семью брата Ивана он тоже любил, как свою. После ранней смерти соправителя положение его вдовы царицы Прасковьи Федоровны (урожденной Салтыковой) никак не изменилось. В отличие от положения собственной жены Петра I, отправленной в Суздальский Покровский монастырь. Петр по-своему позаботился и о дочерях царя Ивана, которые были выданы замуж в соответствии с его политическими расчетами: одна, Екатерина Иоанновна, — за мекленбургского герцога, другая, Анна Иоанновна, — за курляндского. Это имело отдаленные последствия в истории «дворцовых переворотов» в России.
Следствие и суд над царевичем Алексеем Петровичем в 1718 году напрямую затронули царицу Евдокию: ведь это была еще и династическая история. Петру I требовалось узаконить права на престол новой жены Екатерины I и своих младших детей, рожденных во втором браке. Царевич Алексей, хотя и находившийся в полной воле отца, был помехой для этих планов, ибо младшие дочери Петра Анна и Елизавета, рожденные до церковного брака с царицей Екатериной Алексеевной, формально лишались права на престол. Мужская линия наследников Петра I была «выше» по порядку престолонаследия даже дочерей его старшего брата. Все изменилось в 1715 году, когда родился любимый младший сын царевич Петр Петрович — «Шишечка», как его называли родители. Оставалось только подогреть мнительность царя Петра, в том числе рассказами о тайном посещении или переписке царевича Алексея с матерью, пребывавшей в монастыре. А уж когда попутно и совершенно случайно открылась история про сердечное увлечение брошенной им жены, царь воспринял это как «заговор». Он мстительно обнародовал подробности частной жизни бывшей царицы, собственноручно исправил государственный манифест, заставил царевича Алексея и его мать отречься даже от призрачных мечтаний о престоле.
Царица Евдокия Федоровна оказалась неудобной фигурой для апологетов Петра. Отношение к ней во многом определяет понимание истории всей эпохи рубежа XVII–XVIII веков. Как только вспоминается имя царицы Евдокии, неизбежно возникают вопросы о цене реформ Петра, о том, что происходило с людьми, ввергнутыми в пучину исторических перемен. Приведем отзыв историографа князя Михаила Михайловича Щербатова, писавшего в «Записке о повреждении нравов в России»: «Со всем почтением, которое я к сему великому в монархах и великому в человеках в сердце своем сохраняю… не могу я удержаться, чтобы не охулить развод его с первою его супругой, рожденной Лопухиной, и второй брак по пострижении первой супруги, с пленницею Екатериною Алексеевною; ибо пример сей нарушения таинства супружества, ненарушимого в своем существе, показал, что без наказания можно его нарушать»{1}. Оправдывать царя Петра — значит, согласиться и с тем, как он распорядился судьбой первой жены и сына. Хотя не лучше выглядит и простая смена полюсов, когда справедливые укоры Петру, напротив, становятся всего лишь предлогом для подчеркивания его тирании или его слабостей. Отсутствие простого решения не избавляет от дальнейших размышлений о целях и средствах строительства нового. В жизни и судьбе царицы Евдокии есть свои уроки, которые по-настоящему можно понять, последовательно узнавая вехи ее биографии. Тогда можно увидеть, что за скороговоркой о царице Евдокии из исторических трудов о Петровской эпохе или за ее надуманными литературными образами, оказывается, скрывается особенная, но пока не рассказанная жизнь последней московской царицы XVII века.
В 1722 году в указе «О единонаследии» Петр I сформулирует принцип единоличного решения вопроса о передаче власти. Исчерпывающим образом один из главных законодательных актов Петровской эпохи, изменивший историю России, охарактеризовал Василий Осипович Ключевский:
«Этот злополучный закон вышел из рокового сцепления династических несчастий. По привычному и естественному порядку наследования престол после Петра переходил к его сыну от первого брака царевичу Алексею, грозившему разрушить дело отца. Спасая свое дело, отец во имя его пожертвовал и сыном, и естественным порядком престолонаследия. Сыновья от второго брака Петр и Павел умерли в младенчестве. Оставался малолетний внук, сын погибшего царевича, естественный мститель за отца. При вероятной возможности смерти деда до совершеннолетия внука опеку, значит власть, могла получить которая-либо из двух бабушек: одна — прямая, озлобленная разводка, монахиня, сама себя расстригшая, Евдокия Федоровна, урожденная Лопухина, ненавистница всяких нововведений; другая — боковая, привенчанная, иноземка, простая мужичка темного происхождения, жена сомнительной законности в глазах многих, и, достанься ей власть, она, наверное, отдаст свою волю первому любимцу царя и первому казнокраду в государстве князю Меншикову. Можно представить себе душевное состояние Петра, когда, свалив с плеч шведскую войну, он на досуге стал заглядывать в будущее своей империи»{2}.
Царица Евдокия действительно была далека от государственных дел (или просто отстранена от них). Она попала в водоворот исторических и политических обстоятельств. То, как царица пыталась сражаться за себя, наперекор судьбе, оказалось малоинтересно потомкам. А между тем ее присутствие в истории хорошо понималось современниками Петровской эпохи. С ее именем связывались некие ожидания на возврат «старины» Московского царства, которая для многих оставалась милой. Показательно, что в недолгое время правления Екатерины I в 1725–1727 годах царица Евдокия (монахиня Елена) была посажена под арест в крепость Шлиссельбург. В это время вся переписка по делам о содержании «известной персоны» велась верным клевретом Екатерины I Александром Даниловичем Меншиковым. Хотя «старицу» Елену и полагалось содержать так, чтобы она ни в чем не нуждалась, для нее самой это заточение оказалось самым тяжелым в ее и так нелегкой жизни. Особенно из-за той неизвестности, которую обещали годы нового царствования. Ведь оставались в живых еще ее внуки, дети царевича Алексея Петровича. И с ними, как когда-то с сыном, она была разлучена, и их смогла увидеть только тогда, когда они уже повзрослели. Неожиданный и даже чудесный поворот в ее судьбе произошел только в 1727 году, когда умерла императрица Екатерина I и престол перешел к ее родному внуку Петру Алексеевичу II.
Монахине и шлиссельбургской узнице удалось тогда пережить недолгое время триумфа. Она снова стала для своих внуков «государыней бабушкой», а для окружающих — царицей. Жизнь наполнилась понятными житейскими радостями, признанием и почтением внуков — императора и великой княжны, которых можно было порадовать маленькими подарками и гостинцами. Даже вчерашние враги и гонители униженно искали ее «ласкательства». Вокруг царицы Евдокии снова был двор, созданный по указу Верховного тайного совета. Но и это время оказалось недолгим… Один за другим умерли сначала внучка — великая княжна Наталья Алексеевна, а затем внук — император Петр II. Такой удар судьбы, когда окончательно рухнули надежды на продолжение династии, оказался ей уже не по силам. Говорили, что царица Евдокия была соперницей в правах на престол императрицы Анны Иоанновны — дочери соправителя Петра I царя Ивана Алексеевича, но вряд ли. На императорский трон в итоге вступила ровесница несчастного царевича Алексея Петровича, загубленного своим отцом Петром I. Царица Евдокия только и успела, что приветствовать ее коронацию в Москве. Императрица Анна Иоанновна продолжала по-царски содержать двор бывшей царицы Евдокии, но для нее самой пошел уже последний год жизни…
Жизнеописание царицы Евдокии Федоровны Лопухиной впервые явилось на авансцене общественного интереса на рубеже 1850–1860-х годов. Дело ее сына царевича Алексея Петровича до этого времени было тщательно охраняемой династической тайной. Никто открыто не вспоминал о том, как царь Петр расправился со своим запуганным сыном, вынужденным бежать за границу, и о том, как к мнимому заговору царевича Алексея были добавлены «вины» царицы Евдокии, перед этим на двадцать лет вычеркнутой царем Петром из памяти. Даже материалы следствия о беглом сыне Петра I и розыска о его матери хранились в Государственном архиве Российской империи в разделе «Секретнейшие дела»{3}.
Впервые документы по делу царевича Алексея подробно исследовал академик Николай Герасимович Устрялов в «Истории царствования Петра Великого». В ходе работы над большим трудом по истории Петровской эпохи он собрал и опубликовал много материалов как из российских, так и из зарубежных архивов, исчерпывающе иллюстрировавших ход громкого дела, окончившегося смертью старшего сына царя Петра. Выход шестого тома, полностью посвященного делу царевича Алексея, был задержан цензурой, и при появлении в свет в 1859 году он даже несколько нарушил задуманную последовательность издания «Истории царствования Петра Великого» (1858–1863){4}. Естественно, что на страницах этого труда оказались страницы, посвященные и царице Евдокии. Материалы Суздальского розыска 1718 года вошли в приложение к шестому тому наряду с основным корпусом материалов по делу царевича Алексея. Впрочем, вмешательство цензуры не прошло бесследно, ряд документов подвергся в публикации Н.Г. Устрялова недопустимой правке, искажающей обстоятельства побега царевича Алексея за границу и «смягчавшей» сведения о недовольстве бояр царем Петром. Видимо, изъятия в тексте источников были сделаны историком в расчете на спасение всего замысла «Истории…». Последнее обстоятельство уже получило справедливую оценку в историографии{5}, хотя суровость приговора с позиций современной науки не отменяет главного: академик Устрялов стал первооткрывателем научной истории царствования Петра.
Критиковали «Историю царствования Петра Великого» и по другому поводу: за академическую сухость изложения, отсутствие достаточного внимания к тем сюжетам, которые были интересны широкой читательской публике. Восполнить пробелы взялся молодой офицер, преподаватель и литератор Михаил Иванович Семевский (будущий издатель «Русской старины»). Он тоже работал в Государственном архиве с документами дела царевича Алексея и многими другими «тайными» материалами Петровской эпохи. Семевский выбирал самые громкие темы, привлекавшие общий интерес в истории царствования Петра I, рассказывал о деле царевича Алексея и Тайной канцелярии, Анне Монс, царице Прасковье Федоровне и царице Екатерине I. В ряду этих «популярных» трудов в журнале «Русский вестник» в 1859 году был опубликован большой биографический очерк Семевского о первой жене Петра — «Авдотья Федоровна Лопухина». Здесь были впервые опубликованы Манифест 1718 года по Суздальскому розыску и письма царицы Евдокии, конфискованные следствием по ее делу{6}. Сам М.И. Семевский впоследствии снисходительно относился к своим первым журнальным работам, раскрывавшим скрытые обстоятельства истории семьи царя Петра, и не придавал этим очеркам большого значения. Из-за быстроты, с которой одна за другой появлялись его статьи, а также из-за отсутствия у автора специальной подготовки не считали их достойными внимания и историки из числа университетской профессуры, представлявшие официальную науку. Но во многом именно благодаря Михаилу Ивановичу Семевскому в 1860 году цензура разрешила историкам писать обо всех обстоятельствах истории царствования и жизни Петра Великого. Семевский же получил славу борца с «устряловщиной». Он имел полное право написать: «…администрация наша уступала лишь не иначе как с боя, шаг за шагом поле исследователю отечественной новейшей истории…»{7}
В 1860–1870-х годах университетской науке и литературным журналам больше уже не было смысла соревноваться в открытии неизвестных обстоятельств царствования Петра Великого. Освобожденные от цензурных пут историки, особенно Сергей Михайлович Соловьев на страницах своей «Истории России с древнейших времен», подробным образом рассказали о времени царствования Петра I и его наследников, больше не скрывая имени царицы Евдокии. И она, изначально вычеркнутая из русской истории, снова возвратилась в нее, стала, как и положено, значимой фигурой своей эпохи. Отдельного упоминания заслуживает том «Переписки русских государей», опубликованный в 1862 году, куда вошли письма царевича Алексея и царицы Евдокии Федоровны Петру I и ее внуку Петру II, а также материалы о ее шлиссельбургском заточении{8}.
Молчание о царице Евдокии сменилось явным сочувствием, с которым говорили о ней историки. Без упоминания ее имени уже трудно было представить новейшую историю петровского царствования. Вот что написал о своем отношении к царице С.М. Соловьев в одном из томов «Истории России с древнейших времен» (1864):
«Еще прежде сестер Софьи и Марфы Петр постриг жену свою, царицу Евдокию Федоровну. Из известного нам образа жизни Петра с его компаниею, Петра — плотника, шкипера, бомбардира, вождя новой дружины, бросившего дворец, столицу для беспрерывного движения, — из такого образа жизни легко догадаться, что Петр не мог быть хорошим семьянином. Петр женился, т. е. Петра женили в 17 лет, женили по старому обычаю, на молодой, красивой женщине, которая могла сначала нравиться. Но теремная воспитанница не имела никакого нравственного влияния на молодого богатыря, который рвался в совершенно иной мир; Евдокия Федоровна не могла за ним следовать и была постоянно покидаема для любимых потех. Отлучка производила охлаждение, жалобы на разлуку раздражали. Но этого мало; Петр повадился в Немецкую слободу, где увидал первую красавицу слободы, очаровательную Анну Монс, дочь виноторговца. Легко понять, как должна была проигрывать в глазах Петра бедная Евдокия Федоровна в сравнении с развязною немкою, привыкшею к обществу мужчин, как претили ему приветствия вроде: лапушка мой, Петр Алексеевич! — в сравнении с любезностями цивилизованной мещанки. Но легко понять также, как должна была смотреть Евдокия Федоровна на эти потехи мужа, как раздражали Петра справедливые жалобы жены и как сильно становилось стремление не видать жены, чтоб не слыхать ее жалоб»{9}.
Исследования и очерки Григория Васильевича Есипова также были основаны на работе с впервые открытыми для исследования материалами Тайной канцелярии и другими источниками из дворцового архива, где он служил. Есипов опубликовал дело царевича Алексея и подробно описал жизнь царицы Евдокии во времена ее ссылки в Суздале, Ладоге и Шлиссельбурге{10}. Его публикации не только повлияли на новые разыскания в дворцовых архивах{11}, но и заставили современников впервые публично обсуждать вопрос о личности Петра I в свете нового знания о его отношении к первой жене — царице Евдокии и их сыну — царевичу Алексею Петровичу. «Ветеран» историко-археологической литературы Иван Михайлович Снегирев, изучавший обычно фольклор, древности и церковную старину, задавался вопросом в журнале «Русский архив»: «Страдальческая жизнь Евдокии, то царицы, то невольной инокини, то заточницы и опять царицы, не обнаруживает ли нам, какое имел значение Петр, как муж, отец и человек, помимо высокого исторического его значения, как великий государь и преобразователь России? Евдокии выпал плачевный жребий прострадать лучшую часть своей жизни; в ее истории еще остается довольно неразъясненного и необъяснимого, несмотря на новые важные открытия в области истории Петрова времени, которые нам сообщил г. Есипов»{12}. Даже такой известный историк эпохи Петра, как академик Михаил Петрович Погодин, до этого только благоговейно восхищавшийся Петром Великим, вынужден был впервые заметить прямую связь дела царевича Алексея с тем, как Петр Великий беспощадно расправился с его матерью — царицей Евдокией. Историк справедливо написал, что заведомо обвинительная направленность розыска о царице, завершившегося страшными казнями, и есть «новое разительное доказательство искусственности, недобросовестности процесса». Ранее же «дело о царице Евдокии считалось только эпизодом, именно потому, что в его решении не виделось настоящих причин, скрывавшихся между строками»{13}.
«Семейная» история Петра Великого с тех пор утвердилась в числе тем, которые постоянно присутствуют в трудах историков петровского царствования{14}. Но «поле битвы» все равно осталось за М.И. Семевским: более подробно, чем он, о тайной истории Петровской эпохи так никто и не написал. Свидетельством перелома во взглядах общественности стала и знаменитая картина художника Николая Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» (1871), написанная в предощущении 200-летнего юбилея Петра Великого. Репликой историка по поводу этого полотна стал очерк Николая Ивановича Костомарова «Алексей Петрович» в журнале «Древняя и Новая Россия» в 1875 году (там же был опубликован портрет царицы Евдокии). Костомаров раскрыл семейные противоречия Петра I и царицы Евдокии, следствием которых стала страшная развязка. «Царица Евдокия Федоровна была простая русская любящая женщина», — писал историк. Костомаров не склонен был доверять противопоставлениям «приверженной старине» царицы и «гениальной натуры преобразователя», объясняя происшедшее личным выбором царя Петра{15}.
Как бы ни были интересны скрытые дотоле страницы прежней дворцовой жизни, они не могли заменить главной истории России. А в ней оставались основание Санкт-Петербурга, Северная война и походы Петра I, реформы управления, армии и флота. Полное преображение страны, превратившейся из «сонного» Московского царства в Российскую империю, по-прежнему завораживало исследователей. Новое поколение историков, живших на рубеже XIX и XX веков, отошло от порядком надоевшего бытовизма и красот журналистского стиля (которые сегодня, конечно, уже кажутся наивными). Началось подробное изучение государственного управления и хозяйства, административных реформ и внешней политики царя Петра Великого, почти полностью снявшее интерес к частной жизни русского дворца конца XVII века. Его затмили открытые «Миром искусства» барочные картинки дворцовой жизни великолепного «Осьмнадцатого века». Образно говоря, посматривая в «прорубленное» царем Петром окно в Европу, не слишком хотелось оглядываться назад…
Впрочем, ученики научной школы В.О. Ключевского сохраняли интерес и вкус к исследованию трансформации Московского царства в Российскую империю в петровское время. Один из них, Михаил Михайлович Богословский, долгие годы собирал «Материалы к биографии» Петра Великого. В первом томе его труда, посвященном детству и юности Петра, временам его совместного правления с братом Иваном, снова можно было найти упоминания о царице Евдокии. М.М. Богословский использовал внешне архаические приемы исторической биографии, реконструируя повседневные занятия царя Петра. Некоторым разделам его труда больше всего подходит определение «Летопись жизни и творчества». Но в использованных историком источниках, например разрядных книгах, по преимуществу фиксировались лишь внешние обстоятельства дворцового церемониала. Проникнуть «внутрь» события при этом, к сожалению, не удается. И это не вина историка, а условие изучения истории конца XVII века.
Книга М.М. Богословского имела непростую судьбу Работу над ней историк вел в годы революционных потрясений и Гражданской войны в начале XX века, понимая свой труд как миссию сохранения науки. Его многотомное исследование, совершенно свободное от новейшей большевистской идеологии и вторжения политики, в итоге вышло в свет только после смерти ученого и в совершенно другой стране в 1940–1948 годах. Надо сказать, что оно воспринималось как своего рода непонятный «пришелец», ибо культура таких фундаментальных трудов в советской историографии была почти утрачена. Зато с тех пор оно оказалось востребованным всеми, кто интересуется историей Петра Великого.
В новейшем научном издании труда историка, впервые опубликованном по рукописи без купюр только в 2005 году{16}, установлено, что к началу публикации книги М.М. Богословского «Петр 1» имел отношение также «красный граф», писатель Алексей Толстой. Тот самый, чей знаменитый роман о Петре лег в основу сценария советского фильма 1937 года. Царица Евдокия Лопухина появлялась в романе «Петр I» (и в одноименном фильме) в смешной, если не сказать карикатурной, сцене разъедания свадебного «куря» как навязанная царю жена. Потом выигрышный сюжет с «курем» повторится и в фильме «Юность Петра», снятом в 1980 году режиссером Сергеем Герасимовым, довершив в отечественном кинематографе малопривлекательный образ царицы Евдокии — сторонницы старины, не подходившей «прогрессивному» царю.
Показательна полная смена воззрений на петровское время самого Алексея Толстого. После революционного переворота в 1918 году он так оценивал в «Дне Петра» историческую битву между новым и старым: «Но все же случилось не то, чего хотел гордый Петр; Россия не вошла, нарядная и сильная, на пир великих держав. А подтянутая им за волосы, окровавленная и обезумевшая от ужаса и отчаяния, предстала новым родственникам в жалком и неравном виде — рабою. И сколько бы ни гремели грозно русские пушки, повелось, что рабской и униженной была перед всем миром великая страна, раскинувшаяся от Вислы до Китайской стены»{17}. А потом, уже на рубеже 1920–1930-х годов, когда появилась первая редакция знаменитого романа «Петр I», Алексей Толстой исполнил социальный заказ на освещение истории, где все деяния «сильного царя» оправданны, а самодержавие хорошо рифмовалось с большевистской «диктатурой». Царица Евдокия в романе Алексея Толстого — одна из заметных героинь, но она полностью принадлежит ненавистному для Петра прошлому. Поэтому и живет эта героиня из романа как будто сама по себе — неуклюжая, робкая, не понимающая замыслов великого мужа, ревнующая его к Монсихе и неметчине, возмечтавшая о царстве, обидевшая царя в скорби по кончине его матери, оставленная и в итоге отосланная с глаз долой.
Возвращение историков к биографическому жанру во многом состоялось благодаря трудам нынешнего патриарха исторического цеха Николая Ивановича Павленко — автора книг о Петре I, Екатерине I, царевиче Алексее Петровиче и Петре II, а также первых научных биографий «птенцов гнезда Петрова», выходивших в серии «Жизнь замечательных людей»{18}. Царица Евдокия в его книгах — редкий персонаж; историк хотя и не отказывает ей «во внешней привлекательности», но не относит «к числу высокоталантливых людей»: «Евдокия Лопухина, женщина с привлекательной внешностью, но целиком находившаяся в плену старомосковских представлений о своей роли в семье, неспособная, благодаря ограниченному интеллекту, воспринимать новшества, наводившая скуку своей покорностью, быстро опостылела Петру»{19}. Сходным образом говорится про царицу Евдокию и в другой книге Н.И. Павленко, посвященной ее сыну — царевичу Алексею Петровичу: «Евдокия воспитана была в старорусских традициях. Покорная, не способная воспринимать новизну, она тем более не годилась в помощницы своему энергичному супругу, человеку, несомненно, во всех отношениях выдающемуся»{20}. Не будем спорить или опровергать эту точку зрения; достаточно указать, что она основана на общих представлениях о царице Евдокии. С тем, что у создателя Российской империи были все основания избавиться от Евдокии почти так же, как он это сделал с надоевшим московским костюмом, готовы согласиться многие.
Петру Великому, другим правителям и правительницам XVIII века в новейшей историографии посвящены яркие труды историка Евгения Викторовича Анисимова, возглавившего недавно созданный Институт Петра Великого в Санкт-Петербурге. Исследованиями Е.В. Анисимова изменены каноны изучения Петровской эпохи, представшей во всем ее величии и противоречиях как триумф этатизма (преобладания государственного над частным) и воли преобразователя России{21}. В новой, насажденной Петром с помощью «дыбы и кнута», казней и воинских команд системе взглядов обычному человеку с его кругом повседневных занятий и интересов места уже не оставалось. Под пером биографа и исследователя царица Евдокия, вопреки распространенным взглядам, предстает вполне самостоятельной личностью, с запоминающимся характером: «…Ранний брак Петра с Евдокией оказался неудачным. Супруги были очень разными людьми. Евдокия, женщина яркая, волевая, упрямая, не желала жить так, как хотел Петр — в непрестанных походах, плаваниях, гульбе. Она оставалась царицей XVII в. Это не устраивало Петра, рвавшегося к новой, необычной жизни. Между супругами наступило полное отчуждение»{22}. Похожий рассказ содержится и в других популярных работах Е.В. Анисимова, где о царице Евдокии говорится с легкой иронией, «извиняющей» упоминание о семейной ошибке Петра Великого{23}. Автор отдает должное царице Евдокии, из его слов не следует, что она была «покорной» или «ограниченной» теремной затворницей. Историк делает акцент на исторических обстоятельствах, разрушивших первый брак Петра I. Вследствие этого царица Евдокия Лопухина, как и в жизни самого императора Петра Великого, оказывается на периферии внимания. Последняя русская царица так и не покинула глубокой тени, несмотря на «цветущую» современную петровскую историографию{24}.
Есть только одна тема, при изучении которой неизбежно возникает необходимость разобраться в обстоятельствах ее жизни, — дело царевича Алексея. В 1990-е годы состоялось интересное, основанное на новых архивных разысканиях обращение к истории следствия по делу царевича Алексея в работах Сергея Владимировича Ефимова. Он также посвятил ряд статей «Суздальскому розыску» и героине этой книги. По справедливой оценке исследователя, Е.Ф. Лопухина «не сыграла решающую или значительную роль в жизни России, но ее трагедия достойна сочувственного отношения потомков»{25}. Такое отношение к царице Евдокии — скорее исключение, чем правило, а «потомки», как известно, не очень спешат следовать любым призывам.
Историки Петровской эпохи имеют основания оправдывать деяния царя результатами преобразования страны. Согласимся с тем, что царица Евдокия не успевала за Петром, мыслившим не масштабами царского терема, а всего Российского государства. Но стоит ли торопиться с приговором? Ведь у истории существует не одно лишь государственное измерение. Более того, изучая историю России в отрыве от частной жизни людей, стереотипов и нравственных правил, бытовавших в обществе в ту или иную эпоху, можно не увидеть чего-то очень важного. Конечно, уход от магистральной дороги описания Петровской эпохи в сторону частного измерения жизни одного человека может и не привести ни к какому особенному повороту в наших представлениях. Повседневность обычно плохо поддается описанию, а преходящие человеческие эмоции — учету или какой-нибудь бухгалтерской калькуляции. Но отсекая судьбу царицы Евдокии как несущественную часть истории царствования Петра Великого, мы все-таки обедняем ее содержание и грешим против истины. Даже в династической истории Романовых роль царицы Евдокии достаточно заметна. О первой жене царя Петра I знали все современники, ведь было время, когда ее имя поминалось на церковных службах рядом с царским. Судьбой царицы интересовались иностранные послы, записи о ней есть в «Дневнике» одного из первых сотрудников царя Петра — шотландского офицера на русской службе Патрика Гордона. Да и в дворцовом окружении царя Петра оставалось много людей, которым было что рассказать о ней. Но при жизни Петра I своих записок, как правило, они не вели, опасаясь, что их мнения и суждения дойдут до скорого на расправу царя.
Только позже подданные пристрастились к писанию «гистории» царствования первого русского императора. Но при этом на них уже действовал гипноз состоявшейся судьбы отверженной пленницы, не подошедшей великому Петру. Например, князь Борис Иванович Куракин решил составить в своих гаагских и парижских досугах знаменитую «Гисторию Петра Алексеевича», где обратился к годам, предшествовавшим великой эпохе, свидетелем и участником которой он был. В «Гистории…» сохранился самый подробный рассказ о жизни во дворце царицы Евдокии Лопухиной (между прочим, старшей сестры его собственной первой жены Ксении Федоровны Куракиной). Князь Куракин оставил и словесный портрет свояченицы. Его характеристика царицы звучит уничтожающе: «…лицом изрядная, токмо ума посредняго и нравом несходная к своему супругу»{26}. Но все ли здесь было сказано? Помнил ли тот же князь Куракин о положении своей высокой родственницы, когда та была убрана с глаз Петра в монастырь? Ведь он не стал возражать против опалы царицы Евдокии, тем более что вскоре после этих событий, со смертью Ксении Федоровны Куракиной в 1699 году, прекратилась и семейная связь Куракиных с Лопухиными. Хотя события 1718 года всё равно затронули князя Бориса Ивановича Куракина, и он едва избежал царской расправы за свои разговоры с царевичем Алексеем. Само возвращение царицы Евдокии во дворец при коронованном императоре-внуке Петре II состоялось уже после смерти мемуариста, и, как увидим, она повела себя более великодушно по отношению к семье князя, чем это можно было ожидать после прочтения его «Гистории…».
Современники императора Петра Великого, конечно, задумывались над ценой тех перемен, которые он насаждал. Многое объясняется разломом поколений и новой эпохой, неизменно начинающейся рубежом столетий. Тогда молодые люди приветствуют новый век и его привычки, а старики держатся за старое, вспоминая времена, когда они были молоды. Лучше всего о петровской новизне когда-то с восторгом и удивлением написал биограф и почитатель Петра I историк Михаил Петрович Погодин, перечисляя все новшества, которыми продолжали обыденно пользоваться и позже, сто лет спустя. Календарь, начинающийся 1 января, платье, «сшитое по фасону», определенному Петром I, книги гражданского шрифта, газеты. Разные вещи, от «шелкового шейного платка до сапожной подошвы», напоминали историку о Петре Великом: «…одни выписаны им, другие введены в употребление, улучшены, привезены на его корабле, в его гавань, по его каналу, по его дороге». Погодин видел действующие петровские образцы в ассамблеях, Табели о рангах, Генеральном регламенте и путешествиях в разные страны, по примеру Петра Великого, который «поместил Россию в число европейских государств»{27}. Однако, увлеченный своим реформаторством, Петр Великий оказался по большей части слеп к собственному окружению, где чаще выживали не сильнейшие, но подлейшие и вороватые, жившие без каких-либо моральных принципов люди. Лицемерие и соглядатайство становились их второй натурой. Да, они умели всё делать, умели хорошо воевать, строить и управлять, но умели и следить, интриговать и казнить тоже. За блеском новых титулов, орденов и мундиров часто оставались всё те же казнокрады и люди без принципов, боявшиеся только одного — гнева своего патрона, которому были всем обязаны. Про слезы и боль людей историки петровского царствования вспоминают редко, оправдывая всё задачами ведения войны и создания империи. Ведь совсем не зря, по римскому образцу, русский царь стал императором Всероссийским и даже получил титул Отца Отечества. А когда Петр Великий — отец, а его подданные — дети, возможно всё что угодно.
Отношение к царской власти в России определялось тем, что царский чин в глазах подданных имел божественную природу. Поэтому никто в окружении царя Петра I не осмелился возразить ему, и почти все пресловутые царские соратники поставили свои подписи под смертным приговором царевичу Алексею Петровичу и согласились со ссылкой опальной старицы Елены. Потом, когда снова вернулась «царица Евдокия», те же самые люди, кто заключал ее в Ладогу и Шлиссельбург, униженно кланялись ей и даже как ни в чем не бывало передавали приветы от жен и детей, надеясь, что бабушка императора Петра II не оставит их своим вниманием. Как проницательно заметил один историк, «хищные птенцы гнезда Петрова» немедленно заклевали друг друга, оставшись один на один без своего покровителя, исполняя «волю богини Немезиды»{28}.
Эта книга не просто о судьбе царицы Евдокии Лопухиной, а еще и о том, что ради чаемой новизны нельзя переступать через главное в человеческом мире. У человека, угнетенного обстоятельствами, все равно остается своя правда, пусть непонятая современниками, но никуда не исчезающая из истории страны. Московское царство XVII века пало при Петре Великом, но немедленно стало возрождаться при его преемниках. Столица, хоть на короткое время, вернулась в Москву, а Петербург едва не опустел. Кстати, пугающее пророчество «Петербургу быть пусту» тоже приписывают царице Евдокии! Случайно вырванная из контекста показаний по следственному делу фраза о Петербурге стала частью национальной памяти, подходящей временам тяжелых исторических надломов.
Как сказано в «Поэме без героя» Анны Ахматовой:
Глава первая.
В ЦАРСКОЙ СВЕТЛИЦЕ
Немного простых смертных оказывалось на русском троне. Одним из них, как Борису Годунову, это стоило полностью погубленной семьи; другие в обольщении самозванства разрушили себя сами и увлекли вслед за собой в бездну тысячи поверивших им людей. Иначе складывались судьбы жен царей и царевичей, а еще раньше — жен великих князей. Среди них была отправленная в монастырь после развода с великим князем Василием III Соломония Сабурова. Необузданный Иван Грозный с его семью женами вообще донельзя запутал дворцовые дела. Впрочем, его первый брак с Анастасией Романовной стал каноническим примером для последующей династии, строившей свою легитимность на родстве с первой русской царицей. Но другие жены, например Мария Нагая, мать несчастного царевича Дмитрия — последнего сына Ивана Грозного, положили начало недоброй традиции временного пребывания во дворце царской родни с последующим их низвержением и опалой. А родня эта, как правило, была всегда многочисленная. Ведь цариц выбирали по главному принципу: чтобы могла родить наследника престола, поэтому большая семья царицы оказывалась ее важным достоинством.
«Матриархом» в памяти династии Романовых, конечно, осталась царица Евдокия Лукьяновна Стрешнева — жена царя Михаила Федоровича, основателя династии. Петр I был их внуком. Он не мог видеть ни деда, ни бабки, умерших почти за тридцать лет до его рождения. Однако дворцовая жизнь велась в тех самых царских палатах, которые выстроили после Смуты первые Романовы и по некогда установленному ими порядку. Уклад дворцовой жизни, как и почти всё в Московском царстве, менялся не быстро. Напротив, чем лучше сохранялись традиции, тем устойчивее казался общий порядок. Но есть вещи непреодолимой силы, зависящие не только от воли людей. Семейная история царя Алексея Михайловича — отца Петра I — стала основой для долгого, длившегося несколько десятилетий династического кризиса, завершившегося в итоге полным изменением существовавших веками принципов престолонаследия.
Напомню хрестоматийно известные обстоятельства, связанные с рождением старших детей царя — царевны Софьи Алексеевны и царевича Ивана Алексеевича — от его первой жены из рода Милославских, а младшего сына — царевича Петра Алексеевича — от второй жены из рода Нарышкиных{29}. Обе семьи — Милославских и Нарышкиных — стали «воевать» друг с другом еще при жизни царя Алексея Михайловича. И подоплека этой войны более чем прозрачна: те и другие стремились обеспечить права на престол наследникам по своей линии рода. Коллизия заключалась в том, что главный наследник — старший сын царя Иван Алексеевич — был не способен к царствованию, а следующий сын — Петр — еще очень молод. О женском царствовании серьезно никто не помышлял, это противоречило нормам наследования трона. Компромисс, достигнутый в обстоятельствах бунташного времени и триумфа стрелецкой вольности в 1682 году, на некоторое время снял остроту противостояния. Время царевича Петра Алексеевича, уже тогда едва не ставшего единоличным правителем царства, еще не пришло. Стрельцы отстояли «старину». Они насильно соединили у власти две линии царского рода, заставили придворные «партии» считаться друг с другом во имя высшей цели управления Московским царством. Но все это, как и любой компромисс, могло существовать до поры, пока новые обстоятельства не отменят прежних договоренностей.
Брак царя Петра I и Евдокии Лопухиной подготавливался в тех условиях, когда надо было следовать учету интересов «противной» (противоположной) стороны, но он сам по себе становился символом разрушения прежнего мира. Это на деле означало вступление царя в пору совершеннолетия и, как следствие, должно было сопровождаться передачей ему всей власти от старшей, сводной сестры Софьи Алексеевны. Ей изначально была уготована «всего лишь» роль соправительницы двух царей — Ивана и Петра. Вступление в брак младшего брата стало символом перемен, для царевны Софьи настало время отойти от трона и вернуться на женскую половину дворца. Но она этого уже не хотела и еще сильнее стала защищать права на трон брата Ивана, при котором могла оставаться регентшей еще очень долго. Иван Голиков — первый неутомимый собиратель материалов к истории «деяний Петра Великого», опубликованных еще в конце XVIII века, — написал о том, что вдовая царица Наталья Кирилловна поспешила женить сына, потому что узнала, что в семье царя Ивана ожидается прибавление («видя супругу царя Иоанна Алексеевича уже непраздну»){30}. Потом эту мысль запомнил А.С. Пушкин, готовившийся на основании голиковских разысканий написать свою «Историю Петра Великого»: «Супруга царя Иоанна сделалась беременна: сие побудило царицу Наталью Кириловну и приближенных бояр склонить и Петра к избранию себе супруги. Петр 27 января (по друг. 17-го) 1689 г. женился на Евдокии Феодоровне Лопухиной»{31}. Однако домысливая за царицу Наталью Кирилловну, легко и ошибиться в дворцовых счетах. Царевна Мария Иоанновна родилась 21 марта 1689 года, а царь Петр был одним из восприемников своей племянницы{32}. И далее союз двух братьев держался крепко.
Конечно, царь Петр I, которому к моменту вступления в брак не исполнилось и семнадцати лет, еще полностью зависел от выбора матери царицы Натальи Кирилловны и старших родственников. По молодости лет и сложным обстоятельствам придворной борьбы он оказался заложником чужих решений. Необходимость вступления в брак была для Петра такой же ритуальной царской обязанностью, как представительство на многочисленных праздничных церковных службах, приемах послов, отвлекавших его от уже найденных им любимых военных занятий, а также начинавшегося увлечения «корабликами». У Петра I не оказалось в жизни никакой Марии Хлоповой, как когда-то у его деда — царя Михаила Романова, чувства к которой перевешивали бы царский долг сохранения династии{33}. Или как у его отца, вынужденного отказаться от касимовской невесты Евфимии (Ефимьи) Всеволожской и жениться на Марии Милославской по выбору царского «дядьки» боярина Бориса Ивановича Морозова.
Всё это известные обстоятельства, но их рассматривают исключительно с точки зрения политической борьбы или династических интересов, не слишком задумываясь при этом о значении рода царской невесты. Но важно также понять, почему выбор царицы Натальи Кирилловны и ее советников пал именно на род Лопухиных, к которому принадлежала будущая молодая царица. Что предопределило царский брак с представительницей именно этого рода? Какое место отводилось Лопухиным в раскладах придворной борьбы? В средневековом обществе все держалось на родстве, и можно представить, сколько слов тогда было говорено в царской светлице Натальи Кирилловны, как пристально и внимательно рассматривались семьи будущих царских родственников, перед тем как Лопухиных ввели во дворец и, следовательно, в российскую историю.
Путь во дворец
Свою родословную Лопухины — неизвестно, обоснованно или нет, — выводили от касожского (адыгского) князя XIV века Редеги, потомки которого присутствуют уже в первом царском родословце середины XVI века (например, род Сорокоумовых-Глебовых). Однако генеалогов, изучавших родственные связи, смущает многочисленность потомков Редеги, отсутствие достоверных сведений о пресечении той или иной ветви и, как следствие, «удобство» рода Сорокоумовых-Глебовых «для генеалогического обмана»{34}. Кроме Лопухиных к роду Глебовых причислились еще Колтовские, представительница которых — царица Анна — была четвертой женой Ивана Грозного. Бывают такие повторы судеб через поколения: царица Анна Колтовская, в монашестве Дарья, оказалась постриженницей Суздальского Покровского монастыря, где потом окажется и царица Евдокия.
Сами же Лопухины в конце XVI века служили рядовыми детьми боярскими по Мещовску. Первым заметным человеком, чье имя тогда попало в боярские списки, был выборный дворянин Никита Васильевич Лопухин{35}. С него началась и важная для этого рода традиция службы в стрелецких головах, хотя это скорее говорит о невысоком положении Лопухиных в кругу дворянства, служившего по преимуществу на «стратилатских», то есть воеводских, должностях. Старший из братьев Лопухиных Дмитрий Васильевич чем-то не угодил царю Борису Федоровичу, был сослан в «понизовые» города, в Лаишев, где и погиб. В семье осталось предание о том, что его царь Борис «уморил безвинно в Лаишеве нужною смертью в тюрьме»{36}. Другой брат, Никита Васильевич Лопухин, получил вотчину «за царя Васильево осадное сиденье» в Лыченском стану Мещовского уезда; вотчина эта потом перешла к его сыну Аврааму Никитичу{37}. Потомки Никиты Васильевича после Смутного времени гордо говорили о службе предков «искони в городах по выбору» и о вхождении в верхи дворянства — «московский список» при царе Василии Шуйском. Однако в первые годы царствования Михаила Романова Лопухины служили в малозаметных чинах; мы видим их среди жильцов, в обязанности которых в основном входили функции придворной охраны.
Все изменилось для рода мещовских дворян Лопухиных в 1626 году, когда царь Михаил Федорович женился на Евдокии, дочери мещовского же дворянина Лукьяна Стрешнева. С тех пор не только сами Стрешневы, но и близкие им люди по службе в одном и том же «городе» (служило-землевладельческой корпорации уездного дворянства) узнали дорогу в «Верх», как назывались царские покои, вошли в Боярскую думу — правительство Московского царства. Возможно, сказывалось какое-то семейное родство Стрешневых и Лопухиных или покровительство, истоки которого теряются в скрытых фамильных историях уездных дворян. Правда, восстановить их сейчас не представляется возможным. Показательно, что представитель старшей ветви рода Лопухиных, Илларион (Ларион) Дмитриевич, сразу после свадьбы царя Михаила с Евдокией Стрешневой был пожалован в чин московского дворянина{38}. Близость Стрешневых и Лопухиных фиксируется и несколько десятилетий спустя, когда отец будущей царицы Евдокии, Федор Авраамович, и всесильный глава Разрядного приказа Тихон Никитич Стрешнев были ктиторами Мещовского Георгиевского монастыря, они делали туда большие вклады и помогали его строительству. Сам монастырь после разорения в Смуту был перенесен ближе к Мещовску и находился рядом с лопухинской вотчиной — селом Серебряным. Наверное, такая близость монастыря сказалась на воспитании Евдокии Лопухиной, которая могла с детства бывать на монастырских службах и знакомиться с гостями отца, приезжавшими в монастырь на богомолье. Особое положение монастыря подтверждалось царскими вкладами Федора Алексеевича и царского «триумвирата» — Ивана, Петра и Софьи, тоже жаловавших в 1680-х годах деньги и материалы (железо) на строительство каменной церкви в Георгиевском монастыре, деньги на покупку книг и церковной утвари{39}. Такое близкое знакомство со Стрешневыми, очевидно, повлияло на выбор будущей царицы из рода Лопухиных.
Карьера деда царицы, Авраама Никитича Лопухина, началась со службы в чине жильца, когда ему исполнилось 16 лет. В этом чине он прослужил четверть века, пока уже в сорокалетнем возрасте его во время жилецкого разбора не переписали на службу по «московскому списку», то есть не пожаловали чином московского дворянина{40}. Будучи стрелецким головой, Лопухин командовал караулами в царской охране, например, стоял с сотнею стрельцов «в воротех, что на Каменный мост» в дни свадьбы царя Алексея Михайловича в январе 1648 года[1]. Стрелецким начальником служил и его двоюродный брат, один из самых заметных представителей рода — Илларион Дмитриевич Лопухин, раньше всех в этом роду получивший чин думного дьяка, а потом и думного дворянина{41}. В «Дневальных записках Тайного приказа», где фиксировалась повседневная жизнь двора царя Алексея Михайловича, в иные годы имя кого-нибудь из стрелецких голов Лопухиных можно было встретить чуть ли не каждую неделю, когда они со своими приказами охраняли «государев двор». Стрелецкие головы несколько раз в году принимали участие в дворцовых церемониях по поводу больших церковных празднований. Обычно им полагалось идти в процессии за одной из особо почитаемых икон. В дни других, личных торжеств, таких как именины царя, царицы или их детей, стрелецких начальников также принимали и награждали «именинными пирогами»{42}. Дед будущей царицы Авраам Никитич Лопухин еще и воевал. Он выжил в бесславном конотопском деле в 1659 году и даже получил поместную и денежную придачу за эту службу{43}. После завершения Русско-польской войны 1654–1667 годов он продолжил службу во дворце.
Авраам Лопухин был назначен дворецким царицы Натальи Кирилловны 17 апреля 1671 года (хотя делами Царицыной мастерской палаты он стал заведовать даже чуть раньше){44}. В этом назначении тоже есть определенная традиция, ибо управлять царицыным двором и Царицыной мастерской палатой могли только особо доверенные лица, лучше всего из родственного круга. Например, первым дворецким царицы Евдокии Лукьяновны стал ее родственник Федор Степанович Стрешнев. В царствование Алексея Михайловича у его первой жены царицы Марии Ильиничны Милославский долгое время служили отец и сын Соковнины (к их семье принадлежала и знаменитая боярыня Федосья Прокопьевна Морозова, в девичестве Соковнина). Смена царицыного дворецкого Федора Прокопьевича Соковнина (родного брата боярыни Морозовой) на Авраама Никитича Лопухина стала символичным отражением перемен при дворе царя Алексея Михайловича, когда в силу вошел временщик Артамон Матвеев (кстати, тоже бывший стрелецкий голова, участвовавший в охране свадьбы царя с Марией Милославской в 1648 году). Царица Наталья Кирилловна из рода Нарышкиных была воспитанницей Артамона Матвеева. В разряде второй свадьбы царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной в конце января 1671 года Авраам Никитич Лопухин уже не стоял где-то далеко, охраняя вход в Кремль, а «путь слал» новой царице и «великой государыне». А его сын Федор Лопухин охранял царскую свадьбу со стрельцами своего приказа{45}.
Царицыны родственники Нарышкины, а еще Стрешневы и Лопухины более других выиграли от своей близости к Артамону Матвееву. Когда 30 мая 1672 года родился царевич Петр Алексеевич — будущий Петр Великий, при царском дворе состоялись обычные по такому поводу назначения в Думу. Царь Алексей Михайлович пожаловал из думных дворян в окольничие царицыного отца Кирилла Полуектовича Нарышкина и Артамона Сергеевича Матвеева. Окольничество царскому тестю «сказывал», то есть объявлял, Ларион Дмитриевич Лопухин. В тот же день состоялись еще два пожалования в Думу, и опять они коснулись Нарышкиных и Лопухиных. Думными дворянами стали царицын дядя Федор Полуектович Нарышкин и дворецкий царицы Натальи Кирилловны Авраам Никитич Лопухин{46}. В эти радостные дни на дворецкого молодой царицы легло особенно много забот, он готовил пир, состоявшийся после крещения царевича в Чудовом монастыре в день Петра и Павла 29 июня 1672 года. Гостей угощали разными сладостями, на столе стояли «орел сахарной белый большой с державой», «лебедь сахарной литой, весом в два пуда» и даже, трогательная деталь, «кроватка сахарна». Подавались смоквы, имбирь, финики, полосы дыни и арбуза, замысловатые «индейские овощи в патоке» и другие диковины. У царицыного «поставца» сидел и, значит, всем распоряжался ее дворецкий Авраам Никитич Лопухин. После пира благодарная царица Наталья Кирилловна послала сладости со своего стола на двор к Артамону Матвееву, чтобы поздравить его и порадовать своих подруг, живших в его доме.
Приближенные царицы Натальи Кирилловны Лопухины недолго наслаждались вместе с нею своим новым высоким положением при дворе. Вскоре после смерти царя Алексея Михайловича в 1676 году они вместе с Нарышкиными разделили все прихотливые повороты дворцовой жизни. На престол вступил царь Федор Алексеевич, старший брат и крестный царевича Петра Алексеевича (другой восприемницей была их тетка царевна Ирина Михайловна){47}. Главный покровитель Нарышкиных временщик Артамон Матвеев был удален от двора, царицын дворецкий Авраам Никитич Лопухин принял постриг в Троице-Сергиевом монастыре и умер в 1685 году, в возрасте больше восьмидесяти лет. Положение царицы Натальи Кирилловны сильно изменилось. Теперь на лествице наследников покойного царя Алексея Михайловича ее сын стал занимать очень скромное место. А при условии рождения наследников у царя Федора Алексеевича Петр вообще вряд ли когда-нибудь стал бы царем. Соответственно изменившейся роли в династическом порядке наследования по-новому стали воспринимать и прежнюю царицу Наталью Кирилловну вместе с ее двором.
А потом случился великий и несчастный 1682 год, получивший название «Хованщина». Едва не появившаяся в России стрелецкая республика прославилась террором, жертвами которого стали Артамон Матвеев, близкие родственники царицы Натальи Кирилловны, включая ее родных братьев. Царицыного отца Кирилла Полуектовича Нарышкина тоже едва не казнили и лишь «по упрощению» царицы насильно постригли в монастырь. Угроза жизни существовала даже для молодого царевича Петра. Десятилетний мальчик навсегда запомнил страшные сцены бушующей людской толпы у царского Постельного крыльца, требовавшей выдачи ей на заклание бояр. Отсюда его ненависть к стрельцам, да и вообще к связанной с ними московской старине.
В итоге с безвластием 1682 года справилась, как известно, царевна Софья Алексеевна. Но и ей пришлось пойти на соглашение со стрельцами, добившимися царствования двух царей — Ивана и Петра. Софья стала при них фактически регентшей и правительницей государства. Так две линии царского рода — от Милославских и от Нарышкиных — дали предлог для еще одного толкования государственного герба — двуглавого орла. И так же, как этот державный орел, не ладившие друг с другом родственники держали свои головы в разные стороны. Хотя не стоит забывать, что речь шла все равно о родных братьях и сестрах. Юный царь Петр очень любил своего старшего брата, вместе с которым ему приходилось сидеть на троне. В Оружейной палате Московского Кремля до сих пор можно видеть этот диковинный трон, выкованный ажурным плетением, с креслами для двух царей. А за ними — тайное место для советников, подсказывавших, как надо отвечать на вопросы при приеме послов{48}. Конечно, очень часто за спиной у братьев, скрытая покровом, стояла именно царевна Софья Алексеевна.
Известно, что Петр иначе относился к своей сестре Софье, чем к брату, власть которого он всегда признавал. Но не смешивается ли при этом в восприятии тех событий государственный интерес будущего правителя царства с его личными чувствами к сестре? Не стоит ли вспомнить и роль придворных, пытавшихся посадить на трон только одного правителя и покончить с временами компромисса, растянувшимися на целых семь лет с 1682 по 1689 год? Все эти вопросы высокой политики не касались царской невесты Евдокии Лопухиной, но о них прекрасно помнили и знали те, кто устраивал брак молодого царя Петра Алексеевича.
Конечно, нет ничего удивительного в том, что, когда пришло время женить сына, царица Наталья Кирилловна вспомнила о внучке преданного ей дворецкого Авраама Лопухина. Хотя та и не была единственной претенденткой: во дворце в разное время состоялись какие-то смотрины невест[2]. Князь Борис Иванович Куракин в «Гистории о Петре I и ближних к нему людях» вспоминал, что «в 7197-м (1689) царица Наталья Кирилловна, видя сына своего в возрасте лет полных, взяла резолюцию женить царя Петра Алексеевича. И к тому выбору многия были из знатных персон привожены девицы, а особливо княжна Трубецкая, которой был свойственник князь Борис Алексеевич Голицын, и старался всячески, чтоб на оной женить. Но противная ему, князю Голицыну, партия Нарышкины и Тихон Стрешнев того не допустили, опасаяся, что чрез тот марьяж оной князь Голицын с Трубецкими и другими своими свойственники великих фамилей возьмут повоир (pouvoir) и всех других затеснят. Того ради, Тихон Стрешнев искал из шляхетства малаго и сыскал одну девицу из фамилии Лопухиных, дочь Федора, Лопухину, на которой его царское величество сочетался законным браком»{49}. Свидетельству князя Куракина можно доверять. Ведь, как уже говорилось, его женой была младшая сестра царицы Евдокии — Ксения Лопухина, а их дочь впоследствии вышла замуж за князя Михаила Михайловича Голицына. Словом, мемуарист рассказывал о событии, хорошо известном в семьях Куракиных и князей Голицыных. Не говоря уже о возможности узнать слухи от других придворных, всегда зорко следивших за теми, кто попадал в силу. Или, как на французский «манир» выражался князь Куракин, брали «повоир».
Кто такая княжна Трубецкая, которую прочили в жены Петру I, установить нелегко. Этот древний род князей Гедиминовичей едва не пресекся после сложных перипетий Смуты. Выжила одна ветвь аристократического рода, продолжившаяся от князя Юрия Никитича Трубецкого, вынужденного некогда бежать в Речь Посполитую. Его внук, князь Юрий Петрович, был вывезен в Россию только во второй половине XVII века. Он получил боярский чин и женился на сестре князя Василия Васильевича Голицына. Отсюда и «свойство» Голицыных и Трубецких, о котором упоминал князь Борис Иванович Куракин. По возрасту княжна Трубецкая должна была быть дочерью князя Юрия Петровича и младшей сестрой двух его знаменитых сыновей, родившихся в конце 1660-х годов — Ивана Юрьевича и Юрия Юрьевича. Однако в родословии и семейных сказаниях князей Трубецких о дочери князя Юрия Петровича ничего не говорилось{50}, тем более не упоминалось о не состоявшемся родстве князей Трубецких с царствующей династией. Поэтому остается только догадываться, кого имел в виду князь Б.И. Куракин, очень правдоподобно описывая расклад придворных партий, столкнувшихся по поводу предполагаемой свадьбы Петра 1. Возможно, впрочем, что соперница Евдокии Лопухиной умерла в юном возрасте и поэтому оказалась забытой. Но это не более чем предположение.
«Сначала любовь между ими… была изрядная»
Царица Наталья Кирилловна действительно искала невесту сыну с помощью своих родственников и самых надежных людей. Может быть, она даже заранее остановила свой выбор на Лопухиной, которую ей могли представить еще совсем юной девочкой. У будущей царицы Евдокии было еще одно преимущество происхождения: она соединяла не один, а два рода, очень близких к семье царя Алексея Михайловича. По материнской линии Евдокия Лопухина происходила из рода Ртищевых, служивших по другому калужскому городу — Лихвину (оттуда же происходили и царские дворецкие Соковнины). В самом начале царствования Алексея Михайловича Михаил Алексеевич Ртищев получил заметный чин «стряпчего с ключем»{51}, по сути, распорядителя дел в царском дворце. В разряде свадьбы царя в 1648 году он уже упоминается как постельничий, а с чином «стряпчего с ключем» записан его старший сын Федор Ртищев. Матерью царицы Евдокии была Устинья Богдановна Ртищева, вероятно, родственница окольничего Федора Михайловича Ртищева, воспитателя старшего сына и наследника престола — царевича Алексея Алексеевича, умершего в 1670 году. В исторической памяти Ртищев остался как один из самых необычных придворных. Он прославился книжной ученостью и благотворительностью, которую, кстати, совсем не афишировал. Пользовавшийся особой доверительностью царя, он так и не стал боярином и, презирая блага власти, стремился к духовным исканиям и добру{52}. Память о Федоре Ртищеве еще долго оставалась у тех, кто его знал, и могла быть перенесена на весь его род. Когда царь Алексей Михайлович женился во второй раз, Ртищевы никак не участвовали в последовавших дворцовых интригах и дележе чинов. Федор Михайлович остро переживал смерть своего юного воспитанника Алексея Алексеевича, оборвавшую продолжение династии и изменившую самого царя. Один из ближайших к царю Алексею Михайловичу людей, он удалился в свои деревни и вскоре умер.
Князь Борис Иванович Куракин не случайно упомянул еще одного человека — Тихона Никитича Стрешнева, расчеты которого на близость к царю и царице через брак с Евдокией Лопухиной вполне оправдались. Как и ожидания родственников царицы Лопухиных, про которых Куракин высказался очень нелицеприятно: «Род же их, Лопухиных, был из шляхетства средняго, токмо на площади знатнаго… понеже были знающие в приказных делех, или, просто назвать, ябедники»{53}. А ведь какое-то время это были и его родственники! Впрочем, записки князя Бориса Ивановича написаны в то время, когда его уже давно ничего не связывало с Лопухиными, кроме воспоминаний.
27 января 1689 года царица Евдокия была введена во дворец. Тогда же состоялось ее бракосочетание с семнадцатилетним царем Петром Алексеевичем. Судя по сохранившимся разрядам, обычно царские свадьбы становились государственным торжеством, в котором участвовали сотни людей. Бояре мерились «местами», стремясь занять более почетное место при молодом царе, юные стольники — «дружки» царя — впоследствии, как правило, становились его ближайшими придворными. Увы, на этот раз, все было по-другому. Венчание состоялось не в главном Успенском соборе, а в скромной, недавно построенной дворцовой церкви Апостолов Петра и Павла, обряд проводил не весь церковный синклит во главе с патриархом, а царский духовник протопоп Меркурий{54}. У подобной дворцовой скромности могло быть много толкований, однако не стоит забывать, что «негромкой» (в прямом смысле тоже) была свадьба самой царицы Натальи Кирилловны. Царь Алексей Михайлович долго держал траур по царице Марии Ильиничне, умершей после родов, проводя это тяжелое время, по собственному признанию, в «душевных и телесных» трудах. Настолько, что запретил стрелецкой охране дворца во время прохода строем по Кремлю бить в барабаны, чтобы не нарушать сосредоточения молитвы. И не отступил от этого правила в дни свадьбы с царицей Натальей Кирилловной. Выход царя Алексея Михайловича из этого состояния «тишины» был связан именно с новым браком. Царь тайно ходил к патриарху, чтобы получить благословение, а свадьба состоялась только в окружении самых близких придворных. Всем остальным, судя по сохранившемуся б архиве «чиновнику» второй свадьбы царя Алексея Михайловича, имя новой царицы, Натальи Кирилловны, было объявлено позднее{55}. Нет ничего удивительного, что и для свадьбы его сына тоже был использован скромный чин брачного торжества. Хотя много позже панегиристы Петра I, подобные Петру Крекшину, будут писать о том, как царь «поя прекрасную деву» и как «брак был со многим торжеством и с великою всенародною радостию»{56}.
Тем не менее свадьба одного из царей все равно воспринималась подданными как великое событие. Придворный книжник «менший иеродиакон» Карион Истомин преподнес сочиненную им к этому событию иллюминированную рукопись «Книга любви знак в честен брак». Она открывалась парным изображением царя Петра и царицы Евдокии и содержала торжественную эпиталаму с барочным словесным плетением из силлабических стихов. Хотя торопливость Кариона Истомина, хотевшего почтить царскую брачную чету в видах будущих наград, все-таки сказывается. В его риторике нет искреннего чувства, она темна и выспрення, а стилистически вполне укладывается в уже сформировавшуюся при дворе трудами Симеона Полоцкого и Сильвестра Медведева (чьим свойственником был Карион Истомин) традицию таких стихотворных панегириков. Получали их от Кариона Истомина царевна Софья, царь Иван, царица Наталья Кирилловна.
Поэтическое творчество Кариона Истомина еще будет вдохновляться событиями из жизни царской четы — Петра и Евдокии. Он сочинил для молодой царицы Евдокии стихотворное «Желательно приветство… в день рождения», поздравлял царя Петра Алексеевича и царицу с рождением в 1690 году царевича Алексея. Самая важная его работа для русской культуры — составление замечательного букваря — также будет связана с необходимостью обучения первенца в царской семье (причем эта книга в марте 1692 года была поднесена царице Наталье Кирилловне, от которой зависел выбор будущего наставника для царевича Алексея, а не царице Евдокии). Но пока, 30 января 1689 года, Карион Истомин еще только провозглашал первые здравицы «избранной деве Евдокие царице Феодоровне росской владычице», торжественно восклицая: «Потреба царю была в россах ныне / с царицею жить век в любви едине»{57}.
Царевна Софья вынуждена была принять брак своего брата. В январе 1689 года была отправлена окружная грамота с объявлением «государской радости», извещавшая подданных о свадьбе царя Петра Алексеевича. И имя царевны Софьи по-прежнему стояло в общем царском «титле». Как выяснится всего несколько месяцев спустя, именно это включение имени царевны Софьи в общее титулование русских царей больше всего раздражало повзрослевшего Петра. Жителей разных уездов Московского царства извещали, что «в нынешнем во 197 году генваря в 27 день изволили мы великий государь царь и великий князь Петр Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец, сочетатися законному браку, а поняти дщерь Феодора Аврамовича Лопухина девицу Евдокею Феодоровну»{58}. Едва ли не впервые в подобных грамотах говорилось исключительно о царе Петре, обозначая уже намечавшийся передел власти. Хотя в окружной грамоте назван точный день, когда состоялась свадьба, — 27 января, торжества, как и положено, растянулись на несколько дней. Кгрион Истомин подносил свою эпиталаму царской чете только 30 января, а судя по разряду свадьбы царя Алексея Михайловича и царицы Натальи Кирилловны, именно в четвертый, последний день царя и царицу поздравляли патриарх и другие церковные власти, а также московские гости и купцы{59}.[3]
О женитьбе царя Петра Алексеевича на Евдокии Лопухиной, в отличие от других царских свадеб, практически ничего не известно, кроме даты. Отсутствие источников заполнили красивые легенды, растиражированные версии из упомянутого романа Алексея Толстого «Петр Первый» и снятого в 1937 году по его мотивам фильма. Писатель стремился угадать характеры царя и царицы, показывая, как царь Петр, вынужденный согласиться на свою собственную свадьбу под нажимом матери, снисходительно успокаивает боящуюся всего на свете невесту… Царица Евдокия если и запоминается, то картиной совместной трапезы молодых, делящих «куря» после свадебного пира. Кстати, верная деталь, основанная на описании обрядов других царских свадеб, когда пир завершался посылкой молодым блюд со свадебного стола, включая неизменную жареную курицу… Вот как об этом написано в разряде свадьбы царя Алексея Михайловича и царицы Марии Ильиничны в 1648 году: «А после третьие ествы поставили перед царя и великого князя, и перед царицу и великую княгиню, куря жаркое, и большой государев дружка, обертев куря з блюдом, и с перепечею[4], и с солонкою, скатертью другою, отнес к сеннику»{60}.
Каждый этап в этом действе, начиная с приготовлений во дворце, украшения покоев и комнат, освящения еды и одежды, угощения молодых фряжским вином и приготовленным заранее хлебом с солью, имел глубокий смысл. Не говорим уже о самом церковном таинстве. Тот же глубокий смысл имел каждый шаг в шествии от брачного стола в Грановитой палате до сенника, где молодых оставляли одних. На следующий день после свадьбы царь отправлялся в «мыленку» со своими «дружками»; затем совершался обряд открытия покрова с невесты, исполнявшийся посаженым отцом с помощью стрелы, чтобы все могли впервые ее «царские очи видети».
Пир проходил радостно и весело и растягивался на несколько дней. Подавали лучшие блюда и заморские вина, то же фряжское вино, романею, ренское и другие изысканные сорта. На царицыном столе были еще и «жаркий» гусь и «жаркий» поросенок, а также любимое «куря» трех видов: «в калье с лимоны», «в лапше», «во щах богатых». Правда, царь Алексей Михайлович в свое время отказался от музыки сурн, труб и битья в накромы (барабаны), заполнявших шумными звуками пространство дворца весь второй день свадьбы. Вместо «труб и органов и всяких свадебных потех» он распорядился во время царских приемов и «столов», чтобы пели «государевы певчие дьяки… со всяким благочинием»{61}. Но царь Алексей Михайлович воспитан был в особом благочестии, и для него такой шаг представлялся разумным и логичным; во всяком случае, подданные всё приняли и одобрили, хваля царский «честен брак» и «веселие». Зная порывистый, веселый и даже буйный характер его сына царя Петра (которому тогда было примерно столько же лет, сколько и отцу во время первой свадьбы), вряд ли можно предполагать, что на его свадьбе тоже звучали песнопения из Триоди… Спустя год царь Петр будет пускать фейерверки в честь рождения сына, и это больше подходило его нраву.
Сочетание серьезного осознания своей царской миссии со стремлением к безудержным разгулам представляет одну из загадок личности Петра. Очень легко ошибиться, видя в каждом царском шаге государственный интерес и забывая, что Петр был еще и человеком со своими слабостями и страстями. В год своей свадьбы Petrvs, как он подписывался в письмах к матери — царице Наталье Кирилловне, прилежно занимался математикой, астрономией и артиллерийским делом, с увлечением записывал в тетради сведения о «мультипликации» (то есть умножении), знакомился с астролябией и осваивал навыки, необходимые для стрельбы из пушек{62}.
В его архиве осталась памятная записная книжка, где главными, всегда находящимися под рукой будут сведения о кораблях, бомбах, крепостях и фейерверках. Разделить с ним эти увлечения невеста из московских боярышень явно не могла, хотя и она интересовалась какими-то «зрительными трубками» (подзорными трубами?), купленными ей для развлечения, судя по материалам Оружейной палаты.
Живость царя Петра, уже знавшего силу своей власти, могла завести его куда угодно. И не этим ли объясняется скорое решение о царской свадьбе, принятое царицей Натальей Кирилловной? Так полагал, например, несостоявшийся сотрудник А.С. Пушкина в написании истории Петра Великого Михаил Петрович Погодин: «Царица Наталия Кирилловна думала, как бы остепенить сына, которому не сидится дома, который беспрестанно отлучается то туда, то сюда, знается преимущественно с иноземцами не нашей веры, ведет беспорядочную жизнь. Как же остепенить его, усадить на место?» Тогда и было выбрано самое простое и очевидное решение: «окрутить» или женить царя Петра, заключает Погодин: ведь «ему уже пошел 17 год»{63}. Однако скромный, домашний характер свадебных торжеств ничуть не отменяет их значимости ни для царя Петра, ни для подданных. Московское царство узнало имя новой царицы Евдокии Федоровны, и ее уже никогда не забывали, что бы дальше ни происходило с самим государством или с частной жизнью последней русской царицы.
Пару месяцев спустя после свадьбы, весной 1689 года, царь Петр уехал из Москвы в Переславль-Залесский, чтобы строить свои первые корабли. На первый, поверхностный взгляд подтверждается версия о некоем разладе, случившемся в жизни царя и царицы с самого начала. Тот же М.П. Погодин сильно повлиял на утверждение подобных взглядов: «…едва кончился полумедовый, полуполынный месяц, как Петр отпросился на несколько дней в Переяславль посмотреть, что там делается, успешно ли идет строение»{64}. Другой биограф царя Петра, академик Михаил Михайлович Богословский, тоже не избежал беллетристического искуса: «К красавице-жене Петр не почувствовал никакой склонности. По-видимому, его гораздо более занимали в то время заложенные предыдущим летом в Переяславле корабли. Едва миновал медовый месяц и стали вскрываться реки, Петр летит уже, забыв жену, к любимому озеру»{65}. Действительно, послушный и любящий сын, «в работе пребывающий», писал, и довольно часто, своей матери царице Наталье Кирилловне, а вот жене — нет, и даже не упоминал о ней в письмах. Конечно, можно предположить, что письма, адресованные царице Евдокии, просто не дошли до нас. Впрочем, драгоценные автографы Петра I, если бы его переписка с женой существовала, никто бы не решился уничтожить, кроме разве что его самого. Так как все-таки объяснить этот отъезд Петра? Неужели он и вправду с самых первых месяцев брака невзлюбил жену, которую многие признавали красавицей?!
Как бы ни влияли на нас основатели апологетического восприятия Петра I от Погодина до Алексея Толстого, но писательские версии об исключительном герое, Петре-государственнике, не могут оставаться универсальным объяснением всего, что с самых ранних лет происходило в биографии царя. Почему-то мало кому из историков приходило в голову сопоставить время отъезда царя в Переславль-Залесский в 1689 году с церковным календарем… начался Великий пост, и нет ничего удивительного в том, что царь Петр решил не проводить эти дни в коленопреклоненных церковных молитвах, сдерживая себя рядом с молодой женой, а заняться увлекшим его делом. Прекрасный знаток петровской биографии М.М. Богословский упоминал, что в 1693-м, как и в 1692 году царь Петр выезжал в Переславль-Залесский именно в Чистый понедельник, но сделал такой вывод: «Можно заметить, как у Петра, еще очень молодого человека, всего на 21-м году жизни, складываются определенные, постоянные привычки, — любовь к ежегодному повторению установленного порядка»{66}. Это верное в целом суждение — яркий пример того, как заранее сформировавшееся отношение к герою влияет на историков. Почему бы не датировать складывание привычки более ранним временем — 1689 годом, когда Петр впервые начал лично участвовать в строительстве кораблей на Плещеевом озере? Не с тем ли постоянством восемнадцатилетний царь избегал строгих церковных запретов, распространявшихся в пост и на едва начавшуюся семейную жизнь?
Позднее в предисловии к Морскому регламенту царь Петр признавался, что в самый первый раз на Переславское озеро он попал, схитрив, сказав матери, что едет на богомолье, «под образом обещания в Троицкий монастырь», а «потом уже стал просить ее и явно, чтоб там двор и суды сделать»{67}. Было это в 1688 году. И что снова придумал Петр, дабы на следующий год опять уехать на Плещеево озеро?{68} Да, он там немного задержался и пропустил торжества Пасхи 11 апреля и всю Пасхальную неделю, ожидая полного вскрытия воды ото льда. Именно об этом он писал в письме матери царице Наталье Кирилловне 20 апреля: «А у нас, молитвами твоими, здорово все; а озеро все вскрылось сего 20-го числа, и суды все, кроме болшого корабля, в одцелке, тол (ко) за канатами станет». По поводу этих канатов и написано письмо: он просил прислать их поскорее из Пушкарского приказа. Добиваясь своего, юный Петр опять прибегал к хитрости, предупреждая, что из-за канатов «дело станет, и житье наше продолжитца». На самом деле он уже днем 23 апреля «за три часа до вечерни» оказался в Москве и сразу уехал в Преображенское[5]. После чего оставался там все время с матерью и женой, пока в самом начале июня снова не умчался в Переславль на несколько дней. Следовательно, версия о Петре, избегавшем молодой жены красавицы, не выдерживает критики.
Между тем царица Евдокия сразу стала полноправной участницей дворцового обихода. Было кому и «попечаловаться» за нее во дворце царицы Натальи Кирилловны, если бы понадобилось. Ведь свадьба царицы Евдокии еще более приблизила Лопухиных к Нарышкиным. Дядя царицы, боярин Петр Авраамович Большой Лопухин, встал во главе Приказа Большого дворца. У новой царицы, как и положено, был заведен свой двор. По документам архива Оружейной палаты можно назвать некоторые имена членов этого малого двора: «казначеи» Марфа Ивановна Кафтырева (с 9 февраля), вдова Анна Васильевна Сокольникова (с 21 марта), «дворовая девушка» Дарья Михайлова Дорогого. У царицы появились свои первые стольники из совсем молодых дворян — Иван Нармацкий (к этому роду принадлежали стрелецкие полковники) и Степан Таболин (с 21–22 февраля). Как видно, никто из представителей «больших» и заметных родов молодой царице тогда не служил и ее окружение было самое простое. Но она понемногу осваивалась во дворце; в свою очередь и дворцовые служители привыкали к присутствию там царицы Евдокии. 11 марта из Приказа Большой казны было выделено «в Верх» в Царицыну мастерскую палату 890 рублей для раздачи «верховым чинам» по случаю «всемирной радости» — брака царя Петра и царицы Евдокии. Известно также, что в боярынях у царицы Евдокии служили в разное время Авдотья Авраамовна Чирикова, Наталья Осиповна Лопухина и пожалованная из казначей Акулина Владимировна Доможирова{69}.
Пока Петр находился в дни поста в марте — апреле 1689 года в Переславле-Залесском, его молодая царица была занята таким обычным и понятным делом: готовила свои царские наряды! К «телогреям» царицы Евдокии Федоровны покупались атласы и тафта, кружева и «бельи исподы». За всем этим, конечно, стояла другая, рачительная (если не сказать скупая) хозяйка — царица Наталья Кирилловна. Беличья подкладка закупалась одновременно для «телогрей» царицы Евдокии и младшей сестры царя Петра царевны Натальи Алексеевны. А из остатков купленной для царицы Евдокии в Сурожском ряду «тафты красной» царица Наталья Кирилловна распорядилась сделать «бумажник» — украшение для постели в своих хоромах. Но если у царицы Евдокии и были обиды, она, конечно, должна была держать их при себе. Напротив, она благочестиво попросила написать образ ангела своего мужа — апостола Петра. Запись о покупке золота и красок для написания образа в хоромы царицы Евдокии связана с одним из первых упоминаний жены царя Петра в документах Оружейной палаты{70}.
В стремлении понять, как царь Петр относился к своей жене, нельзя пройти мимо единственного сохранившегося письма царицы Евдокии, датированного 1689 годом. Читая его, можно увидеть, что никакого разлада между царем и царицей изначально не существовало, да и не могло существовать. Царица Евдокия писала своему мужу: «Государю моему радости, царю Петру Алексеевичу. Здравствуй, свет мой, на множество лет! Просим милости, пожалуй, государь, буди к нам не замешкав. А я при милости матушкиной жива. Женишка твоя Дунька челом бьет»{71}.[6] Поскольку царь Петр не взял жену с собой в Переславль-Залесский, а отдельно от него, например в Троице-Сергиевом монастыре или Александровой слободе, она пока находиться не могла, Евдокия оставалась в полном подчинении своей свекрови.
Лучше всего дела в молодой семье царя Петра объясняются почтительной фразой невестки: «…я при милости матушкиной жива». Главной распорядительницей в делах сына и после брака была царица Наталья Кирилловна. Не случайно именно ей, а не жене, Петр шлет, одно за другим, похожие на отчет письма из Переславля. К сентиментальным радостям Петр всегда относился насмешливо, предпочитая простоту устоявшемуся этикету. Подпись царицы Евдокии под письмом мужу — «женишка твоя Дунька» — тоже говорит о том, что жена приняла фамильярное обращение Петра. Это было в духе царя. А.С. Пушкин выписал примечательное известие для своей «Истории Петра Великого»: «Петр, получив от Апраксина слишком учтивое письмо (пишет Голиков), отвечает, что он сомневается, к нему ли оно писано; ибо оно с зельными чинами, чего-де я не люблю, и ты знаешь, как к компании своей писать. В другом письме запрещает он ему слово величество»{72}. Свою жену, как видно, он тоже пытался научить близкому ему простому и лаконичному стилю обращений.
Петр I, конечно, прежде всего был воином и строителем, и это ни у кого не вызывает сомнения. В самом юном возрасте он последовательно занимался тем, чему будет посвящена вся его жизнь: осваивал военный строй и стрельбу, превратив со временем «потешные» полки в новую армию. Его новое увлечение водной стихией, согласно интересной версии Юрия Николаевича Беспятых, было похоже на страсть, временами даже болезненную, каким некогда было паническое отторжение от воды{73}.[7] Как заметил исследователь, «Петр пережил потрясение в пятилетнем возрасте и избавился от недуга в 14 лет, то есть в 1686 г. Если так, мы сталкиваемся с поистине удивительным обстоятельством. Выходит, люди, излечившие царя, невольно, так сказать, перестарались, ибо ужас перед водой тут же, без сколько-нибудь заметного временного промежутка, обратился в любовь к ней»{74}. Сначала занятия царя Петра военными маневрами и строительством кораблей не выходили дальше Преображенского, Измайлова и поездок на Плещеево озеро. Но со временем они превратятся в главное дело жизни императора Петра. Однако было бы большим преувеличением думать, что на этом большом пути в жизни Петра изначально противопоставлялись боги войны и любви — Марс и Венера. Молодой царь Петр одинаково поклонялся обоим…
Только со стороны могло казаться, будто царь Петр бежал от своей царицы, думая исключительно о кораблях. На такие мысли можно натолкнуться, например, в одной из самых ранних биографий царя, написанных его современником, новгородским дворянином Петром Крекшиным. Крекшин поэтично описывал состояние молодого царя Петра во время его отъезда в Переславль для строительства корабля в 1691 году: «…так весело и охотно в труде сем пребывая, как весело никто не сядет в брачном пировании, и так к трудам спешил, как бы к Царствованию, и не толико мила ему бысть тогда Держава, елико то двор плотнической при деле онаго корабля…»{75}
Документы, однако, свидетельствуют о другом. Увлечения царя сначала хватило на год, а потом до конца 1691 года Петр не появлялся на Плещеевом озере. Вскоре молодой царь Петр снова вспомнил о месте своих забав и в 1692 году, кроме кораблей, решил строить и новую дворцовую резиденцию. Для «государского хоромного строения» в Переславле-Залесском будет работать Приказ Большого дворца, а мастера-иконописцы Оружейной палаты напишут для царских хором образы апостола Петра и мученицы Евдокии, соименные царю и царице. Царь Петр сам заботился об этом и отдавал распоряжения о росписи «слюдяных окончин» в хоромах, где должны были жить царица Евдокия и их дети{76}. Не правда ли — это уже какая-то другая история, совсем непохожая на ту, которую чаще всего рисуют нам биографы царя?
Мать и жена не зря так настойчиво звали царя Петра возвратиться из Переславля-Залесского в Москву. В столице лучше понимали и чувствовали, что назревали особенные события. С внешней стороны все выглядело пристойно: два брата царя, Иван и Петр, по-прежнему вместе появлялись в дни церковных праздников на службах, и повсюду за ними следовала их сестра царевна Софья. Только-только вернувшись из Переславля-Залесского к 11 июня 1689 года, царь Петр снова стал проводить время в Преображенском. Там тоже заложили «потешный корабль». Петр не оставлял обучения сухопутного «потешного» войска, то есть вел себя так же, как и раньше. Но 15 июня 1689 года состоялось пожалование в чин окольничего главы Стрелецкого приказа Федора Леонтьевича Шакловитого. Дворец бурлил слухами о покушении на жизнь царицы Натальи Кирилловны, ее брата Льва Кирилловича Нарышкина и, возможно, самого царя Петра. Подробности очень скоро откроются на следствии по делу главного зачинщика нового стрелецкого выступления. Ярко и убедительно об этом написал М.М. Богословский: «Речи Софьиных приспешников немедленно передавались ко двору царицы Натальи и передавались в настолько преувеличенном виде, насколько могла преувеличивать сплетня XVII века»{77}. Царица Наталья Кирилловна и ее приближенные тоже не оставались в долгу и своими разговорами об угрожавшей им «девке» — царевне Софье — бередили незажившие раны 1682 года.
Конечно, находившуюся при царице Наталье Кирилловне и не искушенную в дворцовых делах царицу Евдокию такие разговоры тоже тревожили. Она должна была опасаться назревавшей развязки в делах царского дома. На следствии по делу о стрелецком заговоре выяснилось, что Лопухиных, как и Нарышкиных, никто не собирался щадить, их судьба считалась предрешенной. По показаниям пятисотного Стремянного полка Иллариона Елизарьева, переворот в пользу царевны Софьи планировался на новолетие 1 сентября 1689 года. Федор Шакловитый якобы говорил вербуемым им сторонникам: «Лопухиных, де, всех побить, только де оставте одного Василья Аврамовича, и того де оставить для того, буде он Василей Аврамович им не попадетца»{78}. Два царицыных дяди, Василий Авраамович и Петр Меньшой Авраамович, во времена «Хованщины» были стрелецкими полковниками, поставленными на свои должности восставшими стрельцами{79}. Лопухины оказались верны клану Нарышкиных, и полк Василия Авраамовича, в отличие от других стрельцов, тогда оставили в Москве, а не выслали из столицы. Однако стрелецкий полковник Василий Лопухин не смог предотвратить участия стрельцов своего полка в событиях 1682 года. Его ближайший подчиненный и помощник по полковым делам, пятисотный Алексей Иванов, даже был арестован на время{80}. Память о событиях «Хованщины» и двойственной роли Василия Авраамовича в выступлении 1682 года, как видим, никуда не исчезала и семь лет спустя. Но и щадить бывшего стрелецкого полковника, как и других родственников царицы Евдокии, никто не собирался. Тем более что, породнившись с Нарышкиными, они стали продвигаться в чинах и возвысились над другими стрелецкими начальниками.
Отец царицы Евдокии Федор Авраамович Лопухин[8] получил боярский чин в день царского тезоименитства 29 июня 1689 года. По принятому порядку пожалований в бояре царского тестя этот чин мог бы появиться у него и раньше, еще в день свадьбы его дочери 27 января. Но пожалование произошло только пять месяцев спустя, возможно как ответ на недавнее пожалование чином окольничего Федора Шакловитого. Именины царя Петра, в отличие от его свадьбы, праздновались открыто, состоялись большие торжества, в которых участвовал весь двор. Бояре и окольничие угощались ренским вином с царского стола, а люди чинами попроще — водкой. И рядом с царем Петром принимал поздравления с пожалованием в боярский чин отец его царицы Евдокии. Всем ли такое было по нраву? Как свидетельствовал князь Б.И. Куракин в своей «Гистории…», в связи с браком Петра и Евдокии Лопухиной царский двор оказался буквально оккупирован царицыными родственниками (если это, конечно, не преувеличение): «Род же их был весьма людной, так что чрез ту притчину супружества ко двору царскаго величества было введено мужескаго полу и женскаго более тридцати персон. И так, оной род с начала самаго своего времени так несчастлив, что того-ж часу все возненавидели и почали разсуждать, что ежели придут в милость, то всех погубят и всем государством завладеют. И, коротко сказать, от всех были возненавидимы и все им зла искали или опасность от них имели»{81}.
Брак царицы Евдокии и царя Петра явно служил «раздражителем» для партии сторонников царевны Софьи, что в итоге привело к открытому столкновению царя Петра с сестрой. Одни дворцовые слуги и соглядатаи передавали сведения царице Наталье Кирилловне, а другие — царевне Софье Алексеевне. Когда стало известно, что царица Евдокия «понесла», первой об этом, можно не сомневаться, известили царевну Софью. Мечтания Софьи о царстве, если таковые имелись, рассыпались в прах. Тем более что семнадцатилетний Петр стал выказывать старшей сестре явные признаки неповиновения. Его с трудом уговорили подписать указ о наградах князю Василию Васильевичу Голицыну и другим участникам недавнего провального Крымского похода. Это ведь было уже дело, в котором царь Петр начал что-то понимать. И его заставили награждать тех, кто этой награды не заслуживал. Но надо еще видеть наградные «угорские», золотые монеты, в которых то ли на аверсе, то ли на реверсе штамповалось двойное изображение царей Петра и Ивана, и еще одно — крупное изображение царевны Софьи, явно намекавшее на ее роль в Московском царстве[9]. Все это опять всколыхнуло историю с недавним печатанием в Голландии гравюр, где Софья была изображена с царскими регалиями. По Москве они расходились из рук Федора Шакловитого…
Очередной афронт царя Петра, учиненный царственной сестре и ее ближайшему сподвижнику, пришелся как раз на празднование именин царицы Евдокии Федоровны 4 августа. Как и тезоименитство самого царя Петра, это были открытые торжества. В дворцовое село Измайлово съехалась вся знать. Карион Истомин составил и продекламировал «Желателно приветство» в честь царицы Евдокии, посвятив несколько строк и ожидаемому прибавлению царского семейства. При этом в виршах, адресованных царице Евдокии, не обошлось без упоминания о матери царя, что лишний раз подчеркивает ее значение в первый год семейной жизни царственной пары:
Неизвестно, слышал ли эти стихи новоиспеченный окольничий Федор Шакловитый. Он тоже не смог избежать участия в церемониях, какие бы враждебные чувства при этом ни испытывал к Нарышкиным и самому царю Петру. Но явившегося на официальный прием Шакловитого «угостили» по-другому, не так, как остальных бояр и окольничих «фряжским вином». От него потребовали выдать тех, кто умышлял на жизнь Петра I, и даже арестовали на какое-то время, хотя вскоре и вынуждены были отпустить. Нерадостными оказались для царицы Евдокии Федоровны ее первые именины при дворе, сразу же омраченные политической рознью. Ну а дальше произошли многократно описанные события, спровоцированные известием о том, что стрельцы задумали убить самого Петра вместе с матерью царицей Натальей Кирилловной. После ночного бегства царя из Преображенского в Троице-Сергиев монастырь в ночь с 7 на 8 августа 1689 года началось открытое противостояние с сестрой царевной Софьей, закончившееся устранением ее от власти и ссылкой в монастырь{83}.
Петр настолько испугался за себя, что, можно подумать, вовсе забыл про свою семью, обожаемую мать, молодую жену и других обитательниц женской половины дворца, в числе которых была и его младшая сестра царевна Наталья Алексеевна. «Вольно ему, взбесяся, бегать», — зло отреагировал на это Федор Шакловитый{84}.[10] Но серьезность событий подтвердилась уже на следующий день, когда весь двор царицы Натальи Кирилловны, включая царицу Евдокию, тоже выехал из Преображенского следом за царем. Осадок от того, что царь бежал ночью, в одной рубашке, сам по себе, а мать, жена и сестра остались на какое-то время брошенными им в опасности, никуда не делся. Во всяком случае, детали ночного бегства Петра в Троицу хранили в тайне, подчеркивая только необычный, вынужденный характер отъезда царской семьи. В объявлении о пожаловании начальников и стрельцов всех московских полков прибавкой к годовому жалованью снова вспоминали события ночи на 8 августа, когда царь Петр, его мать, «супруга его государева, великая государыня благоверная царица и великая княгиня Евдокия Феодоровна», а также сестра-царевна, «убояся их (заговорщиков. — В. К.) таковаго злаго умышления и смертного убийвства, из села Преображенского пошли в Троицкой Сергиев монастырь тайно, не так, как, по их царскому обыкновению, бывают их государские походы»{85}. Награды раздавались одновременно с казнью «вора и изменника и бунтовщика» Федора Шакловитого, состоявшейся 12 сентября 1689 года. А победителей, как известно, не судят.
Царевна Софья еще сопротивлялась какое-то время уготованной ей участи, но и она вскоре сдалась и в конце сентября 1689 года была заключена в Новодевичий монастырь. На страницах розыскных дел остались свидетельства то ли ее слабой защиты, то ли неосуществившихся намерений. Главным препятствием для царевны Софьи были даже не Петр и не его царица Евдокия, о которой не вспоминали в это время острейшего столкновения придворных партий, а царица Наталья Кирилловна и Нарышкины со всем своим родом и свойственниками. Именно они, находясь за спиной Петра и прикрываясь его именем, отстаивали свои интересы. С другой стороны, для царевны Софьи, как она говорила в 1682 году и повторяла позже, самым главным делом оставалась судьба ее единокровного брата царя Ивана. Именно заботой об охране его жизни, на которую якобы покушались Нарышкины, и оправдывала она свои действия. По «сказке» пятидесятника Ильи Афанасьева, царевна Софья призывала верных ей стрельцов послужить «верою и правдою», говоря у себя «в Верху» в хоромах: «Нарышкины де затевают, сложась с Лопухиными, и хотят изогнать государя царя Иоанна Алексеевича, и доходят де до моей головы»{86}. Но царь Петр победил, а вместе с ним победили и Лопухины — родственники царицы Евдокии, избежавшие, может быть, гибели и полного разорения своего рода.
Справившись с заговорщиками, казнив Федора Шакловитого и наказав других своих врагов, царь Петр вернулся к тем же самым занятиям «потешными», от которых его едва не отлучили. Из Троице-Сергиева монастыря царский двор (на этот раз уже вместе со всей женской половиной) переехал в близлежащую Александрову слободу, а оттуда 6 октября 1689 года двинулся в Москву{87}. Все опасения, что жизни братьев-царей кто-то угрожает, оказались надуманными. Оба брата стали еще больше поддерживать друг друга, и со стороны трудно было заметить, что в обычном распорядке придворной жизни с церковными службами и празднествами что-то изменилось, кроме отсутствия царевны Софьи и прежних временщиков. Князю Василию Васильевичу Голицыну сохранили жизнь, хотя лишили имущества и чинов и отправили в далекую ссылку на Север.
Жизнь пошла вперед, а нити управления Московским царством оказались в руках матери царя Натальи Кирилловны. О скрытой от глаз дворцовой жизни подданные могли судить по церемониалу, участию царей в выходах и приемах по случаю великих церковных праздников, именин царей Петра и Ивана, царицы Натальи Кирилловны и царицы Евдокии. Важное значение имело то, кто находился рядом с ними и часто приглашался во дворец, кто заседал в Боярской думе. Ближайшим советником царицы Натальи Кирилловны стал ее младший 25-летний брат Лев Кириллович Нарышкин (с его именем связаны строительство знаменитой церкви Покрова в Филях и начало так называемого «нарышкинского» барокко). Важное место в правительстве занял бывший кравчий царя Петра боярин князь Борис Алексеевич Голицын, ярко проявивший себя в обстоятельствах вынужденного «троицкого похода». На первые роли со временем также выдвинулся боярин Тихон Никитич Стрешнев{88}. Последний, как помним, был покровителем Лопухиных и царицы Евдокии. В числе приближенных царицы Натальи Кирилловны становится заметным и царицын дядя Петр Авраамович Большой Лопухин.
19 февраля 1690 года царица Евдокия родила сына — царевича Алексея. Жизнь новой династии, казалось, должна была пойти своим чередом. Но уже в торжествах по случаю рождения и крещения наследника можно заметить искры разгоравшегося пожара и нового раскола. Патриарх Иоаким стремился следовать традиции, он стал восприемником царевича Алексея вместе с царевной Татьяной Михайловной. Царь Петр присутствовал вместе с царем Иваном на праздничном молебне в Успенском соборе в день рождения царевича, но 23 февраля, когда царевича Алексея крестили в Чудовом монастыре, на торжество опоздал. В отличие от матери, царицы Натальи Кирилловны, которая была «в предстоянии» у купели, «царь Петр пришел, как постригали власы». Потом царь и царица «слушали в монастыре обедню». 28 февраля состоялся обед во дворце, на котором присутствовал патриарх Иоаким. Обед прошел по положенному чину, «только заздравная чаша одна государская была»{89}.
Царь Петр, видимо, стремился сократить церемонии приемов и угощений гостей. Ему приходилось приспосабливаться, и если днем он исполнял положенный дворцовый ритуал, то ночью ездил и веселился в обществе старшего друга и опытного воина Патрика Гордона и других приближенных. Так, например, в те же дни он обедал у своего дяди Льва Кирилловича в Филях. Царь был необычайно весел (веселость эту описал сам Патрик Гордон в своих знаменитых «Записках») и очень радовался рождению сына. Патриарх Иоаким и многие другие крайне негативно относились к иностранцам, служившим «в начальных людях» в русских полках, и, конечно, не могли одобрить действия царя. Даже в своей духовной патриарх будет продолжать спор с царем и напишет именно об этом: «Иноверцы же аще и прежде в древних летех в полках Российских и в нашей памяти быша, где пользы от них сотворяшеся?»{90}
Историк М.М. Богословский, описавший многодневное веселье молодого отца Петра, посчитал, «что рождение сына было для семнадцатилетнего Петра событием безразличным, совсем его не захватившим»{91}. Но вряд ли это было так. Царь Петр испытывал безразличие только к тому, как «полагалось» радоваться, и к службам, присутствия на которых пытались от него требовать мать-царица и патриарх. В честь новорожденного царевича в Кремле маршировали стрелецкие полки, «устроясь ратным строем, в цветном платье», и «поздравляли» государя, то есть стреляли из мушкетов, а их начальники кланялись до земли, в ответ на похвалу царя{92}. Особенно угодил царю Патрик Гордон, приведший свой Бутырский полк для поздравления царя и царицы в день крещения наследника 23 февраля 1690 года и показавший настоящую выучку вверенного ему войска. Полк Гордона, стоя под развевающимися знаменами, с барабанным боем, выстроился в три линии: стрелки в первом ряду стояли на коленях, над ними, наклонившись, — вторая линия, а далее — в полный рост — третья. Когда все три ряда одновременно стали стрелять, салютуя царю, Петр с восторгом просил повторять это зрелище, «снова и снова». Шагом к примирению со стрельцами по случаю крещения царевича было также и возвращение боярства одному из князей Хованских — Петру Ивановичу. Царь Петр праздновал целую неделю после рождения царевича, устроив в завершение еще и грандиозный фейерверк, на котором присутствовали и он сам, и его брат Иван, и обе царицы, а также иностранцы со своими семьями{93}.
Глава вторая.
ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ
Рождение наследника царского престола — важнейшее событие в жизни любой монархии. По принятому в конце XVII века порядку престолонаследия царевичу Алексею, названному в честь своего царственного деда, предстояло продолжить династию Романовых. Избавившись от честолюбивой царевны Софьи Алексеевны, партия Нарышкиных могла торжествовать победу. Тихий, нуждавшийся из-за слепоты в чьем-либо покровительстве, Иван Алексеевич сам по себе, без сестры Софьи, уже не представлял никакого препятствия для единоличного правления Петра.
Царь Иван продолжал участвовать в дворцовом церемониале, праздничных церковных службах, но не более того. Его младший брат царь Петр старался не утруждать себя даже этим. Власть во дворце полностью перешла к царице Наталье Кирилловне, и «женское» правление, от которого старались уйти, обвиняя царевну Софью в разных грехах, так никуда и не исчезло. Изменилось дворцовое окружение, но лучше ли князей Голицыных оказались Нарышкины и Лопухины? Современник князь Борис Куракин написал о временах царицы Натальи Кирилловны: «В правление ея знатнаго ничего не происходило, токмо все дела происходили с великими взятки»{94}. Об этом же определенно выскажется Михаил Михайлович Богословский: «Правление кабинета посредственностей»{95}.
Семейные будни
Представительство Лопухиных в Думе усиливалось с каждым годом. Так, по случаю рождения царевича Алексея боярский чин получил еще один дядя царицы Евдокии — Петр Авраамович Меньшой Лопухин. Но, видимо, власти, чинов и богатства всем Лопухиным все равно не хватало. То, что раньше заставляло держаться вместе новую дворцовую знать из мещовских дворян и стрелецких полковников, получившую всё «по кике» царицы Евдокии Федоровны, рассорило их, когда пришла вожделенная победа над аристократией. Лопухины, как писал князь Борис Куракин, сумели чем-то раздражить даже своего благодетеля Тихона Никитича Стрешнева, возглавившего Разрядный приказ: «О характере принципальных их персон описать, что были люди злые, скупые ябедники, умов самых низких и незнающие нимало во обхождении дворовом, ниже политики-б оной знали. И чем выступили ко двору, всех уничтожили, и Тихона Стрешнева в краткое время дружбу потеряли, и первым себе злодеем учинили»{96}.
Князь Борис Иванович Куракин как свояк царицы Евдокии рассказал и о том, что можно было узнать только от самих царских родственников. Царица Наталья Кирилловна, по его словам, «невестку свою возненавидела и желала больше видеть с мужем ее в несогласии, нежели в любви». И еще: «Помянутая царица Наталья Кирилловна возненавидела царицу Евдокею и паче к тому разлучению сына своего побуждала, нежели унимала»{97}. Причина этой ненависти неизвестна, и стороннему наблюдателю, равно как и историку, не совсем понятна. Приходится верить мемуаристу на слово: возможно, он что-то знал от своей жены — царицыной сестры. Царицу Евдокию, родившую наследника, кажется, не в чем было упрекнуть. Однако и сам царь Петр быстро охладел к ней и ее родственникам. «Правда, сначала любовь между ими, царем Петром и супругою его, была изрядная, — пишет князь Куракин, — но продолжилася разве токмо год» (еще раз вспомним, что именно на этот год пришлись поездки Петра в Переславль-Залесский, в которых не было ничего «полынного»). Причины того, что «изрядная» любовь быстро «пресеклась», конечно, также не могут быть оценены однозначно. В дворцовой жизни каждая мелочь имела значение, а быстрый переворот в пользу Петра скорее навредил царице Евдокии, ставшей еще больше зависеть от воли невзлюбившей ее свекрови царицы Натальи Кирилловны.
Между тем жизнь царицы Евдокии после рождения царевича Алексея стала подчиняться привычному порядку русских цариц. Она делила свое время между пребыванием в хоромах в кремлевском «Верху» в «Потешном дворце» и «выходами» в дворцовые села в летние месяцы. Например, остались записи о приездах царя и царицы в Измайлово, где, по обыкновению, они осматривали сады, погреба и стекольный завод{98}. Царица Евдокия Федоровна, видимо, полюбила изысканную посуду и не отказывала себе в удовольствии выбрать что-то из Измайловского стекла. «В записной книге 1690 и 97 годов читаем, что цари Иван и Петр и царица Евдокия Феодоровна нередко осматривали стеклянный завод, брали себе оттуда посуду, которая хранилась в Приказной и Овощной палатах. Бокалы, кружки и стаканы с Измайловского завода еще уцелели в Оружейной палате и у любителей древностей», — писал в XIX веке историк московской старины Иван Михайлович Снегирев{99}. В хранилище древностей в Оружейной палате и сегодня находятся серебряные сосуды, которыми пользовалась царица Евдокия. Интересно, что до этого они принадлежали самому Ивану Грозному![11] Словом, бедной родственницей во дворце царица Евдокия никак себя не ощущала, а перелом в отношениях царя Петра к жене наступил позже.
В ночь с 3 на 4 октября 1691 года у царской четы родился еще один сын — царевич Александр. Его появление на свет приветствовали утром звоном во все колокола на Ивановской колокольне, а Петр сделал исключение и ради новорожденного приехал на несколько дней в Москву из Преображенского. О том, как это было, дает представление книга записей патриарших богослужений в Успенском соборе в Кремле, опубликованная в «Древней российской вивлиофике». Нового московского патриарха Адриана о рождении царевича известил царский тесть Федор Авраамович Лопухин «в первом часу нощи». Именно патриарх Адриан распорядился о благовесте, а утром послал своего дворецкого в Преображенское, чтобы передать царю Петру весть о рождении сына. Утром царь приехал во дворец и был встречен с положенными поздравлениями и службами с участием патриарших певчих: «…а по ведомости как государь Петр Алексеевич вошел в хоромы, и пришли по чину Красным крыльцом со звоном в осьмом часу, и пели по чину многолетие без новорожденного, и по чину молебен со звоном, как в рождении царевича Алексея, и по молебне поздравление, и певчие многолетие пели с новорожденным»{100}.
Рождение царевича Александра, как писал князь Борис Куракин, праздновали еще больше, чем появление на свет первенца в царской семье: «А на другой год родился царевич Александр Петрович, из котораго наибольшее порадование было. И при тех рождениях последний церемонии дворовыя отправлялися, как обыкновенно: патриарх и бояре и все стольники, гости и слободы были с приносом, и протчие»{101}. Отслужив молебны, приняв поздравления, пожаловав вином и водкой свой двор и гостей, Петр поспешил обратно, потому что на ближайшие дни приходились давно готовившиеся им маневры, получившие название второго Семеновского похода{102}. Крещение царевича 1 ноября 1691 года в Чудовом монастыре прошло очень скромно, по-домашнему. Восприемником был уже не патриарх, а келарь Троице-Сергиева монастыря, а вместе с ним сестра Петра царевна Наталья Алексеевна. Патриарх и патриаршие слуги участия в этом действе не принимали, «и стола не было». Однако ни о чем, кроме известного желания царя Петра не тратить время на различные церемонии, это не говорит. Напротив, именно после рождения второго сына царь Петр и решил позаботиться о своей семье, повелев строить дворец для нее в Переславле-Залесском. Он сам съездил в Переславль около 19 ноября 1691 года, чтобы распорядиться строительством на месте. И всю зиму и весну в Переславле-Залесском кипела работа.
Жаль только, что об этом царском дворце остались одни воспоминания. Страницы архивных дел с распоряжениями о строительстве и работах по украшению дворца рассказать могут немногое. Только в местной истории сохранились заботливо собранные сведения о том, где должен был находиться дворец и как он мог выглядеть. В одной из краеведческих работ 1920-х годов, посвященной истории «Ботика Петра Великого», говорилось: «По сохранившемуся народному преданию, царский дворец стоял на том месте, где теперь Петровский музей, вмещающий в себе ботик “Фортуна”, — только он подходил ближе к озеру. Против дворца к озеру был фруктовый сад. Вправо от дворца к селу Веськову находилась деревянная церковь Вознесения, отчего ближайший овраг получил название Вознесенского. Влево от дворца был колодезь, далее возвышение, известное под именем Гремяч, а за ним курганы (несколько холмов, расположенных рядами); позади дворца амбары и погреба; за ними немного в сторону к селу Веськову стояла кузница. Вниз к озеру от делового двора по скату горы шел спуск, от которого до озера прокопан был канал. По этому спуску и каналу небольшие суда, изготовлявшиеся на деловом дворе, спускались в озеро. А большие корабли, надо думать, строились на лугу близ озера и затем по каналу вводились в него, а затем ставились на причал у пристани, устроенной на сваях против самого дворца». Приходится довольствоваться исключительно этой реконструкцией, основанной на устных рассказах, сохранявшихся до начала XX века. Правда, записаны они одним из лучших знатоков местной истории Михаилом Ивановичем Смирновым и поэтому заслуживают доверия: «По народной же памяти царский дворец стоял на двенадцати венцах, на пространстве восьми сажен и крыт был, одни говорят — черепицей, другие — железом. Оконницы были слюдяные, в одних комнатах простые, в других — с изображением разных фигур человеческих, цветов и животных. Вход во дворец был от озера; в него вели три двери, обитые войлоком; над средней дверью был прикреплен на железном шпиле двуглавый орел из листового железа. Во дворце было пять комнат, — полы в них дубовые, печи изразцовые муравленные с изображением людей, птиц, цветов и зверей»{103}.
Но все заботы о строительстве оказались напрасными. Дворец был заброшен, строительство остановили, и даже любимые корабли Петра I остались на вечном приколе у берегов Плещеева озера. Замыслы Петра пришлись на очень трудные для него времена: царскую семью стали преследовать тяжелые болезни и смерти близких людей. 14 мая 1692 года умер второй сын Петра царевич Александр. И хотя младенец был с почестями похоронен в Архангельском соборе, сам царь Петр не присутствовал на погребении сына{104}.[12] Более того, царь запретил «дневать и ночевать» боярам и другим приближенным у гроба царевича. Историки, зная о будущей незавидной судьбе царицы Евдокии, делают однозначный вывод о начале разлада. «Что могло быть причиной такого прямо неприличного отсутствия Петра на похоронах сына? — спрашивал М.М. Богословский. — По всей вероятности, полное равнодушие к семимесячному младенцу, сыну от нелюбимой уже царицы, к которой он совершенно охладел, встретившись с Анной Монс»{105}. Однако мы опять сталкиваемся не более чем с инерцией восприятия канонического «Петра Великого» и сложностью понимания того, что не очень укладывается в привычные обстоятельства. На поминальной службе в Успенском соборе 15 мая действительно присутствовал один царь Иван, по этому поводу подобающе одетый в траурный кафтан «объяринной брусничного цвету». Однако царь Петр не участвовал только в общих траурных церемониях. Напротив, вместе с царицей Евдокией он был на панихиде в дорогой им обоим дворцовой церкви Петра и Павла, где их когда-то венчали. Окружающие бояре, думные и ближние люди, по распоряжению Петра, были в обычных «ходильных» кафтанах. Однако это опять-таки не говорит о том, что Петр остался равнодушен к смерти сына, но свидетельствует лишь об особенном отношении царя к погребальному ритуалу.
Вспомним, что самым близким человеком для Петра была мать, царица Наталья Кирилловна. Между тем в бесстрастных разрядных книгах записано, что «выходу» царя Петра «на погребение» матери тоже не было! Как замечает современный исследователь Ю.Н. Беспятых, «биографы Петра проявляют немалую изобретательность, оправдывая его до неприличия странное поведение в эти дни. Сын уехал из Кремля в Преображенское за четыре часа до смерти матери, не присутствовал на похоронах 26 января, не был на заупокойных литургиях на третий, девятый, двадцатый и сороковой день»{106}. Трактовать это инстинктивное отторжение царя Петра от смерти можно как угодно. Но не стоит забывать и другое: сразу вслед за похоронами царь Петр ходил в одиночестве молиться на могилу матери в Вознесенском монастыре и повторял это каждый раз, «как бы украдкою» (М.М. Богословский), накануне или в день заупокойных богослужений. Петр Крекшин говорил, что царь Петр «с великой печали… нача чувствовать скорбь в телеси, приходя на гроб, рыдая неутешно»{107}. Может быть, Петр попросту не хотел, чтобы кто-то увидел слабость или даже болезнь царя, плачущего в одиночестве над гробом? И чем ближе были для него люди, тем невыносимее было участие в общепринятых ритуальных действиях.
Еще раньше, в мае 1691 года, царица Евдокия лишилась своей матери Устиньи Богдановны. Поскольку речь уже шла не об обычной дворянке, а о матери царицы, то и последние почести ей должны были воздаваться по-особому. В кремлевском Вознесенском и Новодевичьем монастырях хоронили только великих княгинь и цариц или царских дочерей. Некрополь семьи бояр Романовых с древности существовал в Ново-Спасском монастыре. Для погребения тещи царя выбрали Спасо-Андроников монастырь, так как еще ранее там был похоронен Илларион Дмитриевич Лопухин. Так начиналась особая страница в истории этой обители, и позднее связанной с родом Лопухиных. В 1691–1694 годах в Спасо-Андрониковом монастыре была перестроена трапезная с церковью, после ее надстройки получился целый храмовый комплекс. «Программа» его посвящений достаточно определенно говорит о целях строительства. С востока к трапезной был пристроен новый храм во имя архистратига Михаила: так в Спасо-Андрониковом монастыре была устроена своя «архангельская» усыпальница Лопухиных. У церкви был придел Петра и Павла, ибо почитание небесного покровителя мужа — апостола Петра — было для царицы свято. Над сводами нового храма был надстроен четверик с церковью во имя Алексия митрополита. Увенчание нового объема храма церковью во имя небесного покровителя сына, царевича Алексея Петровича, тоже многое объясняет{108}. Так, исподволь, в 1690-х годах создавался монастырь, в котором царица Евдокия могла и хотела бывать очень часто. Но судьба приготовила ей совсем другое монастырское житье…
Несчастный для царицы Евдокии 200-й (1692) год, отнявший ее второго сына царевича Александра, имел далекие последствия. Обычный дворцовый церемониал по поводу ее тезоименитства 4 августа 1692 года решили отменить. Прошло мало времени с траурных дней, чтобы по обычаю принимать бояр и стольников во дворце. Поэтому церемонии в Кремле в день Евдокии, включая традиционное жалование «кубками фряжских питей» и водкою, провел царь Иван Алексеевич{109}. Царская семья уехала еще 22 июля из Москвы, как было объявлено, на богомолье в Троице-Сергиев монастырь. На самом деле царь Петр повез мать царицу Наталью Кирилловну и царицу Евдокию с сыном царевичем Алексеем в Переславль-Залесский, где строились корабли и новый дворец. В середине августа 1692 года сюда же по распоряжению Петра прибыл Бутырский полк Патрика Гордона, чуть позже приехал любимый царем Франц Лефорт, для которого царь распорядился выстроить собственный дом («очень красивое здание», как говорил о царском подарке сам Лефорт). Царь Петр давал для своих новых любимцев обеды на «адмиральском» корабле и палил из пушек в их честь. Франц Лефорт командовал кораблем под названием «Марс». Хотя флотилия из кораблей и «бригантин» была, как и полки, «потешной». Однажды петровский флот даже простоял целых два дня на противоположной стороне озера, ожидая попутного ветра. Конец этого лета в Переславле-Залесском (как оказалось, последнего из тех, которые царица Евдокия провела рядом с мужем) завершился еще одним празднеством именин царицы Натальи Кирилловны 26 августа. После этого 1–3 сентября двор (сначала царь Петр, а следом — царицы) вернулся в Преображенское на новолетие наступавшего 201-го (1692/93) года, которое при Петре стало праздноваться с иллюминацией, фейерверками и пальбой из пушек{110}.
Царский двор продолжали преследовать несчастья. В конце 1692 года заболела любимая тетушка царя Петра — Анна Михайловна. Петр был на ее постриге в Вознесенском монастыре 18 октября, провожая ее «пешешествием». Это был редкий момент, когда оба царя, царицы и все царевны собрались вместе. Царица Евдокия тоже провожала царевну-инокиню; она, как и старшая царица — жена царя Ивана Прасковья Федоровна, ехала в своем возке. Печальный повод снова собрал всех вместе, когда спустя неделю царевна-инокиня умерла. Петр приехал и на ее погребение, но потом вернулся в Преображенское, а двор тем временем погрузился в положенный сорокадневный траур. В конце ноября ко всем несчастьям серьезно заболел и сам Петр I. Поговаривали даже, что Гордон и Лефорт держали наготове лошадей, чтобы немедленно бежать из столицы при получении страшного известия о смерти их покровителя. Царица Евдокия, напротив, была рядом с мужем. Но все обошлось, царь выздоровел и уже скоро кутил со своими друзьями по-прежнему как ни в чем не бывало{111}.
В Великий пост царь Петр опять один уехал в Переславль-Залесский, но вид замерзшего во льдах Плещеева озера перестал его вдохновлять. Он вынужден был возвратиться в Москву, так как весной 1693 года заболела еще и мать царя — царица Наталья Кирилловна. Пришлось отменить празднование именин царевича Алексея Петровича и царский выход в Алексеевский монастырь 17 марта{112}. Дождавшись, когда мать поправится, Петр получил ее разрешение на новое путешествие. Наслушавшись рассказов Гордона, не раз плававшего по Балтийскому и Северному морям к берегам родной Шотландии, царь сам захотел увидеть море и настоящие корабли. 4 июля 1693 года Петр I двинулся со своим двором из Москвы в сторону Архангельска{113}. Жена царица Евдокия осталась в Москве, по-прежнему рядом с правительницей Натальей Кирилловной.
Вдовствующая царица, видимо, мало думала о чувствах невестки и сама занялась воспитанием внука, а в «мамки» царевичу Алексею была назначена одна из ее родственниц — Прасковья Алексеевна Нарышкина{114}. Когда Наталье Кирилловне было выгодно, она даже использовала трехлетнего ребенка, чтобы возвратить задержавшегося Петра I из казавшегося ей чрезвычайно опасным похода в Архангельск. Тогда от имени царевича Алексея было написано письмо (почерком самой бабушки): «Пожалуй, радость наша, к нам государь, не замешкав; ради того, радость мой государь, у тебя милости прошу, что вижу государыню свою бабушку в печали». Про свою «государыню матушку» царицу Евдокию мальчик в этом письме «не вспоминал»… Петр отвечал, что ждет гамбургские корабли, вышедшие в Архангельск, и обещал скорое возвращение с подарками: «…искупя, что надабет, поеду тот час день и ночь». С своеобразным юмором царь утешал родительницу: «Изволила ты писать, что предала меня в паству Матери Божией; и такова пастыря имеючи, почто печаловать?»{115}
На самом деле Петр пробыл в Архангельске столько, сколько позволяла северная погода, до конца сентября 1693 года. Вернувшись в столицу, Петр проводил время в полюбившихся ему занятиях, устраивая военные смотры с залповой стрельбой из ружей, изучал артиллерийские инструменты, ездил из Преображенского на обеды к друзьям Гордону и Лефорту. Царица Евдокия все больше должна была чувствовать себя оставленной. Начало отлучек Петра и разлада в семье князь Борис Куракин связывал с дружбой Петра с одним из его «робят» — сержантом-преображенцем Бужениновым: «Многие из робят молодых, народу простаго, пришли в милость к его величеству, а особливо Буженинов, сын одного служки Новодевичья монастыря… И помянутому Буженинову был дом сделан при съезжей Преображенскаго полку, на котором доме его величество стал ночевать и тем первое разлучение с царицею Евдокиею началось быть». Царь, по словам автора «Гистории…», «токмо в день приезжал к матери во дворец, и временем обедовал во дворце, а временем на том дворе Буженинаго»{116}. Царица Евдокия по-своему пыталась удержать и разжалобить Петра, чтобы побыть с ним рядом, но, увы, ей не очень-то удавалось найти для этого нужные слова. В своих грамотках она не выходила за этикетные ласковые слова, a Piter'a, которым уже видел себя царь Петр, это совсем не трогало. Напрасно царица Евдокия униженно просила мужа о встрече, обращаясь к нему: «государь мой», «радость», «свет мой» и уж совсем невыносимо для «преображенца» и судового плотника Петра — «лапушка».
Вот одно из немногих сохранившихся посланий царицы Евдокии:
«Лапушка мой, здравствуй на множество лет! Да милости у тебя прошу, как ты изволишь ли мне к тебе быть? А слышала я, что ты станешь кушать у Андрея Кревта. И ты, пожалуй, о том, лапушка мой, отпиши. За сим писавы ж[ена] твоя челом бьет»[13].
Такой старомодный язык Петра раздражал. Конечно, обед у англичанина и переводчика Посольского приказа Андрея Крафта (Кревта, Кревета) — того самого, который, по свидетельству князя Бориса Куракина, первым обучил царя носить иноземное платье, — был для него много интереснее. «Также и первое начало к ношению платья немецкаго в тое время началося, — вспоминал автор «Ги-стории…», — понеже был един аглеченин торговой Андрей Кревет, которой всякия вещи его величеству закупал, из за моря выписывал и допущен был ко двору И от онаго первое перенято носить шляпочки аглинския, как сары (галерные работники. — В. К.) носят, и камзол, и кортики с портупеями»{117}. Ведь царь Петр уже давно показал: если он чем-то увлекался, то сломить его тягу к новому было нельзя.
Эту черту характера Петра I заметили и те, кому доводилось видеть молодого царя в то время. В так называемых «Тетрадях Авраамия» — писаниях строителя и келаря Троице-Сергиева монастыря, — сохранились яркие отзывы о существовавших порядках. Старец Авраамий удостаивался личных встреч с царем Петром, видел его и в Переславле-Залесском, и в Троице-Сергиевом монастыре, куда приезжали царь и его бояре, обедавшие у келаря. Из этих бесед он узнал много такого, о чем в царстве только судачили по углам, обсуждая характер и действия царя Петра I: «И будто о том многие говорят и тужат, а пособить де стало некому, безмерно де стал упрям, и матери своей, великой государыни нашей благоверной царицы и великой княгини Наталии Кириловны, такожде и жены своей, великой государыни нашей благоверной царицы и великой княгини Евдокеи Феодоровны, и духовника своего священнопротопопа имярека и иных свойственных ему, великому государю, всех не слушает и совету от них доброго не приемлет». По словам старца Авраамия, потакали ему в этом и радовались новые приближенные царя «не ис породных людей, но нововзысканных»{118}. На свою беду, старец Авраамий стремился ознакомить царя Петра I со своими писаниями, но добился только того, что его отправили в заключение. Считается, что «Тетради» свидетельствуют о принадлежности старца к консерваторам, не принимавшим перемены, но это не совсем так. В том-то и дело, что монах Авраамий был одним из тех, кто поддерживал нововведения Петра, но его еще заботили нравственная сторона и замеченное им отторжение царя от своей семьи.
Положенные царские выходы и крестные ходы в Кремле тоже не были забыты царем Петром, хотя все уже свыклись с тем, что царь сам решал, когда он на них будет присутствовать, а когда нет. В записной книге Московского стола Разрядного приказа за 7102 (1693/94) год упоминается, что 14 октября 1693 года царь был «на праздник преподобные Параскевы». Он явно хотел почтить день ангела царицы Прасковьи Федоровны, жены царя Ивана V. На большой праздник «явления иконы Пресвятыя Богородицы Казанские» 22 октября царь Петр был уже «в своем государском походе в селе Преображенском». Все торжества проводил в Кремле и ходил на службу в Казанскую церковь один царь Иван в сопровождении двора. Но 29 октября, в воскресенье, царь Петр «изволил быть у действа освящения» церкви Сретения иконы Владимирской Богоматери «что в Китае у Никольских ворот». Правда, присутствовал он там совсем недолго. В записных книгах сказано о приходе царя «в 3-м часу дни» и отъезде «в поход в село Преображенское ж в 3-м часу дня»{119}. Исключение царь Петр делал для службы в Рождество, когда он задерживался в Кремлевском дворце. В навечерие 24 декабря царь присутствовал в Успенском соборе, а 25 декабря был «у себя в Верху», в церкви Петра и Павла. На этих службах царица Евдокия тоже должна была присутствовать рядом с мужем. В день Рождества Христова оба царя принимали поздравления от патриарха Адриана и церковных властей, а также от думных и ближних людей, явившихся в Кремль в праздничных, «в объяринных и в камчатных кафтанах». 6 января 1694 года царь Петр участвовал в «действе водоосвящения» надень Богоявления. Службу накануне, 5 января, с «действом освящения и многолетия» царь Петр пропустил, и его «выходу не было». А там здравствовали всем «благоверным» царицам, перечисляя их по старшинству положения во дворце: вдовствующим царицам Наталье Кирилловне и Марфе Матвеевне (вдове царя Федора Алексеевича), Прасковье Федоровне и Евдокии Федоровне, а также «благородному» царевичу Алексею Петровичу. Но для службы в самый день Богоявления оба царя «изволили… свои царские порфиры и диадимы и манамаховы шапки возложить на себя» и в полном царском облачении с коронами на голове прошествовали из дворца через «Постельное крыльцо и Красною лестницею подле Грановитые палаты» в Успенский собор.
Из Успенского собора цари Иван и Петр в окружении стрелецкой охраны прошли «ко освящению воды на Иердань на Москву реку». Состоялось действо, в котором участвовали все думцы, стоявшие по левую сторону от царей, а также расположившиеся «меж надолоб за решоткою» чины Государева двора, начальные люди — «салдацкого строю генералы и полковники стрелецкие», в праздничной одежде «в объяринных, и в камчатных, и в иных цветных кафтанах». Петру такое зрелище должно было быть «по сердцу», так как повсюду «на Москве реке около Иердани до Москворецких ворот и по берегу подле Садовников» стояли солдатские выборные и стрелецкие полки «со всем ратным строем в цветном платье», а патриарх Адриан, проводивший службу, освящал полковые знамена{120}. Царицы же всю эту красочную картину могли наблюдать, как обычно, только издали, с вершины своего Теремного дворца.
Из немногих сведений о светских досугах царя, имевших хоть какое-то отношение к его семье, можно упомянуть о покупке царем Петром у английского купца Яна Балтуса разных товаров в конце декабря 1693 года. Описание «вещного» мира, окружавшего Петра, тоже по-своему познавательно. Царя интересовали серебряные часы, картины, зеркала и разные мелочи, вроде столовых принадлежностей — золоченых вилок, ложек и ножей. Возможно, что некоторые купленные товары предназначались непосредственно для царицы Евдокии. Например, в царицыны хоромы могли попасть «8 гребней черепаховых», «19 склянок маленьких в медной вызолоченной оправе» и целых «26 коробочек» из железа и дерева, с украшением сканью, черепаховой костью, «личинами» (портретами) и росписью. Вряд ли для себя царь Петр I распорядился купить «коробочку с духами», которая стоила 10 рублей — в два раза больше, чем пара пистолетов. М.М. Богословский, обнаруживший этот документ в архиве, указал на присутствие в нем подарков царевичу Алексею: «птичка попугай в клетке, цена 3 алтына, 2 деньги», еще 3 другие птички, «гремушечка серебряная» и 2 куклы. Другой историк, Иван Егорович Забелин, исследуя «домашний быт русских царей и цариц», также писал, что царевич Алексей с самого рождения получал от отца «затейливые» вещи и игрушки. Следовательно, как бы ни был занят царь Петр государственными делами, он не забывал о сыне и наследнике царства. Упрекать 21-летнего Петра в том, что он был плохой отец, не приходится{121}.
Размеренная жизнь двора, привыкшего к постоянному отсутствию Петра I в Кремле, разрушилась внезапно, когда после тяжелой болезни в несколько дней угасла царица Наталья Кирилловна. Хотя первые признаки болезни появились раньше, но все равно смерть царицы была преждевременной. Эта потеря оказалась невыразимой для молодого царя Петра, всегда заботившегося о матери. Больно было и оттого, что царица Наталья Кирилловна умерла слишком рано, прожив меньше своего мужа царя Алексея Михайловича. Петра и раньше мало что удерживало от самостоятельных действий, теперь же он оставался практически единовластным правителем. Ему больше не приходилось заботиться о том, что будут говорить при дворе про него самого и его отношения с царицей (если он вообще когда-нибудь серьезно думал об этом). Но и вся ответственность за дела в царстве после смерти матери ложилась на него. «Тогда весь говерномент (правительство. — В. К.) пременился, — писал князь Борис Куракин. — И по смерти ея вступил в правление его величество царь Петр Алексеевич сам»{122}.
А царя по-прежнему влекло море. Вскоре после смерти матери он, к ужасу всех окружающих, решил снова ехать в Архангельск, чтобы выйти в плавание на кораблях и совершить паломничество на Соловки. В одиночку отговорить царя от опасного путешествия никому не удавалось. Поэтому объединились все: патриарх Адриан, царь Иван V, жена царица Евдокия и царевны. Если верить Петру Крекшину, они буквально держали царя Петра за руки, за плечи («рамена»), за ноги, чтобы добиться от него, чтобы он не ездил на море. И даже преуспели в этом, добившись на короткое время вымученного отказа. А началось все с того, что воспротивилась царица Евдокия. Она обратилась за помощью к патриарху Адриану: «Егда уведав сие великая государыня, царица и великая княгина Евдокия Феодоровна, супруга великого государя царя и великого князя Петра Алексеевича, моли святейшаго патриарха со слезами, да удержит царское величество от отше-ствия к Архангельску, яко тогда мнение было всех плавающих на море полумертвым нарицать»{123}. Останавливать Петра там, где он этого сам не хотел, было опасно. Так царица Евдокия переступила черту, и муж стал действительно «полумертвым» для нее.
Когда 1 мая 1694 года царь Петр все-таки отправился в новое путешествие в Архангельск, царица Евдокия попыталась загладить свою «вину». Хотя всей-то ее вины была одна забота о близком человеке, которую с ней разделяли и патриарх, и другой царь-соправитель, и царевны. Только царица Наталья Кирилловна имела право «день и ночь» гонять почтовых лошадей, посылая свои грамотки сыну. Царице Евдокии постоянно докучать своими письмами в Архангельск позволено не было.
Сохранились только две, скорее всего оставшиеся без ответа, грамотки царицы Евдокии за несколько месяцев пребывания Петра I в Архангельске. Приведем эти письма целиком; комментировать в них нечего: царица Евдокия страдает от своей «брошенности» и тщетно пытается напомнить царю Петру о сыне или подладиться под его тон, подписываясь: «женишка твоя Дунька».
Первое письмо:
«Предражайшему моему государю, радосте, царю Петру Алексеевичю.
Здравствуй, мой свет, на многая лета! Пожалуй, батюшка мой, не презри, свет мой, моего прошенья: отпиши, батюшка мой, на мне о здоровье своем, чтоб мне, слыша о твоем здоровье, радоватца! А сестра твоя царевна Наталья Алексеевна в добром здоровье; а пра нас изволишь милостию своею напаметовать, и я с Олешанькою жива. Ж[енишка] т[воя], Ду[нька]».
Второе письмо:
«Предражайшему моему государю, свету, радосте, царю Петру Алексеевичю.
Здравствуй, мой батюшка, на множество лет! Прошу у тебя, свет мой, милости: обрадуй меня, батюшка! Отпиши, свет мой, о здоровье своем, чтобы мне бедной в печалех своих порадоватца. Как ты, свет мой, изволил пойтить, и ко мне не пожаловал — не описал о здоровье ни единой строчки; тол ко я бедная на свете бесщасна, что не пожалуешь — не опишешь о здоровье, свет! Не презри, свет мой, моего прошенья. А сестра твоя царевна Наталья Алексеевна в добром здоровье. Отпиши, радость моя, ко мне, как ка мне изволишь быть? А пра меня изволишь милостию своею спросить, и я с Олешанькою жива. Ж. т. Ду.».
И никаких ответных писем царице и сыну Алешеньке или хотя бы строчки в сохранившейся большой переписке Петра со своими придворными времен архангельского путешествия. На короткое время царица Евдокия вышла из «матушкиной» тени для Петра, но царь не допустил, чтобы она заняла опустевшее место. Историки говорят даже о нараставшей вражде царя с родственниками жены — Лопухиными. В знаменитых «кожуховских маневрах» конца 1694 года, когда царь «играл» со своими «потешными» армиями, Лопухиных намеренно поставили в стан «врага» вместе с не любимыми Петром стрельцами и стреляли по ним к вящему злорадству Петра{124}.
После этого в селе Преображенском случилось какое-то темное и не до конца понятное дело, жертвой которого стал боярин Петр Авраамович Меньшой Лопухин, замученный в застенке[14]. Что стало поводом для его преследования, так и осталось тайной. Если бы речь шла о каких-то злоупотреблениях боярина, то расправа царя, вероятно, была бы показательной. Скорее можно поверить мнению осведомленного современника — строителя Троице-Сергиева монастыря Авраамия: «Петр де Лопухин был человек доброй и много прибыли в приказе учинил, а запытан де он напрасно по наносу боярина Лва Кириловича Нарышкина»{125}. Старец Авраамий написал об этом со слов боярина Матвея Богдановича Милославского (хотя тот и отказался от своих слов во время розыска в Преображенском приказе). Вражда двух бояр, закончившаяся смертью Петра Лопухина, имела косвенное отношение к семейным трениям царя Петра и царицы Евдокии. Причины ссоры Нарышкина и Лопухина выясняются, если учесть отзыв князя Бориса Куракина в «Гистории» о руководителе петровского правительства Льве Нарышкине, которому царица Наталья Кирилловна в свое время перепоручила правление. По словам мемуариста, царственный племянник был вполне определенного мнения о дяде: «…понеже он от его царскаго величества всегда был мепризирован (презираем, от фр. mepris. — В. К.) и принят за человека глупаго»{126}.
Два следующих года — 1695-й и 1696-й — посвящены были Азовским походам. От этого времени сохранилось всего одно письмо, датированное 4 июля 1695 года. Правда, написано оно не самой царицей Евдокией, а от ее имени Карионом Истоминым (оно не было даже включено в известные издания писем царицы Евдокии). Письмо, адресованное Петру, свидетельствует о том, что, по крайней мере внешне, в царской семье оставалось все по-прежнему и царица Евдокия поддерживала царя в его Азовских походах: «Попремного бо твоему царскому пресветлому величеству аз худшая и сын твой царевич Алексий, исполнятися в храбромужественнем твоем и благомысленном сердце воли Господни желаем… Молим же тя Государя благоволи: отеческими твоими люблении милостивно зде нас посещати в порадование». Письмо не только выспренно по стилю, но и подписано так, как не любил царь Петр: больше подходяще челобитным в приказе, которые и не доходили до царских рук: «хуждшая твоя рабыня Евдокиа с сыном Алексием Господа Бога моляще челом бьем»{127}.
Самой царице Евдокии обратиться за поддержкой было уже не к кому, так как в январе 1696 года умер царь Иван, единственный, кто мог о чем-то попросить брата. Патриарх Адриан изначально влияния на царя не имел, так как при его выборах царь Петр думал о другом кандидате. Война всегда списывает многое. Царь просто перепоручил свою семью — царицу Евдокию и сына царевича Алексея — заботам первого «министра» и главы Разрядного приказа Тихона Никитича Стрешнева. Боярин Стрешнев изредка отчитывался о своих подопечных, пока Петр находился в походах. Ему, по характеристике князя Бориса Куракина, царь Петр полностью доверял: «…во все дела внутренния его величество положился и дал управлять на Тихона Стрешнева, хотя котораго внутренне и не любил, ниже эстимовал (ценил. — В. К.)». Внутреннее недоверие царя к своему первому «министру» автор «Гистории…» объяснил в примечании на полях. Причина была связана с нараставшей со временем раздражительностью царя Петра по отношению к царице Евдокии: «NB. Для того не любил, что ему, Стрешневу, причитал свою женитьбу в роде Лопухиных». Поэтому Стрешневу, «связавшему» царя с Лопухиными, и была поручена трудноисполнимая и не имевшая в доме Романовых прецедента задача «освобождения» монарха от семейных уз.
После триумфального возвращения и торжеств по поводу взятия Азова 30 сентября 1696 года царь Петр уже полностью находился во власти новых дел и идей, прекратив даже формально следовать ритуалам дворцовой жизни. Он был захвачен учреждением «кумпанств» по строительству кораблей в Воронеже, готовил отсылку молодых дворян для обучения за границу, думал об отправке Великого посольства в Европу. Резкий поворот в делах устроил не всех, царь снова столкнулся с подзабытой стрелецкой оппозицией. В феврале 1697 года открылся заговор думного дворянина Ивана Цыклера, говорившего в своем родственном кругу с Соковниными и Пушкиными о возможном убийстве царя Петра и возвращении к правлению царевны Софьи. Последовавшая жестокая казнь членов Думы — думного дворянина и полковника Стремянного стрелецкого полка Ивана Алексеевича Цыклера, окольничего Алексея Прокофьевича Соковнина, а также стольника Федора Матвеевича Пушкина — всколыхнула прежнюю вражду Нарышкиных и Милославских. Петр изощренно мстил. Он приказал выкопать из могилы тело Ивана Михайловича Милославского, надругавшись еще и над погребенным врагом. Все вместе это предвещало тяжелые времена и новый конфликт со стрельцами и царевной Софьей.
Лопухины как люди, связанные самыми прочными нитями службы со стрельцами, не могли остаться в стороне от этого политического дела. Правда, не стоит думать, что они напрямую в нем участвовали или как-то разделяли взгляды Ивана Цыклера и его сообщников. Скорее наоборот, заговорщики сами приглядывались к царице Евдокии и ее сыну, так как с семилетним царевичем Алексеем уже связывали определенные ожидания. И для всех было очевидно, что как Нарышкины стояли за царем Петром, так и при возможном вступлении на престол его сына царевича Алексея наступило бы время Лопухиных. Даже тайное обсуждение таких перспектив могло быть поводом для преследования. Сразу за тем, как было закрыто «дело Цыклера» и Петр I отправился за границу, глава Разрядного приказа Тихон Никитич Стрешнев 23 марта 1697 года распорядился отослать на воеводство в далекую Тотьму царицыного отца боярина Федора Авраамовича Лопухина. Удалены были из Москвы и его родные братья. Одного, боярина Василия Авраамовича Лопухина, отправили в Чаронду (вместе с племянником Алексеем Андреевичем Лопухиным), а другого, комнатного стольника Сергея Авраамовича, назначили на воеводство в Вязьму. В разрядных книгах осталась запись о том, что отправляться Лопухиным на новую службу следовало немедленно: «…в те городы ехать им вскоре»{128}. Эта опала членов рода царицы Евдокии произошла даже раньше того, как оставшуюся без совета близких родственников царицу стали со всех сторон уговаривать уйти в монастырь. Конечно, решение освободиться от брачных уз принадлежало царю Петру. Царица Евдокия, напротив, не только не желала монашеского пострига, но и сопротивлялась такому повороту судьбы. Для нее самой не было никаких причин, по которым она должна была оставить воспитание сына и уйти из мира.
Забытая жена
Что же случилось с молодым царем Петром и царицей Евдокией? Ранняя женитьба царя произошла не по его выбору, а по расчетам семьи Нарышкиных, в которых совсем не были учтены его желания. Великий русский историк XIX века Сергей Михайлович Соловьев в «Публичных чтениях о Петре Великом» говорил о семейной драме царя: «Переворот, движение, при котором родился и воспитался Петр, который не был начат, создан Петром, но к которому совершенно пришлась его огненная, не знающая покоя природа, переворот повредил его семейным отношениям в первом браке. Жена пришлась не по мужу». Историк связывал это с «невыгодой старого обычая», при котором чаще всего жених и невеста не были даже знакомы друг с другом до свадьбы (не зря Петр потом изменил этот обычай). Следствием оказывалось «заключение жен в монастыри; то же случилось и с царицей Евдокией»{129}. Царский брак быстро достиг своей главной цели — укрепления династических позиций царицы Натальи Кирилловны и ее сына, этим же он, похоже, и исчерпал себя.
Петр, возрастая, следовал своим привычкам и стремлениям, которые соотносились с новыми горизонтами всего Московского царства, а его жена погрузилась в свой мир царицыных хором. Ходили слухи о появлении на свет еще и третьего сына царя Петра и царицы Евдокии в 1693 году, даже называли его имя — Павел. Однако публично об этом не объявлялось, и если такое событие произошло в царской семье, то следует признать, что младенец умер при родах или вскоре после этого{130}. В итоге у царя Петра I оказался только один наследник — царевич Алексей Петрович. Это смущало подданных, судачивших о царском «чадородии», которому мешали частые отлучки царя Петра из Москвы. В Преображенском приказе жестоко разбирались дела о «слове и деле государеве» охотников распускать сплетни о семье царя Петра и царицы Евдокии, дерзавших, например, говорить: «Великий государь не изволит жить в своих государских чертогах на Москве, и, мнитца де им, что от того на Москве небытия у него великого государя, в законном супружестве чадородия престало быть, и о том в народе велми тужат»{131}.
Первые несколько лет в царском дворце были для царицы Евдокии непростыми. В них случились и материнское счастье, и ревность к царю Петру и его увлечениям. Постоянные пиры царя с преображенцами, хотя и были досадны, особенно не угрожали лично царице. Петр приближал к себе умелых воинов Патрика Гордона и Франца Лефорта, строил корабли и осваивал морское дело в Переславле-Залесском, Архангельске и Воронеже, успешно воевал под Азовом. Для царицы Евдокии, правда, все выглядело по-другому: муж-«лапушка» забыл ее и сына, не проводил с ней время так, как ей бы хотелось, не посещал богомолий, променяв их на кутежи и пребывание в Иноземной слободе. С «немцами» в итоге оказалась связана фигура разлучницы Анны Монс.
Сохранился рассказ об обстоятельствах, которые предшествовали окончательному разрыву царя Петра I с царицей Евдокией. Он приведен в докладе датского посланника Георга Грунда, находившегося при дворе Петра I в 1705–1710 годах: «Брак их разладился по следующей причине. Царь, став единоличным правителем, много времени проводил в Немецкой слободе, бывая в домах немецких купцов, а супруга бесстрашно говорила ему, что он там распутничает с язычниками, причем подобное повторялось столь часто и бурно, что когда однажды царь возвратился оттуда поздно вечером и, желая порадовать царицу, принес ей в подарок много галантереи, приобретенной у купцов, и выложил на стол, она, очень рассердившись, в присутствии царя сбросила все на пол со словами, что не хочет таких подарков и завидовать этой немецкой распутнице, а лучше растопчет подарки ногами, как и сделала. Царь, в сильном гневе покинув комнату, дал клятву никогда более к супруге не приближаться, которую до сего дня и держит»{132}.
Психологически все передано верно. Про «горячий» характер Петра I хорошо известно. Но не уступала ему в этом и супруга, про которую напрасно думают, что она всегда и неизменно оставалась покорной царской воле. Эта вспыльчивость сохранялась у нее на протяжении всей жизни. Даже много позже в одном из писем своему внуку Петру II царица Евдокия вспоминала о «природной своей горячести»{133}. Но драма семейная оказалась тесно переплетена с обстоятельствами династическими, человеческие эмоции — с историческим выбором царства. Петра действительно должно было сильно задеть, если царица Евдокия не просто отвергла царский подарок, а еще и растоптала его. Ведь вместе с этим она растоптала и весь его, царя, интерес к необычному иноземному миру. Петр с увлечением учился у Гордона и Лефорта, но если первый был его наставником в добродетели, рыцарстве и воинском искусстве, то второй обучал царя еще и другому «искусству» — разгульных пиров. Недаром князь Борис Иванович Куракин, характеризуя Лефорта, назвал его «дебошан французской». «Дебошан» — это гуляка; в русском языке утвердилось другое слово от того же корня — «дебошир». Упоминая о пирах, которые могли длиться при закрытых дверях в доме Лефорта по три дня, всезнающий князь Куракин, участник тех кутежей, писал, что многим от такого пьянства «случалось умирать». Лефорту приписывалась и «конфиденция интриг амурных» царя Петра. Так что у царицы Евдокии были все основания вести себя так, как описал в своем донесении датский посланник.
С охлаждением царя к собственной жене связывали и конфликт родного брата царицы Евдокии Авраама Лопухина с Францем Лефортом 26 февраля 1693 года, описанный М.М. Богословским: «Когда Аврам, вероятно (выделено мной. — В. К.), разделявший свойственную его семье ненависть к иностранцам, бранил Лефорта и, бросившись на него, смял ему прическу, Петр, присутствовавший при этом, также вспылил и надавал Лопухину пощечин»{134}.[15] Рассказ историка об этой стычке основан на донесении шведского торгового посланника Томаса Книппера: «Двадцать шестого сего месяца его царское величество обедал с русскими и немцами, состоящими при нем, в доме генерала Лефорта, где его царское величество очень хорошо провел время, в течение какового приятного времяпрепровождения генерала Лефорта оскорбил один из дворян по имени Лопухин, который в пьяном виде сорвал парик с головы генерала и весьма обидно о генерале высказался. Но его царское величество немедленно ударил его кулаком в ухо, а за два часа до рассвета отбыл со своими переславскими спутниками в Переславль, где они пробудут до наступления недели перед Вербным воскресеньем, занимаясь строительством кораблей»{135}.[16] Искать смысл в пьяных ссорах, даже с участием царя Петра, — занятие неблагодарное, и хотелось бы от него уклониться. Ссора эта пришлась на конец Масленицы 1693 года и Прощеное воскресенье. А до этого шли бесконечные пирушки и пускания фейерверков, в которых, надо думать, Лопухины преспокойно участвовали, несмотря на якобы «ненависть» к иноземцам. Ведь незадолго до столкновения с Лефортом Авраам Лопухин женился на дочери главы Преображенского приказа князя Федора Юрьевича Ромодановского — одного из самых близких к царю Петру людей{136}. Со стороны, по прошествии трех веков, история выглядит благородной: брат вступился за честь сестры — царицы Евдокии и затеял ссору с царским любимцем Францем Лефортом. На самом деле перед нами один из рядовых эпизодов, которыми полны досуги молодого Петра. Все объяснялось не желанием наказать именно Авраама Лопухина, а привычками царя Петра. В гневе он был по-настоящему страшен и не щадил никого. Однажды даже родного дядю Льва Кирилловича Нарышкина побил палкой, когда тот уговаривал его отстать от мысли о морском путешествии в Архангельске! Строить из этого исторические версии, конечно, не приходится.
Со временем среди петровских вельмож стало считаться за честь упоминание о том, что кто-то из них в былые времена лично испытал на себе царский гнев. Об этом написал князь Михаил Щербатов в «Рассмотрении о пороках и самовластии Петра Великого»: «Сказал уже я выше о обвинении, что Петр Великий, не разбирая ни роду, ни чинов, бивал приближающих к нему… Они сами, претерпевшие такие наказания, свидетели мне суть; ибо мне еще удалось многих из них знать: был ли хотя один, который бы за сии побои пожаловался на Петра Великого или бы устыдился об оных сказать, или бы имел какое озлобление на него; но всех паче видел я исполненных любовию к нему и благодарностию. А сие и доказует, что сей поступок не в порок особе Петра Великого должно приписать, но в порок умоначертанию тогдашнего времени»{137}. Завершая рассказ о ссоре Лопухина с Лефортом, напомню, что спустя четыре года царицын брат Авраам Федорович окажется в числе «волонтеров», отправленных в Италию с заданием «во Европе присмотретися новым воинским искусствам и поведением»{138}.[17] То есть никаких последствий это происшествие, как видим, не имело.
Не все так просто и с ревностью царицы Евдокии к Анне Монс. Историки, опираясь на известие в «Дневнике» Патрика Гордона, обычно говорят о том, что «роман» царя Петра и Анны Монс начался в 1692 году, когда царь впервые побывал в доме виноторговца Монса в Немецкой слободе. М.М. Богословский, например, писал: «Охлаждение к жене началось уже давно, надо полагать (стоит подчеркнуть добросовестность историка, честно предупредившего, что это только предположение. — В. К.), с того времени, когда царь сблизился с Лефортом, стал желанным гостем в Иноземской слободе и сошелся с девицею Монс (1692 г.)». История царя Петра, царицы Евдокии и Анны Монс рисуется крупными мазками, без проработки деталей. Для этого нет источников. Нет даже достоверного прижизненного портрета первой «красавицы Немецкой слободы» (слова С.М. Соловьева). Почему-то никому не кажется странным, что «амурные» встречи царя Петра I и «Монсихи» растянулись на много лет с 1692 года. Кто-то задумывался: а как сама она чувствовала себя в сомнительном положении царской метрессы? Сказывается некое предубеждение к «немцам», которое, если присмотреться, можно встретить у многих историков, от Николая Герасимовича Устрялова до Василия Осиповича Ключевского. Многие готовы были согласиться с тем, что корыстные иностранцы использовали внимание Петра I к Анне Монс, чтобы получить от него какие-то привилегии. Хотя более правдоподобно другое: царь Петр просто не мог не вызывать интереса у обитателей Немецкой слободы, и представление царю — хозяину той страны, в которой они жили, — все иноземцы справедливо считали особенной честью. Петр же не уставал учиться, в своей страсти постижения нового не останавливаясь ни перед чем. Словом, «хрестоматийная» картина знакомства царя Петра I с Анной Монс в Немецкой слободе получается художественно яркой, но не совсем достоверной.
Семья Монс так бы и осталась в истории малоприметной среди других иноземцев, живших в Немецкой слободе под Москвой{139}, если бы не их встреча с царем Петром, повлиявшая в итоге и на русского царя, и на судьбу царицы Евдокии. Андрей Нартов в «Достопамятных повествованиях и речах Петра Великого» говорил, что Анна Монс была дочерью «лифляндского купца, торговавшего винами»{140}. По другим сведениям, Иоганн Георг Монс происходил из немецкого города Миндена и жил в России с 1676 года{141}. Род его занятий тоже называют по-разному: говорили, например, что он был «золотых дел мастер», но учитывая свидетельство об обучении бочарному мастерству, выданное Иоганну Георгу Монсу, предпочтение все же стоит отдать версии с виноторговлей{142}. Недавно профессор Пол Бушкович предположил, что отношения петровского любимца Лефорта с Монсом, «кажется, выросли из дружбы женевца со шведским резидентом Томасом Книппером, крестным отцом молодой особы»{143}. Следовательно, романтическая привязанность Петра, возможно, оказалась переплетена с шведскими симпатиями Лефорта. Верный дружбе, Лефорт после смерти Иоганна Монса[18] перенес свою заботу и на его семью — вдову Матрену Ефимьевну Монс и детей — тоже Матрену (Модесту), Анну Маргариту, Филимона и Виллима.
И все же сказать точно, как и когда произошла встреча царя Петра с Анной Монс, историки не могут. Князь Борис Иванович Куракин рассказывал о частых посещениях Петром Немецкой слободы только после того, как тот стал самостоятельным правителем (то есть не раньше 1694 года, а может быть и позже, в 1696 году). Куракин не удержался и поведал, что именно в доме Франца Лефорта «первое начало учинилось, что его царское величество начал с дамами иноземскими обходиться и амур начал первой быть к одной дочери купеческой, названной Анна Ивановна Монсова». Он не рассказывал, что значило это «обхождение»; остается догадываться, что речь шла еще о новых для царя церемониалах знакомства с дамами, их свободном присутствии в обществе, то есть об обычаях, которые потом утверждались на петровских ассамблеях. Ну а уж про «амур», как и про положение Анны Монс в компании приятелей Франца Лефорта, каждый читатель мемуаров князя Куракина мог домыслить то, что хотел. Тем более что куракинская история дает для этого особенный простор. «В Гис-тории…» говорилось, что «непрестанная бытность его величества началась быть в слободе Немецкой не токмо днем»; царь Петр стал «ночевать как у Лефорта, так и по другим домам, а особливо у Анны Монсовны».
Вспоминая события почти тридцатилетней давности, князь-мемуарист отдавал должное Анне Монс: «Правда, девица была изрядная и умная»{144}. Это неожиданное признание, возможно, подтверждает слухи о намерении Петра I даже жениться на ней. Ведь царь, как известно, всем увлекался всерьез, и предмет его страсти был достоин царского внимания. Однако едва ли можно думать, что прошло несколько лет от «амурных» встреч Петра I с Анной Монс до решения сделать ее новой царицей. При жизни царицы Натальи Кирилловны о подобном не могло быть и речи (а вероятнее всего, не было еще и самого предмета для обсуждения). Церковь тоже никогда бы не дала согласия на второе венчание царя при живой жене и на столь явное разрушение вековых семейных устоев. Не стоит сбрасывать со счетов чувства самой Анны Монс: ведь в случае брака с царем Петром ее ждала перемена веры.
Первые прямые упоминания о знакомстве Петра I и Анны Монс относятся только к 1696 году[19]. То есть ко времени после поездок Петра I в Архангельск и после Азовских походов. Тогда в эпоху своего первого триумфа царь не обходился без общества Франца Лефорта. Ну а Лефорт знал, как сделать это общество приятным царю. Возвращаясь из Азова, через Воронеж, царь решил осмотреть тульские железоделательные заводы и звал с собой в поездку Лефорта. Ему снова хотелось увидеться с приболевшим другом, но особенно с теми, кто составлял его дамское окружение. Приглашение царя посетить Протвинские заводы, однако, совсем не обрадовало компанию Лефорта. Он писал Петру I 17 сентября 1696 года: «Компания наша рад[ы] были и все на заводе быть и хотели приготовиться, а как я видал, что Ефимовна… и Анна Ивановна не сама здорова, я велел остаться и твою милость дожидать, а если изволишь, что(б) они были на заводе, я скоро отпущу, хоть слезы многи будет. Прости, надежа мой, поклонись от меня, пожалуйста, наши приятели. А я примаю беспрестан медикамент: Бог знает, надолго это будет»{145}. Приведенное целиком это известие (оригинал письма написан Лефортом по-русски, но латинскими буквами), пожалуй, лучше других говорит об известной осторожности, с которой мать и дочь Монс тогда относились к царю Петру I. Не смея отказаться, мать и дочь умоляли Лефорта написать Петру. Надо обратить внимание и на то, в какой форме Лефорт (а значит и Петр) упоминал тогда имена дочери и матери: Анна Ивановна (Anna Juanuena) названа уважительно по имени и отчеству, а мать, Матрена Монс, — Ефимьевной (Jqffimuena), то есть обращение к ней менее церемонно. Участницей царских пиров бывала и старшая дочь Матрена (Модеста), вышедшая замуж за Федора Балка. (По какой-то невероятной исторической иронии их дочь Наталья Федоровна, родившаяся в 1699 году, со временем породнится с Лопухиными!{146}) Выше уже говорилось, что знакомство царя Петра с семейством Монсов состоялось в первую очередь благодаря Францу Лефорту. Не случайно, умирая, Лефорт, по свидетельству воспитателя царевича Алексея барона Генриха фон Гюйсена, просил царя позаботиться об Анне Монс и ее семье[20].
Конечно, иноземные посланники не прошли мимо казуса с необычным увлечением царя. Они, например, заметили его присутствие в доме «одной девицы из простого звания» Анны Монс на дне ее рождения 6 (16) января 1699 года{147}. В дальнейшем мать и дочь Монс, как свидетельствуют письма Анны Монс к Петру, имели возможность напрямую обращаться к царю по разным, даже самым мелким делам или тяжбам других лиц{148}. В итоге царское внимание и привилегии сыграли не лучшую роль в судьбе Анны Монс. Еще в январе 1703 года она находилась в царском фаворе, ей и матери платили ежегодный пансион из казны, им были пожалованы царем земли Дудинской дворцовой волости Козельского уезда. Однако Анну Монс повышенное внимание царя Петра могло тяготить; все знали, что у царя Петра была жена — царица Евдокия (пусть и находящаяся в монастыре) и есть сын — наследник царства; поэтому Анна Монс оказывалась в двусмысленном положении. Никто не стремился свататься к ней, справедливо опасаясь царского гнева. Другими словами, одно дело было принимать подарки и другие знаки внимания царя Петра, а другое — думать о том, чтобы стать новой русской царицей, к чему Анна Монс явно была не готова[21]. Сопротивления же своим желаниям царь, как известно, не прощал. В итоге Анну Монс вместе с матерью и братьями отправили под домашний арест, под которым они пробыли несколько лет. Пока в 1707 году в судьбу Анны Монс не вмешался прусский посланник Георг Иоганн фон Кейзерлинг, в итоге и ставший мужем Анны Монс{149}. От первого знакомства царя Петра с Анной Монс до ее замужества 18 июня 1711 года прошло почти двадцать лет[22].
Стала ли Анна Монс причиной разлада в семье молодого царя Петра, или все же семейная неудача заставила Петра подумать о другой избраннице? Не так уж это было и важно для царицы Евдокии после того, как, отправляясь за границу в 1697 году, царь Петр приказал своим придворным склонить жену и мать наследника царевича Алексея к уходу в монастырь. Но царский развод был еще и делом церкви, а сама царица Евдокия совершенно не собиралась становиться монахиней. При этом прежде всего она думала о сыне — наследнике Московского царства. Вот только ее муж царь Петр уже все решил заранее — и за нее, и за себя — по праву самодержца.
Глава третья.
«ГОРЬКОЕ, ГОРЬКОЕ ЖИТИЕ МОЕ…»
Кто возвратился из Европы? Судачили, что царь «подменный», но судачили зря. Во время своего путешествия в составе Великого посольства, знакомства с европейскими монархами и их дворами Петр еще больше убедился в собственной правоте. Становилось очевидным, что не зря он начал строить флот и настойчиво искать выходы к морям. Царь, до этого приближавший к себе иностранцев из чувства противоречия и нелюбви к московским порядкам, увидел такие перспективы, о которых его подданные и не догадывались. Но Петр и не ждал, когда подданные поймут его замыслы. Он никому не давал времени приспособиться к обстоятельствам, а хотел лишь полного подчинения своей воле. И в этом оставался прямым наследником московских царей, особенно одного из них — Ивана Грозного, в котором видел образец для своего правления.
Надо думать, что если и вспоминал царь Петр в Голландии или Англии «жену свою Дуньку», то лишь для того, чтобы еще раз пожалеть самого себя, «окрученного» против воли матушкой, дядей Львом Кирилловичем, Тихоном Никитичем Стрешневым и Лопухиными. «Государь был охотник до женщин», как выразился современник и приближенный Андрей Нартов в «Достопамятных повествованиях и речах Петра Великого». Он даже привел рассказы о мимолетных увлечениях Петра I во время путешествия в составе Великого посольства. Со временем рассказы Андрея Нартова стали восприниматься как самые достоверные, они послужили основой для канонических представлений о царе Петре. Впрочем, как выяснилось уже в наши дни, рассказы эти только приписаны Андрею Нартову, а на самом деле являются литературной обработкой, сделанной его сыном. И датировать «Достопамятные повествования…» надо не так, как сказано в рукописи — не 1727 годом, а серединой XVIII века. Елизаветинской и Екатерининской эпохам с их нравами занимательный образ царя-гуляки Петра очень подходил! Но не всему, что рассказывали про Петра Великого его современники, можно верить…
Разрыв царя Петра с царицей Евдокией был стремительным и окончательным. Он совпал с жестоким стрелецким розыском. Известное всем суриковское «Утро стрелецкой казни» — именно об этих событиях осени 1698 года. Однако, как бы ни был велик соблазн, связать царицу Евдокию с заговорщиками не удавалось. Стрельцы с сочувствием относились к царице Евдокии, но в их представлениях она была скорее жертвой, а не помощницей. Недаром кто-то из стрельцов на розыске говорил, что царицу бояре били по щекам. Стрельцы, как и за два года до этого в деле Ивана Цыклера, больше думали о судьбе ее сына — царевича Алексея, в котором видели возможного наследника трона при возвращении к власти царевны Софьи. Она ведь согласилась жить в Новодевичьем монастыре, но все еще не была монахиней! Скоро такая же история повторится с царицей Евдокией.
Она ждала возвращения своего мужа, хотя ее и должны были насторожить настойчивые уговоры «постричься» в монастырь. Об этом, по распоряжению Петра I, разговаривал с ней Тихон Никитич Стрешнев. Для этого и были убраны из Москвы и разосланы по воеводствам отец и дядья царицы, а брат ее отправлен учиться в Европу. Евдокии больше не с кем было советоваться, неоткуда ждать помощи и заступничества. Только ее духовник, которому полагалось исполнить царскую волю и склонить царицу к постригу, оказался ей подмогой. Петр уже окончательно решил, что жена должна быть отправлена в монастырь, и в начале 1698 года слал «цыдульки» к дяде Льву Кирилловичу, Тихону Стрешневу и самому духовнику. Тихон Никитич отчитывался сразу за всех в письме 18 апреля 1698 года, что они-де «о том говорили прилежно», только своей цели «учинить» царя Петра «свободным» не достигли, так как «она упрямитца». Стрешнев предлагал «ещо отписать к духовнику покрепче и не одинова, чтоб горазда говарил, а мы духовнику и самой станем и еще гово[рить] почасту». Со слов боярина, все упиралось только в духовника царицы Евдокии, который «человек малословной», но если ему «писмом подновить, то он болши прилежать станет о том деле»{150}. Однако ни давление на духовника, ни другие угрозы с подключением к делу главы Преображенского приказа Федора Юрьевича Ромодановского, который одним своим видом («как монстра», писал о нем князь Куракин) мог устрашить кого угодно, не сломили упрямство царицы. Она чувствовала свою правоту и без встречи с Петром ни на что не соглашалась. А Ромодановского могла и не бояться, так как он находился в свойстве с Лопухиными: его дочь Феодосия была женой родного брата царицы Авраама Федоровича Лопухина. Но отголоски «уговоров» с пристрастием царицы Евдокии, видимо, проникали далеко и питали стрелецкую ненависть к боярам и иноземцам из окружения царя Петра.
Еще до появления царя в Вене летом 1698 года оттуда в Москву было отправлено посольство Кристофа Игнаца фон Гвариента. Оно вынуждено было дожидаться Петра I и всего Великого посольства в русской столице. Посол Гвариент и члены его свиты даром времени не теряли, собирая сведения о делах в Московском царстве. Гвариент отправил ряд ценных донесений цесарю в Вену{151}. Еще более известны дневниковые записи о путешествии в Россию, сделанные секретарем этого посольства Иоганном Корбом (сначала думали, что их автором был сам посол Гвариент, и даже добились запрета на его новую дипломатическую поездку в Россию). «Дневник путешествия в Московию» Иоганна Корба впервые был опубликован на латинском языке в 1700 году. С тех пор это сочинение признано одним из самых интересных свидетельств иностранцев о России. Судьба царицы Евдокии тоже заинтересовала австрийских дипломатов, благодаря им существует надежная основа для реконструкции событий в царской семье накануне и после возвращения царя Петра.
По сведениям посла Гвариента, уговорить царицу Евдокию постричься в монастырь должен был сам патриарх Адриан, но тот медлил, так как царица была на его стороне в неприятии иноземцев и их обычаев. В донесении австрийского посла 27 июня 1698 года говорилось, что «патриарх пренебрегает грозящей немилостью царя и день за днем проводит, обсуждая с многочисленными сторонниками своей партии, должен ли он покорно исполнить то, о чем царь вторично написал ему и министрам в резких выражениях. Согласно этому приказу он сам или через своего полномочного представителя должен отправить царицу в монастырь и совершить соответствующие обряды. Названное поручение исполняется боярами царской партии без рвения и настойчивости. С тех пор царица с печалью принимает столь незаслуженные жестокие приказы близко к сердцу, а ее невинные страдания, в том числе из-за подозрений, что она когда-нибудь могла дать малейший повод для развода, оплакивают и друг, и враг»{152}.
Следовательно, в глазах окружающих царица Евдокия была только жертвой обстоятельств. Она надеялась, что сумеет уговорить царя, чтобы ей оставили воспитание сына. Царевич Алексей, еще ребенок, видел слезы матери, понял все по-своему и даже вступился за нее. По словам Гвариента, во время одного из богослужений восьмилетний царевич подозвал дядю Льва Кирилловича Нарышкина и обвинил его в том, «что это из-за тебя мы с матушкой так страдаем и столько терпим», и «вцепился ему в волосы». Происшествие заставило Льва Нарышкина уехать из Москвы 11 (21) июня 1698 года. Но после этого бояре стали решительнее в исполнении воли царя Петра{153}.
Прерванное путешествие
Возвращаться царю из Европы пришлось спешно и совсем не так, как он хотел бы это сделать. Полученные царем в Вене известия о новом стрелецком выступлении нарушили его планы[23]. А ведь царь собирался еще посетить с Великим посольством Францию, Италию и, возможно, увидеться с папой римским. Вместо этого Петру пришлось читать донесения своих бояр и других доверенных лиц о походе стрельцов из Торопца к Москве, боях с ними рядом с Воскресенским Иерусалимским монастырем на реке Истре, где полк верного шотландца Патрика Гордона в который раз выручил царя и разбил ненавистный ему стрелецкий «сброд». На обеде в Вене 18 июля 1698 года не стали пить заздравный кубок в честь московской царицы, и это не осталось не замеченным дипломатами{154}.
Царь Петр если бил, то наотмашь. В своей жестокости и расправах с врагами он не знал меры, доходя до садизма и кощунства. Даже благожелательно настроенные к нему иностранцы, например родственники Франца Лефорта, видевшие Петра в начале 1698 года, замечали в нем какие-то нездоровые, патологические черты натуры: «Знайте, что этот монарх очень большого роста, но в нем есть что-то неприятное, у него бывают конвульсии в глазах, руках и во всем теле. Иногда глаза у него закатываются, и виден только белок… он даже имеет подергивание ноги, которая не может держаться на одном месте, а впрочем, он хорош собой, одет, как простой матрос, и стремится быть только на воде»{155}. Подогреть царский гнев было легко: для этого потребовалось лишь его присутствие в столице в тот момент, когда он сам того не желал. Речь опять шла о стрельцах, которых Петр I иначе как с «янычарами» не сравнивал. Для него это была толпа, или, как он ругался, «сарынь». Ничего хорошего мятежникам ожидать не приходилось.
Не удовлетворившись первоначальным сыском боярина Алексея Семеновича Шеина, Петр заставил провести новое следствие. Исследование «розыскного» стрелецкого дела 1698 года, проведенное Виктором Ивановичем Бугановым, показало, что царь особенно интересовался письмом стрельцов царевне Софье{156} в видах окончательной расправы с наследством ненавистной «Хованщины» и следующих лет правления сестры. На фоне стрелецкого розыска с пытками огнем и «висками» на дыбе, а также последовавшими казнями стрельцов, которым царь Петр и его приближенные лично рубили головы, несложно было закрыть и еще одну страницу прежней жизни.
Петр отказался встретиться с царицей Евдокией сразу же по возвращении в Москву. Судя по походному журналу царя, он появился в столице 25 августа 1698 года. Под пером иных литераторов картина рисуется следующим образом: оказавшись в Москве, царь, вместо того чтобы повидаться во дворце с царицей Евдокией, немедленно едет к Анне Монс и остается в ее доме. А на следующий день, принимая бояр, к их ужасу, начинает резать им бороды, показывая, что теперь все будет по-другому. Русская жена отправляется в монастырь, а рядом с царем оказывается немка Анна Монс. В действительности все было не так просто и карикатурно.
Обратимся к походному «юрналу» 206-го (1698) года и процитируем целиком его запись, относящуюся к 25 августа: «В 25 день. Поутру приехали в село Никольское в Вязему и здесь кушали. Отъехали 60 верст; стояли 3 часа. Заезжали в село Фили и были здесь с полчаса; переезжали Москву реку, и на берегу были с полчаса. И после того поехали и приехали к Москве в вечерни. Проводя послов в дом, Десятник изволил приехать в Преображенское. Отъехали 30 верст»{157}.
Из текста записи можно видеть, что по возвращении царь Петр встречается с теми, кто был оставлен управлять Москвой в его отсутствие (они были заранее извещены о приезде и должны были приготовиться). Еще утром 25 августа царь находился в селе Никольском-Вяземах, в гостях у хозяина этой вотчины князя Бориса Алексеевича Голицына. Затем по дороге в Москву Петр заехал на короткое время к своему дяде Льву Кирилловичу Нарышкину в Фили. В Москве царь оказался перед началом вечерней службы. Продолжая путь, он сначала провожал послов, прежде всего Франца Лефорта. В его доме царь, скорее всего, увиделся с Анной Монс и всей «кампанией». Но затем Петр, или, как он назван в журнале по принятому на себя чину, «Десятник», поехал в царский дворец в Преображенском.
История возвращения Петра I из-за границы известна и по донесению посла Гвариента цесарю в Вену. Он отметил, что царь вернулся «к 6 часам» 25 августа 1698 года. Передавая свои впечатления от появления царя Петра в столице, посол записал: «С удивлением надо видеть, что царем, вопреки всяким лучшим предположениям, все еще после столь долгого отсутствия владеет старая неугасшая страсть, и тотчас по прибытии он сделал первый визит своей — а официально лефортовой — любовнице, монсовой дочери, отец которой был виноторговцем. Остальной вечер он провел в Лефортовом доме, а ночь в Преображенском в деревянном доме, построенном его царским величеством среди своего полка»{158}. Еще до приезда царя Петра посол Гвариент гостил в доме Монсов и, конечно, интересовался рассказами обитателей дома о царе; тогда-то он и мог заметить или узнать что-то, позволявшее ему говорить о «старой страсти» царя к Анне Монс. Михаил Иванович Семевский, посвятивший отдельную работу взаимоотношениям Петра I и Анны Монс, принял слова посла буквально. Однако здесь скорее сказано о другом: Лефорт, принимая Монсов у себя дома, помогал Петру видеться с «монсовой дочерью», избавляя царя от возможных пересудов по поводу причин его излишнего внимания к семейству Монсов.
Для окружающих очевидным было главное: царь Петр не поехал сразу в Кремль, где его ждала царица Евдокия. До этого времени никто, кроме самых близких сотрудников Петра, возглавлявших правительство, а также патриарха и духовника царицы, не ведал об истинных намерениях царя. После же его демонстративного отказа немедленно встретиться с женой и сыном стало ясно, что во дворце назревают какие-то изменения. В дневниковых записях Корба читаем об этом: «По возвращении государь не пожелал остановиться в обширнейшей резиденции царей, кремлевском замке, но, посетив с необычною в другое время для его величия любезностью несколько домов, которые он отличал перед прочими неоднократными знаками своей милости, он удалился в Преображенское и предался там отдохновению и сну среди своих солдат в черепичном доме»{159}.
Вскоре царь все-таки оказался в своей кремлевской резиденции. Он захотел увидеть сына — царевича Алексея. Как оказалось, принимая поздравления от бояр, лично в шутовском кураже остригая ножницами боярские бороды, пируя в доме любимца Лефорта, царь не забывал о своей семье. Но прятал свои чувства от взглядов посторонних. Корб описал, как под покровом ночи 27 сентября «царь с очень немногими из самых доверенных поехал в Кремль, где дал волю своим отцовским чувствам по отношению к своему сыну царевичу, очень милому ребенку, трижды поцеловал его и осыпал многими другими доказательствами отцовской любви; после этого он вернулся в свой черепичный дворец в Преображенском, избегая видеться с царицей, своей супругой; она ему противна, и это отвращение усилилось от давности времени». Трудно сказать, кто был информатором имперского посольства, но, похоже, рассказ записан со слов очевидца, знавшего обстоятельства встречи царя с сыном после разлуки. А царица Евдокия узнала, что от нее по-прежнему ждут одного: чтобы она скрылась подальше от царских глаз.
И все же ее настойчивость была вознаграждена. Встреча с сыном немного смягчила Петра, и он согласился увидеть царицу Евдокию. Правда, так, чтобы у нее не оставалось никаких сомнений в том, что она должна покинуть дворец. Про встречу царя с женой, состоявшуюся почти сразу за этим внезапным ночным приездом в Кремль, тоже сообщали имперские дипломаты. Но на этот раз они не узнали ничего определенного, кроме самого факта встречи. Секретарь Иоганн Корб в своих дневниковых записях сослался на «очень неправдоподобный» слух о том, что разговор царя и царицы происходил наедине в течение четырех часов. Причем местом этой встречи был не дворец, а какой-то «чужой дом». Он даже подумал, что речь могла идти о встрече Петра с «любимейшей сестрой» царевной Натальей Алексеевной, а не с женой{160}. Источники такой путаницы становятся понятными, если сопоставить посольские дневники с делопроизводством дворцовых приказов, в которых сохранились документы о распоряжении изготовить две кареты и десять ямских подвод для похода царевны Натальи Алексеевны в Преображенское, датированные 27 августа 1698 года{161}. Следовательно, для окружающих это был «поезд» именно царевны Натальи Алексеевны. Но остается вопрос: кто ехал во второй карете, приготовленной для нее в Конюшенном приказе?
Вероятно, посол Гвариент не счел нужным посвятить секретаря посольства во все ставшие ему известными детали и в самом общем виде рассказал о циркулирующих «слухах». Как видно из его собственной депеши в Вену, датированной 2 (12) сентября 1698 года, в действительности Гвариент был точнее осведомлен о том, что встреча царя Петра и царицы Евдокии все-таки состоялась. Посол Гвариент, зная о встречах Петра с «монсовой дочерью», конечно, догадывался о том, почему царь больше не хотел видеться наедине со своей женой-царицей. Но опасался поверять все бумаге и поэтому написал вполне нейтрально о встрече царя Петра с царицей «для приветствования». Расшифровать же этот несложный эзопов язык, сопоставив его с прежними известиями Гвариента, в канцелярии цесаря большого труда не составляло. Хотя бы даже по странным деталям такого «приветствия» после почти полуторагодовалой разлуки.
Посол описывал сначала посещение царем Петром сына в Кремле, а потом вызов царицы Евдокии в Преображенское, где царь принял ее не в своем дворце, а в «чужом доме» (точно так же записал Корб). Что это был за дом, Гвариент в итоге тоже узнал: по его словам, это был дом «здешнего начальника почт». Очевидно, речь идет о думном дьяке и первом русском почтмейстере Андрее Виниусе, участнике Всешутейшего собора и одном из доверенных лиц царя{162}.
Царицу Евдокию, наверное, ждало потрясение, когда она встретила мужа, одетого в чужое для нее немецкое платье. За полтора года отсутствия в России Петр должен был сильно измениться. Но никакие неожиданности не смогли сломить духа этой сильной женщины; четыре часа, проведенные, по словам Гвариента, «в тайной беседе»{163}, окончились ничем, Петр не достиг желаемого согласия на постриг жены в монастырь. 31 августа царь снова приехал в Кремль для того, чтобы приветствовать патриарха Адриана. Патриарх был болен и не мог сам явиться к Петру. Царя должно было интересовать: почему никто из духовных не выполнил его указ об отправке строптивой царицы Евдокии в монастырь. Депеши посла Гвариента и записки Корба в описании этой встречи являются плохим подспорьем из-за ряда неточностей и преувеличений. Говоря о патриархе, который якобы едва откупился от царского гнева уплатой многих сотен рублей, или о привезенных в Преображенское для розыска попах, они передавали какие-то бытовавшие в то время слухи, напрасно связывая их с делом царицы Евдокии. По справедливому мнению М.М. Богословского, к розыску тогда были взяты не те попы, которые не смогли исполнить распоряжение об «уговоре», а священники мятежных стрелецких полков{164}.
Петр так и не простил царице ее упорства. Но следуя в своем рассказе за депешами Гвариента и полностью доверяя им, не делаем ли мы ошибки? Ведь беспристрастные дворцовые документы свидетельствуют и об отпуске «в хоромы» царицы Евдокии «сукна, тафты» и прочих товаров 2 сентября 1698 года, то есть после ее встречи с царем Петром{165}. Может быть, речь шла даже о царском распоряжении? В итоге, как известно, царь Петр все равно решил дело по-своему. Он совсем не хотел, чтобы царица и дальше оставалась во дворце. Но существовал и главный вопрос: что будет с царевичем Алексеем? Петр распорядился просто, передав сына от матери на воспитание своей сестре царевне Наталье Алексеевне. Уже 20 (30) сентября, как записал в своем дневнике Иоганн Корб, «царевич посетил царя в Преображенском с любимейшею сестрою царя Наталией»{166}.
В то же самое время царь начинал втягиваться в стрелецкий розыск. Петр многое узнавал о стрельцах, желавших вместо него «на царство выбрать государя царевича», о том, как мятежники хотели бить челом в его отсутствие царицам Прасковье и Евдокии, царевичу Алексею и сестрам-царевнам, в первую очередь Софье{167}. В Москву уже свозились из разных мест для нового следствия несчастные стрельцы четырех полков, устроивших выступление летом 1698 года. И эти стрельцы вместе с их прежними начальниками Лопухиными крепко оказались соединены у Петра в одно ненавидимое целое.
Следователи Петра I установили причастность царевны Софьи к выступлению стрельцов. А еще — ее сестры царевны Марфы, имевшей неосторожность передать Софье новости о появлении стрельцов в Москве и их готовности к возмущению. Стрелецкий розыск, проникший до самого «Верха» и коснувшийся царевен и дворцовых служителей, не предвещал ничего хорошего царице Евдокии. Она могла понимать, что царь только на время оставил ее своим вниманием, а на самом деле вокруг нее сжимается кольцо розыска, предвещавшее новую встречу с «монстрой» Ромодановским. В дневнике Корба осталась запись, из которой можно понять, насколько близко следствие подобралось к самой царице Евдокии: «…все друзья царицы призваны в Москву по неизвестной причине, но все же это считается дурным предзнаменованием, так как в городе распространился вполне определенный слух о расторжении брака с царицей»{168}. Так и произошло. Решение об отправке на житье в монастырь стало для нее лучшим выходом, чем возможные обвинения ее самой, ее «друзей» или родственников в связи со стрелецким делом. Смягчить участь царицы Евдокии могло только ее согласие с волей Петра I. И она подчинилась.
23 сентября 1698 года генерал Патрик Гордон поехал вечером в Преображенское, но «тщетно» пытался там что-нибудь сделать из намеченного им. Согласно записи в его «Дневнике», весь царский двор был занят арестом приверженцев («adherents») царевны Софьи и «отправкой царицы в монастырь» («putting the Zarina in the convent»){169}. Гордон всегда точен в датах, поэтому ему можно верить. Утренняя служба в память Зачатия Иоанна Предтечи 23 сентября обычно заканчивалась празднично, но она оказалась последней для царицы Евдокии. Праздник обернулся для нее тяжелым испытанием, разрушившим ее прежнюю жизнь. Прежде всего она съездила и попрощалась с сыном, оставленным на попечении царской сестры Натальи Алексеевны, и только после этого покинула царский дворец. На этот раз Гвариент, сообщавший имперскому двору о состоявшемся деле, был более красноречив. Он описал, как «царевич был отнят у царицы единоутробною и любимейшею сестрою царя Наталией и, как носится слух, будет вверен попечению князя Бориса Алексеевича Голицына». Гвариент приводил детали той «тайной» беседы в «чужом доме», про которую он писал ранее цесарю в Вену. По его мнению, покорность царицы Евдокии, отговаривавшейся защитой интересов сына, даже подкупила Петра, и он «великодушно» предложил ей на выбор какие-то два монастыря, куда она могла удалиться. Имперский посол заметил, что царица Евдокия была «в величайшем огорчении». И это подтвердили те немногие люди, кто случайно видел горький отъезд отверженной царицы из Москвы «в Суздальский монастырь в 36 милях отсюда». Со свидетелями, неосторожно рассказавшими своим знакомым про «худую карету» и «худых лошадей», на которых увозили царицу Евдокию из Москвы, потом с пристрастием разбирались в Преображенском приказе{170}.
Понятно, что царю Петру было просто необходимо, чтобы царица приняла монашеский постриг, иначе бы новый брак царя становился недействительным. Но царь все-таки не настаивал, чтобы это произошло немедленно. В 1698 году Петру было достаточно, что царицы Евдокии больше не будет с ним рядом, а сына воспитает сестра-царевна. Царица же, согласившись на требование мужа и царя покинуть столицу, могла попытаться выговорить для себя какие-то послабления. Не забудем важную деталь — возраст главных участников семейной истории в доме Петра Великого. Как царю, так и царице Евдокии в тот момент было всего 26 лет; царевна Наталья Алексеевна была на год их моложе, а царевичу Алексею исполнилось восемь лет. И никто из них не мог знать, какие драмы ожидают их впереди, куда повернет российская история, в которой последующее дело царевича Алексея, а следом и «розыск» о самой царице Евдокии останутся темными и трагичными страницами. Достаточно сказать, что эти дела станут поводом для создания печально известной Тайной канцелярии.
Покинув кремлевский дворец, царица Евдокия стремилась увидеться с отцом, который по-прежнему находился на воеводстве в Тотьме. В «Вологодской старине» в 1890 году была опубликована заметка «Лопухины в Тотьме». В местной исторической памяти, оказывается, осталось свидетельство о пребывании царицы Евдокии «пред пострижением своим» в Тотемском Богородском женском монастыре{171}. Впрочем, источником приведенных здесь сведений, скорее всего, стал более поздний вклад царицы Евдокии в Тотемскую пустынь, основанную духовником ее отца. Сам отец царицы Федор Авраамович Лопухин тоже присылал в пустынь «святые иконы с подписанием имени своего». Каких-то других свидетельств, подтверждающих посещение царицей Евдокией Тотьмы перед отправлением в Суздаль, нет. Кроме того, если бы даже ей разрешили такую поездку, то вряд ли она добралась бы в осеннюю распутицу до Тотьмы. В марте 1699 года воеводу и боярина Федора Авраамовича Лопухина уже отпустили со службы и отправили жить на покой в свои вотчины. Приехать в Суздаль, чтобы увидеться с дочерью, без челобитной царю он уже не мог…
Гвариент сообщил еще об одной милости, которая была дарована царице Евдокии: она могла обойтись «без обрезывания волос» и по-прежнему носить светское платье. Это известие М.М. Богословский отверг как не заслуживающее доверия{172}, но, возможно, зря. Вопрос о том, куда и в каком статусе должна была отправиться из Москвы царица Евдокия, оставался решенным наполовину. Ей надлежало уехать в Суздальский Покровский монастырь, но жить в монастыре и быть монахиней — не одно и то же. Царица Евдокия могла понимать желание Петра, но в меру своих сил по-прежнему противилась ему. Для того чтобы принудить ее к этому шагу, из Москвы отдельно будет послан в Суздаль один из членов Боярской думы. И тогда она поведет себя странно, лишь для вида согласившись на постриг, отринутый вскоре после отъезда присланного для устройства дел окольничего. Стоит еще раз вспомнить судьбу царевны Софьи, вынужденно принявшей постриг только в дни страшных стрелецких казней, которые намеренно совершались под окнами ее кельи в Новодевичьем монастыре. Царица Евдокия, оставляя сына и наследника царства, тоже не хотела разрывать все связи с «миром». Уезжая из Москвы, она совсем не думала, что сразу станет монахиней. Как ни «худы» были повозки, увозившие царицу Евдокию из Москвы, в них нашлось место для ее верных дворцовых служителей — карла Ивана Терентьева и карлицы Агафьи, которые войдут в ее суздальский двор и как распорядители дел, и как слуги, и как наперсники всего, что с ней будет происходить[24]. Царица Евдокия будет издали следить за судьбой царевича Алексея, ждать новостей о сыне и даже надеяться на приезд повзрослевшего царевича в Суздаль. Долгое время у нее оставалась даже призрачная надежда на встречу с мужем — царем Петром. Правда, на чем были основаны ее мечтания о возвращении к мужу и сыну в Кремль, остается только гадать. Очевидно лишь, что это были мысли не монахини, а царицы. Пребывание в том самом Суздальском Покровском монастыре, куда великий князь Василий III заточил свою жену Соломонию Сабурову в XVI веке, конечно, было весьма символичным. Суздаль располагался не так далеко от Москвы — всего лишь в трех днях пути по меркам XVII века. Как остроумно заметил один мой коллега, он стоял на той самой дороге, которая начиналась улицей Стромынкой в Сокольниках и Преображенском и продолжалась старой Владимирской дорогой, шедшей как раз мимо Покровского монастыря. В этом можно видеть изощренную жестокость царя Петра, прекрасно знавшего, что его жене уже не вернуться по собственной воле обратно в Москву. Впрочем, в Суздальском уезде располагалась вотчина Лопухиных в селе Дунилово (неподалеку от Шуи), полученная царицыным отцом Федором Лопухиным по случаю брака царицы Евдокии и царя Петра и перешедшая потом по наследству к его сыну Аврааму{173}. В Дунилове Лопухины основали монастырь, и даже название села связывается в памяти с именем царицы Евдокии. Но и там ей не было позволено жить. Все связи царицы Евдокии с прошлыми лучшими временами были разрушены.
Царь Петр не стал бы Великим, если бы предоставлял делам разрешаться самим по себе. Он многое держал в уме и всегда добивался нужной ему цели. Так было и с постригом царицы Евдокии в монастырь, о котором каким-то странным образом на время совсем забыли. В конце 1698 года царь лично направлял страшный стрелецкий «розыск» и участвовал в казнях стрельцов. Справившись с этим делом, он добился пострига сестры Софьи, ставшей монахиней Новодевичьего монастыря Сусанной, и сестры Марфы, постриженной с именем Маргарита в Успенском Александровском монастыре. Были сделаны распоряжения и относительно двора царицы Евдокии. Судя по документам из архива Оружейной палаты, никто из слуг царицы Евдокии не пострадал, все получили заслуженное жалованье. Прежние постельницы царицы даже продолжили служить во дворце с теми же окладами. Одна, Аксинья Парамонова, 18 мая 1699 года была назначена на место постельницы царевича Алексея Петровича, а другая, Марья Голдобина, 16 мая 1699 года — в постельницы царевны Натальи Алексеевны. Это лишний раз показывает, что отправка Петром царицы Евдокии на житье в монастырь объяснялась исключительно личными причинами и не была связана с какими-либо государственными делами. Заметно, что и царевичу Алексею постарались смягчить разлуку с матерью, оставляя в его окружении тех людей, к которым он привык. Прежний учитель царевича певчий дьяк Никифор Вяземский тоже остался с ним[25].
Поначалу царь Петр совсем не заботился о том, что будет дальше с его бывшей женой. Он не назначил ей никакого содержания, в отличие от опальных сестер-царевен. Хотя переезд царицы Евдокии на житье в Суздальский Покровский монастырь требовал существенных трат и целого ряда хозяйственных распоряжений. Надо было подобрать место, где она должна была жить внутри монастыря, подумать о ее «кормах» и одежде, о том, как обеспечить охрану, пресечь нежелательные встречи царицы с родственниками и другими лицами в монастыре. Можно представить, как готовились к приезду царицы Евдокии, как подыскивали для нее место, обеспечивавшее тайное пребывание царицы в монастыре. Г.В. Есипов писал, что монастырские власти направили челобитную в Москву о дозволении построить царице-инокине «особые кельи». Разрешение было получено, но строительство все равно велось на монастырские деньги. Эти первые кельи сгорели в 1710 году, но еще раньше были построены другие кельи в Благовещенской церкви{174}.
Обычно с именем царицы Евдокии связывают только эти кельи в Благовещенской надвратной церкви (они упоминались в Суздальском розыске по ее делу). Однако, по свидетельству современника, в Покровском монастыре образовались со временем «преизрядные покои», имевшие проходы ко всем трем надвратным церквям: Троицкой, Благовещенской и Архистратига Михаила. Об этом написал суздальский «историограф» XVIII века ключарь Рождественского собора Анания Федоров, собиравший исторические сведения о своем городе. Мальчиком он еще мог застать те времена, когда царица Евдокия была сослана в Суздаль, и писал о том, что видел своими глазами: «От тех трех церквей ко ограде монастырской, были устроены преизрядные покои многочисленные, деревянные брусчатые, в которых пребывала благоверная государыня царица, монахиня Елена» (эти покои, как сообщал А. Федоров, были сломаны «по обветшании» в 1752 году, «где ныне и знаку никакова не имеется»{175}). Однако еще в конце XIX века монахини Покровского монастыря показывали приезжим любителям старины место, где стояли кельи царицы Евдокии Федоровны, царицын сад и пруд и даже «печку царицы с замечательными расписными изразцами, перенесенную из старых келий царицы в новопостроенную на том же месте келью казначеи»{176}.
Несколько месяцев спустя после отъезда царицы Евдокии в Суздаль о ней все-таки вспомнили и направили туда окольничего Семена Ивановича Языкова. Официально цель его миссии не оглашалась. 22 июня 1699 года была отправлена грамота архимандриту Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря Варлааму с самым общим указанием на его полномочия. От монастырских властей просто требовалось, чтобы они были «во всем послушны» и помогали приехавшему в Суздаль окольничему Языкову{177}.[26] По-настоящему детали приезда Языкова выясняются только по материалам розыска о царице Евдокии 1718 года, связанного с делом царевича Алексея. Тогда-то совсем случайно и неожиданно для царя Петра стало известно, что царица Евдокия давно уже отказалась от монашеского одеяния и жила в монастыре, как в миру. Стали искать документы о посылке в Суздаль окольничего Языкова, который должен был убедить царицу Евдокию принять постриг. У властей Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря забрали сохранившуюся грамоту, чтобы приобщить ее к документам розыска. Кстати, судя по справе дьяков, грамота окольничему Языкову была выдана из Приказа Большого дворца, а это значит, что в 1699 году уход царицы в монастырь не был связан с каким-либо ее преследованием по другим, государственным делам в Преображенском приказе.
Почему царица Евдокия не приняла постриг сразу же, еще осенью 1698 года? Думается, что все объяснялось прежними причинами: царица оттягивала пострижение в монахини, как могла. Много лет спустя рассказывали, что царский окольничий на протяжении десяти недель добивался ее согласия стать монахиней (понимая, что без этого ему нельзя показаться на глаза Петру). В конце концов, уступая Языкову и избавляя монастырь от разорительных кормов, царица Евдокия согласилась сделать вид, что подчинилась его требованиям и готова к монашескому постригу{178}. Языков, видимо, сумел даже чуть быстрее исполнить свою миссию, чем считается. Уже 16 августа 1699 года из Казенного приказа в Суздальский Покровский монастырь было послано несколько видов тканей «на портищи… объяри, камки, тафты, киндяков» и, что особенно важно, «сукна черного»{179}. По-прежнему не было решено, кому дальше заботиться о содержании бывшей царицы. Условием получения денег и имущества из казны могло быть исполнение главного требования — о монашестве. Получив согласие царицы Евдокии, из Казенного приказа и выписали нужную материю для одежды будущей черницы (по документам это могли списать на комиссию окольничего Семена Языкова).
Во время Суздальского розыска 1718 года вспоминали также, что царица Евдокия выговорила для себя очень странный «чин» пострижения, если его вообще можно так назвать. Его провел иеромонах Илларион из Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря не в храме, а в келье одной из стариц — казначеи Маремьяны. При постриге большинство присутствующих, включая окольничего Семена Языкова, находились по другую сторону какой-то занавеси или пелены. Они только слышали, но не видели, как все происходило. Поносив для вида монашеское одеяние несколько месяцев, царица Евдокия снова «вернулась» в мир. А скорее всего, и не покидала его! Церковь всегда отказывалась признавать насильственный постриг, и нарушать церковные каноны никому не было позволено. Заметно, что участники подневольного пострига больше заботились не о церковной стороне дела и не о точном следовании каноническим деталям всего обряда, а о том, как побыстрее избавиться от разорительного для Покровского монастыря присутствия царского окольничего в Суздале. Иначе бы у царицы не оставался свой особый духовник и она должна была бы участвовать в службах не в своей домовой церкви, а вместе с остальными монахинями. Внешне все оставалось так, как требовал Петр, — царица Евдокия жила в монастыре, и только некоторые детали выдают, что настоящего пострига так и не было совершено.
Далее последовали почти двадцать лет пребывания царицы Евдокии, нареченной монахиней Еленой, в Суздальском Покровском монастыре. Ее печальная история, скорее всего, забылась бы и оказалась стертой из памяти, как это было с Соломонией Сабуровой, с вдовами царей Ивана Грозного и его сына царевича Ивана Ивановича и с другими знатными «пленницами», заточенными в этом монастыре и обретшими там вечный покой. Однако в нуждах политического сыска по делу царевича Алексея вся немудреная жизнь царицы Евдокии была вывернута наизнанку царем Петром. Канцелярия «Тайных розыскных дел», созданная для расследования небывалого дела о побеге царского сына за границу, конфисковала и изучила всю сохранившуюся переписку царицы Евдокии, допросила с пристрастием оставшихся верными ей людей. Погружаясь в следственные дела, историк не должен повторять путей следователей. Суздальскому розыску и его методам, вопросу об участии в нем царя Петра будет посвящена следующая глава этой книги, а сейчас попробуем рассказать о жизни царицы Евдокии в Покровском монастыре, то есть о судьбе одной-единственной женщины, жившей на рубеже XVII и XVIII веков. О том, как бывшая царица чувствовала себя за монастырскими стенами, как она искала встречи с сыном или ждала известий, редко достигавших ее закрытого мира. Оставим царя Петра Великого наедине с важными для Отечества делами — битвами под Нарвой и Полтавой, основанием и строительством Петербурга, первыми морскими победами России, созданием Сената и коллегий, административным переустройством провинций и губерний. Не будем вспоминать и всем хорошо известную историю встречи царя Петра с его обретенным «другом Катеринушкой», на которой он женился в 1712 году и которую потом короновал в императрицы. Не стоит здесь вспоминать и о детях Петра I и Екатерины I, которые, как известно, впоследствии и дадут продолжение династии Романовых. Все, что принесло славу и величие Российской империи, мало значило для извергнутой из мира несчастной женщины. Эти события проходили мимо нее.
Царица Евдокия — и это, может быть, главное, о чем надо еще предуведомить читателя, — жила по-другому, в своем замкнутом мире, со своими прежними привычками и представлениями. Находясь в монастырском заточении, она не имела понятия о тех событиях, которые присутствуют сегодня в учебниках истории. Ненависть царя Петра, полное крушение жизни, молчание об этой истории всех, кто в нее был посвящен, — такова начальная мизансцена драмы отвергнутой царицы.
«А от него государя милости нет…»
Так прошло четыре года. Пребывая в суздальском монастыре, царица Евдокия по-прежнему видела своего заступника в боярине Тихоне Никитиче Стрешневе. Благодаря ему она когда-то оказалась во дворце и — на свою беду — стала женой царя Петра. Стрешневу же царица Евдокия пишет письмо в Москву с мольбой о помощи.
О чем же она просит? О встрече с мужем царем Петром! Но почему она все еще надеется на эту встречу? Не значит ли это, что царицу когда-то обнадежили такой возможностью? Конечно, она мечтает и о встрече с сыном, встрече со своими родственниками, а еще просто о том, чтобы о ней вспомнили и позаботились. Ее единственное известное письмо боярину Тихону Стрешневу написано около 1703 года. В нем раскрываются особенности речи царицы Евдокии — замена букв «д» на «т», «п» на «б», «г» на «к», «з» на «с». Это развившееся косноязычие объясняется тем, что человек, постоянно пребывающий в молчании, со временем начинает писать слова так, как слышит их внутри себя. И кажется, что она писала, сдерживая рыдания, а на бумаге остались даже следы от слез прежней жены царя Петра — «Дуньки»:
«Тихан Микитич, здравствуй на множество лет.
Пожалуй, умилосердися надо мною бетною, поброси у государя милости. Долго ли мне так жить, что ево государя ни слышу, ни вижу, ни сына своего. Уж мое[м]у бетству пятой кот, а от него государя милости нет.
Пожалуй, Тихон Микитич, побей челом, что бы мне про ево государево сдорове слышеть и сына нашего такоже слышать. Пожалуй, и о сротниках мо[и]х поброси милости, чтобы мне с ними видетца. Яви ко мне бетной милость свою, побей челом ему государю, чем бы мне пожаловал жить.
А я на милость твою надеюся, учини милостиво, а мне нечем тебе восдать, так тебе Бох забдатит за твою милость. А мне обришень (опричь. — В. К.) милости твоея некому, тол ко ты, пожалуй милостию, заступи»{180}.
Письмо это, видимо, возымело свое действие, и царицу Евдокию поручили заботам брата, Авраама Федоровича Лопухина. Уход Евдокии в монастырь по воле Петра повлиял на положение всех Лопухиных, и брат царицы не стал исключением. Но с ним все оказалось сложнее, так как он был зятем внушавшего всем ужас главы Преображенского приказа Федора Юрьевича Ромодановского. Родство с Ромодановским окружало фигуру Авраама Лопухина ореолом влиятельности и даже страха. Несмотря на судьбу царицы Евдокии, считалось, что по его воле можно назначать и сменять людей, получать чины или, напротив, расправляться с неугодными лицами. С такой репутацией Лопухин продолжал жить в Москве, пока не пришел трагичный для семейства Лопухиных 1718 год. Тогда Авраам Федорович стал одним из главных фигурантов дела царевича Алексея, припомнили ему и заботу об опальной сестре. В итоге родного брата царицы Евдокии казнили как государственного преступника.
Восстановление почти утраченной поддержки «сродственников» помогало царице Евдокии в простых житейских ситуациях и поддерживало ее связи с прежним миром. В первую очередь она просила брата: «Пиши ко мне про мужа моего, и про сына моего, и про всех»{181}. Ее по-прежнему удручала бедность монастырского «жития», она понимала, что брат остался единственным подспорьем в жизни, но не могла не обременять его все новыми и новыми просьбами, надеясь, что сын — царевич Алексей — воздаст за труды своему дяде, вступив на царство. По сохранившимся письмам царицы Евдокии к «братцу» Аврааму Федоровичу и «невестушке» Феодосье Федоровне можно видеть, что именно он стал ее главным посредником во всех делах и помогал поддерживать связь с семьей. В одном из писем брату царица Евдокия обращалась также и к «батюшке» боярину Федору Авраамовичу Лопухину, жившему в старости, вероятно, вместе с сыном. По преимуществу в своих письмах царица Евдокия жаловалась и просила о помощи, поэтому ее личные документы оказалась почти бесполезны для розыска в Тайной канцелярии.
Несколько сохранившихся писем царицы Евдокии содержат просьбу об «отпуске» в монастырь «на Иваново место Болкунова» другого человека — стряпчего Михаила Стахеева. Николай Герасимович Устрялов, впервые рассказавший об этом, датировал историю с назначением стряпчего Стахеева концом 1703-го — началом 1704 года. Иван Болкунов и бывшие с ним дворяне и стольники «разоряли» монастырь, и царица Евдокия, уступая просьбам игуменьи и сестер, умоляла брата вмешаться, ссылаясь на свое бедственное положение. Она жаловалась Аврааму Лопухину, что «от стольников и дворян только обида бывает», надеясь, что он распорядится назначить Михаила Стахеева. «Зачем ты ево посямест сюды не отпустишь, или тебе чем ево обнесли неделом, — с обидой обращалась царица к брату. — Отпусти ево сюды, что ты меня не слушаешь, коли ты таков был, что меня не слушаешь?» Повторяя свою просьбу в отдельном письме «невестушке» — жене брата, она снова напоминала о своем положении: «…мне пригоже ли приказывать к казначею, к стольникам или к дворяном». Причина настойчивости царицы — в том, что она «дала слово» игуменье Покровского монастыря исполнить ее просьбу: «А мне ж игуменья с собором бьет челом и хресьяня со всей вотчины вопят голосами, чтобы ты ево отпустил на Иваново место Булкуново. Можно тебе ето сделать. Мно[го] я х тебе писала о нем, а впреть и не буду о нем писать».
Еще одно письмо касалось нужд какой-то Татьяны Васильевны, отправившейся в Москву. Царица Евдокия просила брата помочь, напоминала ему: «А ты, радость мой, прежнему не верь, ты мне поверь, знаешь ты меня, какова я моложе была, яви им свое милосердие». Неожиданными выглядят эти настойчивые припоминания о том, что брат прежде всегда ее слушался. Они разрушают стереотипный образ царицы и подтверждают ее ссылки на свой «горячий» характер. Перед нами все еще царица, даже в монастыре умевшая добиваться своего. Судя по всему, царица Евдокия постоянно думала об оговорах тех людей, за которых она просила. В конце письма содержались главные слова, которые вряд ли кого могут оставить равнодушными: «Горькое, горькое житие мое. Лутче бы я на свете не родиласа, не ведаю я за што мучеюса».
В других письмах есть ряд бытовых подробностей, касающихся присылки съестных запасов. Тут проясняется неприглядная сторона жизни царицы Евдокии в Суздальском Покровском монастыре, известная только в самом близком родственном кругу Лопухиных: ведь перед своим братом царица Евдокия ничего не скрывала. Для пожалования духовника и прислуживавших ей в монастыре сестер она просила прислать брата «всяких водак». «Хоть сама не пью, — объясняла царица Евдокия свою просьбу, — так было чем людей жаловать, веть мне нечем болши жаловать, что не етем, нечем болши и духовник и крылошанки и всех то ни придет». Просила она прислать «рыбы с духами» и «всячины»: «веть ничево нет, все хнилое». Понимая, что может надоесть брату своими жалобами, она заканчивает письмо: «Хоть я вам и при[с]кушна, да что же делать. Покамест жива, пожалуйте, поите, да корми[т]е, да одевайте нишщею, а вам на мою долю Бох пожлет, хоть в ба[га]де[л]ну не посылаете». Последние, выделенные курсивом, слова Н.Г. Устрялов опустил при публикации. Так странно слышать из уст царицы слова о богаделенном доме…
Дело с назначением стряпчего Михаила Стахеева, в котором приняла такое настойчивое участие царица Евдокия, не прошло для нее бесследно. В январе 1704 года она заболела, причем положение было таким серьезным, что она соборовалась и причастилась, готовясь к смерти. Пришлось игуменье Покровского монастыря Прасковье и казначее Маремьяне писать письмо боярину Тихону Никитичу Стрешневу 26 января 1704 года. О себе они пишут — «богомолицы», а о Евдокии — «государыня царица», не упоминая ни о какой монахине Елене:
«Государю боярину Тихону Никитичу богомолицы великого государя и ваши, из Суздаля Покровского девича монастыря игуменья Параскева, казначея Маремьяна с сестрами, Бога моля, челом бьют.
Известно тебе, государю, предлагаем: государыня царица вельми скорбит, и святым покаянием и святого причащения сподобилася, и елеем святым освятилася; изволила нас призывать и говорить, чтоб нам отписать, и просила, чтоб ей видеть брата своего при самой кончине. И мы, богомолицы, просим, против приказу ея, милости твоей. Она едва говорит, и если Бог сошлет по душу ея, как ее управить и где положить и кому управить тело ея? Послано нарочно 26 числа генваря»[27].
Видно, что игуменья Прасковья и сестры монастыря по-прежнему воспринимали Евдокию Федоровну как царицу и старательно избегали упоминания о «старице Елене», хотя ее «постриг» проходил в келье той самой казначеи старицы Маремьяны, которая обращалась вместе с игуменьей к боярину Тихону Стрешневу. Возможно, они даже думали, что царицу, если она умрет, похоронят не у них в монастыре, а в Москве. В любом случае они не смели самостоятельно распорядиться на этот счет. Но царица Евдокия выжила, и все осталось по-прежнему.
Прошло еще два года…
Только тогда, после всех переживаний и болезней, царица Евдокия решилась обратиться с письмом напрямую к царю Петру. А потом будет еще другое письмо, сыну царевичу Алексею, к которому ей, по всей видимости, было запрещено обращаться без царского разрешения. «По странной случайности», как написал первооткрыватель этих поразительных документов Константин Иванович Арсеньев, письма царицы остались «незамеченными» Устряловым и «другими исследователями, занимавшимися царствованием Петра Великого». Не вошли они и в известный сборник 1862 года, где была опубликована переписка царевича Алексея и царицы Евдокии Федоровны. Между тем без них невозможно представить во всей полноте историю суздальского заточения царицы Евдокии. Письмо мужу царю Петру Алексеевичу написано, конечно, сломленным человеком, страдающим от того, что все отвернулись от него, стремящимся хоть немного избыть нищету. Обычно в челобитных все предстает в преувеличенном свете, но в жалобе царицы Евдокии есть жизненные подробности, которые заставляют думать, что она действительно была доведена до крайней бедности и отчаяния.
И еще важно обратить внимание на то, что опять нигде в письме Петру I царица не говорит о себе как о старице! Монахиня не могла бы писать, что она «бедствует» в монастыре, или вспоминать о «сыне нашем». Царь Петр по-прежнему для нее муж, и она обращается к нему: «батюшка мой», как когда-то в письмах, написанных из дворца, в надежде хоть на какие-то послабления по прошествии уже значительного времени, которое она по воле Петра провела в монастыре.
«Благочестивый государь царь Петр Алексеевич, здравствуй!
По воли и по повелению твоему уже я в манастыре бетствую семь лет, а про твое государево здоровье не слышу и про сына нашего. Которы и сротники мои есть, а они от меня отступилиса. О, какое мое горкое и нужное житие здесь в манастыре, от убогих едина никово перет собою не вижю. Прошу у тебя государя своего милости, пожалуй, батюшко мой, сотвори милость свою надо мною убогою нишщею, не имею истиньно у себя деньги единой не талкождо лохонишо[28] на себя положить, ин и свечи не но што выменить.
Пожалуй, сотвори милостиво нат кою убогою нишщею, яви милость свою надо мною, а я горкая челом бью, прикажи меня чем нибуть пожаловать денех, истинно хуже нишщее. Сыну нашему мое грешное благословение»{182}.
Неизвестно, дошло ли это письмо до Петра, но ответа на него не последовало. Царица должна была выживать сама в своем монастырском заключении. И она нашла выход, хотя и призрачный, желая силою молитвы преодолеть посланное ей наказание. Поддержку она отыскала в духовенстве суздальских и владимирских монастырей, помнившем о ее царском чине. В Суздаль царица Евдокия попала при митрополите Илларионе, много десятилетий возглавлявшем суздальскую кафедру. Он строго следовал запретам и ни разу не видел царицу Евдокию[29]. Возбранялось это и другим духовным лицам, но царица сама имела возможность покидать на недолгое время монастырь для паломничества, а также принимать являвшихся к ней людей. Все началось, видимо, с первых поездок царицы Евдокии во Владимирский Сновидский монастырь и разговоров с его игуменом Досифеем, назначенным туда в 1701 году{183}. Царица могла знать его и раньше, так как считается, что Досифей, в миру Демид Глебов, происходил из дворовых людей Лопухиных. В любом случае даже простое знакомство игумена Доси-фея с кем-то из Лопухиных было дорого для царицы Евдокии. Спустя восемь лет, в 1709 году, Досифей стал архимандритом Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря, а через два года — ростовским епископом. Для него знакомство с царицей Евдокией закончится очень плохо, Досифей станет одним из главных фигурантов Суздальского розыска 1718 года. Извергнутый из сана ростовский владыка признавал на следствии, что намеренно объявлял царице Евдокии свои видения от икон и внушал ей, «для утешения», надежду на изменение участи. А они — эти видения — вызывали ужас. Досифей, например, описывал, как мучается в аду царицын отец — боярин Федор Авраамович, как он уже показался из ада благодаря молитвам царицы Евдокии, но ей надо молиться о нем еще и еще. Так царица изначально оказалась под духовным влиянием игумена Досифея.
В конце 1706 года в жизни царицы Евдокии случилось важное событие. После восьмилетней разлуки она в первый и, как оказалось, последний раз увиделась с сыном, царевичем Алексеем. Никаких деталей этой поездки сына к матери в Суздальский Покровский монастырь не сохранилось; известно только, что царевна Наталья Алексеевна немедленно сообщила об этом брату. А царь Петр в январе 1707 года вызвал к себе сына; тогда-то тот и узнал, как страшен отцовский гнев. Царевичу Алексею впредь запретили даже думать о поездке в Суздаль, и он вынужден был подчиниться, как это делал всегда, во всех других делах, оставаясь в полной воле отца. С тех пор царевич лишь изредка, с оказией, через самых верных людей посылал матери деньги. Царевич Алексей предостерегал приближенных даже от поездок в близлежащий Владимир, чтобы на них не легла тень подозрения в возможной «ссылке» царевича с матерью.
Сыну царя Петра приходилось сдерживать родственные чувства и к родному дяде — Аврааму Лопухину. И его царевич Алексей боялся подвести, поэтому не искал лишних встреч и не вступал в переписку с ним. Могли здесь сказаться и слабость и инфантильность царевича, больше всего на свете боявшегося отцовского гнева. Потому Авраам Лопухин немногое мог сообщить сестре про ее сына. А царь Петр решил постепенно приучать сына к самостоятельному правлению. В 1707 году он поручил царевичу наблюдать над укреплением оборонительных сооружений Москвы, а в следующем году — произвести набор солдатских полков{184}. Документы и письма царевича Алексея отцу показывают, что он вполне мог управляться с порученными ему делами самостоятельно. При условии, что и дальше его настойчивость в достижении нужных результатов будет поддержана отцом. Но в начале 1709 года, отводя собранные им полки в армию, в Сумы, царевич Алексей тяжело заболел во время похода «лихорадкою». Так ему не суждено было оказаться рядом с отцом в Полтавской битве.
Примерно в то же время, когда царевич Алексей был занят сбором войска, в Суздале для рекрутского набора оказался майор Степан Богданович Глебов. Сам он о первой встрече с царицей Евдокией на розыске 1718 года говорил неопределенно: случилось это, по его словам, «лет с восемь или с девять» тому назад. Четвертый рекрутский набор был объявлен указом 18 ноября 1708 года; известны документы о наборе рекрутов в суздальской вотчине Лопухиных, датированные началом 1709 года (причем составленные с нарушением правил рекрутского набора){185}. Скорее всего, именно тогда, в конце 1708-го — начале 1709 года, и произошла встреча царицы Евдокии с майором Глебовым. В итоге встреча эта переросла в нечто большее, чем обычное знакомство. Сохранившиеся письма не оставляют сомнений относительно степени их близости. Этот «амурный» след в истории царицы Евдокии всегда вспоминали к вящему удовольствию публики, готовой признать правоту царя Петра и обвинить царицу Евдокию в распутстве. Между тем уже много говорилось о том, как жилось отвергнутой царской жене в монастыре, как она искала выход и стремилась приспособиться к обстоятельствам, ожидая поддержки со стороны. Встреча с Глебовым многое изменила для царицы Евдокии. Едва ли не впервые она увидела светского человека, не скрывавшего своего сочувствия к ней и не побоявшегося увидеться с нею в монастыре. Книги и записи, изъятые на розыске у Глебова, показывают, что он был склонен к толкованию Священного Писания (он даже использовал для этого тайную цифирную азбуку), а это тоже не могло не отвечать общему мистическому настрою, который овладел царицей Евдокией в ее заточении. О книжных интересах Глебова свидетельствует и его знакомство с Карионом Истоминым, который 28 июля 1707 года давал ему на время «книгу о хитростех ратных… почитать»{186}. Сказывались и открывшиеся на следствии по делу майора Глебова обстоятельства, свидетельствовавшие о том, что его собственная жена продолжительное время была больна. Впрочем, следователи не для того арестовывали майора Глебова, чтобы оправдывать его близость с бывшей царской женой, вызвавшую страшный гнев царя Петра…
Знакомство царицы Евдокии и майора Глебова не состоялось бы без участия и покровительства этим встречам архимандрита Досифея и других лиц в царицыном окружении (в том числе и ее духовника, ключаря Рождественского собора Федора Пустынного). В самом конце 1708 года умер суздальский митрополит Илларион. При нем, как уже говорилось выше, никакие вольности и послабления царице Евдокии почти не допускались. А дальше кафедра перешла к новому архиерею — Ефрему Янковичу, выходцу из Сербии. Новому человеку трудно было держать в руках все нити управления епархией, поэтому усилилось значение архимандрита главного из суздальских монастырей — Спасо-Евфимиева, а эту должность стал занимать не кто иной, как архимандрит Досифей, переведенный туда из игуменов Владимирского Сновидского монастыря. Досифею как архимандриту Спасо-Евфимиева монастыря предстояло наблюдать как за жизнью всей Покровской обители, так и за обстоятельствами пребывания там бывшей царицы. Духовники Покровского монастыря тоже относились к братии Спасо-Евфимиева монастыря. Уже известный нам иеромонах Илларион добросовестно известил архимандрита Досифея о том, что некогда участвовал в постриге царицы Евдокии в монахини, но новый архимандрит, хорошо знакомый с царицей Евдокией и знавший, что она не носит монашеского платья, не придал этому никакого значения. Ему выгоднее было поддерживать в царице Евдокии веру в возможное возвращение во дворец. Как позднее говорили царевичу Алексею, когда царь Петр стал угрожать сыну монашеским постригом, «клобук не гвоздем к голове прибит», намекая, что человеку, постригшемуся «в неволи», в любое время можно вернуться в «мир».
Встречи царицы Евдокии и майора Степана Глебова, находившегося на временной службе в Суздале, не могли продолжаться долго. Они и так вызывали недовольство местных духовных лиц, например протопопа Симеона, выговаривавшего покровским монахиням за то, что те не препятствуют предосудительным приездам Глебова в монастырь. Выполнив указ по сбору рекрутов, Глебов покинул город, на прощание обменявшись с царицей перстнями (свой перстень она послала еще и для дочери майора). Переписка царицы Евдокии с ним и его семьей (!) продолжилась и дальше. Упоминавшаяся выше Татьяна Васильевна, а в других письмах просто «Васильевна», скорее всего, была женой Глебова. Словом, несмотря на признания на следствии и тайные любовные письма царицы Евдокии к Глебову, отношения между ними были не такими уж простыми. Царица Евдокия жаловалась Глебову и упрекала его в том, что он забыл ее, и даже пыталась заставить его ревновать, однако поделать ничего не могла. Глебов по-прежнему служил и не принадлежал себе, а царица Евдокия оставалась пленницей в монастыре. Она все еще надеялась на перемену своей участи, ждала, что вернется во дворец, по-прежнему полагаясь на сомнительные утешения архимандрита Досифея. Но в 1710 году Досифея перевели из Суздаля в архимандриты Московского Новоспасского монастыря. В Москве Досифей сблизился с семьей самого светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова. Он участвовал в освящении домовой церкви Архангела Гавриила на Чистых прудах — знаменитой Меншиковой башни. Досифей продолжал свои «пророчества», которыми стал известен еще в Суздале. Так, он вовремя предсказал «благополучное разрешение» судебного дела против князя Меншикова. Услуга не была забыта, архимандрит Досифей, при поддержке жены князя Дарьи Михайловны Меншиковой, уже в 1711 году получил сан ростовского епископа и оставался служить на этой кафедре вплоть до несчастного 1718 года, когда его дни закончились так же трагично, как и судьба майора Глебова.
Еще одной вехой в монастырском житии царицы Евдокии стал официальный брак царя Петра I и Екатерины 19 февраля 1712 года (их тайное венчание произошло годом ранее). Всем, кроме самой первой жены царя Петра, стало очевидно, что она утешалась ложными надеждами на возвращение во дворец, принимая желаемое за действительное. В окружении царицы Евдокии ходили следующие разговоры: «Вот бывшая царица все чаяла, что государь ее возьмет и будет она по прежнему царицею с пророчества епископа Досифея; когда он был архимандритом (новоспасским в Москве), принес к ней две иконы и велел ей перед ними класть по нескольку сот поклонов; а Досифей от тех икон будто видел видение, что она будет по прежнему царицею, и от того она чуть не задушилась, поклоны кладучи». Осуждал церковные власти за их молчание о фактическом двоеженстве царя Петра и Степан Глебов, отнюдь не забывавший царицу после встречи с ней в Суздале. Глебов сокрушался в разговорах с архимандритом Досифеем по поводу того, что все молчат, ведая о второй женитьбе царя, когда у него уже есть жена, находящаяся в монастыре: «Для чего вы, архиереи, за то не стоите, что государь от живой жены на другой женится»{187}.
Трудно было сыскать такой же доходчивый аргумент для обвинения Петра I в разрушении старины и привычных норм поведения. Царица Евдокия и ее взрослый сын становились символами отверженного Петром «правильного» порядка Московского царства. Странная, конечно, судьба была у царицы Евдокии! Ведь с самого начала ее свадьба была не просто царской свадьбой, а одним из тактических шагов в борьбе Милославских и Нарышкиных, и в течение всей последующей жизни ее стремились включать в эту политическую игру, хотя ее интересовали совсем другие, простые и земные вещи.
Петр I вступил в новый брак практически одновременно с сыном царевичем Алексеем, разрубая узлы накопившихся семейных проблем. Главная проблема престолонаследия при этом никуда не исчезла, а только обострилась. Ведь первому сыну царя Петра принадлежали все права на царство, и уйти от этого было невозможно, если только резко, по-петровски, не развернуть российский «корабль» другим курсом. Царь Петр давно задумался о будущей судьбе царевича. Собственный опыт женитьбы на Евдокии Лопухиной, боярышне из русского рода, он совсем не хотел повторять для сына. Петр настоял на том, чтобы царевич сам предварительно отправился за границу к иноземным дворам и там познакомился с будущей невестой, сделав самостоятельный выбор. Условие было одно: чтобы будущая жена царевича была обязательно иноземных княжеских кровей. Об этом царевич говорил сам в переписке со своим духовником, открывая ему, что нашел в Саксонии невесту, княжну, состоявшую в родстве с польским королевским домом. «А я уже известен, — делился царевич с духовником планами отца, — что он не хочет меня женить на русской, но на здешней, на какой я хочу. И я писал, что когда его воля есть, что мне быть на иноземке женатому, и я его воли согласую, чтоб меня женить на вышеписанной княжне, которую я уже видел, и мне показалось, что она человек добр и лучше ее здесь мне не сыскать»{188}.
14 октября 1711 года царевич Алексей Петрович женился на княжне Софии-Шарлотте брауншвейгской и вольфенбюттельской. Свадьба прошла во дворце польской королевы в саксонском городе Торгау. Петр известил Сенат о том, что на свадьбе «довольно было знатных персон», а «дом князей вольфенбительских, наших сватов, изрядной». Это действительно было так. Сестра невесты была женой австрийского императора, что обещало в будущем замечательные дипломатические перспективы для Московского царства. Но, заставляя сына жениться на «иноземке», царь Петр повторил главную ошибку своего первого брака. Свадьба царевича Алексея тоже оказалась результатом политических расчетов. И все приготовления к ней скрывались от подданных, как было со свадьбой самого царя Петра и царицы Евдокии. Слова Петра: «Слава Богу, что сие счастливо свершилось» можно толковать и в другом смысле: избавления от неизбежных разговоров по случаю отсутствия на этой свадьбе настоящей матери царевича. В Россию кронпринц и кронпринцесса у как стали называть царевича Алексея и его жену при дворе Петра, приехали только в 1713 году.
Епископ Досифей, находясь на ростовской кафедре, не забывал царицу Евдокию, хотя и не мог дальше помогать ей напрямую, как это было во времена его управления Спасо-Евфимиевым монастырем. Но его преемник в Суздале архимандрит Кириак продолжал почитать царицу Евдокию так же, как это было и во времена Досифея. Много позже архимандрита Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря Кириака тоже привлекут к следствию в Тайной канцелярии и припомнят ему, как по всем большим церковным праздникам и тезоименитствам он «с почестью к бывшей царице хаживал и руку ей целовал, с 710-го едва не по вся годы, и пивал у нея водку и ренское, и видал ее в мирском платье». Кстати, выясняется, что новый суздальский митрополит Ефрем первым из суздальских архиереев нарушил запрет на встречи с царицей, показывая пример настоятелям монастырей и другим церковным служителям. Еще одно обвинение архимандриту Кириаку гласило, что он «однажды, при бывшем Суздальском архиерее, в келье ея бывшей царицы, обедал, и подачи от нея к нему присылываны, также и в Спасской Ефимьев монастырь она, бывшая царица, приезжала, и он Кириак служил при ней молебен и почитал ее за царицу»{189}. И пусть не все, о чем говорилось в обвинении, оказалось правдой; очевидно, что жизнь царицы Евдокии в Покровском монастыре со временем не ухудшалась, а, напротив, менялась к лучшему. С ней всё больше считались, как с матерью уже вступившего в брак наследника царства.
Ростовский епископ Досифей использовал разные возможности, чтобы продолжать помогать царице Евдокии. Снова оказавшись в Суздале на похоронах митрополита Ефрема в марте 1712 года, он представил царице своего зятя Ивана Жиркина. Семья родной сестры епископа жила во Владимире, а ее муж служил подьячим казенного приказа Владимирского Рождественского монастыря. Сыщики Тайной канцелярии впоследствии добрались и до Ивана Жиркина. Первый раз в 1718 году его расспросили, учинили наказание батогами, но отпустили. Два года спустя допрос повторили, и Жиркин дал уже более подробные показания о поездках царицы Евдокии из Суздаля во владимирские монастыри[30]. Зять епископа Досифея говорил, что «видал ее бывшую царицу всегда в белицыном платье, а что она была пострижена, о том он Иван не ведал». Жиркин подтверждал, что вокруг царицы со временем сложился круг добровольных помощников и слуг, не особенно думавших об опасности, которую несло с собой знакомство с опальной женой царя.
Пока царь Петр и царевич Алексей находились за границей, наблюдение за царицей Евдокией в Суздале ослабло. Можно было подумать, что она смирилась со своей участью, но это не так. Непонятно, откуда бывшая царица брала силы, на чем, кроме ее собственной веры, основывалась ее надежда на лучшее? Но царица по-прежнему была уверена, что жизнь ее изменится. А до этого времени, как рассказывали Иван Жиркин и другие свидетели, она ездила из Суздаля во владимирские монастыри — Боголюбов, патриаршие домовые монастыри Кузмин и Сновидский, Федоровский (приписной к Владимирскому Рождественскому), посещала Никольскую церковь в селе Кусуново и Никольскую же церковь на погосте, «что на Поле». Поездки на богомолье поддерживали ее, ведь во время службы там молились за царя и благоверную царицу Евдокию Федоровну, их сына царевича Алексея Петровича, не вспоминая царицу Екатерину Алексеевну и ее детей.
Каждый выезд царицыного поезда из Покровского монастыря в Суздале сопровождался мерами предосторожности, чтобы как можно меньше людей знало о ее паломничестве. Хотя скрыть что-нибудь было трудно. Сама царица Евдокия путешествовала в закрытой карете, встречалась только с настоятелями и настоятельницами монастырей, а монахи должны были оставаться в кельях, пока она молилась. Она привозила с собой своего священника Гавриила, сына ее духовника Федора Пустынного. Гавриил был священником церкви Пира и Павла в Суздале, располагавшейся рядом со входом в Покровский монастырь (напротив Благовещенской надвратной церкви). Вместе с царицей постоянно пребывала ее компаньонка и наперсница всех дел монахиня Каптелина, певшая на клиросе с другими доверенными монахинями. По прежней дворцовой привычке царица держала у себя в услужении «карла» Ивана Терентьева, тоже покинувшего дворец, чтобы жить рядом с ней в Покровском монастыре. В паломнических поездках участвовали немало служителей царицы и слуг монастыря, обеспечивавших всем необходимым этот миниатюрный царский двор. Иван Жиркин вспоминал, что «в тех проездах под нею бывшею царицею было монастырских подвод по пятнадцати или больше, а знатные монастырские служки ездили на своих лошадях верхами». И таких верховых всадников, сопровождавших карету царицы, тоже было около десятка.
Царица Евдокия благосклонно принимала те немногие знаки внимания, которые ей оказывались. Например, архимандрит Владимирского Рождественского монастыря Гедеон сам ездил к ней для встречи в приписной Федоровский монастырь под селом Красным в полутора верстах от Владимира. Он привозил царице образ Александра Невского (мощи святого тогда еще оставались во Владимирском Рождественском монастыре, и впоследствии уже не Гедеон, а другой архимандрит будет участвовать в их переносе в Петербург). Игумен Викентий из патриаршего домового Сновидского монастыря, куда продолжала ездить царица Евдокия, тоже принимал ее с почетом в монастыре. Однажды владимирские земские бурмистры, узнав о проезде царицы через Владимир, решили ударить ей челом «в почесть» на перевозе через реку Клязьму. Описание этой встречи, состоявшейся «летним временем» 1715 года, сохранилось в показаниях Ивана Жиркина. Он старательно избегал называть имена, но сообщаемые им детали вполне достоверны, ведь ничего особенно серьезного в «вишнях» и «коврижках», передававшихся царице бурмистрами, да и самим Иваном Жиркиным, быть не могло: «Подходили к ней с почестью владимирские земские бурмистры Федор Фомин с товарищи, человека четыре, или больше, или меньше, имян их не упомнит, а скажет он Фомин, и подносили к ней вишни и ковришку, и о том подносе докладывал ей карло, который при ней был, а имяни его и отечества не упомнит же, и по докладу принимал у них бурмистров тот принос оный же карло, и за тот их поднос подчивали питьем, и вином, и пивом, а в лице ея бывшей царицы не видали, для того, что ехала в карете за стеклами»{190}.
Иван Жиркин, выполняя просьбу епископа До-сифея, тоже приезжал к царице Евдокии, когда она посещала Никольскую церковь в селе Кусуново, располагавшуюся всего в четырех верстах от Владимира. Туда он привозил ей «владимирския живыя стерляди и вишни, и прянишныя коврижки». По словам Жиркина, он даже не видел царицу, а беседовал только с ее служителями. Он еще раз подтвердил, что таких служителей могло быть до двадцати человек, в основном из слуг Покровского монастыря. Двух он знал по именам — Григорий Стахеев и Никита Клепиков. Последний был в тех проездах «за дворецкого, понеже кушанья и питья положены были на нем». И еще одна живописная деталь, сообщаемая Иваном Жиркиным. Царица Евдокия неспроста выбирала для поездок летнее время: помимо лучшей дороги, проще решалась проблема остановок для отдыха и ночлега. Останавливаться во дворах монастырских или владельческих крестьян она все-таки не могла, так как это навлекло бы подозрения на тех, кто оказывал ей помощь. Был найден изящный выход: царица Евдокия и ее спутники останавливались «на лугах в палатке», то есть в каком-то небольшом шатре посреди поля. Правда, иногда, как это было во Владимирском Федоровском монастыре, сам архимандрит Гедеон распоряжался определить царице Евдокии Федоровне настоятельские покои для ночлега.
С настоятелями других монастырей окружение царицы Евдокии обходилось еще проще, приказывая им готовить все необходимое для встречи царицы. Выяснилось это на следствии по делу игумена Симона из патриаршего Кузмина монастыря. Некогда он был ризничим при суздальском митрополите Илларионе и хорошо помнил, как тот избегал встреч с царицей Евдокией. По его показаниям, «он Симон, в Суздаль, в Покровский девич монастырь, к ней, бывшей царице, никогда ни за чем не прихаживал», равно как «при бытности его» и Илларион митрополит «к ней бывшей царице никогда ни за чем не приезживал»{191}. Напротив, царица Евдокия дважды приезжала в Кузмин монастырь (хотя и с интервалом в пять лет). Игумен Симон весьма красочно описывал детали этих поездок: «А наперед тех, ея бывшей царицы, приездов приезжали в тот монастырь Покровского монастыря слуги, по человеку и по два верхом очищали кельи, где ей бывшей царице стоять, и церковные ключи бирали у пономарей те слуги; и отпирали церковь они ж; и того монастыря монахом из келий вон выходить не велели. И та бывшая царица въезжала в тот монастырь в карете за стеклами после полуден, и приезжала в той карете к самой соборной церкви и входила в тое церковь ограждена красными сукнами скрытно; и он Симон и другие того монастыря монахи ея бывшей царицы никогда не видали».
Во второй приезд игумен Симон удостоился увидеть царицу, раздававшую монастырю «милостиню» и просившую молить за царевича Алексея.
Она проявила интерес к монастырскому иконостасу и поинтересовалась, на чьи деньги он был «построен». Во время разговора игумен Симон успел рассмотреть, что царица была «в черном камчатом мирском платье, а в шупке или кунтуше, того не усмотрел». Запомнил он и «польскую шапку». По приказу служителей царицы, уже известных нам Никиты Клепикова и Григория Стахеева, игумен Симон вместе с братьями провожал царицу из монастыря, выходя за ограду и кланяясь ей трижды в землю[31].
Покровительство царице Евдокии оказывал и назначенный в 1712 году новым суздальским епископом Игнатий Смола. В итоге его тоже дважды привлекли к сыску — в 1718 и 1721 годах. В вину епископу Игнатию вменялось то, что он ездил поздравлять царицу Евдокию в дни рождения царя и царевича, а также в ее собственные именины, «видел ее в светском платье и не доносил», а кроме того, «целовал у ней руку». Были и другие важные, с точки зрения следствия, прегрешения, о которых будет сказано ниже. Оправдываясь, суздальский епископ Игнатий, к 1721 году уже переведенный в митрополиты на крутицкую кафедру, говорил, что «поступал так, потому что ему неизвестно было о ее пострижении». Игнатий подтверждал, что никому из суздальских епископов и митрополитов не было «приказу», чтобы «смотреть» за царицей Евдокией. Поэтому, по его словам, она «жила в Суздале самовластно и никакого караулу при ней не было». Игнатий приводил и богословское обоснование, позволявшее думать, что царица не принимала пострига. Когда он был назначен на суздальскую кафедру, у него состоялся разговор с иподиаконом Иваном Пустынным, еще одним сыном духовника царицы ключаря Федора. Тот уверил епископа, что «зовут ее Евдокиею, а она-де не пострижена». Не поверить этому епископ Игнатий не мог. Он ссылался на церковные правила: «…понеже-де у монахинь из бельцов отцы духовные не бывают, и правило светским священником у монахинь духовниками быть возбраняет».
Епископ Игнатий Смола не сразу стал отдавать визиты царице Евдокии. В 1715 году он был в монастыре на праздник Покрова и не рискнул посетить кельи царицы. Евдокия, видимо, пожаловалась брату Аврааму, и тот, встретившись в Москве с епископом Игнатием, «пенял» ему: «…для чего-де ты в хоромы не ходил или будто к тебе какой указ прислан?» В ответ епископ, по его словам, упрекнул самого царицыного брата, что тот тоже не ездит в Покровский монастырь. Интересен ответ Авраама Лопухина, сказавшего, что «ему быть неприлично»; он ссылался на прямой запрет посещать царицу Евдокию. Позже, впрочем, епископ Игнатий уже не сомневался, поддерживать или нет жившую в Покровском монастыре царицу, и даже прислал ей в дар с архиерейской конюшни двух «возников», чтобы ей удобнее было выезжать из монастыря. Вольности эти в итоге дорого обошлись епископу Игнатию. Царь сам рассматривал его дело. Петра прежде всего интересовало, почему митрополит, ведая «правильную» царицу Екатерину, «почитал за царицу же бывшую царицу, монахиню Елену, и отдавал ей такую честь, которой весьма она отрешена»{192}. Велик русский язык! В обвинительной речи не случайно сказано «правильная», а не «законная» царица!
Ответ на все вопросы в отношении «бывшей царицы» был очевиден. Евдокия, даже живя в Суздале в Покровском монастыре, не переставала быть матерью наследника престола. А у царевича в его браке с Софией-Шарлоттой родились собственные дети: 12 июля 1714 года — великая княжна Наталья Алексеевна, а 12 октября 1715 года — великий князь Петр Алексеевич. Особенно опасным для семьи Петра I и Екатерины I, в которой рождались и выживали одни девочки, а мальчики умирали в младенчестве, стало рождение сына у наследника царства. Не случайно проницательный князь Борис Иванович Куракин говаривал своему свойственнику царевичу Алексею про Екатерину I: «Покамест у мачехи сына нет, то к тебе добра; и как у ней сын будет, не такова будет»{193}.
Царица Евдокия тоже очень скоро узнала о появлении внука, весть об этом донесли в ее монастырское уединение. Сохранилось письмо Авраама Лопухина духовнику царицы Федору Пустынному с рекомендацией торгового человека Алексея Колзакова, «которой известился, быв в Петербурхе, о рождении государя царевича сына Петра Алексеевича, и, ревнуя к нам по своему приятству, прибежал с тем известием ко мне всех прежде». Как видим, это было не единственное, а только первое известие Аврааму Лопухину о рождении сына у царевича Алексея. Оно имело чрезвычайное значение, потому что еще больше укрепляло династические права сына царя Петра и царицы Евдокии. Авраам Лопухин просил принять вестника — Алексея Колзакова — в Суздале «честно и искусно», представить его «государыни царице» и донести «ее милости, чтоб она ево соблаговолила наградить от себя чем, за ево многое усердие»{194}.
После этого в Покровском монастыре уже 27 октября 1715 года пели благодарственный молебен, а чуть позднее, 25 ноября, впервые справили тезоименитство великого князя, полного тезки своего деда — Петра Алексеевича. Не случайно, что тогда и суздальский епископ Игнатий перестал бояться встреч с опальной царицей и стал приходить к ней для благословения. Немного омрачить известие о появлении внуков могло лишь то обстоятельство, что царица Евдокия узнавала об этом от чужих людей. Например, празднуя появление на свет внука, она не знала, что несколько дней спустя после его рождения умерла жена царевича Алексея Петровича кронпринцесса София-Шарлотта. Страшась гнева отца, царевич Алексей по-прежнему избегал писать письма матери в Суздаль. Правда, отправляясь в свою роковую поездку за границу, он оставил для передачи матери 500 рублей. Но дороже всех денег были бы несколько строк, написанных рукою сына.
Когда царевич Алексей покинул Московское царство в конце 1716 года, то по дороге в Риге его встретила царевна Марья Алексеевна. Она единственная продолжала оказывать деятельную поддержку царице Евдокии. Царевна Марья буквально вынуждала царевича Алексея написать записку матери. А тот все равно отказывался это делать. Судя по материалам следственного дела о царевиче Алексее, между ними состоялся такой разговор: «Я писать опасаюсь», — говорил Алексей. «А что? — возражала царевна. — Хотя б тебе и пострадать, так бы нет ничего; ведь за мать, не за иного кого». Но и это не убедило царевича, он по-прежнему отговаривался: «Что в том прибыли, что мне беда будет, а ей пользы из того не будет ничего». Но все-таки поинтересовался: «Жива матушка или нет?» В ответ царевна Марья Алексеевна рассказала о главном, что ей было известно о царице Евдокии. О тех странных надеждах, которые питали ее жизнь: «Жива, и было откровение ей самой и иным, что отец твой возьмет ее к себе, и дети будут, а таким образом: отец твой будет болен, и во время болезни его будет некое смятение, и придет отец в Троицев монастырь на Сергиеву память, и тут мать твоя будет же, и отец исцелеет от болезни и возьмет ее к себе, и смятение утишится. И Петербург не устоит за нами, быть ему пусту» (это и есть те слова, которые легли в основу мифа о проклятии Северной столицы царицей Авдотьей){195}. Ничего, кроме жалости, эти напрасные, обращенные к прошлому надежды царицы Евдокии вызвать не могли. Но царевич Алексей Петрович должен был запомнить перед своим отъездом слова тетки о том, как тяжело его матери в монастыре.
Тревога царицы Евдокии за сына, скрывшегося за границей от гнева отца в 1717 году, конечно, была велика. До нее дошли сведения о том, что царевича, как и ее саму, вынуждали уйти в монастырь и что он даже был готов это сделать, чтобы только избавиться от гнева и упреков отца. Именно тогда царица Евдокия получила разрешение епископа Игнатия отслужить всенощную у почитавшейся в Суздале иконы Казанской Божьей Матери. Одно из главных прегрешений епископа Игнатия, судя по предъявленному ему обвинению в Тайной канцелярии, состояло в следующем: «В прошлом 717 году церкви Казанские Богородицы, что в Суздале, попу (Якову) приказал ее, бывшую царицу, пустить петь всенощную, что тот поп и учинил»{196}. Рассказ о молитвах царицы Евдокии у означенной иконы остался также в ее грамотке сыну царевичу Алексею, обнаруженной К.И. Арсеньевым. Как и другие письма царицы Евдокии, документ не имеет даты. Однако есть все основания датировать это письмо концом 1717-го — началом 1718 года. 23 октября царице, по ее словам, было «видение» у Казанской иконы. Скорее всего, именно епископ Игнатий разрешил царице Евдокии сделать то, о чем она написала в письме царевичу Алексею: «поднять» в «дом свой» почитаемый в Суздале образ. Ведь обычно икона все время находилась в Казанской церкви на Торговой площади (эта деревянная церковь сгорела в 1719 году, а на ее месте был построен новый храм).
Вот письмо о «видении» целиком:
«Царевич Алексей Петрович, здравствуй с оцем своем, а я бетная в печалех своих еле жива, что ты, мой батюшко, меня покинул, что в печалех таких оставил, что забыл рождение мое, а я за тобою ходила рабски, а ты меня скоро забыл, а я тебя ради по се число жива. А есть ли бы не ради тебя, то бы на свете не было меня в тап(к)их в напа(с)тех и в бедах и в нишщете едина о убогих, а я же тебя не забыла, всехда молюся за сдоровье твое пресвятей Богородице, что бы она сохранила тебя и сдоровъе твое спасла и во всякой бы чистоте соблюла.
Образ сдесь есть казанские пресвятые Богородицы по явлению построена церковь на плошще-ди, а я за твое здоровье обешщаласа и подымала ея обрас в дом свой, да сама ея обрас ночью проводила на рамех своих, несла. Месеца октября твадесять третие число явилася пресвятая Богородица пресветла и пречистая царица небесная премногое свое милосерьдие и помощь подает, и обешчеласа у Господа Бога своего сына упросити печаль мою на радость претворити. Слышала я недостойная от пресветлые жены рекла она такое слово: “предпочла де мой образ и проводила до храма моего, а я де тебя возвеличю и сына де твоего сохраню”.
А ты, радость мой, имей страх Божий в сертце своем, отпиши, друк мой Олешенька, хоть едину строчку, утоли мое рыдание слесное, дай хоть мало мне отдохнуть от печали, помилуй мать свою и рабу пожалуй, отпиши. Рабски тебе кланяюся, да отдай писание свое брату моему, так он сошлет ко мне. Можно тебе верить ему, да жалуй ево.
Буди нат тобою милость Божия и мое благословение»{197}.
Свое последнее письмо сыну царица Евдокия не успела отослать, оно осталось в ее бумагах. Еще не зная о том, что царевича ждет суд, она пыталась «вразумить» сына, чтобы тот хоть как-то дал о себе знать. Царица Евдокия понимала, что он уже не ребенок, за которым когда-то она сама «рабски» ухаживала. Но и терпеть постоянную разлуку с сыном ей было очень тяжело. И тогда нашелся выход. Не для одних жалоб написано это письмо. Мать стремилась поделиться с сыном словами, услышанными ею в молитвах у суздальской иконы Казанской Богородицы. Это новое «пророчество» о том, что царица будет «возвеличена», соответствует рассказам царевны Марьи, переданным при встрече с царевичем. Хотя и снова подтверждает, что надежды царицы питались одной только ее молитвенной экзальтацией. Прежние жалобы Евдокии на свою горькую жизнь сменились мистическим опытом «видения», который и диктовал царице, как ей дальше жить и действовать.
Но, как оказалось, царица Евдокия прошла еще не все отмеренные ей испытания…
Глава четвертая.
«РОЗЫСК» ЦАРИЦЫ ЕВДОКИИ
…Перепутать ничего было нельзя, это пришли за ней, на двадцать лет забытой царем Петром и отправленной им в монастырь. Что же изменилось теперь? Царицу Евдокию известили о самовольном отъезде царевича за границу — а это значит, что она понимала, в какой опасности находится сын. Знала, что и ее поэтому не могли оставить в покое, допытываясь, ведала ли, помогала ли. С целью найти улики в деле царевича Алексея сыщик капитан-поручик Григорий Скорняков-Писарев и явился к царице Евдокии. И тут ему, учинившему внезапный обыск, сразу попалось письмо со словами, надиктованными царицей для передачи сыну, которого отец царь Петр собирался постричь в монахи.
Что же там было написано?
«Человек еще ты молодой», — читал Преображенский офицер. «Первое искуси себя в пост… А и здесь тебе монастырь…»{198} Скорняков-Писарев все сразу понял. Понял, какая удача пришла к нему в руки. Не зря он сделал так, чтобы, никому не сказав, явиться сразу в кельи бывшей царицы. Достаточно для подозрения, есть чем отчитаться государю. А дальше не дать опомниться жертве. Она себя уже выдала и пыталась отговариваться, но ей ли обмануть преображенца?! И первая пришедшая на ум ложь царицы не спасает.
— Какому мужику наставление, имя назови, — грубо оборвал ее попытки что-то сказать в свое оправдание Скорняков-Писарев.
Следователь остановил ее, в отчаянии бросившуюся, чтобы вырвать бумагу, вынутую из царицыного ларца. Куда там, руки царицы легко отвели, и вот уже наставление сыну передали солдатам, что с ружьями стояли на пороге кельи. Сделано это было на глазах у растерянной наперсницы старицы Каптелины, у испуганной карлицы Агафьи. Письмо становится уликой в государственном деле.
И тут еще, главное, что в спешке обыска не сразу заметил, только понял, чутьем своим знаменитым, царем отмеченным, — не в первый раз исполнял тайные царские указы. Царица-то инокиня ходит в мирском платье. Как такое может быть?
Скомандовал солдатам переворачивать сундуки, искать: есть ли у нее монашеские одежды или нет, все найденные бумаги передавать ему в руки. Монастырь затворить, по всем воротам поставить караулы, стариц допросить…
Страх
Таким взрывом нормального течения жизни и бывает вторжение государства, которое стремится напасть на человека внезапно, поднять с постели сонного и устроить обыск в его нехитрых пожитках. Царица могла стать инокиней, потом опять царицей, а офицер Тайной канцелярии всегда оставался офицером Тайной канцелярии. Странная история получилась с этим розыском царицы Евдокии: чем больше хотели скрыть детали его проведения перед современниками, тем больше оставалось документальных следов. Весь ход розыска, очные ставки, «виски» и битье кнутом подвешенного на крюк человека — 9 ударов, 15 ударов, 25 ударов… — ничего из этого людоедского арсенала не скрывали. Это была нормальная и уже разработанная на Генеральном дворе в Преображенском техника следствия. Составлялись допросные пункты, следователь записывал ответы, добивался признания вины, покаянных писем государю, подписей под протоколами допросов и очных ставок. Видимо, прекрасно понимая, что ни при этом царствовании, ни даже сто лет спустя и больше вся эта история с побегом царского сына в «Цесарию» и «делом» царицы Евдокии на свет не выйдет, а останется в архиве Канцелярии тайных дел, и созданной-то для того, чтобы тщательно охранять эти документы.
Есть публикации и исследования историков, на долгое время закрывающие своим появлением возможность добавить что-то новое. Впервые в полном виде, как уже говорилось, документы были обнародованы Николаем Герасимовичем Устряловым в 1859 году в приложении к его исследованию о деле царевича Алексея. Чтобы узнать, «как это было на самом деле», и сейчас достаточно разыскать шестой том устряловской «Истории царствования Петра Великого». Со стороны, наверное, непонятно, откуда историк мог так подробно узнать о ходе следствия, восстановить его по дням, выделить всех основных фигурантов Суздальского розыска 1718 года. Из этой книги можно узнать о конфискованной переписке царицыных родственников и знакомых, о том, что удалось «выбить» из свидетелей, ища следы заговора в разговорах и встречах тех, кто волею судеб оказался посвящен в тайну царицы Евдокии. Но время не стоит на месте. Меняются вопросы, которые историк задает источникам. Нет нужды повторять известное, гораздо интереснее поразмышлять над чем-то новым. Ведь нельзя же равнодушно фиксировать источниковедческие детали следственных дел, понимая, что признания человека выбиты на дыбе, под ударами палача. Если не чувствовать страх, буквально пронизывающий участников розыска, можно вообще не понять результаты тайного следствия. У следствия были одни цели и государственный смысл, а у тех, кого обвиняли и казнили, — своя, частная правда. Обычный человек пасовал перед государством, соглашаясь с общим мнением. То, что выгодно царю, выгодно всем. Следователи старательно восстанавливали нужную царю Петру картину жизни царицы Евдокии; они прежде всего думали об обвинении. У них было особое понимание достоверности, совсем другое, чем у историка, обращающегося к следственному розыску (а других материалов в нашем распоряжении нет). Не станем поддерживать логику и выводы следователей, триста лет назад стоявших на стороне царя Петра. Лучше попытаемся понять, почему так легко менялись социальные роли, и вчерашний царедворец становился государственным преступником, а один из первых иерархов церкви — расстригой. Не будем размышлять над государственным смыслом нового наказания царицы Евдокии, а подумаем о нем как о продолжении семейной драмы царя Петра. Что нам сейчас до интереса палачей, проявлявшегося в казнях и публичном унижении и наказании опальной царицы? Лучше вспомним об отнятых у царицы Евдокии последних надеждах на избавление от жизни в монастыре. Не будь этой знаменитой царской жестокости, которой не избежали ни его сын, ни первая жена, может быть, иначе пошло бы следствие. И, наверное, не случилось бы гибели царевича Алексея, полностью оставшейся на совести его отца царя Петра Великого…
Целью автора книги в изложении обстоятельств розыска о царице Евдокии будет поэтому «следствие» о самом следствии. Наряду с хронологией всего дела попытаемся понять еще и побудительные мотивы тех, кто устраивал допросы, посмотрим на то, как обвинительная логика диктовала свои вопросы, в которых, как правило, заложены необходимые ответы. Ход следствия был стремителен, в стиле самого царя Петра. И это не случайно. Первый и самый важный пункт, который следователи старательно скрывали: личный интерес самодержца. Все «дело» царицы Евдокии складывалось и направлялось царем Петром. 31 января царевич Алексей, возвратившийся из-за границы, приехал в Москву, где находились царь Петр и весь царский двор. 3 февраля его уже как арестанта, отобрав шпагу, расспрашивали в аудиенц-зале в присутствии царя, духовного совета и министров. Царевич во всем винился и просил у отца «жизни и милости». Был объявлен Манифест, в котором царевич Алексей отказывался за себя и свое потомство от наследования царства и передавал права своему сводному брату, младшему сыну царя Петра и царицы Екатерины I царевичу Петру Петровичу, бывшему тогда еще совсем ребенком{199}. Но это была не точка и не завершение драмы, как надеялся царевич Алексей, уповая на данные ему отцом обещания. Машина следствия только заскрипела, и звук ее был ужасен{200}.
Сам царевич Алексей желал тогда только одного: зажить жизнью частного человека со своей новой возлюбленной Евфросиньей, бывшей вроде бы какой-то дальней родственницей или даже дворовой из вотчины воспитателя царевича певчего дьяка Никифора Вяземского. Бежавшая с ним за границу Евфросиньюшка, как звал ее царевич, ожидала ребенка — «Селебеного», как говорили о нем счастливые влюбленные в своей переписке. Может быть, обыгрывая немецкие слова «sie» (они, она) и «leben» (жить, существовать), говоря о новой жизни. Выманивая царевича Алексея Петровича из-за границы (а он уехал первым в Россию, Евфросинья же задержалась в дороге), обещали ему всё, чего тот ни попросит. Подтверждали царским словом даже разрешение на брак с Евфросиньей.
Государство и царя Петра чувства царевича Алексея не интересовали. Им нужны были показания о поступках царевича, о его обмане, связанном с побегом и поиском покровительства у цесаря Карла VI: «С кем о том думал, кто о том ведал?» Как давно замыслил свой побег, кто ему помогал письмами, словами, советом, поддержкой — вот что по-настоящему занимало следователей. Ради чего все это делалось, если царевич и так признал свою вину? Конечно, чтобы достать еще и тех, кто мог быть причастен к государственной измене. Царь Петр лично требовал от царевича Алексея самым подробным образом отвечать на допросные пункты: «Все, что к сему делу касается, хотя чего здесь и не написано, то объяви и очисти себя, как на сущей исповеди». Но царевичу Алексею еще и угрожали (и очень по-петровски): «А ежели, что укроешь, а потом явно будет, на меня не пеняй: понеже вчерась пред всем народом объявлено, что за сие пардон не в пардон»{201}. Так и произойдет, как говорил царь Петр: окончательного прощения царевичу не будет.
Поверив отцу, царевич Алексей отвечал пространно и ничего не скрывал: ведь, возвращаясь в Россию, он знал, что царь готов отправить его на плаху, если он не согласится с отцовской волей. Страх водил рукою царевича в его письменных показаниях, он страстно желал царского «пардона», который можно было заслужить, как и требовал царь Петр, только полным раскаянием и выдачей сообщников. И царевич, не стесняясь, выдавал всех, с кем говорил, заражаясь обвинениями, адресованными ему самому, вставал на сторону следователей. В собственноручной записке царевича Алексея, написанной 8 февраля в ответ на царские допросные пункты, царевич вспомнил и о своей матери царице Евдокии. Правда, слова о ней приведены в таком контексте, что при других обстоятельствах на них можно было бы и не обратить никакого внимания. Но следователи сразу уцепились за такое продолжение дела.
Царевич передавал содержание одного из донесений австрийского резидента Отгона Плейера. С копией документа его ознакомили австрийские дипломаты, «опекавшие» его в Империи. Плейер прослужил в России 25 лет, с 1692 года, и отлично знал, что происходит в стране. С 1711 года он занимал пост официального резидента австрийского двора в Российском царстве. Основываясь на показаниях царевича Алексея, Плейера потребуют отозвать из России (письмо верховного следователя было отправлено императору Карлу VI 18 марта), но двор императора не сразу осознал серьезность намерений Петра I. В итоге Плейера выслало уже само русское правительство за распространение сведений о «заговорах с некоторыми неверными подданными». Эта причина была прямой отсылкой к показаниям царевича Алексея, изложившего одно из донесений австрийского резидента в Вену. Плейер (Блеер, как назвал его в своей записке царевич) писал венскому двору о серьезном возмущении, зреющем против царя Петра, а австрийские дипломаты, манипулируя этим письмом, выказывали готовность поддержать царевича Алексея как будущего царя. Тогда же была упомянута и прежняя царица Евдокия.
Царевич Алексей рассказал в записке 8 февраля о показанной ему «копии с письма Блеерова в такой силе, что будто по отъезде моем есть некакие розыски домашними моими, и будто есть заметание в армее, которая обретается в Мекленбургской земле, а именно в гвардии, где большая часть шляхты, чтобы Государя убить, а царицу с сыном сослать, где ныне старая царица, а ее взять к Москве, и сына ее, который пропал без вести, сыскав, посадить на престол. А все де в Питербурхе жалуются, что-де знатных с незнатными в равенстве держат, всех равно в матросы и солдаты пишут, а деревни-де от строения городов и кораблей разорились. Больше, что писано, не упомню». Вот эти слова царевича о себе, в третьем лице, вместе с указанием на место ссылки — «где ныне старая царица» — и стали роковыми, а резидент Оттон Плейер оказался косвенным виновником беды царицы Евдокии{202}.
На этих своих показаниях царевич Алексей не остановился, но дополнил их новыми, где впрямую упомянул о деньгах, посланных им матери, а также о встрече с царевной Марьей Алексеевной. Домашние дела тоже оказались приплетены к государственному преступлению. Царская тетушка все-таки упросила написать царевича Алексея короткую записку матери. Только «о здоровье», оговаривался запуганный царевич, и приводил ее содержание по памяти: «Матушка-государыня, здравствуй! Пожалуй, не оставь в молитвах своих меня». Царевна Марья Алексеевна показывала также письмо от царицы Евдокии к сыну, а еще передала ему «образ маленькой Богородицы, да платок или четки», точно он уже и не помнил о материнском подарке. Разговорившись и освобождая, как он думал, свою совесть в необходимой «исповеди» перед отцом, царевич вспоминал и о своей небольшой переписке с дядей — Авраамом Лопухиным.
В своих дополнительных показаниях к записке 8 февраля царевич Алексей еще раз вернулся к посланным матерью подаркам: «молитвенник, книжку, да две чашки, чем водку пьют, четки, платок». Он скорее спешил оговориться, защищая себя от возможных подозрений, что все это было прислано «без всякого письма и словесного приказа»{203}. В окончательном тексте «Объявления розыскного дела и суда» об этих жалких показаниях царевича, боявшегося лишний раз вспомнить о матери и избегавшего встреч со своими родственниками Лопухиными, даже не вспомнят. Царь Петр истолковал рассказы сына по-своему. Его доверенный человек в это время уже отправился в Суздаль.
Сначала приведем дальнейшую хронологию событий. 10 февраля 1718 года в Суздале появился упомянутый выше Преображенский капитан-поручик Григорий Скорняков-Писарев. 15 февраля царица Евдокия на дороге из Суздаля в Преображенское написала покаянное письмо царю Петру о том, что она самовольно скинула монашеское платье. 21 февраля царицу Евдокию вынудили признаться на очной ставке со Степаном Глебовым, что она «жила с ним блудно». 5 марта огласили Манифест, уничтожавший несчастную женщину, к чему был причастен царь Петр, лично редактировавший текст. 15 марта приговорили даже не к обычной, а «страшной» казни Степана Глебова и бывшего епископа Досифея. Брата царицы Авраама Лопухина и ее духовника, расстриженного священника Федора Пустынного, — только к казни. 17 марта, когда для устрашения еще продолжали глумиться над телами казненных на Красной площади, царицу Евдокию увезли из Москвы под конвоем солдат — на этот раз в далекую Ладогу. За какой-то месяц все с трудом налаженное суздальское житье-бытье в окружении немногих доверенных лиц, с постоянными богомольями, редкой перепиской с родными и знакомыми, было перечеркнуто крестом, начертанным властной царской рукой. Без вины наказанная царица Евдокия оказалась в значительно худшем положении, чем была раньше. Но она хотя бы осталась в живых, если можно назвать живым человека, снова извергнутого из мира в отдаленный монастырь под именем старицы Елены.
А теперь вернемся к началу Суздальского розыска. Сохранился собственноручный отчет сыщика Григория Скорнякова-Писарева о его приезде в Суздаль в полдень 10 февраля:
«Всемилостивейший государь, царь.
По указу Вашего величества в Покровской Суздальской монастырь я приехал сего февраля 10-го дня в полдни и бывшую царицу Вашего величества видел таким образом: что пришол к ней в келью, нихто меня не видел, и ее застал в мирском платье, в тилогрее и в повойнике. И как я осматривал писем в сундуках и нигде чернеческого платья ничего не нашол, токмо много тилогрей, и кунтушей разных цветов. И спрашивал я того монастыря казначеи, х которой она сперва привезена была в келью, которая сказала, что она вздевала на себя чернеческое платье на малое время и потом скинула, а пострижена не была. И тое казначею взял я за караул. Писем нашол только два, касающихся к подозрению, а окроме тех, не токмо к подозрению касающихся, но и никаких, кроме церковных, и печатных курантов и реляций русских, нигде не нашол, а какие писма нашол, с тех писем приопша копии[32], послал до Вашего величества, подлинные же оставил у себя, того для, дабы оные в пути не утратились. А сам остался до указу Вашего в том монастыре. Прошю Ваше величество о немедленном указе, что мне укажешь чинить, дабы за продолжением времени какова б дурна не произошло, понеже она вельми печалуется. Фоваритов у нея старица Каптелина, да оная казначея, да карла Иван Терентьев{204}.
Вашего величества нижайший раб Григорей Скорняков Писарев.
Из Покровского монастыря февраля 10-го 1718 году».
Так открылось дело. Текст письма Скорнякова-Писарева был опубликован Н.Г. Устряловым с купюрами. Возможно, здесь снова видны следы приспособления историка к требованиям цензуры. Поэтому для понимания ряда важных деталей организации Суздальского розыска приходится заново обратиться к подлинным материалам в архиве. Из письма Скорнякова-Писарева видно, что цензоров могло смутить описание подробностей обыска у царицы Евдокии, рассказ о найденных у нее церковных письмах, поиске курантов (так назывались вести из иностранных газет) и реляций русских, указание на то, что сыщик Скорняков-Писарев ждал прямого указа от царя Петра. В публикации следующего письма Григория Скорнякова-Писарева из Суздаля от 11 февраля, сообщавшего подробности допросов разных лиц (он продолжил «разработку» связей царицы Евдокии), тоже присутствует характерная правка. Там, где посланник царя Петра предлагает «сыскать» одного из свидетелей «указом Вашим», слова о царском распоряжении опять убраны. Публикатора или цензора смутило указание на прямое руководство Петра следствием по Суздальскому делу; видимо, это и было главной тайной. Сегодня такой «секрет» никого не может удивить, а само вмешательство царя Петра в ход следственного дела кажется вполне очевидным. Это вытекает из всего, что известно о методах расправы царя со своими противниками. Но в середине XIX века существовавший культ Петра заставлял защищать монарха и привычный образец самовластия в России.
Скорнякову-Писареву хватило трех дней, чтобы найти нужные улики, сформулировать обвинение и выбрать виноватых, кого следовало подвергнуть дальнейшим допросам на следствии в Преображенском. Найденная первой в ларце у царицы «крамольная» записка сразу стала доказательством причастности матери к делу о побеге царевича Алексея. Вот ее полный текст, написанный на небольшом листке бумаги, «выкроенном» из обыкновенного столбца. Посередине, как заголовок, было написано, а потом зачеркнуто слово «помета». Обычно этим словом назывались записи о приеме поданных челобитных или решений по рассмотренным делам. Текст записки был написан не самой царицей Евдокией. Как выяснилось, это сделал ее духовник Федор Пустынный. Но кто был настоящим автором записки и к кому она была обращена, Скорняков-Писарев догадался сразу:
«Человек еще ты молодой. Первое, искуси себя в посте, в терпении и послушании и воздержания брашна и пития, а и здесь тебе монастырь. А как придешь достойных лет, в то время исправится твое обещание»{205}.
Капитан-поручик развернул следствие как целую военную операцию. Уже три дня спустя, 14 февраля, он отчитывался в письме царю о результатах:
«Всемилостивейший Государь царь!
Писмо, котороя я вынел в ларце у бывшей вашего величества царицы бутто поломета[33] о пострижении [с котораго копия до вашего величества прислана с первым моим писмом] является, конечно, что писано оное к царевичю от царицы, через Аврама Лопухина, того для, ибо при вынимании моем того писма зело она обрабела и у меня хотела вырвать, и сказывала мне, что писмо бутто список с пометы челобитной мужика, которой приходил постригатца, а чей мужик и кто именем не знает, а списывал бутто карло, а ныне явилось, что то писмо писано рукою духовника ея. И он сказывает бутто он списал с пометытых[34] человека Аврама Лопухина, а та де челобитная помечена ево Аврамовою рукою. И то видится явно, что воровcкая отговорка. Он же духовник многие писма от царицы к нему Авраму и х князю Семену Иванову сыну Щербатову писал. И того ради предлагаю Вашему величеству, дабы Аврам Лопухин и князь Семен Щербатой и протопоп суздальской Андрей Пустынной, который ныне на Москве, взяты были за караул. Я мню ими многое воровство и многих покажется.
А я по послании сего писма в 2-х или 3-х часах с царицею и со многими поеду до Вашего величества, в том числе и чернца, которой царицу постригал, привезу с собою.
Вашего величества нижайший раб Григорей Скорняков Писарев.
Ис Суздаля февраля 14-го лета 1718 году»{206}.
Царицу Евдокию приезд сыщика Скорнякова-Писарева ошеломил, опрокинул и уничтожил. Теперь она сама должна была увидеть, сколь тщетны были надежды и мольба, которые утешали ее долгие годы. Все поездки на богомолье, истовые моления перед чудотворными иконами были напрасными. Молитвы не были приняты, все знаки, видения и откровения оказались самообманом. Было отчего прийти в отчаяние. Дальше царица Евдокия и думать не могла о возвращении во дворец, сколько бы она об этом ни мечтала. Царь Петр желал только одного — расправы с ней. А мстить он умел, об этом сама царица Евдокия говорила, вспоминая участь стрельцов: «…государь-де за свою мать знаете, что стрельцам сделал!»{207} Но чем могла быть вызвана месть Петра своей бывшей царице, виноватой только в том, что она когда-то была его женой?!
Перебирая все, чем могла она прогневить царя, царица Евдокия спешила раскаяться, прежде всего в том, что отказалась от монашеского пострига. Отъезд под охраной солдат Скорнякова-Писарева из Суздальского Покровского монастыря 14 февраля 1718 года еще больше испугал ее. Даже следователь забеспокоился о ее состоянии, так как она беспрерывно плакала и находилась в отчаянии. Тогда Скорняков-Писарев убедил бывшую царицу уже в дороге написать и отослать царю свое покаянное письмо. 15 февраля царица написала царю Петру признание (сама или под диктовку капитан-поручика) об оставленном монашестве:
«Всемилостивейший государь! В прошлых годех, а в котором не упомнню, при бытности Семена Языкова, по обещанию своему пострижена я была в Суздольском Покровском моностыре в старицы и наречено мне было имя Елена и после пострижении во иноческом платье ходила с полгада и не восхотя быти инокою, оставя монашество, и скинув платье, жила в том моностыре скрытно, под видом иночества, мирянкою. И то мое скрытие объявилось чрез Григорья Писарева. И ныне я, надеяся на человеколюбные Вашего величества щедроты, приподая к ногам вашим, прошю милосердия, того моего преступления о прощении, чтоб мне безгодною смертью не умереть. А я обещаюся по прежнему быти инокою и пребыть во иночестве до смерти своей, и буду Бога молить за тебя государя.
Вашаго величества нижайшая раба, бывшая жена Ваша Авдотья.
Февраля 15-го 718»[35].
Как показывает это покаянное письмо (подписанное все-таки мирским именем Авдотья, а не иноческим — старица Елена), свой главный грех царица видела в том, что нарушила обещание уйти в монастырь. Все это еще можно было поправить, о чем она просила царя и бывшего мужа. Однако Авдотье Лопухиной готовились более серьезные обвинения, чем те, в которых она признавалась. На жертвеннике Благовещенской церкви Покровского монастыря (в том самом надвратном храме рядом с царицыными кельями) Григорий Скорняков-Писарев нашел некую «таблицу», где царица Евдокия поминалась за здравие. Наблюдательность и здесь не подвела сыщика, потом по поводу этой таблицы тоже будет много допросов. Слишком удобный аргумент в доказательствах вины: ведь становилось очевидно, что царица Евдокия и суздальские священники, молившиеся о ней не как об инокине, а как о царице, тем самым не признавали новый брак царя Петра и царицы Екатерины I. От этого недалеко было уже до нужных следователям признаний в том, что они стремились к воцарению царевича Алексея Петровича.
До приезда в Москву и начала расспросов в Преображенском царица Евдокия могла и не подозревать обо всех обвинениях, собранных Скорняковым-Писаревым. Первый этап следствия в Суздале с 10 по 14 февраля 1718 года завершился для следователя-преображенца вполне удачно. Он нашел бумаги царицы Евдокии, доказывавшие ее участие в делах сына времени его побега за границу. Все, что изобличало интерес матери к судьбе сына, и становилось главным обвинением, как бы ни отторгал здравый смысл такого хода мыслей. Но у Скорнякова-Писарева была своя задача, ради нее он и приезжал в Суздаль. И он нашел не только косвенные свидетельства, вроде «пометы» о монастырском постриге или поминаниях Евдокии царицей на службах в Покровском монастыре. В царицыных бумагах обнаружились также письма другого важного подозреваемого — стряпчего Покровского монастыря Михаила Воронина. Ему приходилось быть «связным», передававшим вести о царевиче Алексее от Авраама Лопухина к сестре-царице в Суздаль. Он, в частности, известил царицу Евдокию о возвращении царевича Алексея в Россию. Да и говорливые монастырские старицы (особенно казначея Маремьяна, ревновавшая к успеху царицыной наперсницы Каптелины), тоже привезенные в Преображенское, сразу много чего выложили про жизнь «мирянкою» царицы Евдокии. Они рассказали о давних встречах царицы с майором Степаном Глебовым. Нетрудно представить реакцию царя Петра на доклад о таком повороте событий: «измена» жены, хотя и бывшей, должна была вызвать особый царский гнев. Майора Глебова и прежнего спасо-евфимиевского архимандрита Досифея (к этому времени уже ростовского епископа) сразу же привлекли к розыску.
19 февраля на двор к майору Глебову отправили капитана лейб-гвардии Льва Васильевича Измайлова «для взятья и писем какие у него ни сыщутца». Измайлов быстро исполнил приказ и привез на Генеральный двор в Преображенском арестованного и взятую у него «скрину» (ящик или ларь) с письмами{208}. В тот же день майор Глебов «роспрашиван в застенке и с виски и с розыску сказал с бывшею де царицею, что старица Елена, блудно он жил год тому ныне, уже года с два, а познался де он с нею, как был он у набору, чрез вышеписанную старицу Каптелину, и подарки к ней посылал чрез духовника. И писма от ней к нему были и он к ней писывал чрез ее служебников…». По словам следователя, «дано ему 3 удара»{209}. Уже 20 февраля Степан Глебов написал подробное собственноручное признание о том, что «сшелся в любовь» с бывшею царицей старицей Еленой и «жил с нею блудно». Вспомнил и рассказал детали их первой встречи, какие подарки дарил — соболей, песцов и другие меха, красивую шелковую немецкую ткань — «байбарек», кто его приводил в келью царицы Евдокии, в конце даже приписал про произошедший между ними обмен перстнями с «яхонтом лазоревым».
21 февраля на Генеральном дворе состоялась очная ставка царицы Евдокии с ее бывшим любовником. Так страстно она желала его видеть когда-то, столько писем написала (как оказалось, Степан Глебов сохранил их), и вот эта встреча на глазах у палачей. Скрывать что-то после признания, сделанного Глебовым, было невозможно. Царица Евдокия вынуждена была подтвердить все «изустно» перед царем и подписать показания на очной ставке. В них она впервые назвала себя старицей Еленой, крупными буквами выводя приговор себе и майору Глебову:
«Февраля в 21 день. Я, бывшая царица, старица Елена, привожена на Генералной двор и Стебаном Глебовым на очной сказала, что я с ним блудно жила в то время, как он был у рекрутного набору. И в том я виновата. Писала своею рукою я Елена»{210}.
Улики и собственноручные признания — все было в руках следствия по делу царицы Евдокии. Оставалось только сформулировать допросные пункты и расспросить подозреваемую подробнее. Процитируем полностью сохранившиеся ответы царицы Евдокии на вопросы следователей, чтобы понять, в чем ее обвиняли, как она защищалась и защищалась ли вообще:
| 1. «Монашеское платье сняла с себя с какой причины, и кто к тому был предводителем, и для какова намерения? | Платья скинула собою и предводителя к тому никого не было, кроме про[ро]чест[в] Досифеевых, и тем пророчеством надеялася, что она будет впредь царствовать. |
| 2. Пророчество и видение какое ростовской епископ Досифей как был еще игуменом и архимандритом и епископом, тебе сказывал, и что будешь ты по прежнему, и з сыном будешь жить, о том тебе говорил в какой образ и надежду? | Про[ро]чествы Досифей ей сказывал и тогды когда она еще в платье мирском ходила и до сего дня, когда с нею виделся. |
| 3. Князь Семен Щербатой писал ли, что царевич поехал за море, а куды не ведает, и ты ему на то писмо что ответствовала? | Князь Семен то писал, и она велела ответствовать, что впредь будет делать, чтоб он ее уведомлял. |
| 4. На те писма, ты ответствовать подьякону Ивану Федорову велела ли, и в какой силе, и будет впредь получит каких ведомостей, чтоб тебя князь Семен уведомлял. | То приказала писать. |
| 5. Писмо которое писал ключарь Пустынной х князю Семену из Суздаля июня 5-го числа в котором написано, чтоб он уведомлял, что у отца с сыном делаетца писать ему ты велела ль, и буде велела, в какой образ, и с каких ведомостей, и от кого? | Такое письмо писать она велела, а писала для того, что она слышела, что государь хочет сына простричь, а от каго слышала, то не упомнит. |
| 6. Аврам Лопухин писал ли, что хочет государь царевича постричь, о чем сказали ключарь Пустынной, и старица Каптелина, и ты той Каптелине о том сказывала ль, и которое писмо вынято у тебя в ларце, будто помета, чтоб не постригатца, и то писал и х кому, и ты на Аврамово писмо что ответствовала, и от Аврама не было ль писем, или словесного приказу, что тебя с сыном желают, и что многие вам вспомогать будут, и кто? | Аврам Лопухин писал, что хочет государь царевича постричь и на то писмо она ему ответствовала, чтоб он писал, что все в добром здоровье, а что сыну постригатца или не постригатца о том ничего не писала. |
| 7. Михайло Босой с ведомостьми к тебе прихаживал ли, и с какими, и от кого, и пророчества какие сказывал и от царевны Марии Алексеевны, шапки мирския, и кунтыши, и другие подарки, и писма, так же и от других от кого, что он Босой и Марья Соловцова, и Маланья Чаплина, и Ульяна Татищева приваживали ль, и в какой силе и обнадеживанье, от кого в тех писмах было или на словах? | Михайло Босой пророчеств ей не сказывал, от царевны Марьи подарки шапки мирские и кунтыши и писма о здоровье, и в тех де писано, чтоб молитца Богу и Бог печаль твою может преложит на радость. Марья Соловцова у нее бывала и подарки привозила, а [с] сыном той Соловцовой писем не бывали, а посла волосник да плоток, а что писала, чтоб брату ея переговорить с Соловцовым и то писала, чтоб он об нее уведомился, как она живет, для того, что он у ней был. Маланья Чаплина привезла подарки от царевны Екатерины Алексеевной. Ульяна Татищева привезла от царицы Прасковьи Федоровной два бойбарека, один лазоревой, другой светло зеленой илодтумени (?) а мне с ними обнадеживаньи не присылали. |
| 8. На проскомидии поминать себя царицею Евдокиею, а не инокинею Еленою велела какой ради причины, и с кем о том советовала, и в той таблице имена написаны чьи? | |
| 9. Об отъезде царевича в Цесарию ты ведала ль, и он к тебе о том при отъезде, и по отъезде, и другие кто писали ль, и где те письма, или кто тебе оное словесно сказывал? | О поезде в Цесарию пред отъездом царевичевым она не ведала и никто к ней не писывал, только писал брат ее что поехал а куда не ведаю де, да писал же царевич из Либава только написано матушка здравствуй помолись, и то письмо[36]. |
| 10. Понеже с Степаном Глебовым ты блудно жила, того для все откровенно между вами было. А ныне у нево Степана выняты писма, которыя писаны, дабы за вас стали, с кем он о том думал, и о всем, что к сему делу принадлежит, с кем разговаривал? | Степану Глебову она писала, чтоб он попросил кнеиню Голицыну, чрез князь Бориса Прозоровскому, чтоб ей жалованья учинить, а которые писма у него возмутительные вынеты и таких писем он не показывал и на словах об них не сказывал. |
| 11. В писмах написано, чтоб ему в твоем бедстве помогать. Какое твое бедство, и каким образом помогать ему велела, и у кого, и через кого? | Помогать чрез кнеиню о том написано при десятом пункте. |
| 12. Про сына писала, что ево нет, в которое время, и кто о том писал или сказывал? | |
| 13. Как тебя унимали, чтоб ты с ним Степаном перестала знатца, и об иных причинах говорила ль ты, “что де все наше государево, и государь де за свою мать знаете что стрельцам зделал, а уж де и сын мой ис пеленок то вывалился”? | Такие слова она говорила. |
| 14. И будет говорила, каким ты образом мстить хотела? | |
| 15. Михайло Босой, сказывал ли тебе от царевны, и епископа Досифея, чтоб ты не печаловалась, что сын твой ушол в Цесарию, там ему будет лутче, а здесь было постригли, и буде сказывал, что с ним ей ответствовала, и давно ль он тебе сказывал, и иные какие ведомости от царевны он тебе сказывал же ли, и ты что на то ответствовала? | Такие ведомости он от царевны и Досифея сказывал и она ответствовала, что и она впред ее уведомляла, что Государя[37] с царевичем будет делатца, а те ведомости сказывал ей Басой де по приезду царевны из Карлос бата»{211}. |
Вопросы и ответы показывают очень точно, что интересовало следователей и что они вменяли в вину царице Евдокии.
Первый пункт обвинения — скинутое монашеское платье. Царица Евдокия сослалась на «пророчества» Досифея, обнадежившего ее возвращением на царство. Звучит как тяжелое обвинение, но из показаний епископа Досифея, которого, конечно, с пристрастием расспросили по поводу подобных «пророчеств», выяснится, что речь шла не о заговоре, как можно было бы подумать, а всего лишь о пересказе сонных видений. Епископ Досифей признался, что рассказывал об этом больше для утешения царицы, чем для чего-либо другого. Но ему, как уже говорилось, не поверили: его расстригли, а затем лишили жизни.
Расспросы про отвергнутые царицей Евдокией монашеские одежды были только началом. Этого было достаточно для наказания царицы, но розыск был продолжением дела царевича Алексея, которое интересовало следователей больше всего. Поэтому дальнейшие вопросы впрямую касаются его побега и возвращения в Россию. В Преображенском быстро установили, что сведения об отъезде царевича Алексея из России «за море» царица Евдокия получила через князя Семена Ивановича Щербатова. Она подтвердила и это, и другое, что сама просила и дальше присылать ей вести о царевиче. Иподьякон Иван Федоров, через которого она ответила князю Щербатову, был сыном ее духовника ключаря Федора Пустынного. Он тоже участвовал в переписке и написал неосторожные слова в письме 5 июня 1717 года, чтобы уведомить царицу Евдокию, «что у отца с сыном делаетца». Конечно, это даже не шифр, а прямое упоминание царя Петра и царевича Алексея Петровича понять это не доставило труда как адресату письма, так и сыщикам, которым письмо попало в руки. Князь Семен Щербатов был «царедворец», человек на царской службе; он происходил из заметного княжеского рода, поэтому наказали его слабее остальных, «всего лишь» урезанием языка да ссылкой. А вот от ключаря Федора Пустынного уже не отстали и довели дело до смертного приговора.
Следующий обвиняемый — брат царицы Авраам Лопухин. Он был главным помощником царицы Евдокии, не стало исключением и его участие в деле царевича Алексея. Он писал царице, что царь Петр собрался постричь сына в монастырь, как и ее саму когда-то. Все это было соотнесено с «пометой» — бумагой, вынутой из ларца царицы Евдокии капитан-поручиком Скорняковым-Писаревым при обыске в ее келье 10 февраля. Следователи стремились узнать, насколько мать повлияла на решение сына о побеге. Ведь царевич бежал в Европу в том числе и от этой невеселой для него перспективы монашеского пострига. Он предпочел уклониться от выбора между царским венцом или клобуком, который предложил ему Петр. Но кто отговаривал царевича от монашеского пострига, устроившего бы Петра, — не царица ли Евдокия и ее брат Лопухин, и зачем им это было нужно? Таков смысл одного из допросных пунктов. Защищаться было нечем, Авраам Лопухин тоже будет казнен за помощь сестре.
Но у всего есть пределы. Царь Петр мог пролить кровь родственников своей бывшей жены, ему давно не было дела ни до нее самой, ни до других Лопухиных. Но он поступил иначе, когда из показаний царевича Алексея выяснилось участие в деле его собственной сводной сестры Марьи Алексеевны. В поездке, по примеру Петра I, для лечения в Карлсбад («Карлос бат») она успела встретиться с царевичем Алексеем и, как мы уже знаем, заставила его написать матери короткую записку и послать деньги. Царевна Марья, конечно, знала об участи своих родных сестер — Софьи и Марфы (обе были пострижены в монастырь по указу брата). Но действовала все равно по-своему. Царевна Марья Алексеевна была одной из немногих в царской семье, кто продолжал жалеть царицу Евдокию и хоть как-то напоминал ей о своем расположении (кроме нее, осмеливались посылать подарки Евдокии только царевна Екатерина Алексеевна и царица Прасковья Федоровна, вдова царя Ивана V). Конечно, царевна Марья, как и все, кто встречался или только переписывался с царицей Евдокией в годы ее заточения в Покровском монастыре, соблюдала осторожность, действовала через верных людей, используя надежную оказию. Чаще всего носил письма в Суздаль упоминаемый в допросных пунктах Михаил Босой, один из приживальщиков, ходивший странником между вотчинами царевны Марьи Алексеевны и Авраама Лопухина. Он и в день приезда капитана-поручика Григория Скорнякова-Писарева оказался у ворот Покровского монастыря, но, почуяв недоброе, скрылся на время в суздальских вотчинах Лопухиных, где его вскоре все-таки разыскали и доставили к розыску в Преображенском. На Михаила Босого со всем усердием и стали давить следователи, так как до самой царевны Марьи Алексеевны без царского указа им дотянуться было невозможно.
Как показывают приведенные допросные пункты, какие бы вопросы ни задавались царице Евдокии, все они возвращались к одному — ее участию в побеге царевича в «Цесарию». С этой целью следователи и расспрашивали ее о житье в монастыре мирянкой и ссылке сведениями с доверенными лицами, о поминании царицей на проскомидии и вынутой в ларце «помете». Несколько пунктов касались слов самой царицы Евдокии, о которых узнавали из конфискованной переписки и показаний других лиц. Ставший известным следователям факт близких отношений царицы с майором Степаном Глебовым при допросе подробно не рассматривался. Следователи вспомнили об этом лишь для того, чтобы подчеркнуть, что «все откровенно между вами было», и расспросить о «возмутительных» письмах, «вынутых» при обыске у Степана Глебова. На самом деле это была подтасовка фактов: слова Глебова с порицанием действий царя Петра I и иерархов церкви в связи с новым царским браком были искусственно подкреплены выписками, сделанными обвиняемым из церковных книг и записанными цифровым письмом (простой литореей). Естественно, что царица Евдокия отрицала свое знакомство с какими-либо письмами, содержавшими призыв к «возмущению» против царя. Но следователи настаивали на своем, и в итоге самая страшная казнь постигла именно Степана Глебова.
Месяц спустя после объявления Манифеста о царевиче Алексее, 5 марта 1718 года, был объявлен новый Манифест о царице Евдокии и ее винах. Царь Петр I уничтожал даже не заговор, а всего лишь вероятную возможность угрозы его настоящему наследнику царевичу Петру Петровичу, которая могла исходить от царевича Алексея Петровича и его матери. Следователи сделали всё, чтобы найти заговор в действиях, письмах и словах царицы, 20 лет проведшей внутри стен Покровского монастыря в Суздале. Но можно ли было этому верить? И как сам царь Петр I хотел представить результаты розыска о царице Евдокии? Обратимся к проекту Манифеста 5 марта, собственноручно правленному — «черненному», как указывалось в архивных описях, — царем.
Царь Петр I хорошо знал, как добиться выгодного ему представления о деле царевича Алексея. Печатный Манифест разошелся тиражом почти в две тысячи копий и находился в свободной продаже за 4 алтына. Правда, потом уже другие наследники власти Петра I будут специальными указами изымать из обращения Манифесты 1718 года и угрожать преследованием за их распространение.
В начале текста Манифеста о царице Евдокии 5 марта 1718 года, объявленного при созыве всех иерархов церкви и петровских министров, говорилось:
Лета 1718, Марта в 5 день.
Понеже всем известно, как духовным, так и мирским особам, как в прошлом, 207-м году, при бытности [в Суздале] околничего Семена Языкова, Царского Величества бывшая царица Евдокия, в Суздале в Покровском девичье монастыре, для некоторых своих противностей и подозрения постриглась, и наречено имя ей Елена.
А по некоторому известию, Царскому Величеству явилось, что она бывшая царица монашеское платье с себя скинула и ходила в мирском.
И Его Царское Величество для подлинного о том известия, [и розыску] указал того монастыря духовными и протчими сослужителми розыскать, от лейбгвардии капитану порутчику господину Скорнякову-Писареву
Которого по розыску явилось, что бывшая царица, скинув с себя монашеское платье, ходила мирянкою. И в таблице, взятой того монастыря из Благовещенской церкви на жертвеннике, явилося то подлинно, по которой ея поминали царицею Евдокиею, а не монахинею Еленою.
А государони Царицы и великия княгини Екатерины Алексеевны к поминовению в той таблице не написано.
И по тому розыску ее бывшую царицу, и того монастыря стариц, и духовных и мирских особ из Суздаля велено взять для розыску в Москву»[38].
Дальнейший текст Манифеста содержал по преимуществу добытые следствием материалы: собственноручные показания, тексты конфискованных писем, допросных пунктов и ответов обвиняемых, в которых они сами сознавались в нарушении законов и преступных умыслах. Стилистически все это разбавлялось бюрократическим пафосом якобы торжествующего правосудия: «Понеже всем известно, как духовным, так и мирским особам…», и т. п. Отмеченная в начальном тексте Манифеста фраза — «для некоторых своих противностей и подозрения» — отличается по смыслу, сразу усиливая вину царицы Евдокии. И это не случайно: автор выделенных слов — сам царь Петр I, приписавший удаление жены в монастырь каким-то известным только ему одному винам. Сравнение черновика Манифеста с его печатным вариантом показывает, что царь Петр I последовательно вел дело именно к казни государственных преступников по Суздальскому розыску, что-то дописывая, исправляя и убирая частные детали для усиления результатов следствия.
Стремление к беспощадному обвинению заметно уже в приведенном начальном тексте Манифеста 5 марта 1718 года. Отсылка к постригу царицы Евдокии в далеком 207-м году (если бы счет лет продолжался по эре от Сотворения мира, то Манифест надо датировать 7226 годом) лукава. Все, конечно, помнили, что именно тогда, в сентябре 1698 года (когда 7207 год только начинался), царь расправился со стрельцами, а царицу Евдокию отправили в монастырь. Но время, прошедшее между этими событиями и миссией окольничего Семена Языкова в июне 1699 года, в итоге куда-то выпало. Утверждение о том, что царица «постриглась», тоже содержит правку царя. В черновике документа говорилось нейтрально «пострижена», а в окончательной редакции текста Манифеста царем Петром подчеркнута воля самой царицы Евдокии к постригу, чего, как мы знаем, не было.
Для подданных представляли дело так, что сначала царю Петру стало известно о том, что царица Евдокия жила в монастыре мирянкой, и тогда он указал учинить розыск и послал Скорнякова-Писарева. В действительности все было совсем по-другому: следователь сначала поехал с заданием найти доказательства переписки между царевичем Алексеем и его матерью, выявления сочувствовавших им лиц и лишь потом увидел, что царица ходит в мирском платье. Не все так однозначно и с «таблицей», мало кому было известно, что упомянутая в Манифесте Благовещенская церковь — это не главный храм монастыря, куда царица Евдокия никогда не ходила молиться с настоятельницей и сестрами. Поминание «за здравие» в собственном домовом храме не отменяло другого поминания царицы Екатерины I в Покровском монастыре; оно было связано лишь с тем, что Евдокия Лопухина отрицала свой монашеский постриг, а вслед за ней это делал ее духовник.
Значительная часть Манифеста 5 марта 1718 года была посвящена именно осуждению царицы Евдокии, отказавшейся от монашества. В текст документа включили ее покаянное письмо, написанное по дороге из Суздаля в Москву царю Петру I 15 февраля. Приводили выдержки из показаний разных суздальских духовных лиц, бывших при самом «действе» пострижения и привлеченных к розыску. Все они, начиная с иеромонаха Иллариона, подтверждали, что царица Евдокия была пострижена в инокини с именем Елена. Добились признания и от духовника царицы Федора Пустынного, говорившего, что он исповедовал ее «монашескою исповедью». Конечно, тайна исповеди оставалась тайной, но ключарь Суздальского собора не должен был исповедовать одну из монахинь Покровского монастыря. Такая «избирательность» противоречила церковным правилам, и это было тогда понятно многим. Поэтому в Манифесте в нарушении монашеского пострига обвиняли прежде всего саму царицу Евдокию, «что она многим уграживала» (правка Петра I), кто перечил ей, вспоминали разные слова, в сердцах говоренные ею своему окружению. Например, о мести царя стрельцам за свою мать и о сыне — царевиче Алексее, который «де уже из пеленок вывалился[39]».
Составитель Манифеста уводил внимание от спорного вопроса о монашеской исповеди к другому обвинению, которое не только стало очевидным доказательством нарушения Евдокией правил церковной жизни, но и задним числом оправдывало действия Петра, сославшего жену в монастырь. Речь о «безвременных Глебова приездах днем и ночью».
В Манифесте мстительно обнажались подробности их встреч, основанные на добытых от Степана Глебова и от царицы Евдокии признаниях. Ее собственноручная подписка на Генеральном дворе в Преображенском 21 февраля в том, что «жила с ним блудно», тоже была без изъятий включена в текст документа. Царем же вписано, что она объявляла об этом ему самому «изустно». Становится понятно, при каких обстоятельствах состоялась почти через 20 лет встреча царя Петра и царицы Евдокии, о которой она так мечтала все эти годы в своем суздальском заточении!
Дальше, к вящему царицыныму стыду, обнародовалась их переписка с майором Степаном Глебовым. Три письма царицы Евдокии Глебову с обращениями «мой батюшка, мой свет, мой лапушка» в тексте правительственного документа появились после того, как сам царь прочитал и «почернил» Манифест (часть писем, написанных по поручению царицы Евдокии старицей Каптелиной, не вошла в окончательный текст правительственного документа){212}. Прежний «лапушка» царь Петр хотел усилить впечатление от преступлений отвергнутой им царицы. О протопопе Симеоне, пытавшемся воспрепятствовать встречам царицы Евдокии и майора Глебова, в черновике Манифеста было сказано, что он вынужден был «неволею» постричься в монахи. Царскою рукою вписано уточнение об угрозах протопопу Симеону убийством: «которому претили и смертным страхом».
Правил царь Петр и включенные в Манифест признательные показания Степана Глебова, убирая второстепенные детали и имена людей, привлеченных к розыску, и сокращая текст допроса в Преображенском 20 февраля, когда Глебов под ударами кнута во всем сознался и подписал показания «своею рукою». Не это было важно царю, он подчеркивал, что «бывшая царица» обменялась перстнями со своим любовником: «…а против того взяла у него она бывшая царица перстень же с лазоревым яхонтом»{213}. По смыслу выходило вроде бы так, как здесь сказано, только в постскриптуме показаний Степана Глебова 20 февраля уточнялось, что этот перстень царица Евдокия взяла не у него самого, а у его жены. Царю Петру такая деталь оказалась не нужна. Составителям Манифеста надо было ни у кого не оставить сомнений, что царица Евдокия и назначенный государственным преступником майор Степан Глебов действовали заодно. «Да у него ж Глебова выняты писма от нее к нему, о том блуде, так же и перстни у них сысканы: ее бывшей царицы у нево Степана, а Степанов у нее. Да у нево ж Степана выняты писма ж о возмущении народа против царского величества». Фраза построена таким образом, что можно подумать, что сам майор Степан Глебов призывал к подобному возмущению. Из материалов же дела было известно другое: Глебов всего лишь высказывал недовольство отягощением народа от податей да действиями самого Петра I, вступившего в новый брак при живой жене.
Два других больших блока Манифеста 5 марта 1718 года были связаны со следствием по делам епископа Досифея и царевны Марьи Алексеевны, которую, конечно, не допрашивали с пристрастием, как остальных, но в итоге все равно примерно наказали, посадив по воле царя на несколько лет в заключение в Шлиссельбургскую крепость. В Манифесте публиковались их собственноручные показания и допросные пункты. Царь Петр лично дописал, что царица Евдокия стремилась возвратиться с сыном «царствовать» (!) по «обольщению» епископа Досифея: «…против чего она спрашивана, для чего она монашеское платье скинула, и она сказала, что как ее епископ пророчествами и видениями святых и гласами от образов подтвержал, что будет по прежнему царицею и с сыном вместе будет царствовать, и она де тому полстилась и монашеское платье скинула»{214}. Также рукой Петра добавлены слова о письме епископа Досифея, который «признал себя винна», а личное признание было достаточным для обвинения. Таким образом, обычное утешение царицы Евдокии в церкви превращалось в государственную измену. Что на самом деле думал епископ Досифей, показывают его слова, брошенные другим архиереям, лишившим его сана: «Только я один в сем деле попался. Посмотрите, и у всех, что на сердцах? Извольте пустить уши в народ, что в народе говорят, а на имя не скажу»{215}.
Поправил царь Петр и раздел Манифеста, касавшийся показаний царевича Алексея о встрече с царевной Марьей Алексеевной «не доехав Ли-бо[в]у». Царевич откровенно передавал слова тетушки, говорившей о царице Евдокии: «…забыл де ты ее не пишешь, и не посылаешь к ней ничего…», а также рассказывал, что его принудили «написать письмецо к матери». Все это царь Петр перечеркнул и вписал другое, что царевна Марья говорила ему «между иными словами» об «откровении» царицы, по которому она мечтала вернуться во дворец. И дальше все подводилось к вине в этом расстриженного епископа Досифея. «Желает государю смертного конца» правилось в более определенное — «смерти». Царь не допустил появления в тексте Манифеста разговоров своих недоброжелателей, а в них, оказывается, слова «смертного конца» были всего лишь предположением или риторическим оборотом. Далее снова высказывались мысли о возвращении царя, перед угрозой смерти, к первой законной жене. Лучше было бы, говорили в своем кругу епископ Досифей и царевна Марья Алексеевна, чтобы царь «дошел до смертного конца, или бы пришел в чювство для того, что бутто государь живет не з законною женою и о церквах не радит и народ вопиет и церковники обложены». В черновике Манифеста все, что было сказано Досифеем об «отягощении народа» и о «добродетелях к людям» царицы Евдокии, оказалось вымаранным{216}.
Таким образом, большинство обвинений царице Евдокии и ее сторонникам и «сообщникам» оправдывалось государственной целесообразностью, в которую царь Петр свято верил. Тем, кто желал царю Петру смерти (или только смел рассуждать об этом), понятно, уже было не выжить. 14 марта 1718 года в Москве собрались петровские министры для рассмотрения дел по «Кикинскому розыску» о сторонниках царевича Алексея и по Суздальскому розыску о царице Евдокии. «Птенцы гнезда Петрова», конечно, не перечили Петру I и утвердили смертные приговоры. Под приговорами стояли имена князя Ивана Ромодановского, генерал-фельдмаршала Бориса Шереметева, графа Ивана Мусина-Пушкина, генерал-адмирала графа Федора Апраксина, графа Гаврилы Головкина, Тихона Стрешнева, князя Петра Прозоровского, барона Петра Шафирова, Алексея и Василия Салтыковых{217}. К ним можно добавить имя графа Петра Толстого, ведшего розыск на Генеральном дворе в Преображенском. Казнь постигла нескольких людей из окружения царицы Евдокии — Степана Глебова, ростовского епископа Досифея, ключаря Федора Пустынного. Последнего царь лично допрашивал в день казни 17 марта, добившись собственноручно подписанного признания «о том, что бывшая царица, старица Елена, пострижена ведал, а архиерею суздальскому об ней, бывшей царице, что не пострижена, сказал, проча впредь бывшую царицу»{218}. Даже состоявшееся решение по делу не остановило следствия. На Генеральный двор продолжали привозить подозреваемых в причастности к делу царицы Евдокии, и к розыску был привлечен еще и правящий суздальский архиерей Игнатий. Но ему повезло: пока он был защищен саном, его не допрашивали с пристрастием, в отличие от расстриженного епископа Досифея, получившего перед казнью 25 ударов.
Приговоренного к смерти певчего царевны Марьи Федора Журавского всё же пощадили, отправив на каторгу. Князю Семену Щербатову тоже сохранили жизнь, урезав язык и вырвав ноздри, после чего сослали на Пустоозеро. Другие подследственные по Суздальскому розыску оказались кто на каторге, кто в ссылке, а упоминавшийся в допросных пунктах царицы Евдокии Михаил Босой попал «на галеру в вечную работу». Наказали и тех, кто произносил «предерзостные слова» или всего лишь «не доносил» о том, что слышал от других, пересылал письма бывшей царице. Пострадали власти и слуги Покровского монастыря. Игуменью Покровского монастыря Марфу и старицу Каптелину, разлученную с царицей Евдокией, сослали в тюрьму в Александровском Успенском монастыре. Михаила Воронина, взятого под стражу Скорняковым-Писаревым, отправили на каторгу, а остальных притянутых к следствию служителей Покровского монастыря — «в Ревель на работу». Наказали батогами суздальских ландратов (по-старому воевод) и их жен — за то, что осмеливались являться на поклон с подарками к царице Евдокии. Им, правда, после наказания «за плутовство и недонесение царскому величеству» оставили свободу{219}. Петровские следователи не остановились на этом и, как уже говорилось, еще несколько лет разыскивали крамолу в Суздале и других местах.
Австрийский резидент Отгон Плейер оказался в дни Суздальского розыска в Москве и записал подробности казни Степана Глебова и наказания других лиц, причастных к делу царевича Алексея Петровича и царицы Евдокии: «За два дня до отъезда моего в С.-Петербург происходили в Москве казни: майор Степан Глебов, пытанный страшно, кнутом, раскаленным железом, горящими угольями, трое суток привязанный к столбу на доске с деревянными гвоздями, и при всем том ни в чем не сознавшийся, 26 (15) марта посажен на кол часу в третьем пред вечером и на другой день рано утром кончил жизнь. В понедельник 28 (17) марта колесован архиерей Ростовский, заведовавший суздальским монастырем, где находилась бывшая царица; после казни он был обезглавлен, тело сожжено, а голова взоткнута на кол. Александр Кикин, прежний любимец царя, тоже колесован; мучения его были медленны, с промежутками, для того, чтобы он чувствовал страдания. На другой день царь проезжал мимо. Кикин еще жив был на колесе: он умолял пощадить его и дозволить постричься в монастыре. По приказанию царя его обезглавили и голову взоткнули на кол. Третьим лицом был прежний духовник царицы, сводничавший ее с Глебовым: он также колесован, голова взоткнута на кол, тело сожжено. Четвертым был простой писарь, который торжественно в церкви укорял царя в лишении царевича престола и подал записку: он был колесован…
В городе на большой площади перед дворцом, где происходила экзекуция, поставлен четырехугольный столб из белого камня, вышиной около шести локтей, с железными шписами [спицами] по сторонам, на которых взоткнуты головы казненных; на вершине столба находился четырехугольный камень в локоть вышиной: на нем положены трупы казненных, между которыми виднелся труп Глебова, как бы сидящий в кругу других»{220}.
Описание казней ни в каких комментариях не нуждается. В них в высшей мере явлена петровская безжалостность. Ходили слухи о мужественном поведении Глебова, даже перед лицом мучительной казни не выдавшего бывшей царицы. «Глебов вынес эту пытку с героическим мужеством, — рассказывал Франц Вильбуа, — отстаивая до последнего вздоха невиновность царицы Евдокии и защищая ее честь. Между тем он знал, что она сама признала себя виновной вследствие естественной слабости, свойственной ее полу, и под угрозой тех пыток, которые ей готовили, чтобы заставить ее признать себя виновной»{221}. Описание якобы последнего рыцарства Глебова очень увлекало мемуариста-француза и через его рассказы распространилось дальше. Но к действительности не имело никакого отношения. По документам видно, что ужас трагедии был в том, что к посаженному на кол Глебову специально приставили нескольких священников, но запретили им принимать покаяние у обреченного преступника. Одновременная казнь близкого к царевичу Алексею человека — адмиралтейского советника Александра Кикина и сторонников царицы Евдокии была показательной. Она еще раз должна была подчеркнуть связь между действиями царевича Алексея Петровича и советами его матери. К казни заодно приговорили и подьячего Артиллерийского приказа Лариона Докукина, подавшего самому царю Петру в церкви 2 марта присяжный лист с подтверждением верности царевичу Алексею Петровичу и отказом от присяги царевичу Петру Петровичу{222}.
Сведения о смертном приговоре по Суздальскому розыску были распечатаны, чтобы известить об именах государственных преступников, и вывешены рядом с местом казни[40]. В царском указе в окончательном виде были сформулированы вины несчастных людей, оказавшихся прикосновенными к делу царевича Алексея и царицы Евдокии. Первым стояло имя Степана Глебова, который оказался главным врагом для царя Петра. Позднее дело дойдет даже до церковной анафемы Глебову, имя которого в 1721 году поставили в один ряд с ненавидимым именем предателя гетмана Мазепы. По всем российским церквям раз в год, в неделю Торжества православия — первую неделю Великого поста, должны были провозглашать: «Стефан Глебов, который в безприкладном преступлении и в писменном против его царского величества народном возмущении повинен… за сия церкви и отечеству богоненавистные противности, во веки да будет анафема!»[41]
От Ладоги до Шлиссельбурга
Петр I уезжал с царевичем Алексеем Петровичем из Москвы в Петербург, оставляя после себя белокаменный столб, устрашавший зримыми последствиями чудовищных расправ. Два дня спустя после отъезда царя, 20 марта, по другой дороге, на Новгород, увезли из Москвы царицу Евдокию, отправленную в Успенский монастырь в Старой Ладоге. «Горькое житие» в Покровском монастыре она теперь могла вспоминать как лучшие времена, не зная, что еще ждет ее впереди. Царь Петр не хотел больше случайностей, он должен был быть уверен, что первая жена останется в монахинях в монастыре, а вокруг нее не будет тех, кто мечтает о возвращении к прошлому. Ведь он искренне был убежден в винах царевича Алексея, подпавшего под ненужное влияние «монахинь» и «монахов», а среди них и царицы Евдокии, и епископа Досифея, и других лиц, привлеченных к Суздальскому розыску. Петр I ценил людей мерилом государственной пользы, поэтому монахи и церковь у него находились на одном из последних мест. На это еще накладывалась старая история с патриархом Никоном. Царь Петр думал, что тот мешал править его отцу — царю Алексею Михайловичу.
Историк Сергей Михайлович Соловьев привел примечательный разговор царя с Петром Толстым, главным помощником в следствии по делу царевича Алексея: «Когда б не монахиня, не монах и не Кикин, Алексей не дерзнул бы на такое неслыханное зло», — говорил Петр I в своем окружении, мучаясь своим выбором. «Ой, бородачи! Многому злу корень — старцы и попы; отец мой имел дело с одним бородачом, а я — с тысячами. Бог — сердцеведец и судья вероломцам. Я хотел ему блага, а он всегдашний мой противник». В ответ Толстой предлагал «обрезать перья и поубавить пуха старцам». «Не будут летать скоро, скоро!» — отвечал Петр{223}. Конечно, царь знал о чем говорил. Дальнейшее последовательное подчинение церкви государству, создание Синода были тоже отдаленно связаны с делом царевича Алексея и царицы Евдокии. Переступив через казнь епископа Досифея, царь уже не останавливался, а все недовольные положением церкви иерархи оказались устрашены.
«Пользу» от монастырей царь Петр нашел в том, чтобы превращать их в тюрьмы. С 1718 года бывшая царица становится монастырской пленницей; отныне она — только старица Елена. Находиться она должна была под охраной специально откомандированной роты солдат. Объяснить выбор Старой Ладоги как места заключения царицы Евдокии можно близостью города к Петербургу. Ладожская крепость к концу XVII века только называлась крепостью. Даже к началу Северной войны там царствовала разруха; по росписи воевод при передаче управления городом в 1687 году все деревянные укрепления в Ладоге разваливались: «Город Ладога каменный, башни и прясла стоят без кровли и без починки многие лета, и в башнях мосты от дождя и от снегу все огнили и провалились… а пушечные припасы и ружейная казна стоит в деревянном анбаре, и на том анбаре кровля худа, и тот анбар огнил, а город деревянной стоит без кровли, и от мокроты все валится врознь»{224}.
Не лучше должны были обстоять дела и в более позднее время, когда успехи Северной войны отодвинули угрозу Ладоге со стороны шведов. Если уж не нашлось средств починить городскую крепость, то что было говорить о ладожских монастырях?! Буквально первая проблема, которая возникла у тюремщиков старицы Елены, состояла в том, что вся территория монастыря была как на юру, через нее свободно можно было проходить любому человеку. Правда, после смерти царевича Алексея и всех близких людей бывшей царицы никто не стремился увидеться с ней, передать ей письмо, подарок или просто привет на словах. Осталась только делопроизводственная переписка по поводу деталей охраны «известной персоны», но никаких личных документов старицы Елены, ее собственных писем и грамоток, относящихся к этому времени, нет. Поэтому ее жизнь в Ладожском монастыре восстанавливается словно по отражению в зеркале, да и то, образно говоря, стоящему в дальней комнате.
Распоряжаться делами охраны старицы Елены царь Петр поручил самому доверенному человеку — Александру Даниловичу Меншикову, наместнику всей Ингерманландии, как стали называться земли вокруг Санкт-Петербурга. Князь Меншиков избежал личного участия в московском розыске, но не приходится сомневаться в том, что, окажись он в Москве вместе с другими петровскими «министрами», он, если бы понадобилось, подписал бы все смертные приговоры. Несмотря на то, что «светлейший» и его жена сами когда-то покровительствовали казненному епископу Досифею. Это значит, что Суздальский розыск коснулся напрямую и самого светлейшего и ему хотелось загладить свою возможную вину перед Петром и царицей Екатериной I. Враждебное отношение царя Петра к первой жене светлейший князь, конечно же, разделял: ведь бывшая царица помнила и другие времена — Преображенского денщика Меншикова. Поэтому старица Елена была его неприятельницей. Сказывались и политические расчеты, в которых Ментиков тоже был мастер. Выбранный царем Петром I в 1718 году новый наследник — царевич Петр Петрович — прожил недолго, и у царя и царицы не осталось потомства по мужской линии. Храня верность царице Екатерине Алексеевне, Меншиков сначала сделал ставку на ее воцарение. Но он должен был понимать, что живы дети царевича Алексея, внуки царицы Евдокии. Не случайно так тревожно было в Санкт-Петербурге после смерти Петра в январе 1725 года, при передаче власти императрице Екатерине I. Потом, правда, последует еще один политический разворот: светлейший князь Меншиков, напротив, будет стремиться выдать замуж свою дочь за царевича Петра Алексеевича — будущего императора Петра II, и царица Евдокия ему снова понадобится. Но обо всем по порядку.
О старице Елене, как и при отсылке ее в Покровский монастырь в сентябре 1698 года, никто не позаботился. Место для тюрьмы назначили, солдат определили, а инструкцию о том, как кормить-поить, — не выдали. Ровно месяц длилось ее скорбное путешествие из Москвы в Ладогу под охраной Преображенского подпоручика Федора Новокщенова. 19 апреля 1718 года старица Елена оказалась в месте своего заточения в Успенском Ладожском монастыре. Единственной из прежнего окружения, кому позволили остаться рядом, была карлица Агафья, она продолжала помогать бывшей царице[42]. В спешке Новокщенову даже не определили сменщика, и первое время он сам вынужден был задержаться на службе в Ладоге, пока туда не прибыл капитан Семен Маслов. У Маслова на руках уже была подробная инструкция о том, как охранять старицу Елену, подписанная князем Александром Меншиковым 20 мая 1718 года. Первым пунктом требовалось принять бывшую царицу у гвардейского офицера и «во всем содержании ее поступать не оплошно». Было выдано распоряжение об организации «караулу при ней и около всего монастыря». Для этого в Ладогу определялся капрал из другой тюрьмы в Шлиссельбурге и отсылалась дюжина Преображенских солдат. Наконец-то было сказано о том, где брать съестные припасы (с характерной оговоркой, чтобы не было ничего лишнего): «Потребные ей припасы, без которых пробыть невозможно, без излишества, брать от ладожского ландрата Подчерткова, о чем к нему указ послан». Указ ладожскому ландрату заготовили, а отправить забыли; охраннику какое-то время пришлось кормить бывшую царицу за свой счет. Инструкция князя Меншикова устанавливала особый режим во всем монастыре; следуя букве этого документа, надо было запретить вход и выход из монастыря не только старице Елене, но и другим монахиням и священникам, становившимся такими же пленниками. От капитана Маслова требовалось «иметь доброе око, чтобы каким потаенным образом ей царице и сущим в монастыре монахиням, также и она к монахиням никаких, ни к кому, ни о чем писем отнюдь не имели, чего опасаясь под потерянием живота, смотреть неусыпно». Маслов должен был «во всем вышеизложенном ея бывшей царицы содержания поступать не оплошно, и дабы от несмотрения чего непотребного не учинилось»{225}.
Несколько месяцев жизни старицы Елены прошли под строгими караулами, пока, видимо, рутина жизни не взяла свое. Надо было заботиться о самом насущном; монастырские припасы и деньги капитана Маслова быстро истощались. Пришлось Маслову запрашивать даже свечи, ладан, церковное вино и пшеничную муку для выпекания просфор, так как монастырская жизнь остановилась. «Для ея особы», как называл капитан старицу Елену в переписке с ладожским ландратом, тоже требовалось немало: «круп гречневых, уксусу, соли, икры зернистой или паюсной, луку». Надо было оборудовать поварню, чтобы готовить еду; для этого надзиратель просил «бочки, квасные кадки, ушаты, ведра, чаши хлебные, блюда деревянные» и т. д. В середине лета, заранее, капитан Маслов напоминал и о необходимости заготовки дров на зиму. Службу свою он знал хорошо, только вот канцелярские служители волокитили дело: они всё искали в походной канцелярии князя Меншикова, где же затерялся нужный указ ладожскому ландрату. А время шло.
Первая зима старицы Елены в Ладоге была тяжелой. В январе 1719 года капитан Маслов доносил князю Меншикову: «Бывшая царица монахиня Елена поставлена в кельях того монастыря наставницы, и те кельи непокойны, высоки и студены, от чего имеет в ногах болезнь, просит милосердия, дабы поведено было построить келию низкую». Это действительно было заточение, усугублявшееся тем, что, в отличие от Суздаля, бывшая царица не могла даже ходить на службу в церковь. Прошел еще один год, а царица Евдокия по-прежнему продолжала просить о переводе в новую келью: «…потому что в сие зимнее время от стужи и от угару зело изнуревается и одержима сильною болезнию»{226}. И в тюрьме бывшая царица могла добиваться своего и не отступила, построив-таки эту келью на свои деньги. Известный Григорий Скорняков-Писарев, которому было поручено распоряжаться имуществом лиц, осужденных по Суздальскому розыску 1718 года, продал «серебро и протчие вещи» бывшей царицы Евдокии, выручив 833 рубля 5 копеек. Этих денег, присланных в 1719 году ладожскому ландрату Подчерткову, хватило, чтобы построить не только кельи царицы Евдокии, но и иеромонашескую келью и караульные помещения для офицера и солдат «за монастырем»{227}. Получается, что до этого оказались брошенными на произвол не только царица Евдокия, но и ее охрана, о «покоях» для которой тоже пришлось позаботиться самой пленнице.
На то, чтобы возобновить полный порядок монастырской жизни в Успенском Ладожском монастыре, у старицы Елены тоже ушло много времени. Сначала один за другим умерли жившие там два престарелых иеромонаха. Кровля на древнем, главном храме Успения обвалилась от ветров, и потоки воды проникали в алтарь. Лишь в январе 1723 года последовал указ Синода об отправке в Ладожский монастырь к старице Елене иеромонаха Клеоника «для священнослужения и духовности». Иеромонах Клеоник был обязан пребывать в монастыре «неотлучно». Он присягнул «по званию своему… поступать воздержно и трезвенно, со всяким благоговением и подобающим искусством, подозрительных и возбраненных действ, которые Священным Писанием и святыми правилы отречены и Его Императорского Величества указами запрещены, отнюдь не творить»{228}.
Капитан Семен Маслов так и оставался привязан к месту своей службы в Ладоге на все время пребывания там старицы Елены. Со временем они должны были как-то приспособиться друг к другу, ведь Маслов был единственным человеком, помимо карлицы Агафьи, кому дозволялось входить в келью старицы Елены. Он всем распоряжался в монастыре, следил за караулами и тем, как кормили и поили небольшой отряд солдат, охранявших бывшую царицу. Маслов передавал просьбы начальству о нехитрых нуждах пленницы, может быть, рассказывал ей что-то о том, что делается в миру. Если это еще продолжало интересовать старицу Елену. От него ли узнала она или, скорее, услышав многодневный погребальный звон над Старой Ладогой, догадалась о смерти Петра I 28 января 1725 года. Трудно даже вообразить, что она пережила в тот момент. Но времена мечтаний о возвращении во дворец для нее давно прошли, и бывшей царице приходилось думать о том, чтобы не стало еще хуже.
Политические потрясения в Петербурге действительно коснулись старицы Елены. По указу вступившей на престол императрицы Екатерины I ладожскую узницу перевели под еще более усиленную охрану в Шлиссельбургскую крепость. Поначалу перемены были вообще пугающими. Охрану царицы Евдокии усилии в несколько раз, сразу прислав 100 солдат Ингерманландского полка, располагавшегося на квартирах поблизости к Ладоге. Указ об этом был дан 4 февраля 1725 года, и одновременно были сделаны распоряжения о высылке из Шлиссельбурга в Ладогу целого отряда из 68 человек солдат во главе с Преображенским сержантом Алексеем Головиным. Они тоже поручались на время капитану Семену Маслову, от которого требовалось «караулы держать во всякой твердости». Добрым знаком была только посылка 100 рублей в ответ на прежние требования «на починку церкви и на пропитание обретающейся тамо персоне»{229}. Как видим, все распоряжения сделаны были, не дожидаясь конца сорокадневного траура по Петру. Чувствуется уверенная рука светлейшего князя Меншикова, в те переходные дни много потрудившегося, чтобы власть перешла именно к Екатерине I, а не к внуку царицы Евдокии — царевичу Петру Алексеевичу, имя которого тоже называлось в числе возможных преемников власти Петра I. Сам покойный император, как известно, не успел назвать имя следующего правителя Российской империи.
Новое распоряжение капитану Семену Маслову от князя Меншикова последовало 26 марта, когда Екатерина I уже окончательно утвердилась на троне и закончился траур. Капитана Маслова по-прежнему оставляли при охраняемой им «известной особе», но предписывали переехать вместе с ней в Шлиссельбургскую крепость. Конечно, первое, что приходит на ум в связи с этим перемещением, — это резкое ухудшение ее положения. Но, как оказалось, все было не совсем так. Характер Екатерины I был другой, чем у ее грозного супруга, — снисходительный и мягкий; недаром она столько раз спасала придворных Петра I от царского гнева. Освободить старицу Елену она, конечно, не могла, но пожелала держать ее под присмотром поближе. Эта была тоже клетка, но более устроенная. Императрица не могла подарить ей свободу, но ее доброты хватило, чтобы первая жена Петра I, столько лет проведшая в монастыре, больше ни в чем не нуждалась в своем быту.
Отныне все, что требовала «известная персона» для обеспечения своей жизни, незамедлительно доставлялось ей. Проследить за точным распоряжением о переводе старицы Елены в крепость был назначен один из флигель-адъютантов. Перемены заметны уже в распоряжении капитану Маслову 26 марта 1725 года. Ему отправили походную церковь и разрешали по своему усмотрению найти дьячка, взять в монастыре «на время» церковные сосуды и ризы. От Синода в то же время требовали немедленно выдать антиминс для освящения этой церкви. Кроме присланных 100 рублей (а это ни много ни мало годовой оклад самого капитана Маслова), сразу озаботились составлением сметы на содержание старицы Елены. Со временем на ее обиход было определено 365 рублей (по рублю в день), предусмотрены были деньги для иеромонаха, дьячка и уже трех келейных стариц, помогавших бывшей царице.
Жизнь в Шлиссельбурге была другой. Людей вокруг стало больше, а значит, больше и впечатлений — именно того, что так не хватает лишенному свободы человеку. Капитан Маслов по-прежнему был единственным, к кому она могла обратиться с ходатайством, но за девять лет охранник и охраняемая должны были притерпеться друг к другу. Капитан Маслов тщательно следовал инструкциям, но он тоже знал, что отношение к порученной его охране старице Елене изменилось. Да и ей самой можно было догадаться об этом, сравнивая, как ее кормили и одевали прежде и теперь. Из письма князя Меншикова в кабинет-канцелярию известно, что императрица Екатерина I «указала содержащуюся в Шлютельбурху известную персону пищею довольствовать, чего когда пожелает, и для того всяких припасов покупать, и пив, и полпив и медов готовить з довольством, чтоб ни в чем нималой нужды не имела». Сверх уже упомянутых 365 рублей, «на одежду и на обувь оной персоне» давали «в год по сту рублев»{230}. И хотя Меншиков по привычке и «строжил» капитана Маслова, чтобы все было «без излишеств», но, исполняя волю императрицы, должен был среди разных государственных дел заботиться еще и о том, чтобы «на пищу содержащейся известной персоны» покупали «муку добрую» и чтобы повар у нее был «хороший».
В свою очередь, царица Евдокия соблюдала, по возможности, политес. В донесении капитана Семена Маслова князю Александру Меншикову 27 января 1727 года говорилось об изъявлении ею своей благодарности императрице Екатерине I. Маслов писал, что в ответ на объявление о годовом жалованье «оная персона… ея Государыни высокую милость благодарствует и ваше милостивое ходатайство». Правда, Евдокия и здесь сумела проявить свое знаменитое упрямство, не исчезнувшее за годы заточения. Она потребовала, чтобы выделяемые ей поденно деньги, а особенно те, которые полагалось потратить на одежду и обувь, выдавались прямо ей в руки. Кстати, в деньгах, шедших на содержание капитана Маслова, его денщика, иеромонаха и других лиц, находившихся при старице Елене, тоже недостатка не было, их выдавали даже с запасом — 1000 рублей, вместо определенных по смете 700 (с учетом дороговизны товаров в Шлиссельбурге).
Немедленно исполнили и другую просьбу старицы Елены, когда она пожаловалась через капитана Маслова 7 ноября 1726 года, что не хочет мерзнуть зимой в отведенных ей хоромах в Шлиссельбургской крепости. Там, говорила она, «зело умножено окон и дверей, от чего в зимнее время от великой стужи будет беспокойность». Опасения старицы Елены восприняли серьезно и сразу распорядились заделать лишние окна и двери, оставшиеся утеплить войлоком и законопатить, а в окна «для света» вставить «двойные окончины». Распоряжаясь этим, капитан Глебов заботился в том числе и о себе. После девяти лет службы в охране старицы Елены даже болезнь у него оказалась сходной, он тоже «заскорбел ногами». Из-за этой болезни в начале 1727 года он даже не мог подняться в хоромы бывшей царицы. Поэтому шлиссельбургский комендант полковник Степан Буженинов вынужден был испрашивать личное распоряжение Меншикова, чтобы ему поручили наблюдать за всем вместо заболевшего капитана Маслова, а «без указу к той персоне входить я для надзирания опасен»{231}.
Лишь однажды за время шлиссельбургского заточения ей удалось увидеть новых вельмож петербургского двора. В сентябре 1725 года комендант Степан Буженинов принимал в крепости молодой двор цесаревны Анны Петровны, недавно вступившей в брак с голштейн-готгорпским герцогом Карлом Фридрихом. Путешествуя на кораблях по окрестностям и дворцам Петербурга, они уже успели побывать в Кронштадте и Петергофе, дошла очередь и до Шлиссельбурга. В свите мужа старшей дочери Петра I и Екатерины I был камер-юнкер Фридрих Вильгельм Берхгольц. Он и оставил в своем дневнике известие о своеобразной экскурсии в закрытую от остального мира Шлиссельбурге кую крепость. Герцог, царевна и остальные гости были проведены Бужениновым на деревянную башню, построенную внутри крепости по приказу Петра I. Оттуда император любил смотреть на Ладожское озеро. С этой высокой точки вся внутренняя крепость тоже была как на ладони. После брака цесаревны Анны Петровны голштинцы становились вечными союзниками России, поэтому опасаться их не приходилось. Камер-юнкер Берхгольц описал крепостные башни, каменные казармы для солдат и четыре деревянных здания (кроме деревянной же церкви). Это были дворцы Петра I, Меншикова, дом коменданта и еще один отдельно стоявший дом, в котором содержалась царица Евдокия. Берх-гольц записал в дневнике: «С этой башни мы видели не только дом, в котором содержится Евдокия, отверженная царица и первая супруга императора Петра Великого, но и ее самое, потому что она — с намерением или случайно — вышла из своих комнат и ходила по двору, охраняемому сильною стражею. Увидев нас, она поклонилась и начала что-то громко говорить, но слов ее за отдаленностью нельзя было хорошо расслышать»{232}. Путешественники и их свита прошли к пяти наружным бастионам, где их приветствовали выстрелом из пушек, а комендант Степан Буженинов угощал всех вином и медом, ссылаясь на заведенный Петром I порядок.
Что там кричала царица Евдокия из своего прошлого века, никто не расслышал и не понял. А если кто и расслышал, то предпочел промолчать.
Глава пятая.
«ГОСУДАРЫНЯ-БАБУШКА»
И все-таки царица Евдокия дождалась исполнения пророчеств об изменении своей участи. Судьба ее еще раз переменилась, и произошло это стремительно. Хотя получилось все совсем не так, как она когда-то полагала. В Шлиссельбургской тюрьме ей пришлось пробыть меньше двух лет — небольшой срок, по сравнению с теми двадцатью семью годами, на которые она была устранена Петром I из дворца, семьи и мира. Но сила родства оказалась сильнее политических расчетов. Екатерина I угасла на троне очень быстро, и не одни государственные заботы были тому причиной. Даже во время болезни, сведшей ее в могилу, она не отказывала себе ни в каких удовольствиях, продолжая чтить законы петровских ассамблей и потакая своим известным слабостям.
Первым увидел, к чему все клонится, и забеспокоился князь Александр Данилович Меншиков. Он хорошо знал, как следует держаться наверху. Светлейший князь придумал гениальную комбинацию, убедив Екатерину I выбрать своим «сукцессором» (наследником) «внука» — Петра Алексеевича, сына царевича Алексея Петровича. Для этого Екатерине I пришлось подписать письменный «Тестамент» (завещание) и поступиться правами своих собственных дочерей и зятя — Анны Петровны, ее мужа Карла Фридриха и Елизаветы Петровны. Почему Екатерина пошла на такое? Ответ лежит вне плоскости разумных объяснений: как пишет историк Евгений Викторович Анисимов, «в дело вмешался Амур». Екатерине I понравился молодой представитель польского магнатского рода Петр Сапега, обрученный с дочерью Александра Меншикова Марией. Светлейший расторг помолвку и предполагал со временем женить свою дочь на великом князе Петре Алексеевиче. Став тестем будущего императора, он пожизненно обеспечил бы себе главную роль в регентском совете. И его потомки тоже навсегда оказались бы связаны родством с императорской фамилией. «Одним словом, “два старых сердечных приятеля”, тесно связанные почти четверть века, доставили друг другу последнее удовольствие, — писал о Екатерине I и Меншикове Е.В. Анисимов в книге «Россия без Петра», — совершили дружественный “обмен”: жениха Марии взяла себе императрица, а Меншиков получил в женихи своей дочери великого князя»{233}.
Царица Евдокия тоже присутствовала в расчетах Меншикова, находясь, правда, на заднем плане. Хотя она до тех пор ни разу не видела своих внуков — великую княжну Наталью Алексеевну и великого князя Петра Алексеевича, оставалась их родной бабушкой «по крови». Меншиков учел это обстоятельство, устраняя своих политических врагов в последние месяцы правления Екатерины I. Считалось, что царица Евдокия никому и никогда не сможет простить гибели сына и, возможно, будет мстить своим противникам. Светлейший князь Меншиков, конечно, судил по себе… Буквально в день смерти императрицы Екатерины I 6 мая 1727 года он подписал у умирающей указ, по которому на Соловки отправлялся граф Петр Андреевич Толстой, главный следователь по делу царевича. От имени царя Петра I он когда-то давал царевичу Алексею Петровичу гарантии безопасного возвращения в Россию, а потом стал следователем по его делу. Другой прямой виновник главных потрясений в жизни царицы Евдокии — Григорий Скорняков-Писарев, достигший к 1727 году должности обер-прокурора Сената, — ссылался в Сибирь. Среди «птенцов гнезда Петрова» началась открытая борьба за власть, и оставшееся без присмотра рулевое колесо стало бросать из стороны в сторону, а вместе с ним стремительно менялся курс корабля Российской империи[43].
Сначала можно было подумать, что князь Александр Данилович Меншиков всерьез и надолго встал у кормила власти. Он настолько был убежден в одержанной победе, что решился на амнистию царицы Евдокии. В начале правления Екатерины I сам же Меншиков перевел старицу Елену под надзор поближе к Санкт-Петербургу, но при его «сукцессоре» Петре II пребывание в Шлиссельбурге бабушки императора становилось недопустимым. Взбалмошный и не по летам самостоятельный характер вступившего на престол двенадцатилетнего императора грозил тем, что он мог вспомнить о ней. На эту мысль его могли навести и придворные, недовольные тем, что новоиспеченный генералиссимус Меншиков стремится быть единственным покровителем юного императора. А если бы Петр II сам захотел увидеться с бывшей царицей и вернуть ее в Петербург, тогда при дворе появился бы еще один человек, близкий к нему по родству. В планы Меншикова это не входило. Поэтому светлейший князь распорядился перевести старицу Елену из Шлиссельбурга в Москву — конечно, под предлогом улучшения ее содержания.
Возвращение в Москву
Отправляя бывшую царицу Евдокию в Новодевичий монастырь, Александр Данилович действовал по примеру Петра I, сославшего туда некогда сестер царевен Софью и Екатерину. Даже место, отведенное царице Евдокии, — это бывшие кельи царевны Екатерины Алексеевны, располагавшиеся рядом со Спасо-Преображенской церковью над северными воротами монастыря. Царица Евдокия возвращалась к более привычной для нее жизни в монастыре, но постоянные караулы никуда не исчезли. Она опять оказывалась на границе между монашеством и светским миром, хотя из своей новой кельи в Москве могла видеть уже больше и дальше. Сохранилось прошение старицы Елены о переводе в Новодевичий монастырь, адресованное князю Меншикову 19 июля 1727 года. Внимательное прочтение письма убеждает в том, что оно писалось под диктовку. За царицу Евдокию всё уже продумали, и ей предлагалось самой дать повод к помилованию, чтобы князь Александр Данилович Меншиков потом мог опереться еще и на общее решение Верховного тайного совета. Трудно представить, что это не сам светлейший, а царица Евдокия указывала, что и как нужно делать. Она даже назвала новый чин генералиссимуса, который он получил всего лишь за шесть дней до этого, да и откуда ей вообще было известно о роли Верховного тайного совета в управлении страной? Как человек прошлого века, она скорее подала бы челобитную внуку-императору с просьбой облегчить ее участь. Но Меншиков этого не допустил.
Приведем полный текст прошения царицы Евдокии:
«Генералиссимус, светлейший князь Александр Данилович!
Ныне содержусь я в Шлютельбурге, а имею желание, чтобы мне быть в Москве в Новодевичьем монастыре; того ради прошу предложить в верховном тайном совете, дабы мне повелено было в оной монастырь определить и определено бы было мне нескудное содержание в пище и в прочем, и снабдить бы меня надлежащим числом служителей, и как мне, так и определенным ко мне служителям определено бы было жалованье, и чтоб оной монастырь ради меня не заперт был, и желающим бы ко мне свойственникам моим и свойственницам вход был не возбраненный.
Вашей высококняжей светлости богомолица монахиня Елена.
Июля 19 дня 1727 года»{234}.
Пожалуй, только последние фразы из письма выдают то, что царица Евдокия, почувствовав скорое изменение своей участи, не перестала бороться и выдвинула свои требования. Она не хотела, чтобы, как в Суздале или Ладоге, ради ее содержания «запирали» Новодевичий монастырь в Москве, а также настояла на включении в письмо пункта о встречах с «свойственниками». Наверное, имелись в виду все-таки родственники?
Письмо монахини Елены было доставлено в Санкт-Петербург. Но князь Меншиков занемог и из-за болезни несколько выпустил управление из своих рук (впоследствии это стало роковым для его судьбы). Общее согласие Верховного тайного совета о пересмотре дела 1718 года было достигнуто еще при участии Меншикова. 21 июля 1727 года состоялось важнейшее решение, по сути отменившее результаты розыска по делу царевича Алексея. Члены Верховного тайного совета генерал-адмирал Федор Матвеевич Апраксин, канцлер Гаврила Иванович Головкин и тайный действительный советник князь Дмитрий Михайлович Голицын решили: «Рассуждено манифесты, которые публикованы о наследствии, собрать все в то же место, откуда публикованы; и о том записать указ». За этими неопределенными оборотами скрывались важные перемены и отказ от решений десятилетней давности, к которым некоторые верховники (например, Апраксин) сами были причастны. Поэтому и запись оказалась сформулирована так туманно.
Собрать изданные ранее манифесты или отменить их — это разные вещи. Но после такого объявления все равно отступать было некуда, приходилось заново решать дела тех, кого напрямую затронул розыск 1718 года. В том же протоколе содержится решение об указе, касавшемся судеб ссыльных людей из окружения царицы Евдокии. Правда, по смыслу решения можно было понять, что виноват был только Петр Толстой, уже низвергнутый из всех чинов, и речь шла лишь о его злоупотреблениях, допущенных им при розыске: «Приказано записать указ, чтоб тех людей, которые в прошлом 1718-м году, по делу, которое было в розыскной канцелярии у Петра Толстова, сосланы в ссылку свободить, а именно: из Сибири Александра Лопухина, Семена Баклановского, Григория Сабакина; из Кольскаго острога Степана Лопухина, князя Семена Щербатова и прочих, которые по тому ж делу сосланы. И о том к губернаторам послать указы; тако ж Гаврила Лопухина, который в Астрахани при Адмиралтействе, оттуда уволить»{235}.
А что же царица Евдокия Лопухина? Ведь в протоколах Верховного тайного совета решение о ее собственном освобождении из Шлиссельбурга отсутствует. Как оказалось, решение было принято, как в доисторические времена московских князей, «сам-третей у постели». Князь Меншиков широко раскрывал объятия «государыне моей святой монахине» и лично сообщал об этом в письме старице Елене. Оказывается, членам Верховного тайного совета специально пришлось приехать для этого в дом заболевшего князя Меншикова и там уже договариваться обо всем, что касалось царицы Евдокии. В протоколы Верховного тайного совета тогда вошли не самые существенные детали переговоров в доме Меншикова по поводу «обращения» царицы Евдокии, вроде отпуска тысячи рублей «на некоторую дачу» шлиссельбургскому коменданту Степану Буженинову. О том, что именно Буженинову, боявшемуся без указа войти к старице Елене, велено сопроводить ее в Москву, светлейший князь своим собственным письмом сообщил пленнице 25 июля. Все это лишний раз подтверждает, что главным образом Меншиков в одиночку и решал дело царицы Евдокии:
«Государыня моя святая монахиня!
Получил я от вашей милости из Шлютельбурга письмо, по которому за болезнию своею не мог в верховный совет придтить, и для того просил господ министров, чтобы пожаловали ко мне, и потому они изволили все пожаловать ко мне; тогда предложил я им присланное ко мне от вашей милости письмо и просил всех, чтобы вашу милость по желанию вашему определить к Москве в Новодевичий монастырь, на что изволили все склониться, что отправить в Новодевичий монастырь и тамо определить вам в удовольствие денег по 4.500 руб., и людей вам по желанию, как хлебников и поваров, так и прочих служительниц.
Для пребывания вашего кельи дать, кои вам понравятся, и приказали вас проводить до Москвы бригадиру и коменданту Буженинову; чего ради приказали ему быть сюда для приему указу в Москву к генерал-губернатору и о даче подвод и подорожной, и на проезд 1000 р.
О сем объявя вашу милость поздравляю, и от всего моего сердца желаю, дабы вам с помощию Божиею в добром здравии прибыть в Москву и там бы ваше монашество видеть, и свой должный отдать вам поклон.
P.S. Жена моя и дети, и обрученная государыня невеста и свояченица наша Варвара Михайловна вашей милости кланяются»{236}.
В политических комбинациях Меншикова главное содержалось в постскриптуме — упоминание дочери, обрученной с императором Петром II, внуком царицы Евдокии. Придание письму теплого, семейного звучания, передача приветов от жены Дарьи Михайловны Меншиковой и свояченицы Варвары Михайловны Арсеньевой (сестры жены), которую Меншиков уже сделал обер-гофмейстериной будущего двора своей дочери, не имело никакого отношения к истинным чувствам князя к «святой монахине». Вежливость нужна была затем, чтобы ему потом было удобнее влиять на царицу Евдокию через жену и свояченицу Кто поверит, что он искренне желал приехать на поклон к царице Евдокии в Новодевичий монастырь в Москве?
Е.В. Анисимов писал о намерениях Меншикова: «Ласки светлейшего понятны: бабушка царя — это не вчерашняя Дунька — ненавистная постриженная жена господина, с которой можно было поступать как заблагорассудится. Но почему Меншиков горячо желает встретиться с экс-царицей в Москве, а не в Петербурге, куда из Шлиссельбурга по Неве плавания всего лишь день? В этом-то и состояла хитрость временщика. Он не хотел конкуренции, и Елену, не дав ей познакомиться даже с внучатами, отправили в Москву, в Новодевичий монастырь»{237}.
26 июля 1727 года Верховный тайный совет уже подробно перечислил манифесты о престолонаследии, которые предстояло изъять из свободного хождения, даже из домов тех людей, кто мог купить «опубликованные в народ» объявления: «1) февраля 3 дня 1718 года о наследствии; 2) того ж года июня 25 дня объявление блаженныя памяти о государе царевиче и другой по делу Глебова и епископа Досифея; 3) устав о наследствии престола российскаго февраля 5 дня 1722 года, и прочие, ежели к тем делам явятся приличные»{238}. Убрать следы этих документов из действующего законодательства было можно, но как справиться с памятью людей? Тем более тех, кому один из названных манифестов «по делу Глебова и епископа Досифея» сломал жизнь? 31 июля члены Верховного тайного совета послали указ московскому генерал-губернатору князю Ивану Федоровичу Ромодановскому о переводе старицы Елены в Новодевичий монастырь. Ромоданов-ский должен был принять меры к ее обустройству, отвести ей келью, набрать служебников (двух поваров и двух хлебников и четырех слуг «женского пола»). Ее содержание, по сравнению с Шлиссельбургом, увеличивалось более чем в десять раз и достигло 4500 рублей. Но караул при ней все равно оставался! Послабление было лишь в том, что в сам Новодевичий монастырь разрешалось впускать людей «всякого звания», а также — «по желанию ее» — допускать к ней свойственников.
1 августа коменданту Степану Буженинову была выдана инструкция о переводе старицы Елены из Шлиссельбурга в Москву со ссылкой «на требование и желание ее» быть в Новодевичьем монастыре. Бригадир Буженинов, с его опытом коменданта Шлиссельбургской крепости, конечно, был подходящим для Меншикова человеком в этом деле. По прибытии он должен был передать указы и письма о содержании «святой монахини» двум доверенным людям Меншикова — графу Ивану Алексеевичу Мусину-Пушкину и князю Ивану Федоровичу Ро-модановскому Граф Мусин-Пушкин до воцарения Петра II возглавлял московскую контору Сената и остался главным начальником Москвы даже после того, как назначение в московские генерал-губернаторы получил князь Иван Федорович Ромодановский. Кстати, князь Иван — родной сын «монстры» князя Федора Юрьевича Ромодановского — заведовал еще по наследству Преображенским приказом политических дел.
2 сентября 1727 года, почти на новолетие по старому стилю, бывшая царица Евдокия возвратилась в Москву{239}. Но даже при начавшемся правлении ее внука Петра II она оставалась под охраной солдат, в ведении начальника Преображенской канцелярии и за крепкими монастырскими стенами. А такое «освобождение без освобождения» бывает еще горше для пленника.
Падение Меншикова произошло 8 сентября 1727 года. Интрига по отношению к царице Евдокии стала одним из поводов, чтобы склонить императора Петра II к устранению временщика, покровительством которого он стал тяготиться. Юный самодержец сам прибыл в Верховный тайный совет и объявил свою волю министрам. Им было подписано два указа, полностью поменявших управление. Первый «о бытности и присутствии» Петра II впредь в заседаниях Верховного тайного совета, а второй — «о неслушании указов или писем князя Меншикова»{240}. С этого дня император перестал быть только опекаемым отроком, но по-настоящему превратился в правителя империи. Как и дед, он действовал решительно, не считаясь ни с чьими заслугами и не заботясь о лишних церемониях.
Генералиссимус Меншиков покорно принял свое поражение. В чем-то его судьба оказалась схожей с судьбой царевны Софьи, которую Петр I в свое время заставил отдать власть. Среди наследников царя Петра I по мужской линии не было никого, кроме двенадцатилетнего ребенка, ему и досталась выстроенная Российская империя. Вот когда история отомстила Петру I за погубленную жизнь сына — царевича Алексея. В созданном царем Петром порядке власти царствовали временщики, соревновавшиеся друг с другом за внимание господина. И каждый из них хорошо усвоил правила игры, ставшие их второй натурой. Поэтому после смерти своего главного и единственного покровителя «птенцы гнезда Петрова» и набрасывались друг на друга с каждой переменой самодержца на императорском троне.
В 1727 году победу праздновал барон Андрей Иванович Остерман, которому Меншиков недальновидно поручил воспитание императора Петра II, надеясь на лояльность и благодарность обязанного ему вельможи. Но главный урок, преподанный Остерманом императору, оказался в совете избавиться от князя Меншикова. Вице-канцлер переиграл негласного хозяина империи по всем статьям. Теперь он сам становился ключевой фигурой в окружении императора Петра II. Барону Остерману досталось и освободившееся место повергнутого Меншикова в Верховном тайном совете. В первые же дни его присутствия в качестве полноправного министра в Верховном тайном совете была рассмотрена приготовленная им записка по делу князя Меншикова: «Докладывано его величеству о князе Меншикове и о других по приложенной записке руки вице-канцлера барона Остермана, которая сочинена была пред приходом его величества по общему совету всего Верховного тайного совета, и его величество потому чинить и указы свои приготовить и посылать указал»{241}. По наследству к вице-канцлеру перешли многие дела, включая решение судьбы царицы Евдокии. Тогда и выяснилось, что на самом деле все прекрасно поняли интриги светлейшего, настоявшего на переводе старицы Елены из Шлиссельбурга в Москву. Убеждать в том, что это произошло по ее собственной просьбе, больше никого не приходилось.
10 сентября начаты были поиски «известного письма, присланного из Шлиссельбурга к князю Меншикову». Имя царицы Евдокии в протоколе заседания Верховного тайного совета 10 сентября 1727 года не названо, но не приходится сомневаться, что речь шла именно о ее письме Меншикову, написанном 19 июля. Письмо было в тот же день разыскано в канцелярии Меншиковского дворца, немедленно «запечатанной» (закрытой). Помимо этого письма интересовались и «отправлением в Москву шлиссельбургского коменданта Буженинова». Но здесь все удачно совпало, потому что в тот же день был получен «рапорт от московского генерал-губернатора о прибытии его, Буженинова в Москву»{242}. Царица Евдокия Федоровна нашлась, можно было начинать готовить встречу бабушки и внуков. Комбинация в партии барона Остермана развивалась в нужном направлении, и ему оставалось укреплять свои позиции услугами возвращенной из десятилетий политического небытия «государыни-бабушки».
Позднее был заготовлен Манифест о винах Меншикова, и в нем уже действительно интрига «полудержавного властелина» по отношению к царице Евдокии рассматривалась как одна из его главных вин: «Бабке нашей, великой государыне царице Евдокее Феодоровне, чинил многая противности, которых в народ публично объявить не надлежит». В черновике Манифеста Петра II приводились детали, подтверждающие догадки о том, что царицу Евдокию вынудили написать письмо (стало известно даже, через кого действовал князь Меншиков — через двоюродного брата царицы Степана Васильевича Лопухина): «Когда бабка наша, великая государына царица Евдокея Феодоровна, желала с нами видетца и о том к нему, князю Меншикову, прислано было от ея величества письмо, тогда он не точию до того не допустил, но и то письмо без воли и ведома нашего назад возвратил и потом тайным образом к ее величеству посылал от себя князь Алексея Шаховского до Степана Лопухина с таким представлением, чтоб ее величество присла[ла] к нему письмо в такой материи, бутто изволит иметь намерение жить в Москве в Новодевичье монастыре. И по тому ево принуждению такое письмо к нему, Меншикову, прислано, по которому он под образом ея величества соизволения в тот монастырь послал ее величество без ведома и соизволения нашего»{243}.
21 сентября в первом письме императору Петру II царица Евдокия жаловалась внуку на действия Меншикова, обвинив его в препятствиях к их встрече:
«Державнейший император, любезнейший внук!
Хотя давно желание мое было не токмо поздравить ваше величество с восприятием престола, но паче вас видеть; но понеже счастию моему по се число не сподобилось, понеже князь Меншиков, не допустя до вашего величества, послал меня за караулом к Москве. А ныне уведомилась, что за свои противности к вашему величеству отлучен от вас; и тако примаю смелость к вам писать и поздравить. Притом прошу: если ваше величество к Москве вскоре быть не изволите, дабы повелели быть к себе, чтоб мне по горячности крови видеть вас и сестру вашу, мою любезную внуку, прежде кончины моей. Прошу меня не оставить, но прикажи уведомить, какое ваше изволение будет.
Вашего императорского величества бабка ваша благословение посылает.
Сентября, 21 день 1727 году»{244}.
Почерком царицы Евдокии в этом письме написаны только последние слова о благословении, и это не случайно. Разве так она должна была обращаться к внуку, которого страстно желала увидеть! Как и ее письмо, адресованное Меншикову, так и первое обращение к Петру II с жалобой на своего гонителя производят впечатление чего-то чужого, используемого в малопонятной игре. Но выбора у нее не было, и она искренне пыталась успеть сказать о своем страстном желании увидеть внуков. Об истинных чувствах царицы Евдокии лучше всего говорит другая, не имеющая точной даты записка, которую и следует признать настоящим первым обращением к внуку:
«Внук мой дорогой император Петр Алексеевич, здравствуй и с сестрой своей царевной Натальей Алексеевной. Пожалуй, мой батюшко, дай мне себя видеть, докамест я жива. Чтоб мне на вас наглядетца. Засем бабка ваша монахиня Елена благословение подаю»{245}.
Царица Евдокия опять сама пишет только слова о благословении. Но вспомним ее обращения к «лапушке» мужу! Такую записку внуку никто не мог написать, кроме нее самой. И способ передать записку она искала сама, действуя через князя Алексея Григорьевича Долгорукого — отца «фаворита», самого близкого к императору Петру II в то время человека князя Ивана Долгорукого[44]. Интересно, кто же мог надоумить ее обратиться за помощью к сопернику барона Остермана при дворе императора Петра II?
Скорее всего, это был опальный сенатор Петр Павлович Шафиров, низвергнутый из чинов еще в 1723 году, но прощенный Петром I[45]. Очень давно, в те времена, когда Евдокия Федоровна была царицей, он был всего лишь малоприметным служащим Посольского приказа, но с тех пор с его именем оказалось связано немало дипломатических успехов. И всё же ссоры с всесильным фаворитом Меншиковым, а еще Григорием Скорняковым-Писаревым — тем самым следователем, сыгравшим роковую роль в жизни царицы Евдокии, — сначала привели Шафирова на эшафот, а потом в ссылку (барон едва не заколол Преображенского полковника и обер-прокурора Сената Скорнякова-Писарева шпагой){246}. Екатерина I помиловала Шафирова и даровала ему должность президента Коммерц-коллегии. Но с ее смертью опять произошли перемены, Верховный тайный совет (пока в силе был Меншиков) приговорил отправить Шафирова в Архангельск — заниматься китоловным промыслом. Барону очень не хотелось оставлять должность президента Коммерц-коллегии и покидать Москву Он все оттягивал дело, прося отсрочки до зимнего пути и решения семейных дел.
После падения Меншикова и перевода царицы Евдокии в Новодевичий монастырь Шафиров быстро сообразил, какую пользу сулило ему появление в Москве родной бабки императора. Он настолько часто ездил в Новодевичий монастырь, что это перестало быть тайной даже для иностранных наблюдателей. В донесениях герцога Хакобо де Лириа к испанскому двору говорилось о бароне Петре Шафирове: «Теперь он живет в ссылке в Москве, где находится и царица, бабка нынешнего царя, у которой Шафиров бывает ежедневно. Нет сомнения, что она получит большой вес в правлении с переездом Двора в Москву; и многие, зная, как сильно она ненавидит иностранцев, думают, что она низвергнет Остермана и посадит на его место Шафирова. Впрочем, прежде чем двор приедет в Москву, Шафирову послали приказание отправиться в Архангельск: в его беспрестанных посещениях царицы увидели дурные замыслы»{247}.
Барон Андрей Иванович Остерман, исполняя «просьбу» царицы Евдокии и соблюдя субординацию, передал ее письмо императору Петру II через канцлера Гаврилу Ивановича Головкина. 27 сентября из Петербурга в Москву отправился нарочный, чтобы привезти ответ внука-императора своей «государыне-бабушке»:
«Дорогая и любезная государыня бабушка!
Понеже мы уведомились о бывшем вашем содержании и о нынешнем вашем прибытии к Москве, того ради не… оставим чрез сие сами к вам, моя… бабушка, писать и по вашем нам весьма желательном здравии уведомиться. [А мы от всего нашего сердца желаем от всемогущего Бога постоянного и многолетняго здоровья и просим вас дорогая государыня бабушка.] И для того прошу вас, государыня дорогая бабушка, не оставить меня в празнейших писаниях о своем многолетнем здравии, которое я желаю от Господа Бога, дабы во многие лета постоянно содержано было. Только де, любезнейшая государыня бабушка, прошу ко мне отписать, в чем я вам могу услугу мочь или чем послужить ежель верно исполнять [обещаюсь] не примену, яко же я непременно пребуду, дорогая и любезнейшая моя бабушка.
Из Санкт-Петербурга сентября 27 дня 1727 году. Отправлено в Москву того ж числа с порутчиком Голенищевым»{248}.
Переписка царицы Евдокии с внуком опять оказывалась под контролем, на этот раз Андрея Остермана. В черновике письма (см. зачеркнутые слова в скобках) чувства внука к бабушке выражены искренно и непосредственно: «от всего нашего сердца…», «просим», «обещаюсь». Все это вымарано в окончательном варианте ответа, превратившегося в вежливое письмо с этикетными обращениями, более подходящими стилю барона Андрея Ивановича, а не его ученика-императора. Обер-гофмейстер императорского двора и один из министров Верховного тайного совета тоже отправил свое сопроводительное письмо царице Евдокии вместе с посланием императора. Остерман обращался к ней не иначе как «Всемилостивейшая государыня»! И далее писал о своих услугах царице Евдокии: «Когда я о подлинном состоянии вашего величества уведомился, то я не оставил его императорскому величеству немедленно о том доносить; и потому его величество сам изволил при сем к вашему величеству писать…»{249} Слово было сказано, царица Евдокия в письме внука названа не «святой монахиней», как у Меншикова, не прежней «старицей Еленой», а с новым полутитулом, по-родственному, — «государыней-бабушкой». Спустя долгих 29 лет после того, как она покинула Москву во времена стрелецкого розыска 1698 года, у нее снова появлялась настоящая, а не придуманная надежда на возвращение во дворец. Но мечты о прежней царской жизни мелькнут и угаснут, вся мирская слава уже проходила мимо нее. По-настоящему царице Евдокии хотелось только одного: находиться поближе к своим внукам, отдать долги родственникам и другим людям, которые пострадали из-за того, что, на свое несчастье, оказались когда-то связаны с нею.
Вскоре царица Евдокия получит ответ от императора Петра II на два письма, переданные через канцлера графа Гаврилу Ивановича Головкина и князя Алексея Григорьевича Долгорукого. Новое письмо царской бабушке было совсем уже не такое официальное, как у Остермана. К ней обращался прежде всего внук, а потом император:
«Я сам ничего так не желал, как чтоб вас, дражайшая государыня бабушка, видеть. И надеюсь, что с Божией помощью еще нынешней зимы то учинится может. А между тем прошу о своем многолетнем здравии не оставлять ко мне прямо отписать, и изволите быть благонадежны, что во всем и всегда пребуду, верный ваш внук, Петр».
В этом письме, отправленном из Санкт-Петербурга с одним из людей князей Долгоруких 30 сентября 1727 года, уже содержится намек на будущую коронацию Петра II в Москве. 5 октября, отправляя новое послание с людьми канцлера Головкина, Петр II уже определенно написал о будущем приезде: «…понеже я для коронации своей в Москву прибыть намерен»{250}. Через канцлера Головкина было передано царице Евдокии еще одно долгожданное послание в ответ на ее письмо внучке великой княжне Наталье Алексеевне. Она отвечала бабушке, что стремится «персонально свой поклон отдать»{251}. Великая княжна Наталья полностью принадлежала уже новому XVIII веку, на ее русский язык влияли латинизмы и родной язык ее матери — немецкий (в письмах деду, Петру I, Наталья и Петр подписывались латинскими буквами). Поэтому бабушка, царица Евдокия, должна была познакомиться с новым для нее русским словом — «персонально»…
Время ожидания встречи с внуками окажется для царицы Евдокии одним из самых счастливых в ее жизни. Она включилась в переписку с императором Петром II и его сестрой, внуки постепенно начинали признавать бабушку, ведь они оба выросли без отца и матери. Вряд ли у них остались какие-то детские воспоминания об отце, так малы они еще были в 1718 году. Тем дороже становилась возможность увидеть бабушку. Происходил обмен родственными обращениями, пересылались подарки друг другу. «Светы мои», «дайте мне себя видеть и порадоватца вами такими дорогими сокровищи»; «буди над вами милость Божия и мое благословение», — писала царица Евдокия. Она ссылалась на свою «природную горячность» и нетерпение, желание «родительски зрением утешатися». Пока же посылала внукам каждому на память «по платочку»: «извольте носить на здоровье, не покручинтеса — каковы есть». У нее сразу же установились более теплые отношения с внучкой, ее она уже не стесняется обременять просьбой за родственников: «Наташинька, друг мой! Побей челом брату, чтоб он пожаловал — не оставил племянников моих бедных»{252}. Все это время царица Евдокия занималась рукоделием и скоро отправила свои собственные подарки внуку и внучке — по звезде и ленте (одному — «лазоревую», а другой — «красную»); опять просила принять «как есть», «а я грешная низала своими руками». Петр II написал бабушке, что немедленно распорядился нашить присланную ею кавалерскую звезду на свой камзол, а внучка благодарила и передавала в ответ свой «малинкой презент: книжку молитвенник киевской» (то есть напечатанный в Киеве){253}.
Барон Андрей Остерман тоже стремился постоянно подчеркнуть свою готовность услужить царице Евдокии «без всяких моих партикулярных хитростей и страстей». И действительно старался ради ее «высокой персоны». Бабка императора тоже обнадеживала вице-канцлера, что не забудет сделанное «Остраманом» (как она писала его фамилию). Петр II выделил единовременное пособие царице Евдокии в 10 тысяч рублей и распорядился послать ей «для увеселения» свой портрет. Остерман добавил к этому еще «новосочиненную службу на день рождения» Петра II, «абрис» (описание) бывшего по этому поводу фейерверка и печатный Манифест о коронации Петра II, в подтверждение того, что он служит делом, а не «пустыми словами»{254}. Все это должно было утешить и занять царицу Евдокию в ожидании приезда внуков в Москву. И она уверяла барона Остермана, что никаких «пустых слов» о нем «не слыхала», хотя, видимо, какая-то тень все-таки пробежала между ними из-за встреч царицы Евдокии с недругами вице-канцлера.
В протоколах Верховного тайного совета имена царицы Евдокии и ее родственников Лопухиных тоже стали встречаться достаточно часто. Надо было восстановить справедливость после отмены Манифеста 1718 года. Одной из первых, 18 сентября, рассматривалась челобитная солдата лейб-гвардии Преображенского полка Петра Племянникова, просившего вернуть имущество своего «вотчима» — Авраама Федоровича Лопухина, брата царицы Евдокии. «Письма всякие и крепости деревенские», деньги, драгоценности и посуда, изъятые в доме казненного за помощь сестре Авраама Лопухина, были отданы в московский надворный суд. Пасынок Лопухина Племянников просил исполнить прежний указ о возвращении ему имущества его собственного отца (вдова Племянникова была третьей женой Авраама Лопухина){255}. Вскоре и другие племянники царицы Евдокии, родные дети Авраама Лопухина, получили обратно московский и петербургский дворы, ранее принадлежавшие их казненному отцу{256}.[46] 6 ноября Верховный тайный совет послал в дворцовую канцелярию распоряжение исполнить указ Петра II: «Ежели государыня царица Евдокия Феодоровна потребует чего в Москве из Приказа Большого дворца, а именно: съестных и питейных припасов, служителей, также лошадей, карет и принадлежащих к тому конских уборов и прочих припасов, то по тому требованию отправлять немедленно»{257}. Иными словами, заключение царицы Евдокии полностью закончилось, отныне она была вольна выезжать туда, куда пожелает.
Царица Евдокия стала смелее вести себя в обращении с внуками; она уже имела возможность удостовериться, что все перемены были не случайными и все ее просьбы немедленно удовлетворяются. Поблагодарив внука-императора за жалованье своих племянников, она вспомнила и о племяннице — дочери своей сестры, бывшей замужем за генерал-фельдмаршалом князем Михаилом Михайловичем Голицыным. Евдокия Федоровна просила внучку, великую княжну Наталью Алексеевну, обращаясь к ней как к царевне, на старый манер: «Царевна Наталия Алексеевна, не оставь бедной моей племянницы княгини Татьяны Голицыной того ради, что ей печаль, что у ней отца не стало. И пожалуй, будте милостивы и х князь Михаилу и к жене ево»{258}.[47] Бывшая царица узнала о недавно умершем в Париже князе Борисе Ивановиче Куракине, том самом мемуаристе, оставившем не лучшие свидетельства о Лопухиных и о ней самой. Если бы он смог увидеть заботу царицы Евдокии по отношению к его дочери, наверное, был бы сдержаннее в рассказе о собственной свояченице… Еще одна просьба была за «брата» Степана Васильевича Лопухина, женатого… на племяннице Анны Монс. Он пострадал по доносу: якобы выглядел подозрительно веселым во время заупокойной службы по царевичу Петру Петровичу в 1719 году. Если это правда, то «свеча» Петра II, на которую тогда понадеялся Степан Лопухин, действительно не угасла и засветила теперь всему роду Лопухиных в полную силу. Степан Лопухин при заступничестве царицы Евдокии тоже получил из казны двор в Немецкой слободе. И далее, вплоть до приезда императора Петра II, «государыня-бабушка» успевала замолвить в своих письмах и записках слово то за одного, то за другого родственника или просителя.
Приверженность царицы Евдокии старым обычаям заметили и стали обсуждать сразу. Старшая дочь царя Петра I и Екатерины I голштинская герцогиня наставляла младшую сестру Елизавету в письмах из Киля перед ее поездкой на коронацию в Москву: «…надеюся, что Анна Ивановна, бабушка наша (выделено мной. — В. К.), с вами поедет, то прошу вас, матушка моя, чтобы изволили ее с собою брать, когда станете ездить к царице, такожде изволите у нее спрашиватца, как вам поступать, потому что она знает старой манер, жила с малых лет у тетушки»{259}. В письме, конечно, оговорка: думая о предстоящих визитах, которые цесаревна Елизавета Петровна должна была нанести «государыне-бабушке», герцогиня Анна имела в виду, чтобы та попросила совета у двоюродной сестры, курляндской герцогини Анны Иоанновны. Родные дочери Петра в своей переписке и ее тоже называли «сестрицей», но никак не «бабушкой». Как не без оснований считала герцогиня Анна Петровна, дочь царя Ивана многому могла научиться у своей матери царицы Прасковьи Федоровны. В этом и состоял совет: вместе с курляндской герцогиней Анной Иоанновной, бывшей на коронации императора Петра II, ездить на поклон к «царице» Евдокии Федоровне.
До самой «государыни-бабушки», видимо, доходили какие-то разговоры о боязни ее мести детям Петра I и Екатерины I. Царица Евдокия Федоровна решила действовать открыто и первая написала письмо Елизавете, уверяя, что не хранила и не хранит зла. Письмо это — примечательный манифест отношения к жизни царицы Евдокии. До последнего времени оно хранилось в архиве и никогда не публиковалось. Наверное, не столько потому, что мало кому было интересно, но еще и из-за очевидного противоречия его содержания историческим штампам в восприятии царицы Евдокии Федоровны. Она писала цесаревне Елизавете Петровне со всей искренностью и опытом старшего, умудренного жизнью человека:
«А где любовь, тут и Бог. А хотя я вас не видала, однако ж мое сердце сожалеет об вас. И я надеюсь, что вам нехто донес о мне, что бутто я к вам лиха, а у меня не толико что дела, но и в мысли моей не бывало никакова зла. Царица»{260}. Сколько же в этой простой подписи силы и оплаченного целою жизнью упорства! И окружающие, какие бы чувства они ни питали к воскресшей из небытия первой жене Петра, должны были с тех пор принимать ее победительное «царица» как должное.
Евдокия Федоровна отправила десятки писем и записок в ожидании приезда юных внуков в столицу. Ей трудно было понять, почему императору Петру II нельзя было сразу приехать в Москву; она не была посвящена в детали приготовлений к коронации, которые требовали времени (например, отправка купцов в Лион для закупки дорогой материи). Она только почувствовала, что ее зря обнадеживают, и знаменитая «природная горячность» царицы Евдокии проявилась еще раз. В ответ на письмо Петра II с вежливым отказом от скорой поездки в Москву «того ради, что санной путь не установился», 15 декабря 1727 года она решила написать прямо: «И мне кажетца, что вы в Москву и не будете, и мне о том вельми печально; кажетца, что мне вас и не видать!» Одновременно она пожаловалась Андрею Ивановичу Остерману: «…сколько лет не дали видеть слые (злые. — В. К.) люди, а ныне за грехи мои не даст Бог пути». И подписалась вновь: «Царица»{261}. Но и после этого ей пришлось прождать еще полтора месяца, пока 4 февраля 1728 года император Петр II и его сестра великая княжна Наталья Алексеевна не приехали, наконец, в Москву вместе со всем двором и правительством{262}.
9 февраля 1728 года размеренное течение дел Верховного тайного совета, на время императорской коронации перенесшего свои заседания в Москву, было нарушено стремительным визитом императора Петра II. Он явился в заседание совета «около полудни» в сопровождении барона Андрея Остермана. Без предварительных церемоний, стоя, он объявил Верховному тайному совету свою волю: «…по имеющей своей любви и почтению к ея величеству государыне бабушке своей желает, чтоб ея величество по своему высокому достоинству во всяком удовольстве содержана была; того б ради учинили о том определение и его величеству донесли». Это было все, что хотел сказать Петр II своим министрам. В протоколе, тщательно фиксировавшем редкие появления императора в Верховном тайном совете, сказано: «…и объявя сие, изволил выйти».
А дальше завертелась вся бюрократическая машина. В тот же день состоялось решение о создании двора царицы Евдокии, найдены источники его обеспечения. «Определения» (распоряжения) об этом вице-канцлер Остерман сразу же «апробировал» у Петра II, а Верховный тайный совет немедленно отправил к «ея величеству» двух своих членов — князя Василия Лукича Долгорукого и князя Дмитрия Михайловича Голицына. Они должны были объявить царице Евдокии, что она может потребовать все, что сочтет нужным, в прибавку к уже принятым решениям: «…и при том ея величеству донесть, что ежели еще и сверх того изволит чего потребовать, то его величество со особливой своей любви и почтения учинить изволит»{263}. Скорость, с которой все было проделано, отвечала интересам членов Верховного тайного совета и особенно Остермана. Всех устроило, что «государыня-бабушка» будет жить самостоятельно, с собственным двором, не стремясь к постоянному присутствию рядом с императором и никак не вмешиваясь в дела управления страной. Как заметил прусский посланник Аксель фон Мардефельд, с уменьшением «значения и авторитета» царицы Евдокии в окружении императора «повышался кредит» барона Остермана. Но царица и сама соглашалась с определенным ей положением, «а именно: она будет вести частную жизнь»{264}.
Чудеса еще случаются на земле. Так должна была думать в следующие дни царица Евдокия, когда ее кельи в Новодевичьих палатах вдруг стали самым желанным местом в Москве, куда стремились попасть министры и разные сановники, чтобы немедленно засвидетельствовать ей свою приязнь и почтение. Ей приходилось выбирать, где она дальше хочет жить — в Кремле или остаться в монастыре, чем хочет украсить свои палаты, кто будет распоряжаться ее двором, кому поручить ведение дел по имениям, которые ей будут выделены. А еще требовавшие внимания распоряжения по конюшне, поварне и пр. Но как бы ни было приятно обрушившееся вдруг внимание прежней затворнице, проведшей не по своей воле почти 30 лет жизни в разных монастырях и шлиссельбургской тюрьме, она не могла забыть о главном — предстоящих встречах с внуками.
Еще до коронации Петра II к царице Евдокии в Новодевичий монастырь зачастили с визитами все, кто считал себя хоть сколько-нибудь участвующими в политической и придворной жизни нового императора. Приехавшие вслед за двором иностранные посланники зорко следили за тем, что происходит. Царицу Евдокию они причисляли к «русской партии», ненавидевшей иностранцев. Кто-то даже считал ее серьезной претенденткой в расчетах на власть. Слишком юн был император Петр II, поэтому перспектива создания регентского совета оставалась в глазах дипломатов вполне реальной. Оценивая шансы «бабки императора», тот же прусский посланник Мардефельд доносил королю Фридриху Вильгельму I уже на следующий день после въезда императора Петра II в Москву: «Большое в первое время стечение вельмож к августейшей бабушке императора, которая действительно полагала, что в наискорейшем времени она будет жить во дворце и разыгрывать роль правительницы, а следовательно будет в силе отравить жизнь всем иностранцам, сразу прекратилось после возвращения милости барону Шафирову и чрезвычайно сухого первого свидания ее с императором, и говорят, что старая царица всем этим весьма огорчена. Последствия покажут, начнутся ли теперь, во время присутствия императора в столице, вновь опять интриги в ее пользу или нет?»{265}
Другие дипломаты, например саксонский советник Иоганн Лефорт, рассуждали о сильной партии, «приверженной» вдовствующей царице, причисляя к ней двух членов Верховного тайного совета — канцлера Гаврилу Ивановича Головкина и адмирала Федора Матвеевича Апраксина, московского генерал-губернатора князя Ивана Федоровича Ромодановского «и их сообщников». Во главе этой партии якобы стоял Павел Иванович Ягужинский{266}. Все эти вельможи действительно были напрямую связаны друг с другом — родством или свойством. Вероятно, генерал-прокурор Сената Павел Иванович Ягужинский, зять канцлера Головкина и враг Меншикова, пострадавший от его преследований, сделал основную ставку на близость к Лопухиным. Его дочь Екатерина два года спустя вышла замуж за родного племянника царицы Евдокии — Василия Авраамовича Лопухина. А это во все времена было лучшим способом укрепить союз, готовившийся Ягужинским, видимо, много ранее, еще в разговорах с бабкой императора в ее келье в Новодевичьем монастыре. Но с тем же успехом царицу Евдокию можно было причислить к партиям враждовавших между собой Остермана или князей Долгоруких. Сама же «государыня-бабушка» вовсе не стремилась участвовать в какой-либо борьбе за власть, ей достаточно было признания внуков.
Внимательно следивший за русским двором в Москве посланник Аксель фон Мардефельд вскоре убедился, что у царицы Евдокии не было никаких шансов участвовать в борьбе за власть: «Во-первых, намерение сделать правительницей царицу, которая не обладает ни малейшими качествами, необходимыми для этого, и которую совершенно притупило 30-летнее строгое заключение, должно иметь следствием изменения, весьма опасные государству, и дало бы неблагонамеренным средство ко всевозможным легкомысленным интригам. После удаления верных и способных людей эти последние воспользовались бы слабостью регентши для своих частных целей. Во-вторых, великая княжна, которая пользуется большим значением у императора, будет сопротивляться таковым намерениям изо всех сил, ибо она не чувствует никакого расположения к своей бабушке, и таковое изменение во всех отношениях противно ее интересам и воле»{267}. По крайней мере в том, что касается истинных чувств внучки к бабушке, прусский посланник явно ошибался, слишком он был увлечен попытками найти царице Евдокии место в раскладе современных политических «партий» и возможном регентском совете.
Посланник Мардефельд не только оставил уникальное свидетельство о присутствии царицы Евдокии среди лиц, встречавших Петра II в Москве, но и в донесении 19 февраля 1728 года описал другую, личную встречу августейшей бабушки и внука-императора в Новодевичьем монастыре, тоже, по его сведениям, не отличавшуюся особой теплотой:
«Старая царица все еще живет в монастыре, где она занимает три маленькие комнатки или, вернее, келий. Император и великие княжны сделали ей только один церемонный визит, который ей совсем не пришелся по душе, а также не достигла она желанной цели тем, что, облачившись в старомосковское одеяние, заставила всех посетителей подойти к своей руке»{268}.
Молодая княжна Наталья Алексеевна и ее брат император Петр II, конечно, по-другому относились к своей бабушке, чем об этом писал дипломат, занятый одним расчетом — не прогадать выгоды своего короля. Судя по дате послания Мардефельда, эта встреча должна была произойти накануне появления императора в Верховном тайном совете 9 февраля. А тогда Петр II хорошо показал, как он на самом деле относится к «государыне-бабушке» и чего требует от других. Поэтому впечатления прусского посланника о холодной встрече не стоит принимать на веру. Другой дипломат, французский поверенный в делах при русском дворе Жан Батист Маньян, напротив, свидетельствовал, что император Петр II со времени приезда побывал даже не один раз, а дважды у «вдовствующей царицы в монастыре, куда она удалилась». Маньян передавал разговоры о том, что и «принцесса Елизавета, которая также пошла ее навестить, была ею очень хорошо принята»{269}.
16 февраля 1727 года министры в Верховном тайном совете скрепили протокол о выделении на содержание царицы Евдокии 60 тысяч рублей (для сравнения — все доходы Российской империи от разработки железных и медных руд составляли, по некоторым расчетам, ту же сумму{270}). Дворецким или гофмаршалом двора царицы Евдокии был назначен генерал-майор Иван Петрович Измайлов{271}. Он был чуть старше царицы Евдокии, до этого служил в отдалении от столиц на губернаторских должностях в Архангельске и Воронеже. Иван Измайлов принадлежал к тому же первому призыву учеников, посланных в 1697 году по приказу Петра I учиться за границу, что и брат царицы Евдокии — Авраам Федорович Лопухин{272}. Возможно, что именно это обстоятельство оказалось решающим при его назначении; царице Евдокии вполне естественно было бы положиться на кого-то из людей, хорошо знакомых с ее покойным братом. Дворецкому, или, как тогда было модно называть на польский манер, маршалку, двора царицы Евдокии немедленно выдали треть положенной суммы — 20 тысяч рублей на первоначальное обустройство двора «государыни-бабушки»{273}.
По решению Верховного тайного совета на содержание царицы Евдокии («про обиход двора ея величества») выделялась «волость до двух тысяч дворов, в том числе и подмосковная». Земли приискали среди бесчисленных владений опального князя Меншикова в Севском, Путивльском и Рыльском уездах, а царицыной «подмосковной» стало село Рождествено. Лошадей на конюшню царицы Евдокии тоже забрали у Меншикова: всего царице было пожаловано «пять карет и к ним пять цугов лошадей». Кроме «дворецкого, или маршалка», Ивана Измайлова, на службу царице Евдокии можно было набрать «двух спальников, или камергера» (названия всех новых чинов переводили для «государыни-бабушки», чтобы ей, знающей старые чины, было понятнее), «двух стольников, или камер-юнкера», «конюшего, или шталмейстера», «двух стремянных конюхов, или футер-маршалов». «Кухмистеров и поваров», а также других служителей разрешалось нанимать «сколько прилично», а содержание женской прислуги отдавалось «на волю ея величества». Скрупулезно упомянули в перечне пожалований даже «комнатную и поваренную посуду», выделенную царице Евдокии{274}.
«Государыня-бабушка» смогла лично поблагодарить внука за все оказанные ей благодеяния на отдельной аудиенции. Но длившаяся не менее часа встреча, хотя и была радостной, пошла, видимо, совсем не так, как ожидала царица. Правда, и в этом случае описание встречи царицы Евдокии с внуком сохранилось только в донесении иностранного посланника — герцога Хакобо де Лириа: «В понедельник, 1 марта (19 февраля по старому стилю. — В. К.), бабка царя первый раз приехала во дворец видеть его царское величество. Она имела терпение просидеть у него очень долго (una hora larga). Чтобы не дозволить ей говорить о делах, на все это время он пригласил быть с ним принцессу Елисавету, чтобы она была для того помехой. Но она все-таки много говорила ему о его поведении; как меня уверяли, она советовала ему жениться, хотя даже на иностранке, что де будет все-таки лучше, чем вести ту жизнь, которую он ведет в настоящее время. Эта лекция или откровенность со стороны бабки не только дает надеяться, что его царское величество, чтобы избавиться от бабки, поспешит возвратиться в Петербург, но и утверждает меня во мнении, что она ни в каком случае не будет иметь влияния на дела управления»{275}.[48]
Прогноз герцога де Лириа со временем полностью подтвердился. Скорее всего, сказалась природная прямота царицы Евдокии: она могла переоценить степень родственного влияния, начав с первых же встреч наставлять внука, что тот совсем не ждал от нее. Император Петр II, как и дед, не терпел вмешательства в свои дела. С этим разговором, если он действительно состоялся, она явно поспешила. Возможно, царица Евдокия исполняла просьбу Остермана, стремившегося остановить разгульную жизнь юного императора, забывшего о скучных школьных занятиях бывшего наставника и посвящавшего свой досуг больше танцам и охоте, а также другим увлечениям, открытым ему старшим другом князем Иваном Долгоруким. Не очень понятно, по какой причине, как пишет герцог де Лириа, царица Евдокия должна была заговорить о женитьбе двенадцатилетнего ребенка? Не было ничего хуже для нее, как коснуться такой темы именно в то время, когда юный император платонически увлекался своей теткой Елизаветой. Некоторые наблюдатели считали, что сказывалась ненависть бывшей царицы к Елизавете — дочери императрицы Екатерины I. На самом деле это не так, в чем мы уже имели возможность убедиться. Царица Евдокия совсем не была настроена против цесаревны Елизаветы. Известно даже, что она заботливо посещала Елизавету Петровну, когда та заболела. Однако и впрямь царица Евдокия слишком надолго была отлучена от мира и не понимала изменившихся правил поведения новой петровской знати, избегавшей искренности в своих бесконечных политических расчетах.
Оплошностью царицы немедленно воспользовались ее недоброжелатели, стремившиеся не допустить слишком сильного влияния бабки на внуков. Герцог де Лириа даже связал с этим изменение планов Петра II, сначала хотевшего поселить «государыню-бабушку» по-прежнему в Кремле, но потом решившего оставить ее в Новодевичьем монастыре: «царице-бабке приготовляли было помещение во дворце; но теперь, назначив ей 60 тысяч рублей, оставляют ее в том же монастыре, в котором она жила, где она пользуется полнейшей свободой и живет себе с соответствующим штатом слуг»{276}.[49]
При подготовке коронационного церемониала Петра II какое-то место должны были отвести «государыне-бабушке». Приготовленные для нее первоначально покои в Вознесенском монастыре в Кремле (а речь шла именно о них) тоже были связаны с коронацией. Сказывалось известное затруднение: ведь многие еще помнили то время, когда царица была монахиней Еленой, поэтому ей и отвели место в придворном монастыре, давно связанном с женской половиной царского дворца. Как включить царицу-инокиню в церемонию коронации, было не очень понятно. Обер-церемонийместер барон фон Габихсталь мог только развести руками, предоставив это на усмотрение распорядителей всей коронации: «Прочей же порядок процесии такожде может быть по прежнему, кроме того, что касаетца до посещения Вознесенского монастыря, о чем я никакого мнения не представляю»{277}. Вряд ли сама царица Евдокия стремилась жить непременно в Вознесенском монастыре, где хоронили всех московских великих княжон и цариц, начиная с основательницы монастыря Евдокии — жены Дмитрия Донского. Не было смысла ей стремиться и к возвращению в кремлевский дворец. У нее было наконец-то все, чего она хотела, а жизнь в палатах Новодевичьего монастыря была даже удобнее, чем в Кремле.
В воскресенье 25 февраля 1728 года в Московском Кремле состоялась коронация Петра II. Вместе с этим событием происходили важные перемены в жизни царицы Евдокии, дожившей до своего триумфа. Она приобретала новый статус официального лица, учитывавшегося даже в порядке престолонаследия: ведь однажды другая жена царя Петра I уже стала императрицей, а царица Евдокия оказалась старше и ближе остальных по родству к императору Петру II. При изготовлении и раздаче коронационных медалей царице Евдокии, например, полагалось первой выдать медаль достоинством в 20 червонных (имена царской внучки и остальных членов царской семьи следовали после ее имени)[50]. Почета и уважения ей было достаточно; она своими глазами увидела возложение на внука императорской короны в Успенском соборе, проведенное, как и во времена Петра I, непременным первоиерархом церкви новгородским архиепископом Феофаном Прокоповичем. В дальнейших же коронационных увеселениях Петра II, приемах иностранных послов, пирах и танцах она уже не участвовала.
Об истинных стремлениях царицы Евдокии в те недолгие счастливые месяцы дает представление состав ее двора, утвержденный императорском указом 11 марта 1728 года. Многие были тогда рады послужить «государыне-бабушке» в надежде, что будут со временем замечены императором Петром II, ее внуком. Но она предпочла окружить себя родственниками Лопухиными, другими свойственниками и близкими людьми или по крайней мере теми, кто некогда служил ее сыну царевичу Алексею Петровичу. В камергеры были назначены князь Василий Хилков и Алексей Андреевич Лопухин, шталмейстером — Авраам Лопухин, в камер-юнкеры — Иван Бибиков, Александр Лопухин, в гоф-юнкеры — Алексей Иванович Лопухин, Сергей Измайлов, в пажи — князь Федор Лобанов-Ростовский (сестра Евдокии вышла замуж за одного из князей Лобановых-Ростовских) и Николай Матюшкин[51]. Высокое положение царицы Евдокии подчеркивалось жалованьем ее придворным, назначенным «против комнаты» (то есть в той же мере), что и у сестры императора — великой княжны Натальи Алексеевны.
Но благосклонность фортуны к царице Евдокии оказалась недолгой. Уже к середине марта 1728 года, как заметил саксонский советник Лефорт, «о бабке его величества» перестали говорить{278}. Иными словами, все успокоились и окончательно поняли, что царица Евдокия не будет играть никакой заметной роли в управлении страной. Способствовал тишине и наступивший Великий пост. Вскоре, однако, открылось первое крупное политическое дело с начала пребывания двора императора Петра II в Москве; оно было связано с подметным письмом о князе Меншикове. Как ни странно, разбирательство по поводу появления этого документа затронуло и царицу Евдокию. В указе об объявлении награды за помощь в установлении автора письма (и даже прощении лиц, написавших его, если они добровольно сознаются) указывалась дата появления «у Спасских ворот некоторого подметного письма, запечатанного в обертке», — 24 марта. На «обертке» было подписано, что внутри письмо «о самом важном деле». Распечатав «обертку», по словам указа, «не явилось никакого важного дела, но паче самое плутовское, наполненное токмо всякими плутовскими и лживыми внушениями, доброхотствуя и заступая за бывшаго князя Меньшикова»{279}.
Герцог де Лириа рассказал о происшествии с подметным письмом в своих записках: «На этих днях государь получил анонимное письмо, в котором восхваляются великие заслуги князя Меншикова и которое заканчивается словами, что никогда-де не пойдут дела этой монархии как должно, если не восстановят его в положении и должности которые он имел»{280}. Саксонский советник Лефорт указывал, что письмо было адресовано не императору, а Верховному тайному совету. Его составители не просто превозносили Меншикова, а указывали, что его место оказалось занятым совсем не достойными к управлению людьми (сила воздействия такого рода документов — в искусном смешении лукавых намерений с правдивой основой). «Подметное письмо, — писал Лефорт, — содержит в себе воззвание к народу, чтобы он обратил внимание на настоящее положение верховного правления, и, проводя параллель между правлением Меншикова и настоящим, говорит, что, правда, Меншиков не мог удовлетворить всех, это и было причиною его падению; но с тех пор, как его удалили от двора, другие лица стали вкрадываться в доверие монарха, знакомить его с различными пороками и образом жизни, недостойным монарха»{281}.
Кто был автором этой интриги, мы, увы, не знаем. Людей, продолжавших сочувствовать отправленному в ссылку князю Меншикову, оставалось немало. Слишком многое было связано с ним как с соратником Петра I, военачальником и администратором, чтобы так, в одночасье, без последствий, вычеркнуть его из жизни, как это сделали император Петр II и его министры. С этой скрытой верностью Меншикову напрямую столкнется и царица Евдокия, которой, напомним, были пожалованы имения, конфискованные у Меншикова. Приказы о переписи этих имений просто не выполнялись{282}. Но цель сторонников Меншикова (если это действовали они) не была достигнута. Начались розыск, разбирательства внутри Верховного тайного совета, аресты людей, заподозренных в изготовлении письма. Не исключено, впрочем, что дело о подметном письме было выгодно еще какой-то сторонней силе, использовавшей его как предлог для окончательной расправы с Меншиковым.
Царица Евдокия тоже оказалась захвачена этим розыском. У нее, конечно, не было оснований питать какую-либо любовь к князю Меншикову. Напротив, именно бывший светлейший князь был прямым виновником ее бед в заключении после Суздальского розыска 1718 года; он лично отвечал перед Петром I за охрану старицы Елены в Ладоге и Шлиссельбурге. Но с тех пор все изменилось. После воцарения Петра II Меншиков рекомендовал царице Евдокии свояченицу Варвару Михайловну Арсеньеву, а как выяснилось в ходе розыска о подметном письме, она больше всего добивалась изменения участи Меншиковых. На несчастье царицы Евдокии, в деле был замешан человек из ее ближайшего окружения — духовник Клеоник. Его по распоряжению Синода отправили к царице Евдокии, когда она еще находилась в Ладожском монастыре; вместе с нею он был переведен в Шлиссельбург, а оттуда в Москву И дальше остался служить у нее, пользуясь уже полным ее расположением. Через него родственники Меншикова и попытались устроить аудиенцию у царицы Евдокии, чтобы она, по своему обыкновению, похлопотала бы об облегчении их участи.
Меншиков уже на пути в ссылку сумел получить большую сумму денег, из которых 10 тысяч рублей он выделил «на хлопоты» свояченице Варваре Арсеньевой, удаленной в Успенский Александровский монастырь. В этом монастыре, где жили и умерли сестры царя Петра I Марфа и Феодосия и куда в 1718 году были переведены «под начал» бывшая настоятельница Покровского монастыря со старицей Каптелиной, конечно, много говорили о чудесных изменениях в судьбе царицы Евдокии. Сохранилось свидетельство о пожаловании бабушкой императора в Успенский Александровский монастырь 30 рублей. Игуменья и монахини, благодаря ее за этот дар, писали при этом к ней как к «царице», а не старице. Из следственного дела Варвары Арсеньевой{283} известно, что какая-то вдова Бердяева посоветовала еще одной свояченице Меншикова, родной сестре его жены Аксинье Михайловне Колычевой, обратиться к царице Евдокии. По материалам розыска, Аксинья Колычева действительно поехала в Новодевичий монастырь, разыскала царицыного духовника Клеоника и посулила ему огромные деньги — тысячу рублей, чтобы тот устроил ей свидание с царицей. У Евдокии Федоровны Аксинья собиралась просить «о милости для сестры Варвары».
Следствие в первую очередь интересовало авторство подметного письма о Меншикове. Но попутно выяснились интересные детали о жизни царицы Евдокии в Москве. Переговоры об устройстве встречи с нею свояченицы Меншикова происходили около Рождества, то есть в конце 1727-го — начале 1728 года. Становится понятным, что духовник Клеоник, взявший несколько сотен рублей у сестер жены Александра Меншикова, был не слишком надежной опорой царицы Евдокии. Если судить по сказанным им словам, что-де у царицы Евдокии ему и за десять лет не заработать те деньги, которые ему предложили, он не слишком сильно сопротивлялся мирским соблазнам. В итоге у монаха Клеоника отобрали деньги, которые он успел получить от Аксиньи Колычевой и Варвары Арсеньевой, а самого его отправили в монастырь{284}. Царица Евдокия потом пожалеет своего духовника. Сначала она договорилась о том, что его переведут из Нижегородского Благовещенского в Троице-Сергиев монастырь. Потом ходатайствовала в Верховном тайном совете, чтобы его вернули и поставили в игумены какой-нибудь московской обители. Решение по этому делу, рассмотренному в Верховном тайном совете 8 августа 1729 года, отложили. Но известно, что еще при жизни царицы Евдокии Клеоник стал игуменом близкого ей Спасо-Андроникова монастыря.
Упоминание имени царицы Евдокии в розыске о подметном письме в пользу Меншикова могло скомпрометировать ее в глазах внука Петра II. Написал об этом и всеведущий герцог де Лириа: «На этих днях тоже арестовали и посадили в тюрьму Синода духовника царицы-бабки за то, как меня уверяли, что он получил тысячу рублей от друзей Меншикова, в пользу которого через его посредство они хотели заставить действовать на бабку; но это было скоро открыто, и барон Остерман тотчас же в его же комнате, которую он имеет в здании Синода, сделал ему допрос, следствием коего и было арестование этого монаха»{285}. Конечно, целью Остермана была не царица Евдокия, а Меншиков. 4 апреля 1728 года состоялся указ Петра II об отсылке Меншикова с семьей «в Сибирь, в Березов» и о постриге его свояченицы Варвары Арсеньевой в Горицком монастыре на Белоозере.
Треволнения Великого поста с привлечением к розыску о подметном письме царицыного духовника не прошли бесследно для царицы Евдокии и пошатнули ее здоровье. Прямо во время одной из праздничных служб в середине Светлой недели (Пасха в 1728 году приходилась на 21 апреля) ее поразил «апоплексический удар». Саксонский дипломат Лефорт связал его с сильным постом, который держала царица Евдокия. Он доносил своему двору: «Бабка его величества не оправилась еще после случившегося с нею апоплексического удара, приписываемого ее строгому воздержанию во время последнего поста; она принимала пищу только два раза в неделю, а на последней неделе только раз»{286}. И хотя, по словам герцога де Лириа, удар «не имел роковых последствий» и царица «поправилась» уже через пару недель{287}, для нее случившееся было очевидным знаком и предвестьем плохих перемен.
Прошло меньше года со времени вынужденного приезда царицы Евдокии из Шлиссельбурга в Москву. Все уже переменилось в ее жизни. Новодевичий монастырь не стал ее тюрьмой, как рассчитывал Александр Меншиков, а превратился в настоящий дом, где она наконец-то могла распоряжаться как хозяйка и где ее окружал небольшой, но более чем достаточный для нужд частного человека двор. Казна обеспечивала этот двор всем необходимым.
Со временем были наняты новый секретарь для переписки бумаг — Артемий Навроцкий. Правда, прослужил он совсем недолго, и на его место приняли канцеляриста Алексея Федорова{288}. Для покупки товаров царице Евдокии позволили нанять на службу «купецкого человека» из Барашской слободы Силу Солодовникова. Много дел было с выделенными имениями; к комнате царицы приписали еще рыбные ловли в Ибердусской ватаге на Оке в Переславль-Рязанском уезде, чтобы она всегда имела свежую рыбу к столу{289}. Хотя царица Евдокия могла теперь в любое время покидать монастырь, она нечасто пользовалась своей привилегией. Делать это из-за болезней было все труднее, и поэтому обычно она пребывала в своих палатах в Новодевичьем монастыре, которые так и остались в памяти до сегодняшнего дня — Лопухинскими.
Погасшая свеча
Последние годы царицы — это отдача долгов. Память не могла не возвращаться к прошлому, к людям, которые ее окружали, ко всем родственникам и знакомым из ее окружения. Иных уже не было в живых, а другие всё еще продолжали свои мучения в ссылках. Почта в Сибирь и из Сибири шла долго, поэтому только 1 июля 1728 года в Верховном тайном совете было рассмотрено прошение об освобождении Ивана Пустынного (сына духовника царицы Евдокии в Суздальском Покровском монастыре) и монастырских служителей Ворониных. Возвращали после десятилетней ссылки и сестру ростовского епископа Досифея Прасковью Даниловну, жену владимирца Ивана Журкина (Жиркина){290}. Правда, если не знать обстоятельств Суздальского розыска, то можно и не понять, что эти лица как-то были связаны с делом царицы Евдокии. В решении говорилось о ссыльных, «по известному делу в 1718 году» отправленных «в каторжную работу», а затем «в ссылку в Сибирь»{291}. Но для восстановления справедливости это уже было не столь важно.
Тех же, кого нельзя было вернуть, оставалось только поминать. И царица Евдокия рассылала вклады туда, где не забывали о ней самой и ее родственниках, — например, в родовой Мещовский Георгиевский монастырь, в далекую Тотемскую пустынь, основанную при участии ее отца. Оставался под ее покровительством и Спасо-Андроников монастырь, где лежали «родительские гробы». Спустя полтора века в книгу по истории Андроникова монастыря будут вставлены прочувствованные слова о былой покровительнице этой обители из ктиторского рода Лопухиных: «Для Андроникова незабвенна память ее, и имя ее, как создательницы храмов, будет возноситься в обители, доколе будет стоять обитель сия»{292}.
А с внуками получилось все не так, как она бы хотела. Жизнь ушла далеко вперед. Увидеть их она, как стремилась, увидела, но близко к императору Петру II царицу Евдокию всё же не подпустили. Внуки были уже детьми своего века, а бабушка, встречавшая их в Новодевичьем монастыре в московских одеждах и приглашавшая целовать руку, осталась в веке прошедшем. Особенных родственных чувств к ней у внуков, занятых своей жизнью, не возникло. Больше таких красивых жестов, как появление в Верховном тайном совете 9 февраля, Петр II в отношении «государыни-бабушки» не делал. Царице Евдокии оставалось только наблюдать, как в недальновидной борьбе за внимание юного императора утрачивалось время. Настоящего правителя из ее внука не получилось. Увы, но общество князя Ивана Долгорукого и его отца, князя Алексея Григорьевича, да и ветреной цесаревны Елизаветы Петровны ничего хорошего в будущем не сулило. Вся компания предпочитала веселиться, не особенно отягощая подданных своим участием в управлении империей. Правда, судя по сохранившимся законодательным актам Петра II, можно сделать вывод, что юный император стремился поправить традиции управления, сложившиеся при деде Петре I, и облегчить жизнь подданных (например, в связи с коронацией были дарованы послабления в сборе податей, принимались указы об искоренении корчемства и разбойников). Но это общее направление «доброго царствования» даже не успело сформироваться в какую-то целенаправленную политику, оно так и осталось нереализованной мечтой. Определяющим стало восприятие царствования императора Петра II как «проверка на прочность» Петровских реформ{293}. Мало было переименовать Васильевский остров в Преображенский, как это сделал Петр II при восшествии на престол; надо было еще так же, как и Петр I, настойчиво следовать этому «Преображенскому» началу в своей политике. Но разве можно было этого требовать от отрока, получившего власть в еще более юном возрасте, чем его дед?
Сохранилась примечательная современная гравюра Ивана Федоровича Зубова, изображающая выезд Петра II на охоту в Измайлово. Есть и еще более удачная «мирискусническая» реплика художника Валентина Александровича Серова на тот же сюжет о выезде мальчика-императора на псовую охоту вместе с цесаревной Елизаветой Петровной (1900 год). Вот эти творения художников, пожалуй, и являются лучшей иллюстрацией недолгих лет правления охотника на троне, неделями пропадавшего в подмосковных лесах и так же увлеченно отдававшегося охотничьему азарту и страсти вообще, как его дед когда-то — строительству первых кораблей. На этом сходство и завершалось. В правление Петра II было найдено только общее направление: чуть лучше стали применяться к привычному порядку управления, задумались о тяготах торговли, задавленных петровской администрацией и сосредоточением всех ресурсов на строительстве Петербурга. Но этого, конечно, было мало.
Рано вышедший из-под чьей-либо опеки император не хотел возвращаться к прежнему подчиненному состоянию. Мягкое увещевание «государыни-бабушки» закончилось для нее охлаждением отношений и удалением на покой. Император Петр II не делал исключений даже для сестры, хотя в их сиротском детстве не было у него человека ближе, чем великая княжна Наталья Алексеевна. Царевич Алексей Петрович не слишком любил своих детей, называя их «немецким выводком». Видя, что ничего нельзя поделать с братом, великая княжна Наталья Алексеевна, видимо, стала понемногу угасать. Так трактовали ее болезнь многие иностранные посланники при дворе, превозносившие ее человеческие качества. В Москве великую княжну на самом деле настигла болезнь, которую не сразу распознали и поздно стали лечить. Заболела она еще раньше, чем «государыня-бабушка», и справиться с ее недугом никак не могли. Герцог де Лириа писал в мае 1728 года о том, что «бабка поправилась и великая княжна мало помалу поправляется»{294}. А 10 (21) июня французский поверенный в российских делах Жан Батист Маньян доносил об оставшейся без внимания императора Петра II и угасавшей княжне Наталье Алексеевне: «Третьего дня ждали, что царь приедет сюда на праздник св. Троицы, но этот юный государь живет все время за городом, с одной только принцессой Елизаветой и своим любимцем (князем Иваном Долгоруким. — В. К). Великая княжна, оставшаяся в Москве, горько оплакивает такое долгое отсутствие царя, своего брата, жалуясь на его невнимание к ней. Эта принцесса уже несколько месяцев страдает изнурительной лихорадкой или, как говорят иные, сухоткой»{295}. Изучая донесения послов и иностранных наблюдателей при дворе, надо учесть особенный характер такого рода источников. Они излишне сосредоточены на внимании к персоне императора. Авторы писем и реляций королям и министрам чужеземных дворов пытаются уловить малейшие изменения или новые веяния при русском дворе, понять состав «партий», кто из высших сановников находится в фаворе и кто мог бы способствовать заключению выгодных союзов и торговых договоров. Но еще Сергей Михайлович Соловьев предупреждал: «Мы должны осторожно обходиться с известиями иностранцев о партиях в России»{296}. Дипломатическим посланникам не видна административная рутина повседневного управления, не говоря уже о мало интересовавшей их жизни подданных российской короны. Поэтому иностранные донесения времен императора Петра II полны недоумения: как вообще все управляется при фактическом отсутствии правителя, удалившегося от дел. Приведем один, но очень показательный отзыв саксонского советника Лефорта, датированный октябрем 1729 года: «Непостижимо, как может держаться этот государственный строй; все в бездействии и каждый имеет в виду только свои выгоды»{297}. Послы и резиденты иностранных держав, конечно, верно улавливали общее настроение и точно знали, что происходит при дворе. И если из Москвы в Саксонию, Пруссию, Данию, Австрию, Францию или Испанию шли сходные по содержанию донесения, то вполне очевидно, что такое совпадение взглядов не было случайным{298}. Оно подтверждало главный диагноз наступившей после Петра I эпохи «дворских бурь», связанной со слабостью престолонаследия.
Нельзя сказать, что русские современники не понимали этого. Напротив, постоянные попытки вельмож, составлявших Верховный тайный совет, устроить браки императора Петра II, его сестры великой княжны Натальи Алексеевны, цесаревны Елизаветы Петровны показывают, что они стремились установить династический порядок в Российской империи. Но беда в том, что при этом они прежде всего думали о собственных интересах. Падение Меншикова, желавшего породниться с внуками Петра I, никого и ничему не научило. Потому что те, кто свергал Меншикова, по большей части метили на его место при новом императоре. Больше других, как известно, преуспели в итоге князья Долгорукие, в обществе которых Петр II и проводил по преимуществу свое время. Кстати, один из возвращенных ко двору Лопухиных — Степан Васильевич — тоже был участником разгульной жизни императорского окружения. Во второй половине XVIII века историограф князь Михаил Михайлович Щербатов упомянул некоторые проделки друга императора Петра II князя Ивана Долгорукого. Однажды Лопухин силой удержал фаворита от того, чтобы тот не выкинул в окно генерал-майора князя Никиту Юрьевича Трубецкого (и причины ссоры были под стать этому так называемому «галантному веку» — «любострастие», по слову Щербатова): «…и естли бы Степан Васильевич Лопухин, свойственник государев по бабке его, Лопухиной, первой супруге Петра Великого, бывший тогда камер-юнкером у двора и в числе любимцев князя Долгорукова, сему не воспрепятствовал, то бы сие исполнено было»{299}.
Несмотря на раннее взросление, Петр II, конечно, был, по выражению его биографа Николая Ивановича Костомарова, «самодержавным отроком»{300}. По свидетельству видевших его дипломатов, Петр II в возрасте четырнадцати лет имел рост обычного человека — сказывалась петровская порода! Но это не имело большого значения: по своим порывистым стремлениям и решениям он оставался ребенком. И не царице Евдокии было суждено влиять на него. Даже с цесаревной Елизаветой у Петра II наступило охлаждение, забыта была и любимая сестра, смерть которой 22 ноября (3 декабря) должна была стать ему внятным предупреждением.
Царица Евдокия Федоровна переживала траур по-своему, как привыкла — в молитвах и постах. Но с каждым новым ударом судьбы она все слабее сопротивлялась неизбежному итогу. Если уж дело с подметным письмом в пользу Меншикова спровоцировало удар, то спустя несколько месяцев после похорон великой княжны Натальи Алексеевны заговорили о том, что царица Евдокия при смерти. Лефорт сообщал диагноз ее болезни в донесении 1 августа 1729 года: «…бабка его величества царя, которая уже несколько времени чувствовала себя слабою и нездоровою от водяной, почувствовала, что состояние ее ухудшилось от показавшейся наружу воды; говорят даже, что она находится в опасном положении»{301}. Английский посланник Клавдий Рондо, позже остальных подключившийся к хору голосов дипломатов, отсылавших свои депеши из России (из-за превратностей русско-английских отношений, оборвавшихся при Петре I в 1719 году), застал уже только те времена, когда «вдовствующая императрица» не играла никакой политической роли. Но и он отметил в своем донесении 25 августа: «…бабка царя, проживающая в одном из подмосковных монастырей, очень больна; ее соборовали»{302}.
Царица Евдокия, даже если бы хотела, уже не могла воспрепятствовать развитию событий, ход которых хорошо известен. Вместе со всеми она приняла грядущие перемены. Князья Долгорукие добились своего, они получили согласие императора Петра II на обручение с сестрой фаворита, княжной Екатериной Долгорукой. Как заметил князь Михаил Михайлович Щербатов в записке «О повреждении нравов в России», «что погубило князя Меншикова, то не устрашило Долгоруких»{303}. Однако не зря царицу Евдокию причисляли к «партии Долгоруких»: она не просто участвовала в церемонии обручения в Лефортовом дворце, во время торжества ей было отведено почетное место. «Государыня-бабушка» возглавляла женскую половину дворца, рядом с ней находились цесаревна Елизавета Петровна и две дочери царя Ивана V — Екатерина Иоанновна, герцогиня мекленбургская, с дочерью — будущей правительницей Анной Леопольдовной и царевна Прасковья Иоанновна.
По сообщению герцога де Лириа, описавшего церемонию обручения Петра II с Екатериной Алексеевной Долгорукой 30 ноября 1729 года, когда все расселись в обручальной зале, то в креслах сидели только невеста и царица Евдокия, цесаревнам были поставлены стулья. Эта деталь, конечно, имела значение, оттеняя роль того или иного лица во время торжеств: «Как скоро княжна приехала ко дворцу, то ее встретили у крыльца обер-церемониймейстер и обер-гофмаршал, кои проводили ее в залу, где все уже было готово для совершения обручения. Она села у налоя в кресла, а по левую у нее сторону сели принцессы крови, на табуретах, по правую же — вдовствующая царица, в креслах, а назади — мать, сестра и родня княжны»{304}.[52] На торжестве обручения играла музыка, сверкала иллюминация, зажигали фейерверк, и под конец был дан бал, на который осталась и царица Евдокия. По словам герцога де Лириа, «по окончании фейерверка начался бал в большой зале, при котором и ея величество императрица государыня бабка, для показания сердечного своего удовольствия, присутствовать изволила»{305}. Веселье бала все-таки не могло обмануть иностранных посланников, заметивших в некоторых деталях натянутый характер торжеств, к тому же происходивших под охраной роты гренадеров с заряженными ружьями, которыми командовал царский фаворит князь Иван Долгорукий{306}. Как выяснилось совсем скоро, Петр II не слишком стремился к браку (кстати, как и его невеста). Отрок-император, кажется, начинал понимать, что с ним произошла такая же история, как и с предшествующим обручением с дочерью Меншикова. Но свадьба была объявлена и назначена ее дата — 19 января 1730 года{307}. Произошло же так, что именно в этот день император Петр II умер. Простудившись на торжествах по случаю Крещения 6 января, он заболел оспой. Сначала еще была надежда на выздоровление, и только накануне смерти поняли, насколько все серьезно. Поэтому остальные действия произошли уже в суете и суматохе. Царица Евдокия присутствовала и в Меншиковском дворце в Москве, где прошли последние дни и часы жизни императора Петра II. О ней вспомнили не только ради ее родственных чувств. В окружении умирающего императора собрались люди отнюдь не сентиментальные. Внезапно права первой жены царя Петра на престол вновь получили какое-то значение. Но ей самой давно уж не нужна была царская власть. От обвалившегося на нее нового страшного потрясения она, столько претерпевшая в жизни, уже не смогла оправиться.
Предоставим слово очевидцу, датскому посланнику Гансу Георгу Вестфалену, буквально по часам описавшему агонию Петра II:
«Утром 29-го [18 января 1730 года] не оставалось, по-видимому, никакой надежды на выздоровление; к 3 часам пополудни болезнь еще значительнее усилилась… Между тем выведали от старой царицы, бабки юного монарха, пожелает ли она взять на себя правление в случае смерти юного монарха, ее внука? Она отказалась, ссылаясь на частые немощи и слабость ума и памяти: и то и другое — говорила она — не могли не ослабеть значительно под гнетом невыразимых страданий, которые заставила ее претерпевать в течение 30 лет злоба врагов, особенно же в царствование Екатерины Алексеевны. Однако около 10 часов вечера она отправилась во дворец своего внука и оставалась в покое, смежном с комнатой больного; там, молясь на коленях перед распятием, ожидала она исхода печальной сцены его кончины. Он уже не мог говорить и в четверть первого по полуночи отдал Богу душу. Тогда три фельдмаршала и весь Верховный Совет пошли за ней и подвели ее к постели усопшего; заметив, что он умер, она громко вскрикнула и упала в обморок. Были вынуждены тотчас же пустить ей кровь, и стоило величайшего труда привести ее в чувство. Верховный Совет и три фельдмаршала оставили ее там на попечении медиков и хирургов и перешли в другой покой для рассуждения о выборе нового государя на место умершего»{308}.
В следующие дни произошли великие события русской истории, оставшиеся в исторической памяти как попытка учреждения конституционной монархии и передачи власти Верховному тайному совету при номинальной правительнице Анне Иоанновне. Как известно, призванная из Митавы дочь царя Ивана V, герцогиня курляндская Анна Иоанновна, разорвала предъявленные ей «кондиции», выработанные министрами во главе с князем Дмитрием Михайловичем Голицыным. «Затейка верховников» 1730 года не стала Великой реформой, а превратилась в эпизод борьбы за власть{309}. Самодержица на троне оказалась сильнее объединившихся больших русских аристократических родов. Слишком велик оставался раскол правящей элиты и рядового российского дворянства, уходящий корнями во времена Московского царства. Но даже несостоявшаяся попытка ограничения власти монарха имела долгое эхо в истории и стала примером, которым вдохновлялись сторонники конституции в России уже на рубеже XIX–XX веков.
Определенно можно сказать только то, что права на престол царицы Евдокии в трагический момент, наступивший после смерти императора Петра II, обсуждались как в Верховном тайном совете, так и в донесениях иностранных наблюдателей. Прямое мужское потомство династии Романовых пресеклось на 117-м году ее существования в России[53]. От введенного Петром принципа престолонаследия уже отказались, после смерти основателя Российской империи передачи власти по усмотрению самого монарха не получилось. Полагаться дальше на выбор наследника по усмотрению преемников Петра I значило предоставить опасный инструмент в руки фаворитов. Оставалось думать о женской линии династии Романовых, и здесь, как и во всех церемониях при дворе, преимущество принадлежало царице Евдокии — первой жене царя Петра. Только у нее самой не было не только желания, но и физических сил, чтобы хоть как-то участвовать в заседании Верховного тайного совета, решавшего вопрос о передаче власти.
Как свидетельствует донесение герцога де Лириа, описывавшего расклад придворных партий, сложившийся к моменту смертельной болезни Петра II, «первая сторона была Долгоруких», но их попытка предложить кандидатуру княжны Екатерины Долгорукой, обрученной невесты императора, провалилась. Она не имела поддержки даже внутри разветвленного клана князей Долгоруких, а попытка подделать завещание в ее пользу дорого стоила потом всему роду, без различия оттенков их политических позиций. Виднейшие князья Долгорукие, включая фаворита князя Ивана Долгорукого и его отца, закончили свою жизнь на плахе. «Вторая сторона была царицы, бабки покойного царя», — писал герцог де Лириа. Очень показательно, что испанский посланник, пользовавшийся преимуществом и отличием от всех остальных дипломатов, еще накануне развязки со смертью императора Петра II был убежден, что у царицы Евдокии Федоровны был шанс стать следующей императрицей. «Самые сильные люди на стороне царицы бабки и невесты. Это так очевидно, что я могу почти уверить его величество, — доносил он испанскому королю, — что в случае, если последует роковой удар, судя по мерам, которые уже приняты, на престол взойдет или царица бабка, или невеста — Долгорукая»{310}. По его сведениям, царице Евдокии Федоровне «действительно предлагали корону; но она отказалась под предлогом глубокой своей старости и болезней»{311}.[54] Более достоверен рассказ непосредственного участника обсуждения Феофана Прокоповича. По его словам, ответом членов Верховного тайного совета на упоминание ее имени было общее молчание: «Некто приговаривал и за бабкою Петра II, недавно из заточения освобожденною. Но сие прочие судили яко непристойное, и происшедшее от человека корыстей своих ищущего, самым молчанием притушили»{312}. Кто был этот «некто» в Верховном тайном совете, последний раз попытавшийся вовлечь царицу Евдокию в свои расчеты, в точности мы так и не знаем. Наиболее вероятно, что это мог быть генерал-фельдмаршал и член Верховного тайного совета князь Василий Владимирович Долгорукий, которого считали «личным другом царицы». В более поздних показаниях на следствии по делу князей Долгоруких в 1739 году князь Василий Лукич Долгорукий говорил, что и князь Дмитрий Михайлович Голицын не исключал возможность найти того, кто подписал бы «кондиции» верховников в Москве, видя в этом намек на избрание царицы Евдокии{313}.
В день смерти Петра II произошло нечто, чего мало кто ожидал от «верховников». По предложению князя Дмитрия Михайловича Голицына вспомнили о старшей линии династии Романовых, идущей от царя Ивана V. Так было названо имя будущей императрицы — вдовы курляндского герцога Анны Иоанновны.
Царицы Евдокии эти перемены уже не касались. Несколько дней она сама была на грани жизни и смерти. По свидетельству саксонского советника Лефорта, у нее случился новый удар: «Вдовствующая царица присутствовала при смерти покойного царя; она упала в обморок; ей пустили кровь и с тех пор она все больна, вследствие апоплексического удара, которому она очень подвержена; вчера ее сочли уже совсем за мертвую»{314}. Похороны внука императора Петра II прошли в Архангельском соборе Московского Кремля (к тому времени новая императрица Анна Иоанновна уже прибыла в Москву из Митавы). Состояние здоровья избавило царицу Евдокию от каких-либо подозрений в участии в борьбе за власть, что помогло ей спокойно провести остаток своих дней. Она хорошо помнила и знала родителей императрицы Анны Иоанновны — царя Ивана V и царицу Прасковью Федоровну. Царица Прасковья даже пыталась оказывать какие-то знаки внимания царице Евдокии в то время, когда она была сослана в Суздальский Покровский монастырь. Сопоставляя письма царицы Евдокии и царицы Прасковьи, можно заметить, что это люди одного века, одинаково выражающие свои мысли и чувства, любовь к детям и внукам. «Внучка, свет мой, поскорей ко мне приезжай, а я тебя не могу дождаться. При сем будь над вами милость Божия… и мое благословение»{315} — так писала царица Прасковья Федоровна в начале 1720-х годов, ожидая встречи со своей внучкой Анной. Так в 1728 году могла бы написать и царица Евдокия, когда в Москве ждала в своих палатах приезда императора Петра II и его сестры великой княжны Натальи Алексеевны. Новая императрица Анна Иоанновна, родившаяся в 1693 году, была практически ровесницей царевича Алексея Петровича. Все это придавало особый оттенок чувствам царицы Евдокии, сохранявшей родственную приязнь к семье брата ее мужа — царя Петра I.
Дальше, по воцарении Анны Иоанновны, можно вспомнить всего лишь один известный факт присутствия царицы Евдокии на коронационных торжествах в Кремле, начавшихся 28 апреля 1730 года. Правда, царице Евдокии по-прежнему было тяжело участвовать в торжествах, что и было отмечено в церемониале коронации новой императрицы в Успенском соборе и последовавшего пира во дворце: «Государыня царица для болезни в верх итти не могла, а изволила из соборной церкви возвратиться в свои покои»{316}. Редкая удача для историка: на коронации Анны Иоанновны присутствовала знатная английская дама, жена английского посланника Джейн Рондо, писавшая письма в Англию, своей подруге, тоже бывавшей в России, но еще раньше, при Петре I. Джейн Рондо описывала своей корреспондентке жизнь страны, свои досуги и изменения, происходившие при дворе. Эти письма были опубликованы на родине в Англии еще в XVIII веке, а в России стали известны в XIX веке как письма «леди Рондо». Именно жена английского посланника во время коронационных торжеств Анны Иоанновны обратила внимание на царицу Евдокию, которая никому из дипломатов при дворе новой императрицы уже не была интересна. Удовлетворяя свое любопытство, Джейн Рондо сама подошла познакомиться и поговорить с первой женой царя Петра и оставила описание этой встречи:
«Нынешняя императрица оказывает ей большое уважение и часто сама навещает ее. Она присутствовала на коронации в ложе, устроенной специально так, чтобы ее нельзя было увидеть. По завершении церемонии императрица вошла к ней в ложу, обняла и поцеловала ее, просила ее дружбы; при этом они обе плакали. Поскольку она приехала в церковь скрытно, до начала церемонии, то потом оставалась там некоторое время, пока не смогла подъехать ее карета, ибо не хотела в своем монашеском платье присутствовать на обеде.
Пока она оставалась в церкви, некоторые изъявили желание засвидетельствовать ей свое почтение, и она позволила это. Как Вы догадываетесь, среди них была Ваша покорная слуга, и я имела счастливую возможность разглядеть ее как следует, поскольку в тот день я была в английском платье (причины того пустячны, и их слишком долго излагать); она, поинтересовавшись, кто я такая, пригласила меня подойти поближе, желая рассмотреть мой наряд. Она сказала, что слышала, будто Англия славится хорошенькими женщинами, и полагает, что это так и есть, поскольку платье не рассчитано на то, чтобы подчеркивать их красоту, особенно же красоту головы, но в остальном она сочла наряд очень милым и гораздо скромнее всего, виденного ею до того, потому что не так сильно открывает грудь; она произнесла много лестного обо мне, моей фигуре и пр. и пригласила меня к своему двору… как Вы видите, светские манеры и обхождение ею еще не забыты. Она сейчас в годах и очень полная, но сохранила следы красоты…»{317}
О чем прежде всего говорят женщины? Царица Евдокия не была исключением из правил. Русскую царицу заинтересовала чужая мода и одежда. Этому интересу есть и другие подтверждения. Например, в сохранившейся описи имущества царицы Евдокии упомянуты принадлежавшие ей рясы «тафтяные» и «гранитуровые, черные на горностанном меху, опушка соболья», телогреи «отласные» и «штофные», полушубок, «епанечка», «муфть соболья». Она покупала для себя ткани, например, хранила «кусок целый полотна галанского», камку, атлас, персидскую парчу и французский «гранитур». Были у нее и свои драгоценности — жемчуг и яхонты, спрятанные в затейливые резные холмогорские шкатулки из кости. А также — «веер один»{318}.
Быт царицы Евдокии разнообразен; в нем, как и у многих современников из ее поколения, смешаны старое и новое. На главном месте в палатах Новодевичьего монастыря были иконы. Много было Богородичных образов, несколько икон, посвященных московскому митрополиту Алексею — небесному патрону сына, царевича Алексея. Был у царицы Евдокии образ «святыя преподобномученицы Евдокии, Петра и Наталии». Соименный самой царице Евдокии, ее мужу Петру и царице Наталье Кирилловне, он, конечно, мог восприниматься еще и как память о дорогих внуках, тоже Петре и Наталье. Кстати, «молитвенник киевской печати», посланный когда-то в подарок великой княжной Натальей Алексеевной своей «государыне-бабушке», тоже сохранился. В описи библиотеки царицы Евдокии упомянуты три молитвенника и другие книги киевской печати, «в переплете, по обрезу с золотом». Но, скорее всего, подарок великой княжны — это та книга, которая хранилась в чехле в особом «ларце липовом белом»: «Печерские Акафисты и протчие спасительные мольбы, Киевской печати, в переплете, по образу с золотом, обложена бархатом, на ней четыре наугольника и в средине крест с Распятием, и на другой стороне четыре бляхи и застежки, в суконном синем чехле». И другие церковные книги, хранившиеся у царицы Евдокии, тоже были богато украшены, в серебряных окладах и с золотыми обрезами. Была у царицы Евдокии и одна рукописная книга: «книжица писменная на перенесение честных мощей Максима Христа ради юродивого, в переплете и в коже». Понятен ее интерес именно к этому московскому святому, прославившемуся своими проповедями терпения. Единственными изданиями, которые имели хотя бы близкое отношение к новой книжной культуре, связанной с именем ее супруга — Петра I, были «две книги Бароний»{319}. Речь идет о книге католического кардинала Чезаре (в русском переводе Цезаря) Барония, составившего в XVI веке «Церковные анналы», посвященные ранней церковной истории. Краковское издание Барония было переведено в России, и текст его церковной истории стал известен сначала по преимуществу среди книжников-старообрядцев. Поэтому по указу Петра I в 1719 году было осуществлено синодальное издание книги Барония под названием «Деяния церковные и гражданские от Р. X. до XIII столетия»; оно, вероятно, и имелось в библиотеке царицы Евдокии.
Сухая опись имущества и предметов, хранившихся в доме царицы Евдокии, — почти всё, что можно узнать о ее досугах в последний год жизни. Двор ее по-прежнему ни в чем не нуждался, его закрома были полны, чтобы всегда можно было принять гостей (один запас вина исчислялся многими бутылками венгерского, «бургонского» и других заморских вин; хранились ведра водки и бочки пива — ясно, что все это, скорее всего, шло на приемы в Новодевичьем монастыре или нужды служителей самого двора). Легко обращалась царица Евдокия и с денежными суммами, которые шли на ее содержание. Ей хватало денег для того, чтобы награждать ими своих родственников, получавших щедрые подарки. Камер-юнкер царицы Алексей Лопухин свидетельствовал об особенно щедрых подарках племянникам Федору и Василию Лопухиным. На их новоселье на Пречистенском дворе она отдала пожалованное ей из дворца столовое серебро, поделив его пополам между обоими братьями. Кроме серебра, она «пожаловала оным Федору и Василью из комнаты в разные времена по тысяче, по две, и по три тысячи рублев». Получал деньги и шталмейстер ее двора Авраам Лопухин, но больше всего царица Евдокия жаловала своих племянников в память о брате: «…а в одно время и вдруг пожаловала им, Лопухиным, 13-ть, или 15-ть тысяч рублев». Ее постоянными спутницами были тоже родственницы — сестра княгиня Анастасия Лобанова-Ростовская и другая княгиня, Анастасия Троекурова, битая кнутом по Суздальскому розыску 1718 года{320}. Последние месяцы жизни царица Евдокия тяжело болела, даже не могла собственноручно вести приходно-расходные книги своего двора, а только велела раздавать деньги «неимущим». Как рассказывал камер-юнкер Алексей Андреевич Лопухин, ему даже приходилось удерживать ее, чтобы остались какие-то деньги на домовые расходы…
В начале царствования Анны Иоанновны имя «вдовствующей императрицы» практически исчезло из донесений иностранных послов. У них больше не было повода вспоминать ее; стало очевидно, что ни в какой борьбе между «верховниками» и шляхетством или в раскладах придворных партий она не участвовала. В отличие от гофмаршала ее двора генерал-майора Ивана Измайлова, не удержавшегося от общего обсуждения формы будущего правления. Правда, он повел себя осторожно и примкнул к «компромиссному», по определению исследователей, «проекту 15-ти»{321}. Царица Евдокия жила своей частной жизнью, но ее статус по принадлежности к царской фамилии в Российской империи был таков, что до конца она так и не была оставлена в покое. В самом конце декабря 1730 года случилось трагическое происшествие, когда карета императрицы Анны Иоанновны, возвращавшейся из дворца в Измайлово, едва не попала во внезапно образовавшийся провал на дороге, которой она обычно ездила. Не обошлось без жертв. На передней карете ехал в тот день князь Голицын с женой. Лошади, почуяв опасность, встали перед провалом, но кучер, помня, что за ним едет вся кавалькада, погнал карету вперед, и повозка прямо на глазах императрицы Анны Иоанновны и ее свиты рухнула вниз. Французский посланник Маньян, сопровождавший императрицу в тот злополучный день, описал, как выпрыгивала из своей кареты княгиня Голицына и как не успел сделать это ее муж, которого увлекло в провал. Очевидцы решили, что то была намеренно подстроенная ловушка, так как в провале оказались бревна и «глыбы камней». Был устроен розыск, начались аресты, и в это тревожное время к французскому двору ушло донесение с совершенно невероятными предположениями. Жан Батист Маньян возложил вину в «покушении» не на кого иного… как на царицу Евдокию. «Общее мнение, что это гнусное злоумышление, — писал он, — является следствием беспокойного и склонного к смутам характера вдовствующей императрицы Евдокии Феодоровны; это было бы уже не первым заговором, затевавшимся ею по смерти царя Петра I»{322}. Конечно, это утверждение можно оставить на совести французского посланника Маньяна, так далеко оно от действительности. Но само происшествие повлияло на двор императрицы Анны Иоанновны. Она и раньше чувствовала себя неуютно в «древней столице», поэтому приняла решение вернуться в столицу новую — Санкт-Петербург{323}.
Оставленная в Москве царица Евдокия Федоровна умерла 27 августа 1731 года. «Государыня, де, царица Евдокея Феодоровна от сея временныя в вечную жизнь отыде сего августа в 27 число, в первом на десять часу по полуночи, — показывал камер-юнкер Алексей Лопухин в расспросе в Канцелярии тайных разыскных дел. — А до кончины, де, своей была в памяти, и говорить перестала только за час, или меньше, до кончины, и тогда, де, приобщилась Святых Тайн, и при самой, де, ея государыни кончине был отец ея духовный, Андроничья монастыря архмандрит Клеоник, да доктор Тельс, который обнадеживал, что у ней, государыни, пульс хорош; при том же были женские персоны и Новодевическая игуменья». Эти «женские персоны» в показании «заведующего канцелярией царицы» камер-юнкера Алексея Лопухина тоже названы: он говорил, что «в комнатех при ней, государыни, жили безъотлучно: княгиня Настасья Лобанова, княгиня Настасья Троекурова да казначея Ульяна Дивова, старица Ефросинья, карлица Агафья»{324}. Да, та самая карлица Агафья, вместе с царицей Евдокией, молодой, отверженной женой Петра I уехавшая в ссылку в Суздаль, последовавшая за нею в Ладогу и Шлиссельбург и остававшаяся рядом до ее смертного конца.
Смерть царицы Евдокии была государственным делом. В тот же день 27 августа в Новодевичий монастырь явился известный глава Канцелярии тайных дел Андрей Иванович Ушаков. Он принял у казначеи и Алексея Лопухина имущество царицы — лари, сундуки и прочее, собранное в одной палате, и запечатал его своей печатью. Была назначена особая погребальная комиссия во главе с входившим в фавор после событий с «затейкой верховников» 1730 года действительным статским советником Василием Никитичем Татищевым, ставшим главным церемониймейстером императрицы Анны Иоанновны. Получалось, что первый русский историк XVIII века хоронил последнюю московскую царицу XVII века. Уже 27 августа Татищев получил из Канцелярии тайных дел тысячу рублей. Ему и пришлось исполнить все положенные обязанности по «печальной комиссии» о погребении царицы Евдокии. Судя по всему, ввиду продолжительной болезни, уже заранее было обговорено, что жена Петра I будет похоронена не в Вознесенском монастыре в Кремле и не рядом со своими родителями в Андрониковом монастыре, которому она завещала большую сумму денег на строительство. Последним пристанищем царицы Евдокии стал Новодевичий монастырь, где ей довелось провести остаток жизни. Могила ее оказалась на почетном месте в Смоленском соборе, рядом с погребением еще одной жертвы царя Петра — царевны Софьи.
На гробнице царицы Евдокии было написано: «Лета 7239, а от Рождества Христова 1731 году, преставися, августа 27, раба Божия, благоверная государыня царица и великая княгиня Евдокия Феодоровна, урожденная Лопухина, супруга императора Петра Великого, от коего родились царевичи Алексей и Александр Петровичи. В иноческий образ пострижена она в Покровском девичьем монастыре, что в Суздале, 1695 года[55], а в 1727 году, по указу внука своего, императора Петра И-го, переведена в сей монастырь, где и погребена в 60 лето от рождения, и тезоименитство ея 4 августа»{325}.[56]
Неизвестно, заметил ли двор Анны Иоанновны кончину бывшей царицы Евдокии. Во всяком случае, траур по этому поводу не объявлялся. 1 сентября 1727 года (когда известие о смерти бывшей жены Петра I дошло в Санкт-Петербург) было указано принять все ее имущество во дворец. Только в отношении собственных денег царицы Евдокии была выполнена ее последняя воля. Указ императрицы Анны Иоанновны 16 декабря 1731 года гласил: «Указали мы из остаточных денег после царицы иноки Елены Феодоровны дать сестре ея, княгине Настасье Лобановой, тысячу рублев, племяннице ея, Авдотье Лопухиной, две тысячи рублев, Ирине Шереметевой тысячу рублев, остальные мелкие две тысячи двести шестдесят семь рублев три копейки, да червонных двойных пятьдесят шесть, одинаких десять княгине Татьяне Голицыной»{326}.
Последние долги царицы Евдокии на земле были отданы, перепись оставшихся «пожитков» составлена, скреплена Ушаковым и передана вместе с принадлежавшими ей образами, книгами, тканями, украшениями и посудой в Московскую дворцовую канцелярию. Смотреть на этот перечень имущества, оставленного человеком на земле, трудно. И взгляд почему-то цепляется за мелочи, вроде серебряного кофейника и «меленки кофейной». Тогда, оторвавшись от архивной бумаги, можно представить себе какой-нибудь один день царицы Евдокии Федоровны, принимавшей гостей у себя в келье и угощавшей их с шутками заморским «кофием». Сколько могло быть тогда еще жизни, сколько радости там, где обычно думают, что уже и не было никакого счастья…
ОБРЕЧЕННАЯ НА ЗАБВЕНИЕ[57]
Историки петровской России почти не замечают истории царицы Евдокии, она кажется им малоинтересной. Обычно все воспринимается глазами Петра I, а значит, оправдывается совершившийся переход от Московского царства к Российской империи. На таком великом пути жертвы неизбежны. Отказ от первой жены был выбором царя Петра; ему наследовала императрица Екатерина I, и на трон со временем вступили их дети, и дети их детей — романовская династия продолжилась. История царицы Евдокии пропускается, потому что она, напротив, окончилась ничем: ее несчастный сын царевич Алексей Петрович погиб, а продолжения династии по линии внука Петра II не случилось.
Царица Евдокия, отправленная Петром I в монастырь в самом конце XVII века, осталась навсегда принадлежать «старине», никак не присутствуя в Новом времени. Разве что опять по воле Петра ее привлекли к следствию по делу царевича Алексея и заклеймили позором в грозном Манифесте 1718 года, казнив тех, кто оказался рядом с нею и осмелился ей помогать. После этого историки в лучшем случае стыдливо отворачивали от нее глаза, не считая интересным разбираться в частностях закрытого монастырского мирка, в котором пребывала остаток жизни, почти тридцать лет, жена Петра, ставшая старицей Еленой. Появление царицы Евдокии Федоровны при дворе в годы правления императора Петра II уже ничего не меняло; она осталась человеком прошлого века, у нее не было и не могло быть будущего. Такова общая, утвердившаяся схема, преодолеть которую сложно, если вообще возможно.
Феномен исторического небытия одного из заметных персонажей эпохи все же стоит объяснить подробнее. Царица Евдокия привлекает внимание своей необычной судьбой. Ее драма была понятной и вызывала сочувствие у современников. В одном из писем Джейн Рондо подробно описала историю «вдовствующей императрицы» и заметила: «Каких только бед и лишений не перенесла эта несчастная государыня»{327}. Добрые слова, которые царица Евдокия мало слышала при жизни. Другой очевидец перемен в России в начале XVIII века, Франц Вильбуа, начиная свое повествование о первой жене царя Петра I, тоже замечал, что она, «несомненно, была самой несчастной государыней своего времени. Даже в самой глубокой древности найдется мало примеров такой несчастной судьбы»{328}.
В России очень рано, еще при жизни Петра Великого, сложился культ «Отца Отечества», и это не оставляло места критическому восприятию его личности. Напротив, любители «анекдотов» из жизни царя и «деяний» преобразователя, начиная с курского купца Ивана Голикова, тратили много сил, кропотливо собирая и исследуя каждую деталь, связанную с Петром I. И имени царицы Евдокии никто из этих историков до поры не вспоминал. Апологетическое восприятие Петра возобладало даже в Европе XVIII века, где русский царь виделся героем и великаном, благодаря которому Россия вышла из варварства к цивилизации. В такой системе координат не к месту было говорить об отринутой московской старине, символом которой виделась царица Евдокия. Великий Вольтер в написанной им истории царствования Петра старательно обходил упоминания о первой жене царя, ограничившись замечанием, что царь с ней «развелся». Вольтер пытался создать приемлемое для своих заказчиков (и одновременно цензоров) из России описание процесса царевича Алексея, чтобы оно не «испортило» общую картину великих деяний героя{329}. И он преуспел в этом, хотя и не мог понравиться всем ни в России, ни во Франции.
Когда в 1770-х годах появилась первая биография царицы Евдокии Федоровны, составленная шевалье Шарлем д'Эоном, то она стала попыткой поколебать образ Петра-героя и вернуться к образу варвара и деспота. Кавалер д'Эон, часть жизни проживший в женском платье, — персонаж совершенно фантастический по обстоятельствам своей биографии (впрочем, большей частью беллетризованной). Его занесло в Россию в конце царствования Елизаветы Петровны ветрами авантюрного века дворцовых тайн. Сообщая среди других «литературных забав» историю первой жены Петра — Евдокии Лопухиной, шевалье д'Эон писал, что историки буквально «приговорены сказать столь мало» о ней и «не с той искренностью и участием, какие заслуживают ее страдания». Одним из первых он нарушал это молчание, сообщив европейскому читателю о «поразительном примере» в ее истории: «Бессмертная слава этого героя, сковывающая, несомненно, его будущих историков, не может удержать нас от рассказа с женщине, которая первой была избрана разделить с ним трон. Правда, рассказ этот нельзя читать без слез и возмущения им, иначе прославленным, виновным в жестокости обращения с ней. Но есть ли хоть кто-нибудь из их собственного народа, даже самый ревнующий его славе, кто мог бы решиться отчетливо обвинить его в бесчеловечности, сколь бы далекой и не касающейся никого теперь была слава этого героя»{330}.
Шарль д'Эон сообщал общеизвестные факты, повторяя в деталях рассказ упомянутого свидетеля событий в России Франца Вильбуа. Обстоятельства жизни бедной царицы Евдокии опять пытались использовать в своих интересах, чтобы подчеркнуть деспотизм Петра. Хотя все, что в Европе знали о царице Евдокии, сводилось к яркой, но выдуманной картине казни Глебова, обличавшего перед смертью тирана Петра I и хранившего верность своей даме. Кавалер д'Эон успешно повлиял на изменение взглядов европейского читателя на русского императора Петра; не случайно именно с этим, склонным к авантюрам автором связывают появление так называемого «завещания Петра Великого»[58]. Впоследствии, после яркого фейерверка идей века Просвещения, уже не слишком интересовались тем, что русский царь Петр сделал для сближения России с Европой. В повестке дня встал другой вопрос — о том, как созданная им империя стала угрожать Европе и миру.
Переход от увлечения Петром-героем к восприятию Петра-человека произошел в России в XIX веке{331}. Хотя уже свидетели открытия в 1775 году памятника Петру I — грандиозного Медного всадника — задавались сложными вопросами. Историограф Михаил Михайлович Щербатов соглашался с огромным влиянием Петра I на Россию и даже придумал интересный образ: «И можно сказать, что слава есть Петра Великого, яко некоторая великая река, которая, что более удаляется от своего начала, то пространнее становится». Но видя пороки «самовластия» Петра I, Щербатов все же не уходил в сторону, как многие, а пытался объяснить их. Про неудавшийся брак царя Петра и царицы Евдокии он говорил так: «Если бы в первой своей супруге нашел себе сотоварища и достойную особу; но не имея сего, неудивительно есть, что, возненавидя ее, сам в любострастие ввергнулся»{332}.
Другой знаменитый историограф начала XIX века, Николай Михайлович Карамзин, не успел написать историю царствования Петра, но он тоже много думал о значении этой эпохи для России. Полнее всего его мысли выражены в известной «Записке о древней и новой России» (1811): «Славя славное в сем монархе, оставим ли без замечания вредную сторону его блестящего царствования? Умолчим о пороках личных; но сия страсть к новым для нас обычаям преступила в нем границы благоразумия». Правда, историограф нашел изящный выход для оправдания Петра: «Но великий муж самыми ошибками доказывает свое величие: их трудно или невозможно изгладить — как хорошее, так и худое делает он навеки. Сильною рукою дано новое движение России; мы уже не возвратимся к старине!..»{333}Очень знакомое заключение, похожее на известную пословицу «лес рубят — щепки летят»…
В 1840-х годах отношение к Петру I разделило славянофилов и западников, а когда пришло время Великой реформы 1861 года, наконец, осознали очевидное: в истории Петра Великого до тех пор не было истории народа. И тогда прозвучал голос Михаила Ивановича Семевского, с пафосом вопросившего о судьбе многих современников царя, включая его жену царицу Евдокию: «В самом деле, за громкими и славными победами Петра, за дивным основанием пышного города на тряских болотах, в пыли, поднявшейся при ломке всего старого, за пристройками и постройками нового здания, пышными декорациями всевозможных учреждений, пересаженных с иноземной почвы, мы решительно не видим того народа, ради которого делалось все это. Где же он, со своим своеобразным взглядом на вещи? Что не слыхать его толков и рассуждений по поводу преобразований? Как принимает он тот либо другой указ, что толкует он об этом нововведении, о начатой войне, о заключенном мире, о казнях стрельцов, о заточении царицы Авдотьи, о казни царевича Алексея, о лютых истязаниях сотен людей, его явных и тайных сторонников и согласников? Как принимает этот народ указы о перемене одежд, нравов и обычаев, освященных давностью и духовными властями? Как принимает этот народ вести о неудачах царских, о его немощи; насколько он понимает его великие идеи, насколько сочувствует им?..»[59]
Историографические бои Семевского и других историков с «устряловщиной» и увлечением одними великими деяниями «преобразователя» Петра ныне стали анахронизмом. В итоге возобладал эпический взгляд Сергея Михайловича Соловьева, высказанный им в «Публичных чтениях о Петре Великом» в 1872 году: «Народ собрался в дорогу и ждал вождя», и «вождь явился» в лице Петра{334}. Соловьеву первому удалось показать, что реформы Петра не были каким-то разрывом с предшествующим ходом истории, а отвечали уже сформировавшимся задачам развития Московского царства. Вторил ему Сергей Федорович Платонов, для которого тоже было очевидно, что «реформы Петра по своему существу и результатам не были переворотом; Петр не был “царем-революционером”, как его иногда любят называть»{335}. Пройдет еще немного времени, и поэт Максимилиан Волошин усомнится в этих трактовках и напишет в «России распятой» с высоты опыта человека, пережившего революционный переворот в начале XX века: «Великий Петр был первый большевик…» И снова иначе стал рассматриваться вопрос о цене Петровских реформ, допустимости любых жертв на пути к «новому строю».
«Бои» вокруг Петра Великого и оценки его реформ уже не прекратятся никогда, так как его имя является одним из оснований национального исторического мифа. Какое же место должна занять царица Евдокия в этих спорах? Ведь каждый раз, на очередном повороте истории, очень многое сходилось именно на ней — последней царице Московского царства. Проявившееся на страницы трудов историков второй половины XIX века сочувственное внимание к сложной истории первой жены царя Петра Великого стало на какое-то время общепринятым, а потом опять ушло. Почему же все-таки это случилось?
В понимании этой героини важны два измерения — личное и историческое. Определяющей чертой характера царицы Евдокии обычно считаются ее покорность обстоятельствам, приверженность старине, «несходство» с царем Петром. При этом вся ее собственная жизнь воспринимается исключительно через призму интересов царства.
Что же выясняется на самом деле? Истоки семейного конфликта лежали в трудных обстоятельствах 1689 года, когда состоялся их брак. Но это вовсе не значит, что царский брак не удался с самого начала; напротив, современники видели, что «в начале» и «любовь между ними была изрядная», и царь Петр искренне приветствовал рождение наследника Московского царства. Не сбегал царь Петр от своей жены в Переславль, как обычно считается, а уезжал от жены строить корабли в Великий пост. И еще строил свой дворец в Переславле-Залесском, где должен был жить с женой и детьми. Случившийся разлад можно связать не столько с царицей Евдокией, сколько с властным вмешательством матери Петра — царицы Натальи Кирилловны, фактической правительницы царства, вершившей все дела во дворце в отсутствие сына, занятого чаще всего военными маневрами в Преображенском. Попытка царицы Евдокии «заместить» мать для царя Петра в своих наставлениях после смерти царицы Натальи Кирилловны в 1694 году, чтобы уберечь его от дальней поездки на Белое море и от опасностей походов под Азов, заранее была обречена на провал. В это время, видимо, и проявилась ее «горячность», о которой сама царица Евдокия упоминала в ряде своих писем. Но она столкнулась с еще более горячим и гневливым характером царя Петра.
Постоянное отсутствие Петра I во дворце еще было терпимо, пока на престоле оставались два царя. С началом единовластного правления царя Петра в 1696 году произошли важные перемены. С этого времени и начинается увлечение царя Анной Монс, и царский брак оказался в опасности, хотя у царя не было готового решения, что делать дальше с царицей Евдокией, от которой он твердо решил отказаться. Создается впечатление, что Петр «бежал» за границу в составе Великого посольства, переложив тяжелое поручение уговорить царицу Евдокию постричься в монастырь на свое ближайшее окружение во главе с боярином Тихоном Никитичем Стрешневым. И они с ним не справились, пришлось самому Петру, вопреки его намерениям, снова встречаться с царицей Евдокией и вместе искать устроивший всех компромисс с ее удалением из Москвы.
Как повела себя царица Евдокия в этих обстоятельствах? Сначала она по большей части была занята воспитанием наследника — царевича Алексея Петровича. Но когда царь заговорил с патриархом Адрианом и другими о возможной отправке ее в монастырь, царица Евдокия пошла наперекор воле Петра, а для всех его подданных, включая собственную семью, это было равносильно приговору. Возвращение Петра I из заграничного Великого посольства, расправы со стрельцами в 1698 году положили предел царскому браку, насильно разлучили царицу Евдокию с сыном. Она явно пожертвовала собой ради интересов царевича Алексея Петровича, согласившись на ссылку в Суздальский Покровский монастырь. Какое-то время она еще надеялась на новую встречу с Петром, пока не поняла, что тщетно ждать царского прощения; вся ее опора осталась в одной семье брата Авраама Лопухина, которому и выпало ее «поить и кормить».
С этого времени царица Евдокия исчезает из поля зрения современников. Пустили слух, что она умерла (а однажды она действительно была близка к смерти). Датский посланник Юст Юль, ездивший в марте 1711 года в Измайлово на поклон к царице Прасковье Федоровне и ее дочерям, передавал их рассказ о представлении им Петром I новой царицы Екатерины I: «Многие полагают, что царь давно бы обвенчался с нею, если бы против этого не восставало духовенство, пока первая его жена была еще жива, ибо (духовенство) полагало, что в монастырь она пошла не по доброй воле, а по принуждению царя; но так как она недавно скончалась, то препятствий к исполнению царем его намерения более не оказалось»{336}.
«Умершая» в представлениях царя Петра I и его окружения царица Евдокия тем временем переживала роковое знакомство в Суздале с майором Степаном Глебовым. Не надеясь больше на милость Петра, она все больше стала думать о сыне — царевиче Алексее Петровиче и с ним связывала надежды на изменение своего положения: сын ее «из пеленок вывалился», как она говорила в запальчивости. Впоследствии попытки царицы хоть как-то напомнить о себе сыну будут истолкованы царем Петром I превратно и превращены в обвинение по делу царевича Алексея Петровича. По словам Андрея Нартова, царь якобы ее первую упоминал в числе тех, кто толкнул царевича на «зло неслыханное»: «Когда б не монахиня…»{337}
Архивные материалы, подробно рассказывающие о личном участии царя Петра в Суздальском розыске, не оставляют сомнений в искусственном характере обвинений в адрес царицы Евдокии. Находясь в Суздале и не видя сына, не переписываясь с ним, мать, конечно, не влияла на сына в его решении оставить Россию. Царевич Алексей бежал от отца, склонявшего его, как некогда и его мать, к уходу в монастырь. И причины этого были в первую очередь династические. Царь Петр выбрал наследника по своему усмотрению, и им стал сын от царицы Екатерины I — царевич Петр Петрович. Противников нового брака царя Петра и Екатерины I было немало, но только не в царском окружении. Если кто-то по-прежнему считал царицей Евдокию Федоровну, то это были посадские люди или крестьяне, слышавшие ранее ее имя на церковных службах. Ее по-особому встречали во время поездок на богомолье по монастырям, но только фантазия следователей Преображенского приказа могла увидеть в невинных угощениях царицы непременными владимирскими вишнями признаки бунта. Знаки внимания царице Евдокии, как правило, не шли дальше высказывания почтения к прежней «государыне». Никто не знал ее как «монахиню», так как она проявила свое упрямство, которое ведал за ней и Петр. Может быть, царица Евдокия даже не принимала пострига, а только сделала вид, что подчинилась царскому требованию! Редкие тайные поездки к доверенным настоятелям монастырей, разговоры с духовником Федором Пустынным, ростовским епископом Досифеем — все это не может считаться какой-то организованной оппозицией. Сама царица Евдокия, как выяснилось на следствии по Суздальскому розыску, просто находилась в плену ложных, намеренно внушенных ей мечтаний о возможном возвращении в царский дворец. В этом невинном утешении царь Петр увидел измену и государственное преступление.
С 1718 года царица Евдокия оказалась подвергнута самому жестокому остракизму, который можно только представить. Датский посланник Вестфален заметил, что, к счастью первой жены, царь Петр не знал истории английских королей, иначе вряд ли оставил бы ее в живых: «…если бы царь знал историю короля Генриха VIII, я не поставил бы и пятидесяти дукатов за ее жизнь»{338}. Мстительный, собственноручно поправленный царем Петром Манифест последовательно уничтожал царицу Евдокию, попутно представляя ее расстригой и блудницей. Она не была убита физически, но моральное уничтожение было полным. Дальше ей пришлось жить с сознанием того, что все ее близкие люди были казнены петровскими палачами или отосланы на каторгу. Лишенная того немногого, что у нее было, без какой-либо поддержки родных и близких, царица Евдокия оказалась в полном подчинении у светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова, которому Петр I и поручил ее дальнейшую судьбу. Последние годы петровского царствования — самые трагичные для бывшей жены царя Петра. Она проводила дни в настоящем заточении, а ее тюремщикам в Петербурге по большому счету было все равно, что с нею происходит. И опять царица Евдокия не смирилась, а добивалась и добилась того, что со временем она стала управлять обстоятельствами, а не они ею. Даже караульное помещение для солдат строилось на средства самой бывшей царицы, ей же приходилось заставлять Синод возобновить богослужение в Ладожском Успенском монастыре, определенном для нее в качестве тюрьмы. Из Синода по ее настоянию был прислан новый духовник — монах Клеоник, который при всех поворотах ее судьбы остался с ней до конца. Кстати, эта черта — преданность царице Евдокии тех, кто оказывался рядом с ней, — тоже показательна сама по себе. Если она обещала, как это было однажды с просьбой игуменьи Покровского монастыря, то стремилась выполнить свое обещание любой ценой.
Перевод царицы Евдокии в Шлиссельбург после смерти Петра I, по воле вступившей на престол Екатерины I, конечно, нельзя истолковать иначе как ужесточение ее содержания. Жизнь «известной персоны» внутри стен и бастионов Шлиссельбургской крепости оказалась тяжелой. Содержание в крепости не могло не действовать давяще (как и само пожизненное заключение, на которое обрек ее бывший муж — царь Петр). Однако благодаря распоряжениям императрицы Екатерины I царица-узница хотя бы не должна была ни в чем нуждаться. Когда власть Екатерины I утвердилась, Евдокию даже перестали прятать от высоких гостей крепости. Правда, она по-прежнему не имела возможности ни с кем видеться или говорить, кроме начальника своей охраны, переведенного с нею из Ладоги на новую шлиссельбургскую службу.
Настоящее и долгожданное время царицы Евдокии пришло с вступлением на престол ее внука — двенадцатилетнего императора Петра II. Правда, от назойливой опеки Меншикова она избавилась не сразу. Интриге Меншикова, в соответствии со своими политическими расчетами переведшего ее из Шлиссельбурга в Москву, обычно не придают значения, считая, что царица сама обратилась к нему с просьбой об этом. Но только с падением Меншикова в сентябре 1727 года выяснилось, что тот намеренно удалил царицу Евдокию подальше от Петербурга. С этого времени первая жена царя Петра I перестала быть «святой монахиней» (так выспренно к царице Евдокии обращался Меншиков, когда оказался в ней заинтересован) и официально стала московской царицей и «государыней-бабушкой». Внуки — император Петр II и великая княжна Наталья Алексеевна — помнили о ней, и это было главное, что радовало царицу в конце жизни.
В годы недолгого правления императора Петра II (1727–1730) царицу Евдокию Федоровну неоднократно пытались притянуть то к одной, то к другой «партии». О ее возвращении «в силу» судачили повсюду; считалось, что стоит только обратиться к ней, и она походатайствует перед внуком. Как обиняками писали в своей переписке искатели милостей царицы Евдокии, надо «чаще ездить молиться в Девичь монастырь чудотворному образу Пресвятой Богородицы»{339}. Хотя понятно, что привлекали просителей не богомолье, а вполне мирские интересы и решение своих дел в палатах Евдокии Лопухиной. «Друзьям» нужна была не она, а ее статус одного из первых лиц в императорской семье. Немедленно у «вдовствующей царицы» появились и враги, боявшиеся усиления ее влияния на внука и опасавшиеся мести за смерть сына. Ведь многие вельможи в 1718 году подписали собственной рукой смертный приговор царевичу Алексею! Традиционно царицу Евдокию относили к врагам иностранцев в России. Сама же «государыня-бабушка», на 30 лет выброшенная из жизни, нисколько не была приспособлена к участию в придворных столкновениях. Максимум, что она могла сделать, — попросить за кого-то из своих родственников, что было вполне в привычках Московского царства XVII века, да и позже оставалось нормой жизни при дворе. Больше всего царица Евдокия была погружена в молитвы и ожидание встречи с внуками, которая наконец-то произошла, когда двор императора Петра II приехал для коронационных торжеств из Петербурга в Москву в феврале 1728 года.
Но дальше Петр II и его советники очень умело «отдалили» от себя «государыню-бабушку». Помогла чья-то интрига с подметным письмом и заступничеством в пользу Меншикова, к которому оказался причастен ее духовник Клеоник. Дело с «меншиковским письмом» кончилось плохо для царицы Евдокии; расследование, затронувшее ее собственный двор, спровоцировало удар и другие болезни. Дальнейшим ее уделом стало пребывание в палатах Новодевичьего монастыря. Хотя и повседневных забот с собственным двором «вдовствующей царицы» было немало. Надо отдать должное ее внуку императору Петру II — у царицы Евдокии было все: почет, богатство, полное внимание к ее нуждам со стороны Верховного тайного совета. «Государыня-бабушка» успела также порадоваться возвращению из сибирской ссылки и каторги родственников Лопухиных, выхлопотала им отобранные у них дома и имущество, пересылала большие суммы денег из своего содержания. Родственники и составили ее близкий круг, вместе с немногими монахинями Новодевичьего монастыря и еще непременной карлицей Агафьей. Жизнь царицы Евдокии в самом ее конце похожа на жизнь больших московских барынь, какими их рисует классическая русская литература.
…Когда-то Джейн Рондо сумела взглянуть глаза в глаза нашей героине и написала о своей встрече с царицей Евдокией: «Лицо ее выражает важность и спокойствие вместе с мягкостью при необыкновенной живости глаз. Это придает ей такой вид, что кажется, будто она по лицам читает в сердцах тех, кто к ней приближается»{340}. Совсем неожиданно, если помнить только портрет царицы Евдокии в монашеском одеянии с церковной книгой в руках из Новодевичьего монастыря. На том портрете глаза царицы Евдокии не видны, они опущены и смотрят в молитвенник. Но если бы ее взгляд обратился к собеседнику, то, наверное, и он смог бы увидеть то, что увидела и смогла передать в своем письме молодая английская дама…
А она не увидела в глазах царицы Евдокии приписываемую ей наивную простоту или ненависть к кому-то; напротив — живое отношение к жизни и выстраданную мудрость:
«А где любовь, тут и Бог…»
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ ЕВДОКИИ ФЕДОРОВНЫ ЛОПУХИНОЙ
1672, конец июля — начало августа — рождение в семье Федора Авраамовича и Устиньи Богдановны Лопухиных дочери Евдокии.
4 августа — крещение Евдокии Лопухиной.
1689, 27–30 января — свадьба царя Петра I и царицы Евдокии Федоровны.
Февраль — апрель — создание двора царицы Евдокии.
4 августа — празднование именин царицы Евдокии в Измайлове. Начало противостояния со сторонниками царевны Софьи Алексеевны.
7 августа — отъезд вместе с царицей Натальей Кирилловной за царем Петром I в Троице-Сергиев монастырь из Преображенского.
1690, 19 февраля — рождение царевича Алексея Петровича.
1691, май — смерть матери царицы Евдокии — Устиньи Богдановны Лопухиной.
3/4 октября — рождение царевича Александра Петровича.
1691, ноябрь — 1692, май — строительство дворца в Переславле-Залесском для пребывания царской семьи: царя Петра I, царицы Евдокии и их детей.
1691–1694 — строительство церкви Алексия, митрополита Московского, Михаила Архангела с приделом Петра и Павла в Спасо-Андрониковом монастыре. Основание родовой усыпальницы Лопухиных.
1692, 14 мая — смерть царевича Александра Петровича.
1693 — первая поездка царя Петра I в Архангельск.
1694 — второе путешествие Петра I в Архангельск.
25 января — смерть матери царя Петра I царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной.
1695–1696 — строительство флота в Воронеже и Азовские походы. Пребывание царицы Евдокии и царевича Алексея под покровительством боярина Тихона Никитича Стрешнева.
1697, март — отправка отца царицы Евдокии боярина Федора Авраамовича Лопухина на воеводство в Тотьму.
1697, 10 марта — 1698, 25 августа — путешествие царя Петра I в Европу в составе Великого посольства.
1698, апрель — распоряжение Петра I патриарху Адриану о постриге в монастырь царицы Евдокии.
Апрель — июнь — стрелецкое восстание, слухи об униженном положении царицы Евдокии во дворце и покушении бояр на жизнь царевича Алексея.
25 августа — возвращение царя Петра I.
28 августа — встреча царя Петра I и царицы Евдокии в Преображенском.
25 сентября — отправка царицы Евдокии в Суздальский Покровский монастырь, передача воспитания царевича Алексея царевне Наталье Алексеевне.
1699, июнь — посылка окольничего Семена Языкова для пострига царицы Евдокии в Суздальском Покровском монастыре.
Отказ царицы Евдокии от насильственного пострига в монахини.
1704, январь — тяжелая болезнь царицы Евдокии.
1706, конец года — приезд царевича Алексея в Суздальский Покровский монастырь.
1708–1709 — встреча в Суздале с майором Степаном Глебовым, назначенным к сбору рекрутов.
1712 — новый брак царя Петра I с царицей Екатериной Алексеевной.
1715, 12 октября — рождение внука — будущего императора Петра II.
1718, 3 февраля — Манифест об отказе царевича Алексея от прав на наследование престола.
10 февраля — начало Суздальского розыска о царице Евдокии в связи с делом царевича Алексея.
5 марта — Манифест о «винах» царицы Евдокии — старицы Елены.
19 апреля — заключение старицы Елены в Ладожский Успенский монастырь.
1725, 28 января — смерть императора Петра I. Начало правления императрицы Екатерины I.
26 марта — перевод старицы Елены в заключение в Шлиссельбургскую крепость.
1727, 6 мая — смерть императрицы Екатерины I.
7 мая — провозглашение Петра II императором.
31 июля — распоряжение Верховного тайного совета о
переводе старицы Елены в Новодевичий монастырь в
Москве.
2 сентября — возвращение в Москву
1728, 9 февраля — указ императора Петра II о создании двора царицы Евдокии.
25 февраля — участие «государыни-бабушки» царицы Евдокии Федоровны в коронации императора Петра II в Москве.
22 ноября — смерть внучки великой княжны Натальи Алексеевны.
1729, 30 ноября — участие в церемонии обручения императора Петра II с княжной Екатериной Алексеевной Долгорукой.
1730, ночь с 18 на 19 января — смерть императора Петра II.
28 апреля — участие в коронационных торжествах императрицы Анны Иоанновны.
1731, 27 августа — смерть и погребение в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря.
Издательство «Молодая гвардия» благодарит Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского за предоставленную возможность поместить на переплете книги хранящийся в музее портрет царицы Евдокии Федоровны Лопухиной
ИЛЛЮСТРАЦИИ
1
Щербатов М.М. О повреждении нравов в России. М., 1908. С. 32.
2
Ключевский В.О. Сочинения. В 9 т. Т. 4. Курс русской истории. Ч. 4. М., 1989. С. 237.
3
Российский государственный архив древних актов (далее — РГАДА). Ф. 173. Оп. 1. В настоящее время описи фонда доступны на портале РГАДА в Интернете по адресу: http: // rgada.info
4
Устрялов И.Г. История царствования Петра Великого. СПб., 1859. Т. 6.
5
Бушкович Пол. Историк и власть: дело царевича Алексея (1716–1718) и Н.Г. Устрялов (1845–1859) // Американская русистика: вехи историографии последних лет. Императорский период. Антология. Самара, 2000. С. 80–120.
6
Семевский М.И. Авдотья Федоровна Лопухина. 1669–1731 гг. Очерк из русской истории // Русский вестник. 1859. № 10. См. также: он же. Исторические портреты / Сост. А.И. Юхт. М., 1996. С. 303–362. См. также путевой очерк М.И. Семевского о посещении Покровского монастыря в Суздале: Семевский М.И. Покровский девичий монастырь в г. Суздале. Место заточения А.Ф. Лопухиной. I. Путевые заметки // Русский вестник. 1860. Т. 30. Декабрь. Кн. 1/2. С. 559–582.
7
Русская старина. 1892. № 4. С XII.
8
Письма русских государей и других особ царского семейства. Ч. 3. Переписка царевича Алексея Петровича и царицы Евдокии Федоровны. М., 1862.
9
Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн. Кн. VII. Т. 13–14. История России с древнейших времен. М., 1991. С. 554.
10
Есипов Г.В. Освобождение царицы Евдокии (1727) // Русский вестник. 1860. Т. 7. С. 182–190; он же. Царица Евдокия Феодоровна // Русские достопамятности / Изд. А. Мартынова. М., 1883. Т. 1. № 6. С. 1–38. Впервые опубликовано вместе с приложенным портретом царицы Евдокии: Русские достопамятности / Изд. А. Мартынова. М., 1863. Вып. 6.
11
См.: Последние годы жизни государыни царицы Евдокии Федоровны / Публ. Н. Дубровского // Чтения в обществе истории и древностей российских при Московском университете (далее — ЧОИДР). 1865. Ч. 3. Отд. V. С. 1–63.
12
И.С. [Иван Снегирев] Первая супруга Петра I Евдокия Феодоровна// Русский архив. 1863. Вып. 7. Стб. 541–549.
13
Царевич Алексей Петрович, по свидетельствам вновь открытым; рассуждение М.П. Погодина и самые документы по делу царевича, найденные Г.В. Есиповым // ЧОИДР. 1861. Кн. 3. Отд. II. С. VI–VII.
14
См. напр.: Брикнер Л.Г. История Петра. СПб., 1882. Т. 1. Ч. 2. С. 250–253; Ч. 3. С. 355, 361.
15
Костомаров Н.И. Царевич Алексей Петрович (По поводу картины Н.Н. Ге) // он же. Исторические монографии и исследования. М., 1989 (Историко-литературный архив). С. 126.
16
Богословский М.М. Петр Великий: материалы для биографии. В 6 т. Т. I: Детство. Юность. Азовские походы, 30 мая 1672–9 марта 1697 / Отв. ред. С.О. Шмидт; подг. текста А.В. Мельникова. М., 2005.
17
Толстой А.Н. День Петра // он же. Собрание сочинений. В 8т. М., 1972. Т. 2. С. 145.
18
Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1990; он же. Петр I. 8-е изд. М., 2010 (серия «ЖЗЛ», первое издание — 1975); он же. Меншиков: Полудержавный властелин. 2-е изд. М., 2005 (серия «ЖЗЛ», первое издание — 1999); он же. Соратники Петра (в соавторстве с О. Дроздовой, И. Колкиной). М., 2001 (серия «ЖЗЛ»); он же. Екатерина I. M., 2004 (серия «ЖЗЛ»); он же. Петр II. М., 2006 (серия «ЖЗЛ»); он же. Царевич Алексей. М., 2008 (серия «ЖЗЛ»).
19
Павленко И.И. Петр II. С. 23.
20
Павленко Н.И. Царевич Алексей. С. 12.
21
См. напр.: Анисимов Е.В. Податная реформа Петра I (Введение подушной подати в России. 1717–1728 гг.). Л., 1982; он же. Время петровских реформ. Л., 1989; Петр Великий: Воспоминания. Дневниковые записки. Анекдоты / Сост. Е.В. Анисимов. СПб., Париж; М.; Нью-Йорк, 1993; Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой четверти XVIII в. СПб., 1997; он же. Дыба и кнут: Политический сыск и русское общество в XVIII веке. М., 1999; он же. Юный град. Петербург времен Петра Великого. СПб., 2003; он же. Петр Великий. Личность и реформы. СПб., 2009; он же. Куда ж нам плыть? Россия после Петра Великого. М., 2010.
22
Анисимов Е.В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты. СПб., 2006. С. 189.
23
См.: Анисимов Е.В. Последняя любовь бывшей царицы //Дело [еженедельник]. 8 апреля 2002. — Электронный доступ http://www.idelo.ru/224/22.html; он же. Императорская Россия. СПб., 2008; он же. Царица Евдокия Федоровна: необыкновенная живость глаз // он же. Толпа героев XVIII века. М., 2013. С. 51–62.
24
См., напр., главку «Нелюбимая супруга» в книге: Наумов В.П. Повседневная жизнь Петра Великого и его сподвижников. М., 2010. С. 271–275.
25
Ефимов С.В. Евдокия Лопухина — последняя русская царица XVII века // Средневековая Русь. Сборник научных статей к 65-летию со дня рождения профессора Р.Г. Скрынникова. СПб., 1995. С. 163. См. также: он же. Московская трагедия (из истории политической борьбы в России при Петре I) // Россия — XXI. № 1–2. С. 160. Электронный доступ: http://www. russia-21. ru/XXI/RUS_21/ARXIV/1997/efimov_01_97.htm.
26
Куракин Б.И. Гистория о царе Петре Алексеевиче. 1682–1694. // Архив кн. Ф.А. Куракина. СПб., 1890. Кн. 1. С. 56. Заголовок дан издателем рукописи М.И. Семевским. См. также новейшую публикацию записок князя Б.И. Куракина с новым названием «Гистория о царевне Софье и Петре»: Богданов А.П. Царевна Софья и Петр. Драма Софии. М., 2008. С. 266–332.
27
Цит. по: Павленко Н.И. Историческое значение преобразований Петра // он же. Петр I. 8-е изд. М., 2010. Прил. С. 420.
28
Рыженков М. Первая трагедия в доме Романовых. Дело царевича Алексея Петровича// Родина. 2013. № 2. С. 37.
29
См.: Богданов А.П. Царевна Софья и Петр. Драма Софии; Лавров А.С. Регентство царевны Софьи Алексеевны: Служилое общество и борьба за власть в верхах Русского государства в 1682–1689 гг. М., 1999; Седов П.В. Закат Московского царства: Царский двор конца XVII века. СПб., 2006. См. также: Bushkovitch Paul. Peter the Great: The Struggle for Power 1671–1725. Cambridge, 2001. Книга с дополнениями вышла в свет в русском переводе: Бушкович Пол. Петр Великий. Борьба за власть (1671–1725). СПб., 2008; Hughes Lindsey. Sophia: Regent of Russia, 1657–1704. New Haven: Yale University Press, 1990; ХьюзЛиндси. Царевна Софья. СПб., 2001; она же. Петр Первый. У истоков Великой Империи. М., 2008.
30
Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. М., 1788. Ч. 1. С. 206.
31
Пушкин А.С. История Петра: Подготовительные тексты // он же. Полное собрание сочинений: В 10 т. Л., 1979. Т. 9. История Петра. Заметки о Камчатке. С. 28. Электронный доступ: http://feb-web.ru/feb/pushkin/texts/push 10/v09/d09005-.htm.
32
Древняя Российская вивлиофика… изданная Николаем Новиковым (далее — ДРВ). 2-е изд. М, 1789. Ч. 11. С. 182.
33
См.: Козляков В.Н. Михаил Федорович. М., 2004 (серия «ЖЗЛ»). С. 144–147; Павлов А.П. Из истории придворной борьбы в царствование Михаила Федоровича («дело Хлоповой») // Русские древности. Сб. научных трудов. К 75-летию профессора Игоря Яковлевича Фроянова. СПб., 2011. С. 342–351.
34
Веселовский С.Б. О генеалогических интерполяциях Хрущевской Степенной книги // Исследования по истории опричнины. М., 1963. С. 249.
35
Станиславский А.Л. Труды по истории Государева двора в России XVI–XVII веков. М., 2004. С. 250.
36
Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. М., 1975. С. 300.
37
Осадный список 1618 г. / Сост. Ю.В. Анхимюк, А.П. Павлов. М.; Варшава, 2009. С. 445.
38
Боярская книга 1627 г. / Под ред. В.И. Буганова; подг. текста и вступ. ст. М.П. Лукичева и Н.М. Рогожина. М., 1986. С. 106.
39
Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание Мещовского Георгиевского мужского общежительного монастыря. М., 1870. Книга переиздана с дополнениями в Мещовске в 2011 году. Электронный доступ: http://sgmmm.ortox.ru/ letopis_monastyrja/view/id/l 157842.
40
Павлов А.П. Ценный источник по истории русского дворянства XVII в. (материалы жилецкого разбора 1643 г.) // Российское государство в XIV–XVII вв. Сб. статей, поев. 75-летию со дня рождения Ю.Г. Алексеева. СПб., 2002. С. 374.
41
Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв…. С. 299–300.
42
Белокуров С.А. Дневальные записки Приказа тайных дел 7165–7183 гг. М., 1908. С. 297, 302
43
Ювеналий (Воейков). Краткое историческое родословие благородных и знаменитых дворян Лопухиных… М., 1796. С. 16.
44
Богоявленский С.К. Приказные судьи XVII в. // он же. Московский приказной аппарат и делопроизводство XVI–XVII веков. М., 2006. С. 258. Седов П.В. Закат Московского царства… С. 81, 124.
45
РГАДА. Ф. 135. Оп. 1. Д 327. Л. 16–17. В «Древней российской вивлиофике» опубликован только небольшой отрывок чиновника второй свадьбы царя Алексея Михайловича и царицы Натальи Кирилловны. Ср.: ДРВ. 2-е изд. М., 1790. Ч. 13. С. 233–234.
46
Дополнение к тому III Дворцовых разрядов… СПб., 1854. Ст. 465.
47
Там же. Ст. 465–466.
48
Мартынова М.В. Двойной трон царей Ивана и Петра Алексеевичей // Музеи Московского Кремля. Материалы и исследования. М., 2010. Вып. 20. С. 126–147.
49
Куракин Б.И. Гистория о царе Петре Алексеевиче… С. 55.
50
Трубецкая Е.Э. Сказание о роде князей Трубецких. М., 1891. С. 162–164,215.
51
Боярская книга 1639 года. М., 1999. С. 27–28.
52
См.: Козловский И.П. Ф.М. Ртищев: Историко-биографическое исследование. Киев, 1906; Седов П.В. Закат Московского царства… С. 62–63.
53
Куракин Б.И. Гистория о царе Петре Алексеевиче… С. 56.
54
Богословский М.М. Петр Великий… Т. 1. С. 96.
55
РГАДА. Ф. 135. Оп. 1. Д. 327, 399.
56
Крекшин И.Н. Краткое описание блаженных дел великого государя императора Петра Великого… // Записки русских людей: События времен Петра Великого. СПб., 1841. С. 80.
57
Истомин Карион. Книга любви знак… (факсимильное издание). М, 1989. С. 44–47,98–99. См. также: Богданов А.П. Стих торжества: Рождение русской оды, последняя четверть XVII — начало XVIII в. М., 2012.
58
Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел. М., 1828. Т. 4. № 196; Полное собрание законов Российской империи (далее — ПСЗ). Т. 3. С 1689 по 1699. СПб., 1830. № 1333. С. 10–11.
59
Истомин Карион. Книга любви знак… С. 105.
60
РГАДА. Ф. 135. Оп. 1. Д. 313. Л. 111; ДРВ. М., 1773. Ч. 2. Декабрь. С. 429.
61
Там же. С. 437.
62
Письма и бумаги императора Петра Великого. СПб., 1887. Т. 1(1688–1701). С. 1–10.
63
Погодин М.П. Семнадцать первых лет в жизни императора Петра Великого. 1672–1689. М., 1875. С. 144.
64
Там же. С. 145.
65
Богословский М.М. Петр Великий… Т. 1. С. 56.
66
Там же. С. 138.
67
Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. СПб., 1858. Т. 2. Прил. 1. С. 399.
68
См.: Погодин М.П. О поездках Петра в Переяславль // он же. Семнадцать первых лет… С. 224–226.
69
Забелин И.Е. Домашний быт русского народа в XVI–XVII ст. Т. 2: Домашний быт русских цариц в XVI и XVII ст. М., 2001. С. 392.
70
Запись датирована 15 февраля 1689 года и предшествует всем другим — о наборе ее двора и украшении гардероба: РГАДА. Ф. 396. Оп. 16. Д. 26393, 26405, 26415, 26417, 26426, 26461, 26489, 26506, 26535, 26548, 26581.
71
Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого… Т. 2. Прил. 2. С. 402. Письма русских государей… Т. 3. С. 67.
72
Пушкин А.С. История Петра: Подготовительные тексты… С. 13.
73
Беспятых Ю.Н. Петр Великий и море // Всероссийская научная конференция «Когда Россия молодая мужала с гением Петра», посвященная 300-летнему юбилею отечественного флота. Переславль-Залесский. 30 июня — 2 июля 1992 г. Тезисы докладов. Переславль-Залесский, 1992. С. 11–13; он же. Архангельск накануне и в годы Северной войны 1700–1721. СПб., 2010. С. 50–68.
74
Беспятых Ю.И. Архангельск накануне и в годы Северной войны 1700–1721… С. 67.
75
Крекшин 77. Н. Краткое описание блаженных дел великого государя императора Петра Великого… С. 89.
76
См.: Богословский М.М. Петр Великий… Т. 1. С. 124.
77
Там же. С. 62.
78
Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. СПб., 1884. Т. 1. Ст. 7–8.
79
См.: Буганов В.И. Московские восстания конца XVII века. М., 1969. С. 117.
80
См.: Восстание в Москве 1682 г. М., 1976. С. 90, 103, 174–176,215–216.
81
Куракин Б.И. Гистория о царе Петре Алексеевиче… С. 56.
82
Богданов А.Н. Стих торжества… С. 448. См. также: Топычканов А.В. Повседневная жизнь дворцового села Измайлова в документах приказной избы последней четверти XVII века. М., 2004. С. 31.
83
См. напр.: Бушкович Пол. Петр Великий… С. 162–172.
84
Цит. по: Богословский М.М. Петр Великий… Т. 1. С. 70.
85
Розыскные дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках… Т. 1. Ст. 271–274, 383–384.
86
Там же. Ст. 137–138.
87
См.: Богословский М.М. Петр Великий… Т. 1. С. 80–81.
88
См., напр.: Куракин Б.И. Гистория о царе Петре Алексеевиче… С. 63; Бушковин Пол. Петр Великий… С. 173–175.
89
ДРВ.Ч. 11. С. 183–185.
90
Духовная патриарха Иоакима 17 марта 1690 // Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого… Т. 2. Прил. 9. С. 475.
91
Богословский М.М. Петр Великий… Т. 1. С. 85.
92
Дворцовые разряды (далее — ДР). СПб., 1855. Т. 4. С. 531–533.
93
См.: Passages from the Diary of General Patrick Gordon of Auchleuchries, Aberdeen, Scotland 1859. P. 168–169. См. также: Брикнер А.Г. Патрик Гордон и его дневник СПб., 1878. С. 80. Существует также современное академическое издание памятника в переводе Д.Г. Федосова (Гордон П. Дневник 1635–1659. М, 2000; он же. Дневник 1659–1667. М, 2002; он же. Дневник 1677–1678. М., 2005; он же. Дневник 1684–1689. М., 2009). Том с записями за 1690-е годы (он же. Дневник 1690–1695. М, 2014) вышел в свет уже после сдачи настоящей рукописи в печать.
94
Куракин Б.И. Гистория о царе Петре Алексеевиче… С. 74.
95
Богословский М.М. Петр Великий… Т. 1. С. 80.
96
Куракин Б.И. Гистория о царе Петре Алексеевиче… С. 56.
97
Там же. С. 56, 69.
98
Топычканов А.В. Повседневная жизнь дворцового села Измайлова… С. 33.
99
Снегирев И.М. Дворцовое царское село Измайлово, родовая вотчина Романовых. М., 1866. С. 17.
100
ДРВ. Ч. 11. С. 188. Как установила Е.М. Саенкова, в основу публикации Н.И. Новикова положена «Книга записи ежедневных служб, совершавшихся в Успенском соборе и об особых службах и крестных ходах 1666–1743 годах», хранящаяся в Государственном историческом музее. См.: Саенкова Е.М. Чиновники (типиконы) Успенского собора Московского Кремля как источник по истории русского искусства Позднего Средневековья: Автореф. дис…. канд. искусствоведения. М, 2004; она же: «Крест царя Константина» в Кремлевских богослужениях второй половины XVII — начала XVIII века // Царский храм. Благовещенский собор Московского Кремля в истории русской культуры / Отв. ред. А.К. Левыкин. М., 2008. С. 395–398 (Материалы и исслед. / Федеральное гос. учреждение культуры «Гос. ист.-культур, музей-заповедник “Моск. Кремль”»; 19).
101
Куракин Б.И. Гистория о царе Петре Алексеевиче… С. 68.
102
См.: Богословский М.М. Петр Великий… Т. 1. С. 111.
103
Иваненко Б. В., Смирнов М.И. Историческая усадьба «Ботик» близ Переславля-Залесского // Труды ПереславльЗалесского историко-художественного и краеведного музея. Переславль-Залесский, 1928. Т. 9. С. 20.
104
ДР.Т. 4. Ст. 687–688.
105
См. также: Богословский М.М. Петр Великий… Т. 1. С. 130.
106
Беспятых Ю.Н. Архангельск накануне и в годы Северной войны 1700–1721… С. 143.
107
Крекшин П.Н. Краткое описание блаженных дел великого государя императора Петра Великого… С. 99.
108
Баталов А. Л., Беляев Л. А., Турилов А.А. Андроников в честь Нерукотворного Образа Спасителя мужской монастырь// Православная энциклопедия. Т. 2. М., 2000. С. 424–427. Электронный доступ: http://www.pravenc.ru/text/115428.html
109
ДР. Т. 4. Ст. 711–712.
110
См. подробный рассказ о пребывании Петра I в Переславле-Залесском в конце июля — августе 1692 года: Богословский М.М. Петр Великий… Т. 1. С. 132–133.
111
Там же. С. 134–136.
112
Там же. С. 139.
113
См. подробнее: Беспятых Ю.Н. Архангельск накануне и в годы Северной войны 1700–1721… С. 102–142.
114
Забелин И.Е. Домашний быт русского народа в XVI–XVII ст. Т. 2. С. 392.
115
См.: Письма и бумаги императора Петра Великого… Т. 1.№ 14. С. 15.
116
Куракин Б.И. Гистория о царе Петре Алексеевиче… С. 69.
117
Куракин Б.И. Гистория о царе Петре Алексеевиче… С. 69.
118
«Тетради» старца Авраамия / Публ. Н.А. Баклановой // Исторический архив. М.; Л., 1951. Т. 6. С. 147–148.
119
Записная книга Московского стола Разрядного приказа 7202 / 1693–1694 гг. // Новохатко О.В. Записные книги Московского стола Разрядного приказа XVII века. М., 2001. С. 345–348.
120
Там же. С. 361–370.
121
См.: Богословский М.М. Петр Великий… Т. 1. С. 156–159.
122
Куракин Б.И. Гистория о царе Петре Алексеевиче… С. 74.
123
Крекшин П.Н. Краткое описание блаженных дел великого государя императора Петра Великого… С. 99.
124
См.: Желябужский И.Л. Дневные записки // Рождение империи. М., 1997. С. 275; Богословский М.М. Петр Великий… Т. 1. С. 185–199; Ефимов С.В. Евдокия Лопухина — последняя русская царица XVII века… С. 140.
125
Дело о поданных царю тетрадях строителем Андреевского монастыря Авраамием. Допросы Авраамия, Посошкова и др. // Кафенгауз Б.Б. И.Т. Посошков. Жизнь и деятельность. М.; Л., 1950. Прил. IV С. 175.
126
Куракин Б.И. Гистория о царе Петре Алексеевиче… С. 74.
127
Браиловский С.Н. Один из пестрых XVI 1-го столетия: [Карион Истомин]: Историко-литературное исследование. В 2 ч. с прил. (Доложено в заседании Историко-филологического отделения 18 октября 1895 г.). СПб., 1902. С. 154–155 (Записки Императорской Академии наук по историко-филологическому отделению. Т. 5. № 5).
128
ДР. Т. 4. Ст. 1046. См. также: Бушкович Пол. Петр Великий… С. 201.
129
Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом // он же. Избранные труды. Записки / Изд. подг. А.А. Левандовский, Н.И. Цимбаев. М., 1983. С. 166–167.
130
Леонид (Кавелин), архим. Родословие высочайшей фамилии императрицы Елисаветы Петровны, сочинение, приписываемое Петру Крекшину и написанное не ранее 1745 года. СПб., 1883 (Общество любителей древней письменности. Памятники. Т. 47). С. 29.
131
Дело о поданных царю тетрадях строителем Андреевского монастыря Авраамием. Допросы Авраамия, Посошковаидр…. С. 176.
132
Грунд Г. Доклад о России в 1705–1710 годах / Пер., статья и коммент. Ю.Н. Беспятых. М.; СПб., 1992. С. 66, 133. См. также комментарий Ю.Н. Беспятых — первого переводчика и исследователя доклада Г. Грунда: Беспятых Ю.Н. Иностранные источники по истории России первой четверти XVIII в. (Ч. Уитворт, Г. Грунд, Л.Ю. Эренмальм). СПб., 1998. С. 173–175. Уникальность этих сведений отметил и биограф царицы Евдокии С.В. Ефимов: по его мнению, они «наиболее реально отражают сугубо личностные конфликты в царской семье». См.: Ефимов С.В. Евдокия Лопухина — последняя русская царица XVII века… С. 141–142.
133
Письма русских государей…Т. 3. С. 81.
134
Богословский М.М. Петр Великий. Материалы для биографии. М., 1946. Т. 3. С. 11. Об этой же семейной ненависти Лопухиных к иноземцам пишет Н.Г. Устрялов. Ср.: Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого. СПб., 1858. Т. 3. С. 190–191.
135
Цит. по: Бушкович Пол. Петр Великий… С. 180. Н.Г.
136
Бушкович Пол. Петр Великий… С. 179.
137
Щербатов М.М. Рассмотрение о пороках и самовластии Петра Великого // Петр I в русской литературе XVIII века. Тексты и комментарии / Отв. ред. С.И. Николаев. СПб., 2006. Электронный доступ: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=6014. См. также: Сочинения князя М.М. Щербатова / Под ред. И.П. Хрущева и А.Г. Воронова. СПб., 1898. Т. 2. С. 23–50; Вальденберг В.Э. Щербатов о Петре I // Петр Великий: Сб. статей. СПб., 1903. С. 91–106.
138
Письма и бумаги императора Петра Великого… Т. 1. № 139. С. 134–135.
139
См.: Ковригина В.А. Немецкая слобода Москвы и ее жители в конце XVII — первой четверти XVIII в. М., 1998.
140
Нартов А.К. Достопамятные повествования и речи Петра Великого // Петр Великий: Воспоминания. Дневниковые записки. Анекдоты… С. 264.
141
Семевский М.И. Царица Катерина Алексеевна, Анна и Виллим Монс. 1692–1724. 2-е изд. СПб., 1884. С. 20. См. также: Семевский М.И. Семейство Монсов. 1688–1724. Очерк из русской истории. СПб., 1862.
142
Корб Иоанн Георг. Дневник путешествия в Московию (1698 и 1699 гг.) / Пер. и прим. А.И. Малеина. СПб., 1906. С. 117.
143
Бушкович Пол. Петр Великий… С. 182.
144
Куракин Б.И. Гистория о царе Петре Алексеевиче… С. 66.
145
Письма и бумаги императора Петра Великого… Т. 1. Прим. С. 605–606. Богословский М.М. Петр Великий… Т. 1. С. 341.
146
Семевский М.И. Наталья Федоровна Лопухина. 1699–1763 гг. Эпизод из ее жизни // Русский вестник. 1860. Т. 29 (сентябрь). Кн. 1. С. 5–52; Семевский М.И. Наталья Федоровна Лопухина. 1699–1763 гг. Исторический очерк // Русская старина. 1874. Т. 11. С. 1–42, 191–235.
147
Корб Иоанн Георг. Дневник путешествия в Московию (1698 и 1699 гг.)… С. 117.
148
См.: Семевский М.И. Наталья Федоровна Лопухина. 1699–1763 гг. Эпизод из ее жизни… Приложение. С. 50–52; он же. Царица Катерина Алексеевна, Анна и Виллим Монс… С. 23–27.
149
См.: Георг Иоганн фон Кейзерлинг, представитель короля прусского при дворе Петра Великого. 1707 // Русская старина. 1872. Т. 5. С. 803–844; Семевский М.И. Царица Катерина Алексеевна, Анна и Виллим Монс… С. 32–52.
150
Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого… Т. 3. С. 188–189; Письма и бумаги императора Петра Великого… Т. 1. Прим. С. 700; Богословский М.М. Петр Великий… Т. 3. С. 12.
151
В XIX веке эти документы разыскал и опубликовал на языке оригинала Николай Герасимович Устрялов в одном из томов своей «Истории Петра Великого». Донесения Гвариента и послания других дипломатов приведены также в книге Пола Бушковича.
152
Цит. по: Бушкович Пол. Петр Великий… С. 203.
153
См.: Там же. С. 204–205.
154
Семевский М.И. Исторические портреты… С. 311.
155
Письма Франца и Петра Лефортов о «Великом посольстве»… С. 123–124.
156
См.: Восстание московских стрельцов. 1698 год (Материалы следственного дела). Сб. документов / Сост. А.Н. Казакевич; под ред. и с предисл. В.И. Буганова. М., 1980. С. 13–14, 82–83.
157
Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого… Т. 3. Прил. С. 618.
158
Цит. по: Богословский М.М. Петр Великий… Т. 3. С. 6.
159
Корб Иоанн Георг. Дневник путешествия в Московию (1698 и 1699 гг.)… С. 78–79.
160
Там же. С. 80.
161
РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 21. № 33445, 33446.
162
Козловский И.П. Первые почты и первые почтмейстеры в Московском государстве. Опыт исследования некоторых вопросов из истории русской культуры во второй половине XVII века. Варшава, 1913. Т. 1. С. 192, 203; Бушкович Пол. Петр Великий… С. 183–184, 187.
163
Богословский М.М. Петр Великий… Т. 3. С. 11–13.
164
Там же. С. 13–15.
165
РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 21. № 33513.
166
Корб Иоанн Георг. Дневник путешествия в Московию… С. 89.
167
Восстание московских стрельцов. 1698 год… С. 19.
168
Корб Иоанн Георг. Дневник путешествия в Московию… С. 89.
169
Passages from the Diary… P. 192.
170
Богословский М.М. Петр Великий… Т. 3. С. 59–60; Голикова Н.Б. Политические процессы при Петре I. По материалам Преображенского приказа. М., 1957. С. 50–51.
171
Степановский И.К. Вологодская старина. Вологда, 1890. С. 38, 394; Синодик Дедовской пустыни Тотемского уезда 1603 г. СПб., 1877 (Общество любителей древней письменности. Издания. № 13). Электронный доступ: http:// parishes. mrezha.ru/library.php?id=227.
172
Богословский М.М. Петр Великий… Т. 3. С. 59.
173
Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого… Т. 1. Прил. XII. С. 394. В 197 (1689) году Ф.А. Лопухин получил село Ясенево в Московском уезде (ныне в черте Москвы) и село Дунилово Суздальского уезда (в публикации Н.Г. Устрялова опечатка — Дуполово).
174
См.: Есипов Г.В. Царица Евдокия Феодоровна… С. 7
175
Федоров А. Историческое собрание о богоспасаемом граде Суздале, о построении и именовании его, и о бывшем прежде в нем великом княжении, и о прочем к тому потребном… // Временник Московского общества истории и древностей российских. М., 1855. Кн. 22. С. 55. См. также новейшее издание этой книги: Историческое собрание о богоспасаемом граде Суждале Анании Федорова. Владимир, 2012.
176
Георгиевский В.Т. К портрету царицы Евдокии Лопухиной // Труды Владимирской губернской ученой архивной комиссии. Владимир, 1900. Т. 2. С. 59.
177
Грамота была доставлена в Суздаль 26 июня 1699 года. РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 106. Л. 1об. Опубликована: Семевский М.И. Исторические портреты… С. 314.
178
См.: Ефимов С.В. Евдокия Лопухина — последняя русская царица XVII века… С. 142–143.
179
РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 21. № 33929.
180
Письмо, впервые опубликованное Н.Г. Устряловым, точно передает особенности подлинника. См.: РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 107. Л. 1; Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого… Т. 3. С. 190; он же. История царствования Петра Великого… СПб., 1863. Т. 4. Ч. 2. Прил. № 227. С. 296.
181
РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 107. Л. 5.
182
Пекарский П.Н. Исторические бумаги, собранные Константином Ивановичем Арсеньевым // Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. СПб., 1872. Т. 9. С. 81.
183
Игум. Дамиан (Залетов), Колыванов Г.Е. Досифей // Православная энциклопедия. Т. 16. С. 61. Электронный доступ: http://www.pravenc.ru/text/Досифей%20(Глебов).html.
184
Письма царевича Алексея Петровича к его родителю государю Петру Великому / Публ. И. Мурзакевича. Одесса, 1849. С. 7–61.
185
ПСЗ.Т. 4. 1700–1712. СПб., 1830. № 2214. С. 432–433; Тихонов В.А. Рекрутская система комплектования русской армии в 1705–1710 гг. // Вестник Московского государственного областного университета: электронный журнал [сайт]. 2012. № 1. Электронный доступ: http://evestnik-mgou. ru/Articles/View/231.
186
Браиловский С.Н. Один из «пестрых» XVII-ro столетия… С 78
187
Цит. по: Соловьеве. М. Сочинения. В 18 кн. Кн. IX. Т. 1718: История России с древнейших времен. М., 1993. Т. 17. С. 171.
188
Там же.
189
Описание документов и дел, хранящихся в архиве святейшего правительствующего синода… Т. 1. Ст. 82.
190
Там же. С. 7.
191
Описание документов и дел, хранящихся в архиве святейшего правительствующего синода… Ст. 276.
192
Описание документов и дел, хранящихся в архиве святейшего правительствующего синода… Ст. 83, 86–87.
193
Цит. по: Соловьев С.М. Сочинения… Т. 17. С. 137.
194
РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 107. Л. 17.
195
Цит. по: Соловьев С.М. Сочинения… Т. 17. С. 143–144. См. новейший разбор этого так называемого «пророчества» царицы Евдокии: Беспятых Ю.Н. Наводнения в Петербурге Петра I. СПб., 2013. С. 274–275.
196
Описание документов и дел, хранящихся в архиве святейшего правительствующего синода… Т. 1. Ст. 82.
197
Там же.
198
РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 107. Л. 8.
199
См.: Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого… Т. 6. С. 143–152.
200
О деле царевича Алексея см. подробнее: Бушкович Пол. Петр Великий… С. 345–432.
201
Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого… Т. 6. С. 152–153.
202
О донесениях Плейера см. также: Бушкович Пол. Петр Великий… С. 372–374.
203
Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого… Т. 6. С. 166–169. Полный текст ответов царевича Алексея 8 февраля 1718 года см.: Там же. Прил. № 147. С. 446–458.
204
РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 110. Л. 1–2. Опубликовано: Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого… Т. 6. Прил. № 149. С. 458–459.
205
РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 107. Л. 8; Устрялов И.Г. История царствования Петра Великого… Т. 6. С. 204.
206
РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 110. Л. 5–6; Устрялов И.Г. История царствования Петра Великого… Т. 6. Прил. № 149. С. 460.
207
РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 111. Л. 110 об.; Устрялов И.Г. История царствования Петра Великого… Т. 6. С. 207.
208
РГАДА. Ф. 6. Оп. 1.Д. 112. Л. 50.
209
Там же. Л. 67.
210
Там же. Л. 20–20 об., 16.
211
Там же. Л. 13–14 об.
212
См.: Семевский М.И. Исторические портреты… Прил. С. 434–437.
213
РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 113. Л. 29.
214
Ср.: РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 113. Л. 30 об.; Манифест… С. 8.
215
Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого… Т. 6. С. 213.
216
РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 113. Л. 44.
217
Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого… Т. 6. С. 178,218.
218
РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 112. Л. 145.
219
См.: Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого… Т. 6. С. 218–222.
220
Там же. С. 224–225.
221
Вильбуа Франц. Рассказы о российском дворе / Пер. Г.В. Зверевой // Вопросы истории. 1991. № 12. С. 204.
222
См.: Соловьев С.М. Сочинения… Т. 17. С. 172–173.
223
Соловьев С.М. Сочинения… Т. 17. С. 175.
224
Цит. по: Селин А.А. Ладога при московских царях. СПб., 2008. С. 102–103.
225
Есипов Г.В. Царица Евдокия Феодоровна… С. 27.
226
Там же. С. 29–30. В архиве дело об отправке старицы Елены в Успенский Ладожский монастырь хранится в одном фонде с делами по Суздальскому розыску 1718 года. См.: РГАДА. Ф. 6. Оп. 1.Д. 126.
227
Письма русских государей… Т. 3. С. 138.
228
Там же. С. 125.
229
Там же. С. 128.
230
Там же. С. 133.
231
Там же. С. 148.
232
Берхгольц Ф. -В. Дневник камер-юнкера Фридриха-Вильгельма Берхгольца. 1721–1725. Ч. 3–5 // Юность державы. М., 2000. С. 304–305.
233
Анисимов Е.В. Россия без Петра. СПб., 1994. С. 132–133.
234
Цит. по: Есипов Г.В. Освобождение царицы Евдокии Федоровны… С. 187.
235
Протоколы, журналы и указы Верховного тайного совета. 1726–1730. Т. 4. (Июль-декабрь 1727 г.) // Сборник Императорского Русского исторического общества (далее — Сборник РИО). СПб., 1889. Т. 69. С. 120–121.
236
Цит. по: Есипов Г.В. Освобождение царицы Евдокии Федоровны… С. 187–188.
237
Анисимов Е.В. Россия без Петра. С. 143–144.
238
Сборник РИО.Т. 69. С. 173–174.
239
Есипов Г.В. Царица Евдокия Феодоровна… С. 34–35.
240
Сборник РИО.Т. 69. С. 270.
241
Там же. С. 271.
242
Там же. С. 273–274.
243
Крушение полудержавного властелина (Документы следственного дела А.Д. Меншикова) / Публ. Р.В. Овчинникова // Вопросы истории. 1970. № 9. С. 95.
244
Переписка царицы Евдокии с внуком была впервые опубликована в 1862 году. Здесь и далее письма публикуются по новейшей публикации Ю.М. Эскина, подготовленной по автографам из РГАДА. См. приложения к книге: Павленко Н.И. Петр II. М., 2006. Приложение 1. Переписка Петра II с бабушкой, бывшей царицей Евдокией Федоровной (монахиней Еленой). 1727–1728 годы. С. 185–188. Ср. также: Письма русских государей… Т. 3. С. 69–70.
245
Павленко И.И. Петр II… Прил. 1. С. 186. В издании «Письма русских государей» приведено факсимиле этой записки. См.: Письма русских государей… Т. 3. С. 183.
246
О ссоре П.П. Шафирова с Г.Г. Скорняковым-Писаревым см. подробнее: Серов Д.О. «И сочиняет у себя бабьи игрища…» Из жизни Григория Скорнякова-Писарева, бомбардира и обер-прокурора // Родина. 2000. № 5. С. 101–105.
247
Письма о России в царствование Петра Н-го, в Испанию Дука де Лирия, бывшего первым Испанским посланником при нашем дворе. Перевод с испанского, священника К.Л. Кустодиева // Семнадцатый век. Исторический сборник, издаваемый Петром Бартеневым. М., 1869. Кн. 2. С. 33.
248
Павленко И.И. Петр II… Прил. 1. С. 185–186. В квадратных скобках приведен черновой вариант. Ср. также: Письма русских государей. Т. 3. № 8. С. 71–72.
249
Письма русских государей. Т. 3. С. 71.
250
Там же. С. 72–74.
251
Там же. С. 75.
252
Там же. С. 84.
253
Там же. С. 96.
254
Там же. С. 88.
255
Сборник РИО.Т. 69. С. 331, 336–337. Ср.: «Ведомость» отписных имений: Устрялов Н.Г. История царствования Петра Великого… Т. 6. Прил. № 197. С. 577.
256
Сборник РИО.Т. 69. С. 721, 725.
257
Сборник РИО.Т. 69. С. 714.
258
Письма русских государей… Т. 3. С. 100–101.
259
Анна Петровна герцогиня фон Голштейн-Готторп. Письмо сестре цесаревне Елизавете Петровне, [1727 г. декабрь] Киль // Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 2011. Т. 20. С. 52. Электронная публикация: ФЭБ — «Фундаментальная электронная библиотека». Адрес ресурса: http://febweb.ru/feb/rosarc/rak/rak-0522. htm.
260
Хранится в РГАДА, в фонде «Переписка лиц императорской фамилии и других высочайших особ» (РГАДА. Ф. 4. Оп. 1. Д. 7), представлено в электронной фотокопии на портале Российской архивной службы в Интернете: http://romanovy.rusarchives.ru/petr-2/pismo-tsaritsy-evdokii-fedorovnytsarevne-elizavete-petrovne. html.
261
Письма русских государей… Т. 3. С. 110–111.
262
Арсеньев К.И. Царствование Петра II. СПб., 1839. С. 91.
263
Протоколы, журналы и указы Верховного тайного совета. 1728. Т. 5. (Январь — июнь 1728 г.). // Сборник РИО. СПб., 1891. Т. 79. С. 114–115.
264
Дипломатические документы, относящиеся к истории России в XVIII веке. Сообщено из дел Прусского государственного архива в Берлине профессором Марбургского университета Эрнестом Германом. [Донесения прусского королевского посланника при русском дворе барона Густава фон-Мардефельда и ответы ему короля Фридриха Вильгельма (1721–1730)]//Сборник РИО. СПб., 1875. Т. 15. С. 395–396.
265
Там же. С. 393–394.
266
Дипломатические документы, относящиеся к истории России XVIII столетия. Сообщено из дел Саксонского государственного архива в Дрездене профессором Марбургского университета Э. Германом // Сборник РИО. СПб., 1870. Т. 5. С. 299. О донесениях легационного советника саксонского курфюрста Фридриха Августа I и польского короля Иоганна Лефорта см.: Дипломатические документы, относящиеся к истории России в XVIII столетии. Сообщено из дел Саксонского государственного архива в Дрездене профессором Марбургского университета Э. Германом // Сборник РИО. СПб., 1868. Т. 3. С. 317–320.
267
Сборник РИО.Т. 15. С. 394.
268
Там же. С. 395.
269
Донесения французского поверенного по делам при русском дворе за 1727–1730 гг. // Сборник РИО. СПб., 1891. Т. 75. С. 159.
270
См.: Сборник РИО.Т. 3. С. 522.
271
Сборник РИО.Т. 79. С. 127.
272
Письма и бумаги императора Петра Великого… Т. 1. Прим. С. 611.
273
Сборник РИО.Т. 79. С. 162.
274
Там же. С. 128–129.
275
Письма о России в царствование Петра Н-го, в Испанию Дука де Лирия… С. 51. См. также: Записки Дюка Лирийского // Русский архив. 1909. № 3. С. 351–352.
276
Письма о России в царствование Петра II-го, в Испанию Дука де Лирия… С. 45, 51.
277
Павленко И.И. Петр II… Приложение. С. 178.
278
Сборник РИО. Т. 5. С. 304.
279
Указы блаженныя и вечнодостойныя памяти… великой государыни императрицы Екатерины Алексиевны и государя императора Петра Втораго: Состоявшиеся с 1725 генваря с 28 числа по 1730 год. СПб., 1743. С. 338.
280
Письма о России в царствование Петра II-го, в Испанию Дука де Лирия… С. 64.
281
Сборник РИО. Т. 5. С. 305–306.
282
Сборник РИО. Т. 79. С. 482.
283
Орлова И.Л. «Личность приметная и влиятельная». Варвара Михайловна Арсеньева и Успенский девичий монастырь в Александровой слободе // Рождественский сборник. Вып. 17: Материалы конференции «Российская провинция: история, традиции, современность» [14–15 января 2010 г.]. Ковров, 2010. С. 96–100.
284
См.: Протоколы, журналы и указы Верховного тайного совета. 1728. Т. 6. (Июль — декабрь 1728 г.) // Сборник РИО. СПб., 1893. Т. 84. С. 1; Протоколы, журналы и указы Верховного тайного совета. 1729 и 1730. Т. 8. (Июль — декабрь 1729 г. и январь-март 1730 г.) // Сборник РИО. СПб., 1898. Т. 101. С. 87.
285
Письма о России в царствование Петра Н-го, в Испанию Дука де Лирия… С. 64. См. также: Записки Дюка Лирийского… С. 354.
286
Сборник РИО. Т. 5. С. 306.
287
Письма о России в царствование Петра II-го, в Испанию Дука де Лирия… С. 71–72. См. также: Павленко Н.И. Петр II… С. 111.
288
Протоколы, журналы и указы Верховного тайного совета. 1729. Т. 7. (Январь-июнь 1729 г.) // Сборник РИО. Т. 94. С. 41–42.
289
Сборник РИО. Т. 94. С. 438–439.
290
В документе написано Журкина, такое двойное написание Жиркина/Журкина встречалось и в документах розыска 1718 года.
291
См.: Сборник РИО. Т. 84. С. 2.
292
Историческое описание Московского Спасо-Андроникова монастыря. М., 1865. С. 51.
293
См.: Вяземский Б.Л. Верховный тайный совет. СПб., 1909; Курукин И.В. Эпоха «дворских бурь»: Очерки политической истории послепетровской России. 1725–1762 гг. Рязань, 2003. С. 143–144.
294
Письма о России в царствование Петра II-го, в Испанию Дука де Лирия… С. 72. Хронологию болезни великой княжны Натальи Алексеевны см.: Павленко Н.И. Петр II. С. 104–105.
295
Сборник РИО. Т. 75. С. 196.
296
Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн. Кн. X. Т. 19–20. История России с древнейших времен. М., 1993. Т. 19. С. 194.
297
Сборник РИО. Т. 5. С. 330.
298
См. подробнее: Павленко Н.И. Петр II. С. 149–154.
299
Сочинение М.М. Щербатова «О повреждении нравов в России» (Подлинный авторский текст) // О повреждении нравов в России князя М. Щербатова и Путешествие А. Радищева. Факсимильное издание. М., 1983. Приложения. С. 89.
300
Костомаров Н.И. Самодержавный отрок; он же: Исторические монографии и исследования. М., 1989. С. 167–222.
301
Сборник РИО. Т. 5. С. 326.
302
Донесения и другие бумаги английских послов, посланников и резидентов при русском дворе с 1728 года по 1733 год // Сборник РИО. СПб., 1889. Т. 66. С. 71.
303
Сочинение М.М. Щербатова «О повреждении нравов в России»… С. 88.
304
Записки дюка Лирийского и Бервикского во время пребывания его при императорском российском дворе в звании посла короля испанского. 1727–1730 годов / Пер. с фр. Д. Языкова. СПб., 1845. С. 67, 148–154; Записки Дюка Лирийского… С. 373–374.
305
Записки дюка Лирийского… С. 154. См. также описание торжества обручения, составленное Джейн Рондо — женой английского посланника Клавдия Рондо: Рондо. Письма дамы, прожившей несколько лет в России, к ее приятельнице в Англию / Пер. Н.Г. Беспятых // Безвременье и временщики. Воспоминания об «эпохе дворцовых переворотов» (1720–1760-е годы). Л., 1991. С. 196–197; Арсеньев К.И. Царствование Петра II… С. 128–130.
306
Письма о России в царствование Петра Н-го, в Испанию Дука де Лирия… С. 204.
307
См. подробнее: Павленко Н.И. Петр II. С. 131–140.
308
Дипломатические депеши датского посланника при русском дворе Вестфалена о воцарении императрицы Анны Иоанновны / Предисл. Д.А. Корсакова // Русская старина. 1909. Январь. С. 205–206.
309
См. подробнее: Курукин И.В. Эпоха «дворских бурь»… С. 164–224.
310
Письма о России в царствование Петра Н-го, в Испанию Дука де Лирия… С. 213.
311
Записки дюка Лирийского… С. 378.
312
Феофан (Прокопович). История о избрании и восшествии на престол блаженные и вечнодостойные памяти государыни императрицы Анны Иоанновны самодержицы всероссийские. 1730 год. СПб., 1837. С. 6.
313
См.: Курукин И. В., Плотников Л.Б. 19 января — 25 февраля 1730 года: события, люди, документы. М., 2010. С. 181, 185.
314
Сборник РИО. Т. 5. С. 345.
315
См.: Семевский М.И. Царица Прасковья. 1664–1723. Очерк из русской истории XVIII века. М., 1989. С. 199; ср. С. 183–215.
316
Описание коронации ея величества императрицы, и самодержицы всероссийской, Анны Иоанновны, торжественно отправленной в царствующем граде Москве, 28 апреля 1730 году. Печатано в Москве: При Сенате, 31 окт. 1730. С. 25.
317
Рондо. Письма дамы, прожившей несколько лет в России, к ее приятельнице в Англию… С. 204–205.
318
Последние годы жизни государыни царицы Евдокии Федоровны… С. 53–57.
319
Там же. С. 49–50.
320
Бушкович Пол. Петр Великий… С. 407.
321
Курукин И.В. Эпоха «дворских бурь»… С. 187.
322
Дипломатическая переписка французских послов и посланников при русском дворе, часть 8-я (годы с 1730 по 1733). Донесения французского поверенного по делам, Маньяна, и распоряжения французского правительства // Сборник РИО. СПб., 1892. Т. 81. С. 158.
323
См.: Анисимов Е.В. Россия без Петра… С. 366–367.
324
Последние годы жизни государыни царицы Евдокии Федоровны… С. 22–23.
325
Там же. С. 10–11.
326
Последние годы жизни государыни царицы Евдокии Федоровны… С. 43–44.
327
Рондо. Письма дамы, прожившей несколько лет в России, к ее приятельнице в Англию… С. 203.
328
Вильбуа. Рассказы о российском дворе… С. 204.
329
Вольтер. Анекдоты о царе Петре Великом / Пер. С.Н. Искюля // Русское прошлое. СПб., 2006. Кн. 10. С. 19; Мезин С.А. Взгляд из Европы: французские авторы XVIII века о Петре I. Саратов, 1999. С. 64–145.
330
The History of Eudoxia Faederowna, first Wife of Peter the Great Emperor of Russia // Monthly Review, or Literary Journal: From July to December, 1774. With an Appendix Containing the Foreign Literature. By Several Hands. London, 1774. P. 489 (пер. А.А. Севастьяновой). О шевалье д'Эоне см.: Черкасов П.П. Елизавета Петровна и Людовик XV. Русско-французские отношения 1741–1762. М., 2010. С. 185–187.
331
См. тонкие наблюдения на эту тему Дмитрия Михайловича Буланина: Буланин Д.М. Петровская эпоха в истории России и труды о ней Пола Бушковича // Бушкович Пол. Петр Великий… С. 505.
332
Петр I в русской литературе XVIII века. Тексты и комментарии / Отв. ред. С.И. Николаев. СПб., 2006. Электронный доступ, см.: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx? tabid=6014#18.
333
Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях / Подг. к публ. Ю.С. Пивоварова. М., 1991. С. 33, 38.
334
Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом… С. 72.
335
Платонов С.Ф. Время Петра Великого // Петр Великий: Сб. статей. СПб., 1903. С. 86–87.
336
Записки Юста Юля датскаго посланника при Петре Великом (1709–1711) / Извлек из Копенгагенского гос. архива и перевел с дат. Ю.Н. Щербачев; примеч. заимствованы у Г.Л. Грове. М., 1900. С. 301.
337
Соловьев С.М. Сочинения… Т. 17. С. 175.
338
Бушкович Пол. Петр Великий… С. 407.
339
Соловьеве М. Сочинения… Т. 19. С. 127.
340
Рондо. Письма дамы, прожившей несколько лет в России, к ее приятельнице в Англию… С. 204–205.