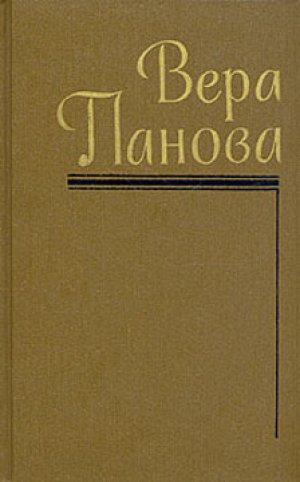
Князь Андрей Юрьевич был храбр, решителен, по первому зову своего тятеньки спешил к нему на помощь, как бы худо у того дела ни складывались. Врезывался в гущу боя, разя неприятеля мечом, некогда меч этот принадлежал святому Борису.
И разумом силен был. То, что он задумал, было задумано им самим, без подсказки, в тайниках души полюблено, решено. Но когда пришло время свершиться задуманному, его твердое сердце дрогнуло. Безумным вдруг предстал ему собственный замысел. Невозможно показалось открыть его людям.
Вот сейчас они чтут Андрея Юрьевича, а в следующий миг возмутятся и объявят богохульником.
Без людей же исполнить задуманное было нельзя.
Одними своими руками тут ничего не сделаешь.
Кого позвать в помощники? К кому толкнуться?
Лишь один имелся человек, которому он не то что мог, но должен был непременно открывать любое свое помышление: его духовник поп Феодор. Был он из Владимира, где Андрей Юрьевич княжил тятенькиной волей. Когда тятенька, сев наконец-то на киевский великокняжеский престол, велел Андрею сидеть в Вышгороде, чтоб у него, у тятеньки, под рукой быть на всякий случай, — Андрей привез в Вышгород и этого попа.
С Феодором жилось веселей. Он даже грехи отпускал весело: легко, небрежно, ничего, мол, страшного в твоих грехах нет, подумаешь — делов. Осенил крестом — свеял с твоей совести всякое беспокойство: иди, князь, живи себе не тужи, чего там, мы умные люди.
Он книги читал. Другой читает и на память затверживает, а радости никому никакой. У Феодора же игривая мысль порхала вокруг прочитанного. Как-то он всё на свой лад передумывал и что-то свое выводил. Иной раз такое скажет — Андрей Юрьевич так и грохнет одобрительным смехом. Опять же приятно, когда твой поп статен, пригож, в цвете сил. Не семенит старческими немощными шажками, а пролетает по палатам орлом. На исповеди дышит на тебя свежим дыханьем здорового мужчины, у которого ни единой хворобы ни внутри, ни снаружи и во рту — тридцать два белоснежных целехоньких зуба.
На исповеди, с накрытой епитрахилью головой, Андрей Юрьевич и поведал этому человеку замышленное — без упора, между прочим — смотри, какая соблазнительная, ни на что не похожая пришла мне мысль, сам удивляюсь! И, сопя под епитрахилью, ждал: отзовется ли Феодор, ухватится ли за брошенное, или просто даст отпущение, что будет означать: а ну тебя с твоими мыслями, в эдакое ввязываться?.. Феодор на сей раз не спешил с отпущением, молчал. Потом сказал раздумчиво:
— Конечно, по доброй воле вышгородцы не согласятся.
— Какое согласятся, — сказал из-под епитрахили Андрей Юрьевич. — Встань будет великая.
Опять заговорил Феодор:
— Там в монастыре старичок есть, Микулич.
— Знаю его. Дряхлый и восторженный.
— Восторженный — это хорошо. Его монашки уважают.
— При чем это, что уважают монашки?
— При том, князь, — вдохновенным голосом ответил Феодор, — что он свидетелем будет, а монашки за ним свидетельницами.
— А что они будут свидетельствовать?
— Ну, мало ли… — сказал Феодор.
После исповеди Андрей Юрьевич пошел к своей княгине.
— Что, Кучковна, — спросил ее, — надоело в Вышгороде?
— Ох, Юрьич, таково надоело! — отвечала княгиня. — Как в походе живешь, не знаешь — развязывать узлы или погодить.
— Ну, потерпи еще. Теперь, если бог даст, недолго.
— Неужели домой вертаемся? Когда же, Юрьич?
— Того я не знаю, — сказал Андрей Юрьевич, — и ты об этом ни с кем не говори, а узлов лишних не развязывай, чтоб при надобности быстро подняться и ехать.
А поп Феодор пришел к своей попадье, такой же цветущей, как он, с глазами голубыми, выпуклыми и круглыми, как пуговицы на ее сарафане. Они сели пить сбитень. Разгорячась от сбитня, принялись целовать друг друга в пунцовые уста, и Феодор жарко шептал попадье на ухо, и попадья смеялась звонко и зазывно:
— Ах-ха-ха-ха!
Чудо, чудо!
Стала плакать в вышгородском женском монастыре божья матерь.
Тихо и невидимо плакала, и следы слез не сходили с ее ланит, начинаясь в уголках глазочек. Слезы переходили на подъятый лик младенца, к которому она льнула правой ланитой.
Первым дьякон Аполлинарий сподобился это увидеть и кинулся за священником Микуличем. Тот, конечно, затрепетал весь, и набежавшие монашки затрепетали, и народ потек прикладываться и ахать. То была икона древняя, много лет назад привезенная из Константинополя. Сказывали — ее писал евангелист Лука.
Не только вышгородцы — со всей округи толпы потекли. Такие вести вмиг разносятся.
Князь с княгиней тоже приходили приложиться, клали земные поклоны и большую раздали милостыню.
В церкви не прекращались акафисты и давка.
Слезы ее пахли елеем. Это особенно умиляло.
Дальше вот что произошло.
Утром Микулич открыл церковь, смотрит — не так что-то. Зажег свечи, огляделся — а матерь-то божья от стены отошла и посередке стоит!
Микулич пал ниц и долго не смел поднять лицо от пола. Когда же монашки поставили его на ноги, они сообща, с благоговейной молитвой взяли пречистую и на место водворили. Тревога тяжкая и скорбь легла им на душу, потому что темно было: к чему бы чудо это, какое и кому в нем указание? До сих пор владычица творила понятные чудеса: поднимала расслабленных, изгоняла бесов из кликуш, вернула зрение некоему слепому. Что она плакала — так как же ей, многомилосердной, не заплакать, когда кругом в Земле стенание и плач, половцы поганые покою не дают, и свои князья секутся без передыху, сплошь кровь, разорение… Здесь же была тайна. У иных маловерных даже явилась мысль, что разбойники хотели унести икону, да не успели и среди церкви кинули.
Но они эту мысль не разглашали, сами пугаясь своего маловерия.
На другое утро опять пречистую не на месте нашли, теперь еще дальше: почти у выхода в притвор стояла, и заплаканный взор, полный уныния, был обращен в синеву и зелень, видимые за порогом. Догадался Микулич и сказал, зарыдав:
— Заскучала у нас матушка, в другое место вознамерилась!
При этих словах у всех будто пелена с глаз долой. И запричитали, прося, чтоб смилостивилась, отменила свое намерение.
Но не вняла: на третье утро не стало ее.
По монастырю искали, по всему Вышгороду, в окрестностях. Не нашли нигде. Кто продолжал сбегаться и съезжаться на чудеса — приходилось поворачивать оглобли.
Когда шум приутих, уехал Андрей Юрьевич. Не известив тятеньку, не испросив его благословения, снялся со своей княгиней, с дружиной и обозом.
Лишь после стало известно, что владычица изволила отправиться с ним. Во главе ехала, в возке, запряженном четверкой лошадей. С нею в возке поп Феодор и дьякон Аполлинарий. Вкруг возка — крепкая стража. Следом верхом — Андрей Юрьевич, Феодоровым отпущением облегченный от грехов, державный, величавый. За ним княгиня и прочие. В конце поезда выглядывала из возка голубыми своими пуговицами смешливая попадья.
Почему Андрей Юрьевич, почтительный сын, самовольно оставил Вышгород?
Так близко был Киев и близки тятенькины сроки, и тятенька обещал ему, Андрею, оставить престол киевский.
Всю жизнь стремился тятенька к этом престолу. Недоедал, недосыпал всё мерял да резал, соображал, лукавил, заключал союзы, изменял, великодушничал, заваривал смуты. Со своими суздальцами врывался в Киев, киевляне подымались и прогоняли суздальцев вместе с тятенькой…
Ныне подходила пора Андреевой жатвы. Справедливой награды за верность. Лучшие годы были отданы тятеньке, его мечте. Как Андрей ему служил — ни один воин так служить не будет.
Как его тогда при осаде Луцка окружили немецкие наемники, и немец уж целил в него рогатиной, а с городской стены градом летели камни. Конь его вынес из вражьей тесноты, три копья торчали в конских боках, он домчал Андрея Юрьевича до своих и пал, добрый конь, — и все тогда обнимали Андрея Юрьевича и говорили, что он самый мужественный, а коня он похоронил с честью…
Другой раз, возле Перепетова, еще жесточе было сражение, и коня его ранили в ноздри, и тот храпел, взвившись на дыбы, и Андрея крючьями тащили с седла, а он держался, с него сбили шлем, вышибли щит…
Так-то мы сеяли.
И вот, пора жатвы подходила, а жнец, вместо того чтоб точить серп, погрузил княгинины узлы на телеги и покинул поле урожая.
Враги-сородичи, иступившие мечи и изломавшие копья в многолетней свалке вокруг Киева, увидели широкую спину самого страшного соперника, удаляющуюся прочь от злачных мест на скудный север.
Удивились враги-сородичи и задумались: какая здесь хитрость?
Или не хитрость?
Не ушиб ли бог Андрея Юрьевича?
Не может в здравом уме человек бросить поле перед урожаем.
Гадали родичи — не разгадали.
А оно и разгадывать было нечего.
Просто понял Андрей Юрьевич: предстоящий урожай — видимость. Призрак обманный.
Что будет с тем, кто после тятеньки сядет на великое княжение в Киеве?
Так сейчас все на него и навалятся.
Ни власти, ни устройства. Драка до конца дней.
Андрей Юрьевич и покойный Ольгович Игорь пробовали их мирить — никто и не слушал.
Игорь в монахи от них убежал — не помогло. Из церкви от обедни вытащили и кончили. Потом-то вопили, что он святой, платки мочили в его крови — на счастье. Закружили народ, раздергали в разные стороны, он уж сам не знает, кого ему надо.
И половцы под боком, как вечно взбаламученное море, им эта каша кровавая на пользу.
Пусть кто хочет снимает такой урожай. Небось не забогатеет. Андрей Юрьевич — домой. В Суздальскую Землю. Там Владимир на Клязьме, его удел. Суздаль милый, где родился и вырос. Именитый Ростов Великий. Ростов и Суздаль младшим братьям назначены… Ну, с братишками он поладит как-либо.
Четыре лошади играючи везли по летней сухой дороге возок, в котором ехала пречистая.
Подъехали к Владимиру. Владимирцев заранее известил посланный гонец. Город выступил навстречу с хлебом-солью, хоругвями и пением тропарей. Попы понадевали пасхальное облачение. Пречистую вынесли из возка. Слез на ее лике не было, она утешилась. Не замедлила исцелить одну из кликуш. Андрей Юрьевич сказал, поклонясь на все стороны:
— Православные, великая грядет к нам святыня, владычица чудотворная, апостолом написанная, возжелала в наши места, умолим же ее — да будет заступницей перед всевышним за нас, владимирцев, и всю Землю Суздальскую.
— Аминь! — отвечали православные, вслед за князем и попами бухаясь на колени.
Поехали в Суздаль.
Вдруг, верст через десять, стали лошади, везшие икону, — ни с места. Запрягли других: и те не идут. Истязать их кнутом перед очами заступницы отец Феодор воспретил — сказано: блажен, иже скоты милует. А словесные понукания не помогали нисколько. Пока возились, стало смеркаться. Разбили князю шатер и спать полегли — утро вечера мудреней.
Андрей Юрьевич заснул и увидел сон. Приснилась ему пречистая. Будто вошла она в шатер, держа в руке хартию. Под стопами у нее были облака. Она раскрыла уста и заговорила, и повелела не везти ее икону дальше, а оставить во Владимире, у добрых владимирцев, угодивших ей приемом. Там же, где стоит сей походный шатер, воздвигнуть каменную церковь во имя Рождества Богородицы и при ней учредить монастырь.
Так распорядилась она, о чем Андрей Юрьевич всех известил, выйдя из шатра утром. А из ее распоряжений, в своей благочестивой ретивости, домыслил дальнейшие свои поступки. Кроме того, что была воздвигнута требуемая церковь и основан монастырь, он на месте своего ночного видения построил село и в нем дворец для себя. Церковь украсил очень богато, позолотой и финифтью. Живописцы цветной росписью расписали стены внутри. Там временно, до построения подобающего храма во Владимире, поместили пречистую. Андрей Юрьевич учинил ей новый великолепный оклад: одного золота пошло пятнадцать фунтов, да жемчугу сколько, да драгоценных камней.
В память видения он приказал написать образ божьей матери с хартией в руке. Село, построенное на месте видения, в десяти верстах от Владимира, было названо — Боголюбово.
— Попадья, а попадья, — сказал отец Феодор, — почему у меня шелковых рубах нету? Ни разу ты мне не сшила шелковую рубашку.
— Федюшка, свет, — отвечала попадья, — так ведь я почему не шила? Потому что ты не приказывал.
— Вот я приказываю, — возразил Феодор, — сшила бы неотлагательно, и не одну, а полдюжины. Также пристало мне иметь платки шелковые для утиранья бороды и носа. Один платок, к примеру, синий, а другой коричневый, а для Великого дня — чисто белый.
Попадья заморгала круглыми глазами.
— А в доме, — продолжал вдохновенно Феодор, — завести свистелки, как у бояр, чтоб когда понадобится слуг позвать, то благопристойно посвистеть в свистелку, а не кричать на весь дом. Для Любима, к примеру, будет один свист, для Анки двойной, для Овдотьи тройной. И ты оденься понарядней, моя горлинка, ты у меня краше княгинь и цариц; пусть же перед всеми твоя красота просияет!
И дал ей мешочек, такой увесистый, что попадья спросила шепотом, взвесив на ладони:
— Ой, Федюшка, откуда столько?
— Князь пожаловал.
— Ой, Федюшка, хорошо-то как!
— Погоди, — сказал Феодор, — это начало. Будет еще лучше.
Что может быть прекрасней голубых очей!
Серые — невзрачно.
Зеленые на кошачьи смахивают.
Про другие сказано: черный глаз, карий глаз — милуй нас! Добра от них не жди.
В глаза попадьи Феодор смотрится, как в два веселых неба. В каждом отражается его благообразное лицо и красивая борода.
Нехорошо, что нет у них детей. Так пылко любятся, а деточек не дает бог.
А может, и это к лучшему?
Зато не вянет, юной и свежей пребывает попадья. Не иссякает пылкость Феодора, обоим дорогая.
Бог, он знает, что делает.
Стал Андрей Юрьевич устраиваться прочно на княжение во Владимире.
Город был молодой, небольшой. Многие жители — пришельцы из южных земель: люди, бежавшие от разорения, тяготевшие к мирным трудам.
На новом месте они работали усердно, с властью старались ладить, и не было во Владимире постоянного роптанья и маханья руками на вече, несносных Андрею Юрьевичу.
Желая увеличить число жителей, он разослал своих посланцев в Киев и другие южные города. Посланцы хвалили трудолюбивый город Владимир и его князя. Вот на кого уповать можно, они говорили; уж его-то рука вас защитит! Здесь вам — ни достатка, ни покоя; что ныне добыли себе в поте лица — завтра отнимут половцы либо свои же, у кого меч в руке; еще спасибо скажете, если голова на плечах уцелеет. Текут ли наши реки молоком и медом? Нет. И нигде не текут. Но какова б ни была наша жизнь, она устойчивей вашей, нет в ней безумия. А половцев у нас и не видать, они к нам не суются.
Послушав таких речей, уж целыми родами, а там поселениями стал являться народ во Владимир. Привозили имущество, пригоняли скот — если не ограбят в пути… Прежде всего, явившись, ставили себе дома для жития, и Владимир богат был искусными плотниками, и Андрей Юрьевич особенно их поощрял — он много строил, собирался строить еще больше.
А кроме того, они сеяли жито и лен, торговали, ремесленничали. Муж дубил кожи, ковал железо, точил ковши и ложки, жена пряла, ткала, вышивала; в каждой семье умели разное, от этого умения была польза.
Соревнуя Киеву, Андрей Юрьевич называл новые владимирские урочища старыми, привычными народу именами: Золотые ворота, Печерный город, Десятинная церковь, и народ с радостью подхватывал эти имена, как память о незабвенном Киеве. Речку, впадающую в Клязьму, назвали Лыбедью…
Более всего Андрей Юрьевич строил церквей и монастырей, теперь их созидали свои мастера. Русские живописцы писали иконы, русские резчики вырезали на камне крылатых зверей, и дев с тугими косами, и псалмопевца Давида, играющего на гуслях.
Молясь в церквах, Андрей Юрьевич вздыхал и плакал. Видя это, многие тоже плакали, умиляясь на князя.
Он старался угодить и Ростову, и Суздалю. Его любили тамошние сильные люди, он рос среди них, особенно полюбили, когда он привез пречистую. Знаменитая святыня возвысила их землю, как бы указывала, что земля эта избранная, благословенная.
Силой своей пречистая вскоре проблистала. Был на Волге болгарский город Бряхимов. Оттуда жители набегали на русских, чинили беспокойства. Андрей Юрьевич уже ходил на них раньше; но безуспешно. Теперь пошли со своей чудотворной владимирской. На руках ее несли, осененную знаменами. В битве пал Изяслав, любимый сын Андрея Юрьевича. Но Бряхимов взяли.
Известие о победе над неверными мусульманами послали константинопольскому патриарху, прося в ознаменование ее утвердить празднество ежегодное с водосвятием, на первое августа. Патриарх утвердил и прислал Андрею Юрьевичу благосклонное письмо.
И другие выгоды увидели от Андрея Юрьевича ростовцы и суздальцы. Он радел, чтоб они торговали с таким же размахом и барышами, как новгородцы. Улучшал городские укрепления. Обильные дары раздавал попам и монахам.
Так он поступал, желая, чтобы его любили.
И по-прежнему при нем был бессменно поп Феодор, и по-прежнему князь благоволил к Феодору и охотно толковал с ним о разных предметах.
В самом деле, занятнейший был поп и дерзновеннейший.
Дело прошлое: дьякона Аполлинария, бывало, лихорадка била, когда по ночам, там, в Вышгороде, в женском монастыре, они с Феодором крались к пречистой.
Лунный свет наклонным столбом входил в оконце под куполом и преграждал путь, и дьякон, крестясь, холодными губами шептал молитву, прежде чем шагнуть в этот столб и коснуться иконы своими ручищами. Феодор же шагал как ни в чем не бывало и у иконы хлопотал, полный распорядительности.
С таким человеком, говорил дьякон, научаешься бесстрашию.
Столь благочестив наш князь Андрей Юрьевич, рассказывали во Владимире, а из Владимира дальше бежала молва, — столь благочестив, что часто среди ночи, встав с постели, идет в свою домовую церковь, зажигает свечи и молится в одиночестве, даже княгиня не смеет следовать за ним, чтоб не нарушить углубленность его молитвы. Только Феодор, духовник, иногда призывается в эти часы, и они с князем беседуют о спасении.
— Что есть добро? — спрашивал Андрей Юрьевич.
Свечи озаряли образа, тесно обступавшие их в маленькой церкви, и мнилось — святые со вниманием прислушиваются, что ответит Феодор.
— Что есть добро, — он отвечал, — изложено в заповедях, кои ты знаешь с младых ногтей.
— Все знают с младых ногтей, — возражал Андрей Юрьевич, — и никто не исполняет. Ты мне скажи такое, чтоб я, человек из рода Адамова, мог исполнить.
— Добро, — отвечал Феодор, — есть то, что способствует славе божьей и твоей.
— А такое сопоставление не от дьявола?
— Кто есть дьявол? — спрашивал Феодор в свой черед. Трепет огней пробегал по святым ликам тревогой.
— Дьявол — зло, скверна…
— Да откуда он взялся — зло-то, скверна? Когда господь сотворил все видимое и невидимое…
— Он и его создал безгрешным, а тот возьми да взбунтуйся.
— Я полагаю, — отвечал Феодор, — господь сам этому бунту попустительствовал.
Святые негодовали.
— Ибо без зла, — он продолжал, — нет и добра. Без злого никто доброго и не заметит. Будет в мире ни жарко ни холодно. Ни восторга не будет, ни подвига. Ни Голгофы, ни чуда. Протухнет мир в единообразии и равнодушии.
— Ты думаешь?
— Думаю, что всевышний, озирая им сотворенное, сообразил сие и пустил в мир зло и скверну, как закваску, чтоб тесто подходило.
— Вон ты как мыслишь.
— Так мыслю, — легко подтверждал Феодор. Глаза его пылали в блеске свечей, и весь был могуч, широк и опасно красив, как тот, воплощающий зло.
— Стало быть…
— Стало быть, нечего дьявола бояться как чумы. Скверна он — однако действует с высшего дозволения — и, выходит, подобно добрым ангелам, является к нам как посланец божий.
— Позволь! — сказал Андрей Юрьевич. — Он являлся к Исусу и искушал его отнюдь не как божий посланец, не так разве?
— Князь мой, — вздохнул Феодор, — откуда нам знать, как все это было…
— Исус его искушения отверг, так мы не должны ли…
— То Исус был, — сказал Феодор, — а нам куда уж. Сам говоришь — человеки мы из рода Адамова. Адам на яблоко польстился, невинная душа. Простые, райские времена были. Тогда как мы кругом обсажены древами соблазнов вопиющих и манящих, и дерева разрастаются, образуя чащу непроходимую вокруг нас. И нет причин ожидать, что перестанут разрастаться, или кто-то их повырубит, или уйдет из наших душ тяготение к запретному. Куда ему уйти? И почему бы? Когда закваска положена, и тесто перебегает через край, и ангел-возмутитель приставлен блюсти, чтоб сие не кончалось во веки веков.
— Смотри, поп, ведь это ересь! — постращал Андрей Юрьевич.
Феодор прижмурил глаз.
— Что есть ересь? Уговорились мы считать ересью то-то и то-то. А могли уговориться считать ересью что-либо вовсе иное. И считалось бы.
— Как иное? С какой стати? Растолкуй, — приказал Андрей Юрьевич, тешась греховной умственной забавой.
Феодор все держал глаз прижмуренным, другой глаз смотрел искристо и шало.
— Кто нас, князь, просветил в писании? Грамоту нам дал — кто?
— Ну, Кирилл с Мефодием.
— Так, Кирилл с Мефодием. А мы их звали? Не звали. Они сами пришли. А когда б они не первые зашли к нам? Когда б латины заскочили первей со своим писанием и проповедью? Что тогда, а? Крестились бы мы с тобой латинским крестом. Принимали бы сухое причастие. Священные наши книги римскими письменами были бы написаны. И на все православное плевались бы мы как на ересь…
— Ну-ну-ну, ты все-таки… — погрозил пальцем Андрей Юрьевич, но улыбки не сдержал. На какой хочешь вопрос у этого попа готов ответ. Вокруг божьих предначертаний дерзает мудрствовать. И как подумаешь — громко, конечно, не скажешь, нельзя, — об ереси остро сказал озорник.
Пока Андрей Юрьевич в Суздальской земле старался о благоденствии жителей и укреплял свою добрую славу — в других областях князья Рюриковичи опять собрались изгонять тятеньку из Киева: сговаривались, списывались, снаряжали войска.
Эх, когда еще Андрей Юрьевич упрашивал тятеньку бросим Киев, пусть они из-за него кровью истекут, а мы удалимся на север и оттуда, укрепясь, будем править и Киевом, и ими всеми.
Но тятеньке все затмил киевский престол. Разум затмил.
И вот сейчас, знает ведь — скоро опять на него грянут, а он все тешится непрочной победой, все пирует, как молодой. Изменники вокруг него кишат. С непонятной ребяческой беззаботностью он дает им кишеть. Словно ему не предстоит новая жестокая война — скорей всего последняя, годы-то большие.
Он ее не дождался. Или враги не дождались. Возвратясь с какого-то пира, заболел тятенька Юрий Владимирович и в пять дней умер. Схоронили его в Берестове.
Андрей Юрьевич остался верен своему расчету, на кровавое наследство не посягнул.
Он другое наследство прибрал к рукам. Ростов и Суздаль Юрий Владимирович завещал, как сулил, младшим сыновьям. Но города отказались их принять, на вече избрали князем Андрея Юрьевича, а Мстислав Юрьевич Василько Юрьевич и Всеволод Юрьевич, опасаясь, как бы хуже не было, уехали в Грецию.
Прогнал Андрей Юрьевич и племянников своих от покойного старшего брата, и тех старых бояр, что вздумали противиться его избранию. И сел единым князем Суздальской земли. Первым городом земли был Ростов.
Столько в нем куполов вздымалось, увенчанных крестами, что сложилась поговорка: ехал черт в Ростов, да испугался крестов.
В Ростове сидел епископ, рукоположенный киевским митрополитом.
Своего епископа имели только самые важные города. А митрополит на Руси был один — глава всему русскому духовенству, черному и белому, как патриарх константинопольский — глава православной церкви вселенской.
Ни Ростов, ни Суздаль не сделал столицей Андрей Юрьевич: чересчур заносчивые и своенравные были те города, княжескую волю ставили ниже приговоров своего веча.
Сегодня вече пожелало призвать его на княжение, завтра так же пожелает скинуть.
В Ростове и Суздале много жило спесивой знати, привыкшей делить с князем государственную заботу и власть.
К неудовольствию этой знати, Андрей Юрьевич остался в своем Владимире, еще недавно считавшемся пригородом Ростова. Тятенькиных бояр от дел отстранил. Окружил себя людьми новыми, послушными. Среди них имел силу незнатный слуга Прокопий, преданный человек. Крещеный ясин Амбал, ключник. Некрещеный еврей Ефрем Моизич, добывавший князю у евреев-ростовщиков деньги под заклад. Свойственники князя по жене бояре Кучковичи, владельцы берегов реки Москвы и прибрежных сёл, одно было названо по имени реки Москва.
— Ведь вот! — сказал Феодор Андрею Юрьевичу. — Сколько в церкви нашей негодных, ветхих установлений! Найдись властитель, чтоб их отменил, большая была бы польза православию, да и князьям…
— К примеру, — обронил Андрей Юрьевич.
— К примеру, — откликнулся Феодор, — к примеру хотя бы, что митрополит у нас грек, и в синклит свой норовит греков набрать, а наши русские попы в подчинении ходят, а через попов угнетены и миряне, и то для мирской власти ущерб. Это видел, к слову сказать, еще твой прапрадед великий князь Ярослав, он в первый же год своего единодержавия поставил в Новгороде русского епископа, а за три года до кончины собрал в Киеве епископов и велел им поставить митрополитом Илариона Россиянина, а у Константинополя даже не спросились.
— А Константинополь что?
— Константинополь далеко, — подмигнул Феодор, — не достанет. Подарки послали патриарху, тем и обошлось. Прапрадед твой почему этими делами занимался? Потому что видел их важность.
— А я не вижу?
— Ты видишь, но тут храбростью надо обладать.
— Храбростью, мне?
— Не той храбростью, — сказал Феодор, — с какой идут в битву. Но той, какая требуется, чтобы сломить ветхую привычку. Ты идешь рубиться — ты считаешь: против тебя сто копий, или двести, или тысяча. Когда же единовластной своей волей ломаешь людскую привычку, враг неисчислим, и невидим, и неуловим, копьем и мечом его не истребишь.
— Епископ наш Леон, — сказал Андрей Юрьевич, — нам не ко двору. Не за нас болеет, за злодеев наших. Епископа будем сажать нового.
— Посадить митрополита! — горячо шепнул Феодор. — Не в Киеве — в Ростове…
— Тогда уж во Владимире, — сказал Андрей Юрьевич.
— Какое сразу умаление Киева, какое возвеличение твоего княжества! Не чужого посадить — своего, ревнующего о твоей славе… на великие дела способного…
— Храброго, — хохотнул Андрей Юрьевич.
— Так, князь! — подтвердил Феодор, грудь его под рясой раздувалась как мехи. — Способного и храброго!
Примолкли. Было слышно дыхание Феодора.
— Митрополита киевского тронуть не дадут, — сказал князь.
— А заставить!
— Белены, отец, объелся? Смуты хочешь? Покамест великокняжеский престол в Киеве считается — кто даст порушить киевскую митрополию?.. Да она и не помеха. Один у них митрополит, другой у нас — это попробовать возможно…
Феодор пришел к попадье и сказал:
— Попадья, а попадья! Слушай-ка. Я, может статься, митрополитом буду.
— Кем? — спросила попадья.
— Митрополитом, митрополитом.
— Ой, да что ты!
— А почему бы нет? — сказал Феодор.
— И мы в Киев поедем?
— Нет, тут буду, тут…
— Так у нас же митрополитов сроду не было.
— Сроду не было, а глядишь, и будут.
Попадья поморгала.
— Федь, — спросила она, — а митрополиты бывают женатые? Чегой-то не слыхала я.
— Не слыхала — услышишь.
— Федюшка, а ведь тогда к нам дары так и потекут?
— Уж не без того.
— Со всех сторон!
— Надо полагать.
— Так ведь это хорошо, Федюшка!
— А то плохо, — радостно сказал Феодор, но тут же пожурил свою попадью, погладив ее по голове: — Дурочка, тебе богатство лишь бы. Есть кой-что получше богатства.
— А что?
— Тебе не понять, — сказал Феодор. — Вот князь, тот понимает.
Нахмурясь, прошелся по комнате с такой осанкой, будто уже обладал митрополичьей властью и все перед ним склонялись до земли.
— Он сказал: возможно. Слышь, попадья? Возможно! Мы с ним — одна душа: он за меня, я за него…
Ночью, засыпая, попадья позвала томным голосом:
— Федь, а Федь.
— Мм? — спросил Феодор.
— Федь, а я кто ж тогда буду?
— Как кто? Ты — ты и будешь.
— Нет, Федь. Вот ты поп — я попадья. У дьякона — дьяконица. А митрополитом станешь — я как буду зваться?
Феодор усмехнулся сонно:
— Ну… стало быть — митрополитицей.
— Митро…
— …политицей.
— Ах-ха-ха-ха! — посмеялась, засыпая, попадья.
Окруженный плачущими приверженцами, торжественно-скорбно выступил из Ростова неугодный Андрею Юрьевичу епископ Леон.
Возок ехал за ним, а епископ шел по дороге с посохом, как простой странник. Он запретил нести за ним хоругви, несли только маленькую, ему принадлежащую икону Одигитрии божьей матери, путеводительницы.
Извещенный народ высыпал навстречу изгнанному пастырю. В селах выносили на улицу столы, покрытые скатертями, на них ставили иконы и чаши с водой, и епископ останавливался, чтобы отслужить молебен с водосвятием. Плач вокруг него множился, он сам плакал, моля господа защитить православных христиан от гонителей и мучителей.
Пока не прослышали об этом во Владимире. После чего пришлось епископу сесть не в возок — в седло и мчаться, останавливаясь лишь для того, чтобы сменить коня. И в Киеве, боясь, как бы и здесь его не достала рука Андрея Юрьевича, он не задержался — на греческом корабле отплыл в Константинополь.
Он туда добрался много раньше Феодора и успел оговорить его перед патриархом. Вслед за Леоном явилось посольство из Киева: князь киевский Ростислав, узнав о замыслах Андрея Юрьевича, спешил испросить себе из патриарших рук нового митрополита-грека на место недавно преставившегося.
Патриарх охотно исполнил эту просьбу, а когда приехал кругом очерненный Феодор с грамотой и подарками от Андрея Юрьевича — патриарх был гневен, на подарки даже не взглянул.
— Над святителями ругаетесь! — сказал, стуча посохом. — Гонительство насаждаете в век торжества Христова!.. Ты, иерей, как смел своею волей занять престол епископский?!
— Княжеской волей, владыка! — отвечал Феодор. — Княжеской, не своей…
И хотел привести разные убедительные и изощренные тексты, которые приготовил, сбираясь в Константинополь. Но патриарх вскричал:
— Ты неправославного образа мыслей, о тебе говорят, что хулишь монашество, — оправдайся!
Чертов Леон, думал Феодор, стоя перед ним, чертовы киевские попы, всё вынюхали, донесли обо всем! Но не моргнув глазом отвечал достойно и кротко, что на него взвели напраслину, отнюдь он не хулит монашество, напротив того — духовного своего сына, князя, учит любить и чтить чернецов и черниц, чему доказательство — монастыри, воздвигнутые князем, и щедрость раздаваемой им милостыни, слава же о ней идет по градам и весям.
— Но с женой ты не разводишься! — перебил патриарх. — Знаешь ведь, что епископу пристало девство! А еще в митрополиты метишь!
— Грешен аз, — сказал Феодор. — Несмыслен аз. Разведусь.
— Ты ее отошлешь в дальний монастырь! — сказал патриарх.
— Отошлю, — сказал Феодор, поникнув головой.
— Чтоб не виделись больше в сем мире! Лишь после кончины соединитесь в чистоте.
— Да будет так, — сказал Феодор.
Ему удалось под конец смягчить патриаршее сердце. Не столько смирением своим, сколько упоминанием об Андрее Юрьевиче. Патриарх перестал стучать посохом о пол, призвал ученых советников и заговорил о существе дела Ему не с руки было ссориться с сильным православным князем, пекущемся о церкви. Но и прав Киева, где сидел ими посаженный верховный пастырь, греки ни за что не соглашались нарушить, и дело решили наполовину: быть Феодору ростовским епископом, но лишь в том случае, если будет ему рукоположение от киевского митрополита.
О второй же митрополии даже толковать не хотели, как Феодор их не улещал: ссылались на какие-то древние каноны, которых он не знал и оспорить не сумел, хотя чуял, что греки хитрят и водят его за нос с этими канонами.
И потому он вернулся во Владимир пристыженный и распаленный, еще больше распаленный на патриарха и его присных, чем патриарх был распален на него.
— Что ж, на первый раз и то ладно, — сказал Андрей Юрьевич, прочитав послание от патриарха. — Начали с меньшего, а там, даст бог, добьемся и большего.
— Князь мой! — из глубины груди страдальчески промычал Феодор. — Я не поеду в Киев.
— А рукоположение?
— Князь мой! Не могу сейчас видеть врагов моих. Не ровен час согрешу: убью. В Константинополе они из меня бочку крови выпили. Дай отдышаться.
— Ладно, не поезжай пока, отдышись, — милостиво хохотнул Андрей Юрьевич.
— Люба моя! — шептал ночью Феодор попадье. — Что они брешут, окаянные? Тебя — в монастырь! Косы эти — долой! Коленочками этими каменные полы протирать? Чтоб я — да без тебя?! Да пусть они околеют, псы бешеные! Да вся ихняя свора вонючая одного твоего ушка бархатного не стоит!
— Так не отошлешь в монастырь? — томно тянула попадья, без страха, с веселым лукавством.
— Будь я проклят, если отошлю!
— А как же мы будем, когда ты теперь епископ?
— Так и будем, как были, — сказал Феодор. — Вот так и будем.
В руке ростовского епископа были города: кроме Ростова, Суздаля, Владимира — еще Ярославль, Дмитров, Углич, Переяславль, Тверь, Городец, Молога и другие.
Со всеми попами, церквами, монастырями.
Епископский дом во Владимире был обширный, как у бояр.
Феодор и попадья жили в верхнем жилье, внизу были кладовые, еще ниже — темные погреба.
Когда Феодор пил сбитень, сидя у окошка, ему виден был двор, обнесенный забором, как баба с подоткнутым подолом набирает воду из колодца, как отворяют ворота, впуская вернувшееся с пастбища стадо, и коровы разбегаются по хлевам, тряся полными выменами.
С тех пор как он стал епископом, бабы в дом ни ногой. Дальше хлева им ходу не было.
В святительском доме полагалось быть лишь мужскому полу.
Но в том же доме жила, смеялась, источала плотское ликованье голубоглазая попадья, и молва шумела о женатом епископе.
Епископ в белом клобуке! Когда бывало?
Кто допустил?
Вон возок покатил, белые кони в упряжке — Белый Клобук поехал служить.
Гей, бежим в Десятинную, глянем, как служит Белый Клобук!
Где ж он, где?!
Вон, вон белеет в царских вратах, белизной своей оскорбляя господа!
Из других городов ехали — перетолкнуться локтями, видя, как князь Андрей Юрьевич, подходя ко кресту, целует Белому Клобуку руку, и бояре за князем.
Поужасаться — как в великий четверг двенадцать иереев, среди них седовласые, многопочтенные, моют Белому Клобуку его развратные ноги.
Может, миряне не осудили бы его так непреложно. Но ярились попы, черные особенно. Почему он? Нет, что ли, более достойного?
Запуганные властью земной и небесной, приученные верой ко всякому смирению, уничижению, насилию над своим естеством, всё же они не снесли возвеличения Феодора.
Слишком уж дышал мужеством и преуспеванием.
Тиары возжаждал, а поступиться ради нее не хотел даже попадьей — вишь ты!
Они изливали на него хулу день и ночь, и мирянин, их слушая, обижался, что его душу вручили никуда не годному пастырю, и в каждом доме и домишке толковали о Белом Клобуке.
А почему он живет во Владимире, говорили владимирские попы, — да потому, что стыдится ростовцев, видевших святую жизнь прежних епископов.
Ничего и никого он не стыдится, отвечали попы ростовские, князь хочет наш Ростов принизить, а ваш Владимир возвеличить, и для того ростовскому владыке велел жить во Владимире, чтоб мы на поклон к вам ездили.
Шум неприличный подымался в церкви, если входила попадья.
Она перестала бывать в Десятинной, в другие, дальние стала ходить. Но и там шумели и пальцами показывали.
Она догадывалась, что нищенки и богомолки, вечно сидевшие за воротами ее дома со своими сумами и клюшками, нарочно собираются, чтоб дождаться ее выхода и взглянуть на нее. Она им подавала щедро: корзинами выносили за ней хлебы и сушеную рыбу. И они жалобными голосами молили за нее бога, но взгляды их были ядовиты и ненавистны.
В Троицын день, после пышной службы, к Феодору, державшему крест для целования, подошел неизвестный монашек. Он приблизился в толще людского потока. Был тощ и бледен, в худой рясе, в лаптях. Креста не поцеловал, а вперился дерзостно в глаза роскошному епископу своими красными больными глазками и сказал отчетливо перед стихшим народом:
— Что, окаянный, творишь? На святой чин посягнул, ангелом нашей церкви зовешься, а смердишь, как кобель. Прострись, покайся в мерзости, пока не поздно.
Его схватили и поволокли. Андрей Юрьевич приказал — в темницу, но Феодор заступился: ему еще не верилось, что все вдруг так ожесточились против него; слишком самому себе нравился, чтоб сразу поверить; думал можно милостью их с собой примирить. Привез дрожащего как в лихорадке монашка к себе домой, кормил за праздничным столом с почетными гостями. Попадья сидела в задних комнатах, прислуживал мужской пол под присмотром Любима, старого слуги.
Монашек, видя ласку, расплакался и сознался, что его подбил на обличение игумен Спасского монастыря. Феодор потемнел лицом, уткнул угрюмо бороду в грудь…
Спасский игумен происходил из старой знати, посажен на игуменство епископом Леоном в дни, когда Андрей Юрьевич еще старался задобрить боярство, а не ополчался на него, как сейчас. Теперь же, после своего избрания на вече, Андрей Юрьевич устранял один знатный род за другим, борясь за полноту власти и предупреждая заговоры. Уже несколько свершилось казней, и многие сильненькие, проклиная и грозясь, должны были покинуть область. Взор князя блеснул недобро, когда Феодор рассказал о признании раскаявшегося монашка.
— Там у них в монастыре копнуть, — сказал Феодор, — еще не то откроется.
Но, к его неудовольствию, Андрей Юрьевич ответил:
— Не время копать.
— Князь мой! Дай мне только игумена. Острастку надо сделать злодеям.
— Не время, — повторил Андрей Юрьевич.
Он затеял большой поход. По его мысли, пришла пора показать, кто истинный великий князь на Руси. В Киеве после Ростислава вскочил на престол Мстислав Изяславич, сын Изяслава Мстиславича, с которым боролся покойный тятенька. Союзниками Андрея Юрьевича были: дорогобужский князь Владимир — соперник Мстислава, князья рязанский и муромский — с ними Андрей Юрьевич ходил на Бряхимов, северские князья Олег и Игорь, брат Глеб Юрьевич, княживший в Переяславле-Русском, — одиннадцать набралось князей с дружинами и ратью. Они рвались к добыче и рады были крепкой руке, чтоб их собрала и повела. В этом непрестанном переделе одного и того же каравая, где нынче ты побит и нищ, а завтра победитель и богач, — воякам не сиделось на месте, и то сказать: засидишься — сам станешь добычей других вояк, так уж оно сложилось на свете…
— Обожди с игуменом, — сказал Андрей Юрьевич. — Пускай уйдет войско…
Войско ушло. И тотчас в Спасский монастырь явились Феодоровы люди во главе с бывшим вышгородским дьяконом Аполлинарием. Взяли игумена и увели. В ту ночь попадья спала одна. Только на рассвете явился Феодор, усталый и хмурый. Первый раз в жизни попадья взглянула на него со страхом. Спросила робко:
— Федюшка, чтой-то за шум у нас был в погребе, я уснуть не могла…
Феодор зевнул, показав розовую пасть и подковки белых зубов.
— Крамольника допрашивали.
— Какого крамольника?
— Ненавистника моего.
Глаза у попадьи стали совсем круглые.
— Федь, а Федь. У тебя кровь на рукаве…
— Ну, дай чистое переодеться, — сказал Феодор.
Поход был успешный.
Союзники соединили свои войска в Вышгороде. В начале марта заложили стан близ Кирилловского монастыря и, раздвигаясь постепенно, окружили Киев. Им удалось склонить к измене берендеев, которых Мстислав Изяславич нанял для своей защиты. Так что победа была предрешена, и победители заранее метали жребий, деля между собой киевские улицы и жителей.
Мстислав Изяславич бежал с дружиной, бросив жену и детей. Без князя киевляне продержались три дня, потом сдались. Вооруженные лавины хлынули в город со всех сторон. Запылали дома. Горела Печерская обитель… Боярин Борис Жидиславич, ведший суздальскую рать, в числе прочей добычи вывез иконы, церковную утварь, колокола. Суздальцы поснимали драгоценности с киевской чудотворной Богородицы, чтоб украсить свою Владимирскую.
Пока все это происходило, Феодор тоже воевал.
Ужасная участь спасского игумена, вынутого из епископских подвалов без глаз и без языка, потрясла Землю. Волна ненависти вздыбилась против Феодора. Ни свирепством, ни милостями нельзя ее было утишить.
Да и милости не хотели от него те, кто отдан был ему во власть с душой и телом, с чадами и домочадцами и со всем своим имением. Кому он волен был рвать бороды, жечь на угольях подошвы, резать языки и глаза.
Он рвал, жег, резал, а они все равно ему не повиновались, словно обезумев, особенно с тех пор как митрополит их известил, что Феодор не рукоположен в Киеве.
Так он еще, ко всему, не посвященный!
Так он и не епископ, а простой поп!
Поп Феодор, не больше того!
Не Феодор — Феодорец, плут, обманщик, малость, ничто!
И клобук его — не клобук: клобучок, клобучишко!
Феодорец Белый Клобучок, вот он кто, самозванец!
Разорить Киев можно. Отнять у него святость — не в людской власти. Святость не коснулась тебя, Феодорец, — что ж ты без нее перед богом и перед нами?
Когда попадья выходила за своего попа, знакомая древняя бабушка велела ей поить мужа настоем травы одолен. Эта трава растет при реках и при черном камне, собой голубая. Кому дашь ее пить, сказала бабушка, тот от тебя до смерти не отстанет.
Теперь попадья подумала-подумала: не поможет ли и тут бабушка? Уж больно стали часты ночные шумы в погребе. Дьякон Аполлинарий запивать шибко стал — с тоски, что ли. Как бы худого чего не сделалось с Федюшкой, много ненавистников у него.
Взяла попадья узелочек с гостинцами и пешком пошла полями в ту деревню.
Бабушка жила в той же завалюхе-избе, но уже помирала, на печи лежа, а на лавке внизу, в вещем ожидании, сидели ее товарки, обросшие серыми бородавками и седыми бороденками.
— Что говоришь? — спросила с печи бабушка. — Помогла трава одолен? А ныне, говоришь, беду отвесть надо? От беды помогает трава измодин. Кто тоё траву ест, никакой не узрит скорби телу и сердцу. Только нет ее у меня, ничего у меня больше нет, кончаюсь я. Скажи моим товаркам, пусть дадут тебе — мол, я велела.
И одна из товарок встала, и попадья пошла за ней из избы, пропахшей болезнью и концом, и получила траву измодин. Ела ее и дала есть Феодору, и перестала тревожиться, потому что никакого несчастья с ними теперь стрястись не могло. А чтоб не слышать ночных шумов и не грешить перед мужем, сострадая его врагам, — стала, спать ложась, закладывать уши шерстью.
За то, что попы отказывались поминать его в ектеньях как владыку, а иные оголтелые вместо него поминали Леона; за кличку Феодорец Белый Клобучок, что утвердилась в народе; за то, что кем-то был избит и от побоев помер дьякон Аполлинарий; и за прочее неповиновение и непризнание Феодор решил наказать их примерно, больнее, чем огненной пыткой и усекновением голов, так наказать, чтоб было чувствительно всем до последнего мирянина.
В один метельный промозглый день, в начале зимы, из епископского двора выехал возок, окруженный стражей. Не белые кони были впряжены в возок, но черные.
Не спеша, с похоронной торжественностью двинулся он по улице. Стражники ехали шагом впереди и сзади.
Прохожие останавливались и глядели молча.
Возок остановился у дома, где жил настоятель церкви на Златых вратах.
— Гей! — задубасили и заорали стражники. — Настоятеля давай сюда! Настоятеля владыка требует!
Настоятель вышел не сразу. Он был смертно бледен и силился держать голову высоко — приготовился к мученичеству. Из возка высунулся Белый Клобучок и сказал нетерпеливо:
— Ключи подай.
— Какие ключи?
— От церкви, от церкви ключи. Неси-ка.
Настоятель под стражей вернулся в дом, вынес ключи. Возок тронулся, а настоятель смотрел ему вслед сквозь метель, еще не поняв, что случилось.
Так Феодор проехал по городу и от всех церквей побрал ключи.
На дно возка они падали с железным лязгом.
Последней на его пути была церковь Успения Богородицы. Ее звали Десятинной, потому что ей отдавалась десятая часть от стад и торговых пошлин.
Феодор отомкнул затвор; большой ключ в замке пропел громко. Феодор начальственно обошел пустой тихий храм, где только перед чудотворной хрустальным светом светилась лампада. Вышел — ключ пропел, возок отъехал.
С того вечера много дней подряд владимирцы не слышали колокольного благовеста.
Куда было звать колоколам? Даже кладбищенские церкви позапирал Феодорец.
Прекратились все службы.
Хочешь обвенчаться либо отпеть покойника — тащись в Боголюбово, за десять верст киселя хлебать.
Кого господь призывал к себе внезапно, те даже причаститься не успевали: тело и кровь Христовы были у Феодорца под замком.
Владимирские попы томились без заработков.
Сама чудотворная в узилище сидела.
— Будут знать! — говорил Феодор своим присным. — Попомнят, как нам с князем противоборствовать!
Одним глазом он все-таки косился на Боголюбово: как-то смотрят на его деяния в княжеском дворце. Но из дворца не исходило ни запрета, ни порицания.
Два дня стучался в епископские ворота старенький поп. Говорил, надо ему самого епископа, а по какому делу — сказать не хотел. Его не пускали, ругали — не уходил. Присаживался на лавочку среди нищенок и плакал бессильно, и нищенки делились с ним хлебом. Уж в сумерках, иззябший, плелся куда-то ночевать.
На третий день удалось старичку смягчить привратника и проникнуть во двор, а тут как раз Феодор домой воротился. Он только ступил на крыльцо, как невесть откуда этот поп выскочил, крича слабым голосом:
— Вот он, владыка! Вот он!
— Э! Старый знакомый! — сановно-ласково сказал Феодор. Стража, ухватившая было старичка, отступила.
То был Микулич из вышгородского женского монастыря.
— Ты как очутился во Владимире, — продолжал Феодор, — за какой нуждой? Нынче некогда мне, а как-нибудь заходи, побеседуем, чем могу помогу.
— Об чем беседовать мне с тобой! — завопил Микулич. — Доколь неистовствовать будешь, отвечай, кровопийца! Страшная твоя слава по Земле идет! Нерону уподобился! Вельзевулу!
Феодор свел брови:
— Молчи ты, пустомеля! Еще вышгородских мне тут не хватало…
— Возгордился аки сатана!.. — вопил Микулич, потрясая руками.
— Убрать, — молвил Феодор, и не стало перед ним Микулича.
— …лишил православных, — донеслось уже из подвала, — причастия и пения церковного…
И совсем глухо, как из могилы:
— …ругался над образом честнейшим… нетленную поганил…
— Чего-чего? — отозвался Феодор. С юношеской прытью ринулся по каменным ступеням в подвал. — Ты что мелешь, старый дурень, а ну повтори!
— Слезки-то, слезки ей, — детским голосом выкликал Микулич у стражников в руках, — слезки чем, Ирод, намазывал, пальцем аль тряпицей? Навуходоносор, все известно, Аполлинашка перед кончиной на исповеди открыл…
Протянул Феодор руку, грозный, как Саваоф:
— Распять его!
И как ни рвался Микулич и ни кудахтал, его цепями приковали к стене, голова вниз, руки-ноги врозь. Жутко было глядеть на его вздыбившуюся бороденку и безумно вылупленные глаза. Феодор глядеть не стал, пошел наверх. Еще громко дыша от гнева, меча взорами молнии, обнял попадью и сел пить сбитень с калачами.
Пьет Феодор сбитень и видит в окошко сквозь морозные разводы — перед кем-то привратник ворота отворяет. Всадник въезжает во двор и непочтительно до самого крыльца трусит на коне. Что за птица такая, думает Феодор, даже княжьи гонцы слезают у ворот и к дому моему идут пешие. И опять задышал шумно. Вошел Любим, докладывая:
— От князя.
— Ну, чего там надо, спроси… — заносчиво начал Феодор, но попадья не дала занестись выше меры: вскочила и сама побежала, и назад прибежала:
— Князь тебя требует в Боголюбово.
— Ладно, трапезу дайте закончу.
— Федюшка, он немедля требует.
— Подождет, — сказал Феодор и стал нарочно медленно допивать чашку, глядя на удаляющийся к воротам нахальный конский круп.
Андрея Юрьевича он нашел у красного крыльца: стоял с псарями, державшими на поводках резво дышащих, рвущихся псов.
Тут были и ближние люди — Прокопий, ключник Амбал, мальчик Кощей, боярин Яким Кучкович и Ефрем Моизич.
Феодор в них во всех метнул пламя из-под бровей, что его, святителя, со псами встречают. Андрей Юрьевич сказал:
— Ждал тебя, владыка, думал, уж не приедешь, да вышел за делом.
Так, оправдывайся передо мной, подумал Феодор, а я перед тобой оправдываться и не подумаю, что, взял? Он благословил князя, и другие подошли под благословение, кроме еврея Ефрема Моизича, который издали отвесил поклон; но при этом какие-то непонятные, замкнутые были у них лица, и глядели исподлобья.
— Что, владыка, — как бы с ленцой сказал Андрей Юрьевич, — когда в Киев-то думаешь?
Вот чего Феодор не ждал.
— В Киев? — переспросил невольно.
— Поставиться-то надо.
— Разве я от тебя не поставлен?
— Да вот видишь, мое поставление только мы с тобой признаем, попы не признают, — усмехнулся Андрей Юрьевич, и княжеская усмешка широкими улыбками отразилась на лицах бояр и слуг и зловещим оскалом на хищном лице ясина Амбала. — От митрополита, договорено ведь с патриархом, испросить ты должен хиротонию.
— Не нужна мне его хиротония.
— Тебе, может, не нужна, а Земле нужна, — уже без усмешки сощурился князь. — Митрополит письмо прислал, велит тебе ехать без промедления. Собор они собирают. — Помолчал. — И от патриарха послание.
— Где оно?
— Дай, — кивнул Андрей Юрьевич Прокопию, и Прокопий подал свиток с подвешенной печатью. Феодор рывком развернул и прочел. Послание недлинное было, но внушительное. Патриарх требовал, чтоб Феодор явился на собор, затем осуждал его брачную жизнь. Верно, все другое еще не дошло до Константинополя или же считалось там маловажным, только патриарх упорно писал об одном: «Он на чистое житие безженных пастырей негодует и укоряет… Но, княже, насколько ангелы выше человеков и насколько небо выше земли, настолько неоженившийся выше оженившегося: девство есть житие ангельское…»
«И мы поучаем твое благородие и благочестие, — кончалось послание, — остерегаться ложных пророков и не веровать им…»
И подпись собственноручная греческими буквами: Лука.
Феодор скатал свиток.
Вишь, подумал, уцепились, проклятущие.
А как понимать, подумал встрепенувшись, что патриаршую грамоту, с подписью и печатью, князь в таком месте дает читать мне? Оно ведь кощунство. Не в таких местах и не так подобные грамоты читаются. И передо мной он выходит невежа: зачем при всех дал, вишь как они вонзились… А может, он это все с умыслом: мол, что нам патриарх, вон — наши псы на его грамоту лают…
— Не с руки мне сейчас ехать-то.
— Надо ехать.
— Дела у меня.
— Отложишь дела.
— Собор, думаешь, хиротонисать меня собирается? Он судить меня собирается.
— А есть за что судить? — лицемерно удивился Андрей Юрьевич.
— Захотят судить — найдут за что.
— Ну, ты языкаст, сумеешь отговориться, — опять усмехнулся Андрей Юрьевич, и опять гиена Амбал выставил зубы в кровожадной радости. А Феодор опять рассердился, и минутное его уныние сняло как рукой. На самом деле, подумал. Что я церкви позакрывал — в том виновны мои супостаты, непослушанием вынудили. Что наказать из них кой-кого пришлось — на это моя власть святительская, да про то и разговора не будет, кому они там нужны, в Киеве, а тем более в Константинополе! Что разрешаю от поста в среду и пяток и в великие праздники, так к этому даже некоторые печерские угодники склонялись при всей своей строгости. Язык же у тебя, владыка Феодор, и впрямь подвешен — лучше не надо, чистый вечевой колокол. Так кого же тебе бояться? Да и не даст тебя князь в обиду, это он не в духе сейчас, что ты его ждать заставил… Вы, злыдни, обождите радоваться: я вам еще покажу!
— Так что сбирайся, — сказал Андрей Юрьевич.
— Собраться недолго, — сказал Феодор. — Вот только расходы большие в такой поездке.
— Будто нет у тебя на расходы.
— Князь мой! Поверишь ли…
— Ладно, будет тебе на расходы, будет, — прервал Андрей Юрьевич и, повернувшись, пошел прочь по двору и тем окончательно показал свое невежество, что так его от скупости прорвало.
Псы, не разумея человеческого разговора, жарко дышали разинутыми пастями и рвались с поводков.
— Ну, попадья, чего тебе привезти из Киева? — спросил Феодор, вернувшись домой и уже ни о чем не помышляя, кроме того, ка-ак он их всех порасшвыряет, словно щепки. — Слышь, для меня там собор собирают, вон как.
— А оно не страшно? — спросила попадья — спокойно, впрочем, спросила в уповании на траву измодин.
— Бог не выдаст, свинья не съест, — ответил Феодор.
С бодрым духом, не позволяя себе пугаться и сомневаться — ибо испуг и сомнение суть первые шаги к несчастью, — отслужил молебен и поехал.
Взял всякой снеди на дорогу, денег от князя, подарки митрополиту и игумнам, крепкую охрану.
Лошадки бежали весело. Алмазами переливались снега. Чем дальше от супостатов, от ненависти их и строптивости, тем благостней становилось на душе у Феодора.
Попу меня, конечно, не понять, размышлял он, поп тугоумен и косен, лишь свою ничтожную выгоду видит, где ему прозреть государственный размах наш с князем. Другое дело пастырь, мне чином равный, с ним мы всегда сговоримся. Ну-ка, отцы, скажу, полно меня обличать, сами хороши, давайте-кось сядем рядком да потолкуем, отложив злобу в сторону…
Под вечер остановился на постоялом дворе.
Дрянной двор, вокруг избы нагажено, нечищеное крыльцо обледенело, а главное — для хороших постояльцев всего одна имелась комната, и та не ахти что, и в ней уже находились двое: один, сразу видно, чужестранец, другой, кажись, наш, но тоже в иностранном платье. При свете трескучей лучины они пили вино, заняв единственный стол, и на лавках у теплой стены уже были постланы для них постели. Все это отметил Феодор, заглянув в дверь. С неудовольствием спросил у хозяина:
— Кто такие? Как бы их отсюда того?
— Господин, никак нельзя, — зашептал испуганный хозяин. — Этот рыжий — посол от Ганзы, в Киев едет с охранной грамотой, при нем стража большая, тут рядом ночуют… А другой — из Новгорода — у него толмач.
С Киевом не время ссориться, подумал Феодор. Смирюсь.
— Но чтоб мне постель у печи, — сказал, — и поширше. И сбитню подать горячего.
Путешественники встали, когда он вошел. Новгородец принял благословение, а рыжий, поклонясь, сел и налил себе еще вина. Оба они были молодые, поджарые, не успевшие нарастить на кости мясо и сало. На обоих короткие кафтаны со сборками у плеч, шерстяные чулки, башмаки с пряжками. Завитые волосы закрывали лоб до бровей. Их шубы сушились на лежанке, источая запахи медведя и волка.
Слуги сняли шубы с Феодора и положили туда же, и звериный запах в комнате еще стал гуще. Слуги сняли с Феодора валенки и растерли ему ноги суконкой, а Феодор в это время показывал ганзейскому послу, что он, Феодор, за человек: сидел, отдав босые ноги в руки слуг, и читал записи в своей писчей книжке, которую достал из серебряного кожушка. Он заметил, что посол на него посматривает с большим любопытством, а новгородец не отрываясь смотрит на его клобук.
Само собой, подумал Феодор, кто в Новгороде обо мне не наслышан? Обо мне наслышаны по всей Земле Русской. И Греческой, надо полагать. Должно быть, и по всей Европе. Если в Европе еще не наслышаны, то услышат, дайте срок… Малый из Новгорода глаз с меня не сводит. Смотри, смотри. После детям и внукам рассказывать будешь, какая твоей скромной юности выпала встреча. А внуки будут спрашивать: неужто тот преславный Феодор, который одолел всех своих врагов, в том числе патриарха! тот Феодор, что великие дела совершил и выше князей стал…
Тем временем другие Феодоровы слуги разогрели щи, взятые в дорогу в замороженном виде, и внесли полную мису. Прекрасное грибное благоухание распространилось от мисы и возобладало над звериными запахами. Феодор увидел, что сухопарые глотают слюни, и обратился к ним с важной ласковостью, предлагая покушать вместе. Они поблагодарили и пересели ближе, им подали ложки, и втроем они стали хлебать горячие щи, изготовленные под присмотром голубоглазой попадьи. Потрескивала лучина. Широкий бок печи, обмазанной глиной, дышал теплом. Подали сбитень, и от сбитня Феодор разгорячился, по обыкновению, больше, чем те от заморского вина, и ему надоело быть таким важным. Захотелось рассказать этим учтивым щеголям, которым, наверно, не все известно, о своих делах. И так как они слушали внимательно, не перебивая, только время от времени толмач скороговоркой вкратце пересказывал послу епископские речи, — Феодор расхвастался, сановность с него соскочила, он подмигивал, и шептал, и рыкал львом, и ударял себя по коленкам.
— Да что они думают! — восклицал. — Да меня князь Андрей Юрьевич разве на кого променяет? Я у него правая рука! Моими мыслями мыслит! Мы с ним, Андреем Юрьевичем, как братья любящие, как приснопамятные Борис и Глеб — в вечном единодушии…
— До сих пор не вышло по-ихнему, — говорил, ребром ладони рубя по столу, — и впредь не выйдет. Собор — подумаешь. Кто судить-то меня собрался? Кроме отца Кирилла Туровского да, может, Константина митрополита, я его не знаю, — никто и не читал ничего. Служебник один затвердили, и тот нетвердо. Я их речениями из писания закидаю выше ушей, не говоря уж о том, что за мной суздальская рать стоит. Пускай-ка дерзнут чего-нибудь на меня: сейчас Андрей Юрьевич будет под стенами Киева! Достанется им почище прошлогоднего!
— А патриарх-то! — шептал. — Хлопочет о нашем девстве, а сам полюбовниц держит. Небось у себя в Византии терпит женатых епископов почему? Потому что если он их от жен отлучит либо лишит епископства, они его блуд обнародуют, вот почему! А мою супругу, господом со мной сочетанную, в монастырь велит упечь, чтоб я ее больше и не видал до встречи за гробом. Не несносно ли? Где, вопрошаю, больше греха: пребывать в законе с ангелом добродетели или с непотребными бабами вожжаться, прах их возьми?!
— Сменой вещей держится свет, — гремел пророчески. — О чем, как не о судорогах перемен, вещают святые книги? От грехопадения прародителей начиная — разрушение за разрушением и обновление за обновлением! А мы всякой новизны дрожим, как мыши кота! Шагу не ступим по своему разуму! Когда епископам воспрещено пребывать в браке? Полтыщи лет назад, вон когда! Трулльский собор, правило сорок восьмое… Так что же, вопрошаю! Еще тыщу лет по сорок восьмому правилу нам жить? Если зрим в нашем устройстве несовершенства — кто призван устранять их? Пастыри могущие! Мудростью и властью облеченные!
Вошел мужик с охапкой дров и высыпал их с грохотом у печи, серость деревенская, прервав течение речи Феодора. Впрочем, прикинул Феодор, последние слова завершают эту речь как нельзя лучше. Вьюноши, без сомнения, будут передавать их из уст в уста. С той же целью, с какой листал писчую книжку, он поковырял в зубах золотой зуботычкой, потом встал, сунул ноги в нагретые валенки и вышел за нуждой на крыльцо под крупный рогатый месяц. Во дворе ни души не было. Величавым взором Феодор окинул с крыльца убогое хозяйство, месяц, серебряный растекающийся дым вокруг месяца. Мороз был жестокий, разом хлынул в рукава рясы. Страдальчески где-то завыла собака, и тоска вдруг ужалила Феодора, такая тоска, что он воззвал всей душой отчаянно: «Господи!» — но поспешил вспомнить, что за ним его князь и рать суздальская и что он их там позакидает речениями выше ушей. И, зевнув, вернулся в избу.
И спал сладко, раскрыв сочный рот наподобие буквы «о» и всхрапывая, а раным-рано уже несся дальше неширокой дорогой, проложенной полозьями по просеке среди леса.
Серенькое, пепельное было утро, реденький реял снежок, небо по сторонам просеки закрещено мелкими крестиками еловых вершин.
Мчатся сани по накатанной дороге, заливаются бубенцы, со звоном мчится знаменитый нареченный епископ Феодор в город Киев.
Ой, Феодорец. Не к добру ты раззвонился.
Этим сереньким утром все кончается. Больше не взойдет твое солнце.
Не сядешь ты рядом с Кириллом Туровским, ни с кем не сядешь — рыкая бессильно, будешь перед ними на коленях, как преступник.
Утомился Андрей Юрьевич играть с твоим огнем.
Не вышла игра, он отворачивается и прочь идет. У него других много игр.
И суздальские ратники отсыпаются в теплых избах, распоясавшись и разувшись. Не придут они под стены Киева спасать тебя.
Гляди, Феодорец, на крестики елей, на тихо оседающие снежинки.
Села снежинка на рукав. О шести лучах. Дивной тонкости, дивной отчетливости, без единого изъяна. Какая это кружевница плетет такое без единого изъяна?
Гляди на снежинку.
Говори что-либо. Приказывай, пока есть кому. Хвастайся. Размахивай руками. Не придется больше. Ни в одном сердце не найдешь ты милосердия — и как просить тебе о милосердии? Скажут: какою мерой меришь, возмерится и тебе. Судбе з милости несотворившему милости. Ой, куда скачешь, Белый Клобучок!..
1966
Примечание
Главное лицо этой повести — поп Феодор, духовный спутник князя Андрея Боголюбского, принявший сан епископа Владимирского, а затем осужденный и разжалованный Киевским церковным собором. «Эта жалкая, с двойным дном и непомерными претензиями фигура, одна из ярчайших в княжении Андрея Боголюбского, привлекла мое внимание, — замечает Панова, — как почти точный прототип знаменитого Никона, вызвавшего своей деятельностью столько волнений в царствование Алексея Михайловича, отца Петра Великого. Как Никонова патриаршая панагия, иерейский крест Феодорца залит кровью. То же властолюбие, та же заносчивость беспримерная» («О моей жизни…»[1] С. 525 526).
Таким образом, и в самой русской истории, духовной и светской, внимание Пановой привлекали не просто колоритные лица, яркие индивидуальные фигуры, чем-либо знаменитые и известные, но фигуры типические, повторявшиеся, по которым отчетливо вырисовывается психология и типология личной власти.