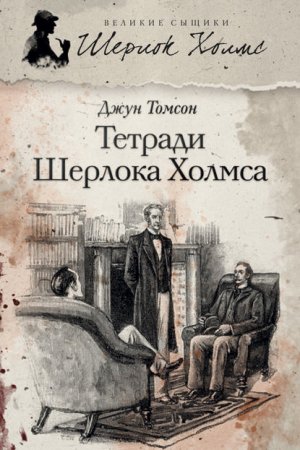
Предисловие
Любопытно, что шерлокинисты по большей части предпочитают писать романы, а не рассказы. Правда, один из самых первых и самых «канонических» пастишей – это все-таки сборник рассказов: я имею в виду «Подвиги Шерлока Холмса», написанные совместно сыном Артура Конан Дойла Адрианом и английским писателем Джоном Диксоном Карром, который, кстати, был заядлым поклонником Шерлока Холмса и автором биографии сэра Артура. Получилось у них весьма и весьма неплохо, ведь Адриан с детства впитывал повествовательную манеру отца, а Джон Диксон Карр славился мастерством построения детективных сюжетов.
По-моему, у Джун Томсон – тоже англичанки и тоже мастера детективного жанра – получилось отнюдь не хуже. Родилась она в год смерти Артура Конан Дойла, 1930-й, много лет проработала учительницей в школе, живет в провинциальном английском городке. Придумала своего собственного сыщика, официального сотрудника полиции Джека Финча, и его верного сержанта Тома Бойса, которые раскрывают преступления в английской глубинке. И (на данный момент) выпустила шесть сборников рассказов о Шерлоке Холмсе и докторе Уотсоне.
Сам Конан Дойл однажды пожаловался: «Основная трудность написания рассказов о Холмсе заключалась в том, что для каждого из них требовался столь же изощренный и четко выстроенный сюжет, как и для большой книги. Выдумывать такие сюжеты изо дня в день довольно тяжело. Они становятся невнятными или занудными». И действительно, в литературной критике это давно уже стало общим местом: строгая, компактная форма рассказа в определенном смысле требует куда большего мастерства, чем пространный роман, потому что создать в коротком произведении целый мир и населить его зримыми персонажами очень трудно – тут нужны точные штрихи, продуманные мазки и виртуозная отделка. Кстати, великие прототипы всех детективов на свете – рассказы Эдгара По об Огюсте Дюпене – прекрасно иллюстрируют эту мысль. Автор, признанный мастер «страшного» рассказа, создает в них странноватую, мглистую, затягивающую в себя атмосферу, на фоне которой особенно четко выделяется безупречная логическая конструкция. Конечно, писателю, который пишет серию рассказов, в определенном смысле проще: он встраивает новых персонажей в уже существующий мир. Автору детективов проще, чем автору жанровых миниатюр: никто не ждет от него детальной проработки всех характеров и глубины погружения во внутренний мир героев. Однако детективный рассказ окажется мертворожденным, если читатель не сможет прочувствовать атмосферу места действия, а главное – если читателя не захватит сюжет и не будет крепко держать до самого конца.
А посему неопытным авторам детективных рассказов свойственно допускать ошибки. Они втискивают в короткую форму столько невнятных персонажей, что даже главным героям делается тесно. Они пихают туда броскую одежду, дорогие вина и помпезные отели, чтобы хоть этой хитростью отвлечь читателя от разгадки, которая в противном случае слишком явственно будет торчать из текста.
Джун Томсон не прибегает к подобным дешевым уловкам. Рассказы ее предельно просты по форме, а главное – очень скудно населены. В том-то и состоит настоящее мастерство: замаскировать подозреваемого в толпе гораздо проще, чем в маленькой тесной компании. И тем не менее миссис Томсон это удается. Придерживаясь четкости и простоты – основных правил, выработанных Артуром Конан Дойлом, – она создает очень правдоподобные подражания. И неважно, придумывает ли она сюжет от начала до конца, как в случае с убийством валлийского фермера, или подхватывает мячик, брошенный Конан Дойлом, как в случае с мадам Монпенсье, обвиненной «в убийстве падчерицы, молоденькой мадемуазель Карэр, которая, как известно, полгода спустя объявилась в Нью-Йорке и благополучно вышла там замуж», – об этом сказано в «Собаке Баскервилей». Главное – в этих рассказах, в отличие от многих других, куда более изощренных и кровавых подражаний Артуру Конан Дойлу, сохранена не только буква, но еще и дух оригинала – простота и строгость линий. В одном лишь, пожалуй, миссис Томсон отступает от заветов мастера: официальные сыщики у нее куда смекалистее, расторопнее и вообще симпатичнее, чем в оригинальных историях. Что же, простим ей это, ведь чем больше на свете (или в книжке) симпатичных людей, тем лучше.
Кстати, помимо сборников рассказов миссис Томсон – автор биографии Холмса и Уотсона. Одной из очень многих. Но биография эта носит очень красноречивое название: «Этюд о дружбе». В конце концов, нельзя забывать, что именно дружба была одной из главных тем произведений Артура Конан Дойла, если не самой главной.
Александра Глебовская
Предисловие
Обри Б. Уотсон, врач-стоматолог
Возможно, некоторым читателям уже известно, каким образом в моем распоряжении оказалась подборка ранее не опубликованных рассказов о Шерлоке Холмсе, доставшаяся мне от моего покойного дяди. Для тех, кто не знаком с подробностями этой истории, я в двух словах изложу ее.
Мой покойный дядя, доктор Джон Ф. Уотсон, преподавал философию в колледже Всех святых, входящем в состав Оксфордского университета. Будучи почти полным тезкой и однофамильцем доктора Джона Х. Уотсона – друга и биографа Шерлока Холмса, – дядя занимался изучением жизни и личности своего соименника и мало-помалу сделался крупным специалистом в этом вопросе. Именно поэтому некая пожилая дама, мисс Аделин Маквертер, обратилась к нему с предложением, которое непременно должно было его заинтересовать.
Мисс Маквертер как будто приходилась первому доктору Уотсону – другу Шерлока Холмса – родственницей по материнской линии. После смерти доктора она получила в наследство жестяную коробку с рукописными отчетами о расследованиях мистера Холмса, которые по разным причинам так и не были опубликованы. Находясь в стесненных обстоятельствах, эта дама предложила моему дяде выкупить коллекцию, которую доктор Джон Х. Уотсон хранил в банке «Кокс и компания» на Черинг-Кросс-роуд.
Мисс Маквертер показалась дяде честной и респектабельной особой, и он купил коробку вместе со всем содержимым, несомненно выложив за нее кругленькую сумму. Однако ввиду сложного международного положения (это происходило в сентябре 1939 года, сразу после того, как Британия объявила войну Германии) дядя решил поместить рукописи в свой банк в Лондоне. Перед этим он снял с них копии, на случай если с оригиналами что-нибудь приключится.
К сожалению, дядя как в воду глядел.
В 1942 году во время налета вражеской авиации банк сильно пострадал от прямого попадания бомбы. Правда, коробку удалось отыскать среди развалин, однако ее содержимое превратилось в груду обгорелых клочков бумаги. Нельзя было разобрать даже имя, указанное на крышке: «Джон Х. Уотсон, отставной офицер военно-медицинской службы».
Хотя у дяди по-прежнему оставались копии уотсоновских рукописей, он ничем не мог подтвердить, что когда-то существовали и оригиналы. Мисс Аделин Маквертер исчезла – она уехала из пансиона в Южном Кенсингтоне, где проживала ранее, не оставив нового адреса.
Не имея доказательств подлинности архива Уотсона и беспокоясь о своей научной репутации, дядя принял решение не обнародовать копии. Перед смертью, наступившей 2 июня 1982 года, он отписал их мне. Поскольку о самой жестяной коробке и ее обгоревшем содержимом в завещании ничего не говорилось, я предполагаю, что сотрудники дома престарелых, в котором скончался дядя, выбросили ее на помойку, приняв за ненужный хлам.
У меня тоже имелись сомнения, стоит ли публиковать эти копии, но поскольку я простой стоматолог и не имею научной репутации, которую нужно защищать, то, рискуя прогневать серьезных шерлоковедов, я все же решился на издание.
Впрочем, ручаться за подлинность этих рукописей я не могу, и мне остается лишь предупредить об этом читателей, повторив древнюю мудрость: Caveat emptor[1].
Дело о подделке
Эта любопытная история случилась через шесть лет после того, как мой старый друг Шерлок Холмс вернулся в Лондон после своей мнимой гибели в Рейхенбахском водопаде[2] и я вновь поселился с ним в нашей общей квартире на Бейкер-стрит. Все началось довольно прозаично: мальчик-рассыльный[3] принес в нашу гостиную чью-то визитную карточку и отдал Холмсу, который, удивленно подняв брови, изучил ее, а затем передал мне.
На карточке значилось:
Арчибальд КасселлТорговля произведениями искусства
Галерея «Сокровищница». Бонд-стрит, Лондон
Ниже было приписано от руки:
Простите за нежданное вторжение, мистер Холмс, но мне бы хотелось проконсультироваться с Вами по одному срочному делу.
– Что вы думаете, Уотсон? – спросил Холмс. – Пустить сюда этого Арчибальда Касселла?
– Вам решать, Холмс, – ответил я, втайне польщенный тем, что он советуется со мной.
– Что ж, отлично. В настоящий момент дел у нас немного; пожалуй, мы его пригласим. Проводите мистера Касселла наверх, Билли.
Через минуту вышеозначенный господин появился в гостиной. Это был высокий, представительный седовласый джентльмен в визитке безукоризненного покроя и очках в золотой оправе. Небольшой кожаный портфель у него под мышкой свидетельствовал о том, что перед нами деловой человек. Однако мне показалось, что встревоженный вид гостя как-то не вяжется с его респектабельной внешностью.
Мы обменялись рукопожатиями, затем Холмс попросил гостя присесть. Тот помолчал, а затем вдруг выпалил:
– За все годы работы я никогда не сталкивался ни с чем подобным, мистер Холмс! Признаюсь, я совершенно сбит с толку! Потому и пришел просить у вас совета.
– Я слушаю, – сухо ответил Холмс. – Предлагаю вам начать с самого начала.
– Разумеется, мистер Холмс, – ответил мистер Касселл, явно пытаясь взять себя в руки. – Как указано на моей визитной карточке, я торговец произведениями искусства. Через мои руки прошли сотни картин, среди них и баснословно дорогие, однако до вчерашнего утра я ни разу не попадал в столь затруднительное положение. Такого со мной еще не было, откровенно говоря, сэр, у меня просто руки опускаются.
Вчера утром в мою галерею явилась некая дама. Она представилась как миссис Элвайра Гринсток, вдова Горацио Гринстока, который скончался два месяца назад и оставил ей все свое имущество, в том числе большое количество картин. Судя по всему, мистер Гринсток тоже немного приторговывал произведениями искусства – совсем немного, ибо я никогда не слыхал о нем, хотя могу похвалиться знакомством почти со всеми торговцами и коллекционерами из художественной среды. Миссис Гринсток пожелала, чтобы я оценил одну из картин его собрания. Я часто оказываю клиентам подобную услугу, и беру за это, кстати сказать, совсем недорого. Обычно мне приносят всякий хлам, которому грош цена. Однако я терпеливо принимаю таких клиентов, потому что существует крошечная вероятность того, что у меня в руках окажется неизвестная или утерянная работа великого мастера. Такие случаи известны.
Думаю, мне следует описать вам, как выглядит сама миссис Гринсток, так как ее внешность повлияла на мое решение проконсультироваться с вами не меньше, чем картина, которую она мне показала.
Он смолк, стараясь получше припомнить клиентку. Вид у него при этом был растерянный, словно для него оказалось затруднительно во всех подробностях восстановить облик этой дамы. Наконец он разъяснил причину своих колебаний:
– Простите, мистер Холмс, я мало что могу о ней сказать, кроме того, что выглядит она на редкость необычно. Это высокая и, судя по речи, образованная женщина, но поскольку она носит глубокий вдовий траур, в том числе густую длинную черную вуаль, я не могу описать ее черты. Не знаю даже, какого цвета у нее волосы и глаза. Она принесла с собой небольшой кожаный саквояж, достала из него картину, выложила передо мной на стол и попросила определить ее стоимость.
С этими словами мистер Касселл открыл портфель, который стоял у его ног, вынул оттуда холст и повернул его к нам лицом.
Это была написанная маслом картина размером примерно восемь на шесть дюймов[4]: сельский пейзаж с пышными ветвистыми деревьями, живыми изгородями, привольными лугами, нивами и едва видневшимся на горизонте церковным шпилем. Надо всем этим было небо с сияющими облаками, словно подгоняемыми легким ветерком.
Признаюсь, я не знаток живописи и вообще-то предпочитаю пейзажам портреты. Тем не менее я решил, что эта прелестная сцена, запечатлевшая красоты сельской Англии, вероятно, написана в начале девятнадцатого века. Поэтому я был озадачен пренебрежительным тоном мистера Касселла, заметившего:
– Дама утверждала, что это Констебл[5]. На самом деле, разумеется, подделка.
– Разумеется, – пробормотал Холмс, соглашаясь. – На это указывает живопись облаков, хотя в целом мы имеем дело с мастеровитым художником.
– О, вы правы! – подтвердил мистер Касселл. – Кто бы он ни был, это не дилетант. Человек, менее сведущий в живописи, чем я, решил бы, что картина подлинная. Однако здесь отсутствуют та текучая изменчивость облаков, та игра света на листьях и траве, которых Констебл умел добиться несколькими мазками кисти.
– Принимая во внимание все вышесказанное, мистер Касселл, – промолвил Холмс, откинувшись на спинку кресла и соединив кончики пальцев, – я совершенно не понимаю, в чем состоит затруднение, о котором вы упоминали. Если картина поддельная, вам нужно всего лишь послать за владелицей и сообщить ей об этом.
– Полностью с вами согласен, – ответил наш гость, – я так бы и поступил, но, к несчастью, существуют два обстоятельства, которые препятствуют этому. Во-первых, я не могу послать за владелицей, поскольку не знаю ее адреса. Она отказалась его сообщить, сказала только, что через пару недель сама зайдет в галерею за ответом.
Мистер Касселл положил картину на стол, оборотной стороной вверх. Взгляд Холмса лениво скользнул по ней.
Я знаю Холмса много лет. Не претендуя на исчерпывающее знакомство с его характером, я, однако, горжусь тем, что, как бы он ни пытался скрыть признаки зародившегося у него любопытства, я непременно их подмечаю. Другим людям это не всегда удается. Вот и теперь он лишь слегка приподнял правую бровь, плечи его напряглись, но мне стало ясно: какая-то деталь на обороте холста возбудила его интерес.
Уловив это, я пристально взглянул на картину, пытаясь понять, что именно привлекло его внимание, но ничего необычного не увидел. Оборот холста был закрыт обыкновенной коричневой бумагой, приклеенной к задней стороне рамы, возможно для защиты от пыли.
Холмс произнес:
– Вы упомянули о двух обстоятельствах, мистер Касселл. Первое – это то, что миссис Гринсток не оставила своего адреса. Адрес легко выяснить, дорогой сэр, если вы позволите мне навести кое-какие справки. Каково же второе обстоятельство?
Этот вопрос как будто несколько смутил мистера Касселла. Сделав извиняющийся жест, он ответил:
– Мне почти стыдно признаться, но это обычное любопытство. Кто эта дама, что называет себя миссис Гринсток? Повторюсь, я никогда не слыхал о коллекционере с таким именем. И для чего она спряталась под густой черной вуалью, которой в продолжение нашего разговора ни разу не подняла, словно боялась, что я могу ее узнать?
– Превосходно, сэр! – воскликнул мой друг. – Замечательный логический вывод!
Эта похвала, кажется, не слишком ободрила нашего гостя.
– Возможно, мистер Холмс, но личность ее так и осталась загадкой. Вы готовы заняться этим делом? Честно говоря, оно меня очень тревожит. Разумеется, я не стану покупать у нее эту картину. Но что, если она попытается подсунуть ее другому, не столь искушенному торговцу? Думаю, старая мудрость – Caveat emptor – применима в любом деле, но в данном случае на кон поставлена репутация всего художественного сообщества. Я не могу позволить обманщице, подделавшей полотно или воспользовавшейся подделкой другого художника, сбыть его с рук, выдав за подлинную работу прославленного мастера. Даже если не брать в расчет эстетические соображения, это явилось бы попустительством уголовному преступлению.
– Понимаю, – учтиво ответил Холмс. – Чтобы успокоить вас, я, разумеется, возьмусь за это дело. Вы сказали, что через две недели ваша посетительница снова придет в галерею?
– Да, мы так условились.
– В котором часу?
– В одиннадцать.
– Тогда, с вашего позволения, мы с доктором Уотсоном тоже заглянем в галерею в назначенный день, только на четверть часа раньше. А пока что скажите, можете ли вы оставить картину у нас?
Мистер Касселл, кажется, слегка удивился, но уступил просьбе и, пожав нам руки, удалился.
Как только за посетителем захлопнулась дверь, Холмс радостно засмеялся.
– За работу, Уотсон! – воскликнул он.
– А что мы будем делать, Холмс?
– Исследовать картину, разумеется! Но прежде попробуем кое-что разузнать о личности таинственной дамы. Будьте любезны, спуститесь вниз и велите Билли принести таз с теплой водой, полотенце, маленькую губку и чистую льняную тряпицу, а я тем временем загляну в свою картотеку[6].
Он взял с книжной полки пухлый том, а я вышел из комнаты, изумленный его распоряжениями. Для чего ему понадобилась эта картотека?
Я так и не нашел ответа на свой вопрос. Когда я вернулся в гостиную в сопровождении Билли, тащившего все необходимые предметы, Холмс стоял у камина с подшивкой газетных статей в руках, готовый зачитать вслух обнаруженные им сведения. Когда рассыльный вышел, он сказал:
– Итак, Уотсон, наш клиент предположил, что эта дама, миссис Гринсток, не пожелала открыть вуаль, чтобы он не узнал ее. Но если мистер Касселл действительно не знает коллекционера с таким именем, как он сам сказал, маловероятно, чтобы они с ней когда-нибудь встречались. Поэтому мне пришло в голову, что посетительница, возможно, желала скрыть какое-то уродство. Тут я вспомнил, что четыре года назад в газетах появлялось сообщение о трагическом происшествии, когда женщина получила ужасные увечья. Я особо отметил его, поскольку оно случилось близ вокзала Паддингтон, где у вас когда-то была практика. Имя пострадавшей тоже было весьма необычно. Я никогда не встречал его раньше. Поэтому я вырезал статью из «Дейли ньюс» и добавил в свою картотеку. Вот, Уотсон, можете прочесть сами.
Он передал мне подшивку, открытую на нужной странице. Это было сообщение под заголовком «Ужасный случай в Паддингтоне»:
Вчера вечером на Прэд-стрит в Паддингтоне сильно разогнавшийся кэб сбил проходившую мимо даму, миссис Лавинию Конк-Синглтон, проживающую на Кум-стрит в Бейсуотере[7]. Пострадавшая, вдова мистера Горация Конк-Синглтона, банкира и коллекционера-любителя, с множественными порезами и синяками на лице была доставлена в находящуюся поблизости больницу Св. Марии. Кэбмен, мистер Джордж Пакер из Бетнал-Грин[8], был доставлен в ту же больницу в бессознательном состоянии.
– Так ее муж все же был коллекционером! – воскликнул я.
– И наш клиент вполне мог его вспомнить, если бы она назвалась настоящим именем. Он даже мог узнать ее, хотя я в этом сомневаюсь. Полагаю, она носила плотную вуаль для того, чтобы скрыть шрамы. Когда мы с ней увидимся, у нас будет возможность проверить это предположение. А теперь, Уотсон, продолжим расследование. Будьте добры, расстелите на столе полотенце, и я приступлю к осмотру картины.
Я положил на стол полотенце, поместил рядом таз с теплой водой, губку и чистую льняную тряпицу, а Холмс достал скальпель. Я было решил, что он собирается протереть поверхность полотна, чтобы удалить загрязнения. Однако, к моему удивлению, он перевернул картину оборотной стороной вверх, окунул губку в воду и начал осторожно промакивать ею края коричневой бумаги, наклеенной на раму.
– Холмс! Вы уверены, что стоит это делать? Пусть это подделка, тем не менее она принадлежит миссис Конк-Синглтон!
– Верно, – ответил Холмс. – Но я не нанесу вреда самой картине. Просто хочу удалить бумагу, наклеенную кем-то, очевидно самой миссис Конк-Синглтон, совсем недавно.
– Недавно?
– В течение нескольких последних недель, не раньше, судя по хорошему состоянию бумаги. Но зачем ей понадобилось закрывать оборот холста?
Тем временем Холмс продолжал увлажнять бумагу, пока она не начала отставать от рамы. Тогда он взял скальпель и с его помощью отсоединил лист от деревянных планок, раскрыв то, что находилось под ним.
Там оказалась другая картина, также написанная маслом, но покрытая сильно потемневшим старым лаком, так что было трудно разобрать, что на ней изображено. Кажется, это был какой-то интерьер, так как слева я смутно различил окно, через которое лился бледный солнечный свет, освещавший две фигуры, помещенные в центре полотна. Судя по одежде, это были женщины – одна в тускло-зеленом, другая в грязно-синем платье.
Холмс взял увеличительное стекло, поднес картину к окну и стал тщательно изучать ее при ярком дневном свете. Завершив осмотр, он передал лупу мне, но даже с ее помощью разглядеть изображенную сцену было очень трудно. Я сообщил об этом Холмсу, и тогда он прибегнул к совершенно безответственному, если не сказать топорному, методу, как показалось мне вначале. Взяв белую льняную тряпку, он поднес ее к губам и смочил слюной, а затем протер ею небольшой участок картины.
– Холмс! – вырвалось у меня, но не успел я и глазом моргнуть, как он повторил свой варварский маневр, а затем передал картину мне.
– Теперь смотрите, Уотсон!
Я взглянул на полотно и поразился. Тот участок холста, с которым он обошелся столь немилосердно, неожиданно преобразился и посветлел, будто грязное окно после того, как его протерли влажной тряпкой. Бесцветная муть уступила место четкому изображению одной из женских фигур в центре картины. Это была молоденькая белолицая девушка со светлыми волосами, уложенными на макушке в затейливую прическу. Несколько минут она улыбалась мне, затем слюна высохла, образ померк, и я опять видел только смутный абрис фигуры, покрытый коричневым налетом грязного старого лака.
Холмс расхохотался:
– Дорогой Уотсон! Если бы вы видели свое лицо! Вы были само замешательство и недоумение.
– Настоящий мираж, Холмс! – ответил я. – Только что изображение было здесь – и вот его уже нет! Но отчего?
– Все довольно просто. Слюна является слабым растворителем. Если протереть ею поверхность старого лака, который со временем загрязняется и темнеет, нижний живописный слой ненадолго проявляется. Однако слюна высыхает, эффект пропадает, и остается лишь размытое пятно. Это старый прием, им пользуются антиквары, когда к ним попадает потемневшее полотно. Хотите попробовать сами, Уотсон? – добавил Холмс, отдавая мне льняную тряпицу. – Потом мы смоем слюну небольшим количеством чистой воды.
Хотя мне, как врачу, претил негигиеничный холмсовский метод, я был очарован его результатом и, выбрав для эксперимента лицо второй фигуры, стоявшей чуть позади первой, обильно поплевал на тряпицу и протер ею холст. Грязь исчезла, и передо мной предстала цветущая девушка с сосредоточенным лицом, в белом чепце служанки на темных волосах.
Мое изумление было столь велико, что я уже собирался продолжить эксперимент, но Холмс, посмеиваясь, отобрал у меня тряпку и протер два расчищенных нами участка губкой, с помощью которой он удалял бумагу.
– Вы увлеклись, приятель! – шутливо выбранил он меня. – Теперь надо осмотреть раму. Полагаю, мы найдем еще улики.
– Какие улики? – спросил я. Мне было сложно представить, что интересного там можно отыскать. Рама была изготовлена из дерева; в противоположность лицевой ее стороне, вызолоченной и украшенной причудливой резьбой, оборотная была совершенно гладкой, если не считать нескольких случайных мазков позолоты вдоль кромок.
– Взгляните, – сказал Холмс, протягивая мне лупу, но даже с ее помощью я не увидел ничего, что могло бы хоть как-то сойти за улики: передо мной была лишь шершавая поверхность древесины.
Холмс склонился над моим плечом и, тыча в раму длинным пальцем, нетерпеливо воскликнул:
– Вот, приятель! Вот еще! И еще!
В том месте, куда он указывал, виднелись маленькие гвоздики, вбитые под углом с внутренней стороны рамы: они удерживали холст в нужном положении.
– Вы имеете в виду гвозди, Холмс? – спросил я.
– Отчасти, Уотсон. Вы недалеки от разгадки. Что вы видите, кроме них?
– А! – воскликнул я, наконец заметив, что рядом с некоторыми гвоздиками имелись царапины – совсем свежие, если судить по более светлому цвету древесины. – Раму случайно повредили, когда вынимали гвозди или, наоборот, вновь забивали их на место.
– И значит?.. – подсказал Холмс.
– Значит, тот, кто подделал Констебла, сперва вытащил гвозди, вынул из рамы холст и вставил его снова оборотной стороной наружу.
– И?
– В самом деле, Холмс! – запротестовал я, понемногу начиная раздражаться. – Что тут еще можно сказать?
– Только то, что человека, который вытаскивал гвозди, явно не назовешь опытным багетчиком. Например, это могла быть миссис Конк-Синглтон.
– Да, разумеется, – согласился я, слегка раздосадованный тем, что все так просто объяснилось. – Это все?
– Не совсем, – смеясь ответил Холмс. – Есть еще одна деталь. Если вы посмотрите на верхнюю часть оборота рамы, то заметите там каплю засохшего клея с приставшим к ней клочком бумаги.
Так оно и было. Вновь наведя увеличительное стекло на раму, я сразу увидел маленький коричневый шарик, твердый и блестящий, словно загустевший сироп. На него налип какой-то крошечный белый кусочек.
Признаюсь, я не понял, что такое это могло быть, но удержался от вопроса: Холмс уже торопливо натягивал пальто.
– Куда же вы? – воскликнул я.
– В галерею мистера Касселла, конечно. Поторопитесь, Уотсон.
– О, Холмс! – разочарованно протянул я. – Мы с Сэрстоном[9] условились в полдень встретиться в клубе, чтобы вместе пообедать и сыграть на бильярде. Теперь уже поздно телеграфировать ему и отменять встречу.
Холмс похлопал меня по плечу:
– Не беспокойтесь, дружище! В любом случае, расследование не закончено. Позднее вы опять примете в нем участие, обещаю вам. А я, разумеется, расскажу вам обо всем, что сумею разведать в ваше отсутствие.
Холмс сдержал слово. Когда я вернулся из клуба, он был уже дома и сообщил мне весьма любопытные вещи.
Услыхав имя Конк-Синглтона, мистер Касселл оживился и поведал Холмсу все, что знал об этом господине, который был немного известен в художественной среде. Этот удалившийся от дел банкир обладал небольшим состоянием. Купив однажды задешево ценную, но ранее неизвестную картину, он вообразил себя крупным знатоком и начал усердно посещать аукционы, скупая невзрачные полотна в надежде повторить успех и с выгодой перепродать приобретенные работы. Некоторые антиквары смеха ради издевались над ним: взвинчивали цену, а потом отказывались от борьбы и уступали ему бросовые холсты по непомерной стоимости. В итоге он разорился и умер банкротом.
О миссис Конк-Синглтон мистер Касселл мало что смог рассказать. Она намного младше мужа, талантливая художница-самоучка, получившая кое-какие профессиональные навыки. Когда супруг оказался на мели, она пополняла семейный бюджет, продавая свои работы, в основном пейзажи, по весьма скромным расценкам. После несчастного случая, изуродовавшего ее лицо, она сделалась затворницей и редко выходит за порог своего дома в Бейсуотере.
– А что же с картиной? – полюбопытствовал я.
– Ах, картина! – усмехнулся Холмс. – Мистер Касселл получит разрешение миссис Конк-Синглтон и произведет профессиональную расчистку, а кроме того, спросит у нее, что за ярлык, возможно, был приклеен на обороте рамы – там, где остался засохший клей. А пока нам остается только ждать.
– Вдруг это произведение кого-то из старых мастеров? – воскликнул я.
– Ах, Уотсон, Уотсон! Этот ваш неизменный оптимизм! Мистер Конк-Синглтон тоже им отличался – и поглядите, что с ним сталось! Возможно, это всего лишь любительская работа, которая ничего не стоит. Давайте-ка подождем.
Кульминация этих событий наступила лишь через две недели. Холмс получил от мистера Касселла телеграмму:
Завтра четыре часа пополудни приглашаю вас обоих чаепитие мою галерею тчк Будет миссис Конк-Синглтон тчк
На следующий день в назначенный час мы явились в галерею, которая оказалась закрыта, поскольку было воскресенье. Мистер Касселл сам отпер нам дверь и проводил мимо висевших на стенах картин в свой кабинет. Холмс находился в отличном расположении духа, я же сгорал от любопытства, желая познакомиться с миссис Конк-Синглтон и взглянуть на расчищенное полотно.
Кабинет мистера Касселла показался мне подходящим местом для развязки. Он так же, как и залы галереи, был увешан картинами, а кроме того, обставлен застекленными шкафчиками палисандрового дерева, в которых красовались изысканные произведения искусства из мрамора и фарфора. Здесь же находился маленький столик, покрытый кружевной скатертью, на которой стояли серебряный чайный сервиз и подставка для торта с аппетитными пирожными. Вокруг стола были расставлены четыре стула; на одном из них лицом к двери восседала миссис Конк-Синглтон.
Она оказалась в точности такой, какой описывал ее мистер Касселл: высокая стройная женщина, с ног до головы облаченная в черное; лицо ее закрывала густая черная вуаль.
Мрачное одеяние и грустный вид этой дамы отбрасывали скорбную тень на окружавшие ее картины в резных позолоченных рамах и изящные безделушки. Но когда мистер Касселл представил ей нас с Холмсом и она заговорила, ее чарующе мягкий голос рассеял печаль.
Картина, из-за которой нас пригласили в галерею, стояла справа от чайного стола, на мольберте, но была накрыта черной шелковой тканью, будучи таким образом совершенно спрятана от посторонних взоров, как и черты лица миссис Конк-Синглтон. Я заметил, что Холмс время от времени посматривал на полотно, я и сам украдкой бросил на него несколько взглядов. Однако мистер Касселл показал нам его лишь после того, как чаепитие завершилось и он расставил стулья перед картиной полукругом.
Было очевидно, что владелец галереи получает от происходящего огромное наслаждение: когда долгожданный момент наступил, он поклонился нам, неожиданно явив артистическую сторону своей натуры, и торжественно объявил, будто фокусник перед представлением:
– Дамы и господа! Картина!
Не хватало лишь барабанной дроби. Мистер Касселл сорвал с картины ткань.
Это было и впрямь волшебное превращение. Картина удивительным образом изменилась: вместо потемневшего бурого полотна перед нами предстало настолько прекрасное произведение искусства, что мне почудилось, будто тут не обошлось без какого-то ловкого трюка.
На картине была изображена опочивальня аристократки, залитая ярким светом, проникавшим через окно в левой части полотна. В сиянии солнечных лучей расплывчатые женские фигуры преобразились. Первая оказалась знатной дамой – светловолосой, одетой в роскошное платье из бледно-зеленого шелка, отделанное кружевами и рюшами. Позади нее стояла служанка, застегивавшая жемчужное ожерелье на шее госпожи. На ней был скромный белый чепец и простое синее платье с фартуком. Это была прелестная юная девушка, должно быть совсем недавно приехавшая из деревни: у нее было сосредоточенное, напряженное лицо, словно порученная ей тонкая и деликатная работа оказалась ей в новинку.
У дальней стены стоял стол, накрытый скатертью с синими и зелеными ромбами. Узор скатерти повторялся на черно-белых плитках пола. На столе рядом со стеклянной вазой, в которой стояли три розовые розы, лежала пара вышитых перчаток. Я был так захвачен ослепительной игрой красок и света, живыми деталями обстановки и облика персонажей, что голос мистера Касселла донесся до меня будто издалека.
– Подлинная работа старого мастера! – объявил он. – Это Ян Вермеер, голландский живописец семнадцатого века, который специализировался на подобных сюжетах[10]. Взгляните на свет, падающий на шелковую ткань юбки молодой дамы! А розы! Они превосходны! Композиция же весьма необычна. Вермеер, как правило, изображал на своих полотнах только одну женскую фигуру, а не две. Картину осмотрел сам мистер ван Хеерден из Национальной галереи. Он объявил, что произведение подлинное, это подтверждается его провенансом.
– Провенансом? – озадаченно переспросил я.
– То есть историей владения картиной. В данном случае нам помог ярлык, который миссис Конк-Синглтон обнаружила на обороте рамы, когда вынимала холст. А вы, мистер Холмс, догадались о его наличии по крошечному пятнышку клея, оставшемуся на раме. К счастью, миссис Конк-Синглтон сохранила ярлык.
Мистер Касселл отвесил поклон Холмсу и даме в знак признания сыгранной ими роли.
– На ярлыке, – продолжал он, – стояла дата: «1798 год», имя: «Бардуэлл» и номер: «275». Я установил, что лорд Бардуэлл скончался в 1797 году в возрасте девяноста двух лет, оставив после себя особняк, полный ценной мебели, картин и других произведений искусства. Единственным наследником лорда оказался внучатый племянник, который, стремясь как можно скорее обратить все это в звонкую монету, продал дом, а его содержимое пустил с молотка. Очевидно, никто не распознал истинной ценности маленького холста, хранившегося в семье согласно описи имущества, в которую мне удалось заглянуть, чуть ли не с середины семнадцатого века. Впрочем, к моменту кончины лорда Бардуэлла картина, вероятно, уже успела потемнеть. На аукционе она проходила двести семьдесят пятым лотом под названием «Интерьер. Голландская школа». Затем, все еще неопознанная, попала на другой аукцион, где ее и купил мистер Конк-Синглтон. Это была исключительно удачная покупка, – добавил мистер Касселл, снова отвесив поклон даме, – ибо теперь стоимость полотна весьма высока.
В знак согласия миссис Конк-Синглтон слегка наклонила покрытую вуалью голову. Затем она промолвила тихим мелодичным голосом, слегка дрожавшим от волнения:
– У меня нет слов, чтобы выразить вам, господа, свою признательность за работу, которую вы проделали, чтобы установить истинное авторство этой картины. Я поручаю продажу Вермеера вам, мистер Касселл, и сердечно благодарю всех вас.
Миссис Конк-Синглтон явно переполняли чувства; немного погодя мистер Касселл проводил гостью к выходу и вызвал экипаж, чтобы доставить ее домой.
Затем он вернулся в кабинет, широко улыбаясь и восторженно потирая руки.
– Как славно все завершилось! – заявил он. – Что и говорить, миссис Конк-Синглтон необычайно повезло. Она будет обеспечена до конца своих дней, и ей больше не придется писать фальшивых Констеблов на оборотной стороне великих произведений, чтобы сэкономить на холсте!
– Положительно счастливая концовка, Холмс, – не удержавшись, заметил я позднее, в экипаже, когда мы возвращались к себе на Бейкер-стрит.
Холмс от души расхохотался.
– Ваш оптимизм и в самом деле оправдан, дружище, – ответил он, украдкой бросив на меня лукавый взгляд. – По крайней мере, в данном случае.
Дело о заблудившемся цыпленке
Стояло прекрасное июньское утро. Было восемь часов, мы с Холмсом сидели за завтраком. Он просматривал корреспонденцию, только что доставленную почтальоном, я рассеянно листал «Дейли ньюс» и довольно уныло размышлял о том, как здорово было бы провести этот день где-нибудь на побережье, вдали от душного шумного Лондона. Внезапно Холмс произнес:
– Как вы смотрите на то, чтобы ненадолго отправиться на море, дружище? В Брайтон, например?
– Невероятно, Холмс! – воскликнул я. – Я ведь только сейчас мечтал об этом. Вы прочли мои мысли.
– На сей раз вы ошибаетесь, приятель, хотя, признаться, временами по вашему лицу можно читать как по раскрытой книге. Я мог бы догадаться, о чем вы думаете, по этим вашим вздохам и тоскливым взорам, бросаемым в окно. Впрочем, мое замечание было вызвано лишь письмом, которое я получил от мисс Эдит Пилкингтон, постоялицы брайтонского отеля «Регаль», судя по почерку – дамы средних лет. Вот что она пишет:
Дорогой мистер Холмс!
Уверена, Вы простите мне отсутствие церемонных предисловий. Я была бы весьма рада получить Ваш совет касательно дела, которое доставляет мне немалое беспокойство. Я служу в компаньонках у одной дамы по имени миссис Хакстебл. Недавно она познакомилась с неким врачом, доктором Джозефом Уилберфорсом, и его сестрой, мисс Аделаидой Уилберфорс, которые также проживают в отеле «Регаль». У меня не имеется никаких доказательств их злонамеренности, и все же их отношения с миссис Хакстебл весьма меня беспокоят. Она вдова, и у нее нет близких родственников, которые могли бы о ней позаботиться.
Поскольку миссис Хакстебл очень больна и нуждается в моих услугах, мне будет весьма затруднительно выбраться в Лондон, чтобы проконсультироваться с Вами. Понимаю, что злоупотребляю Вашим великодушием, но я была бы весьма Вам признательна, если бы Вы сами приехали в Брайтон между двумя и тремя часами пополудни (в это время миссис Хакстебл отдыхает после обеда), чтобы обсудить со мной это дело.
Искренне Ваша,
Эдит Пилкингтон
– Ну, Уотсон, что вы об этом думаете? – продолжал Холмс, сложив письмо и снова убирая его в конверт.
– Что я об этом думаю, Холмс? Боюсь, что ничего. Довольно непосредственная просьба, при том что, по-моему, эта дама весьма рассчитывает как на ваше великодушие, так и на ваше время.
– Нет, нет, приятель, вы не поняли, – нетерпеливо перебил меня Холмс. – Мое время и великодушие тут совершенно ни при чем. Я говорю о деле как таковом. Вспомните одно расследование, которое мы предприняли несколько лет назад. Я говорил тогда о цыпленке, заблудившемся в мире лисиц. Помните?
– Да что вы, Холмс, в самом деле! – запротестовал я. Но он настаивал:
– Помните человека, которого я называл чрезвычайно хитрым и опасным?
Я смолк, усиленно роясь в памяти, чтобы найти кого-нибудь, подходящего под это описание, а Холмс добавил:
– Ну же, Уотсон! Ваша память год от года все ухудшается. Вы должны упражнять ее, как упражняют тело. Представьте себе, что мозг – это комод с выдвижными ящиками, в которых вы храните необходимую информацию. Когда вам требуются какие-либо сведения, вы просто открываете нужный ящик и – алле оп! – вот они, факты. – Он на мгновение остановился, а затем продолжал: – По выражению вашего лица я вижу, что ваши ящики не просто закрыты, но и надежно заперты на замок. Тогда позвольте мне дать вам небольшую подсказку. Прозвище Питерс Праведник[11] освежит ваши воспоминания?
– Ну конечно, Холмс! – Меня внезапно озарило. – Дело леди Фрэнсис Карфэкс, которую тот ужасный проповедник и его жена пытались убить, чтобы похитить ее драгоценности. Но как, ради всего святого, его звали?
Холмс усмехнулся:
– Не буду больше вас мучить, дружище, иначе мы потратим на это все утро. Я просто напомню, что в те времена его звали преподобный доктор Шлезингер. Он выдавал себя за миссионера из Южной Америки, хотя на самом деле родился в Австралии и был одним из самых бессовестных негодяев, каких эта страна когда-либо производила на свет. Его так называемая жена, хотя я сомневаюсь, что их отношения зарегистрированы официально, англичанка. Ее настоящее имя – Энни Фрейзер. Они промышляли охотой на одиноких старых дев или вдов, выманивая у них деньги, драгоценности, акции – все, что можно было немедленно обратить в наличные. Обобрав свою жертву до нитки, они безо всяких угрызений совести отделывались от нее: либо бросали в каком-нибудь захолустном иностранном пансионе, либо попросту расправлялись с ней – так, как намеревались поступить с леди Фрэнсис Карфэкс. Кажется, именно тогда я назвал этих бедных женщин цыплятами, заблудившимися в мире лисиц. Думаю, это определение касается не только их, ибо интуиция подсказывает мне, что в Брайтоне объявился не кто иной, как преподобный доктор Шлезингер со своей супругой.
– Тогда мы должны немедленно действовать, Холмс! – заявил я, с ужасом вспоминая об участи, чуть было не постигшей леди Фрэнсис Карфэкс[12]. Не вмешайся Холмс в самый последний момент, она была бы похоронена заживо.
– Я того же мнения, – согласился Холмс, вставая из-за стола и беря свое пальто и трость. – Телеграфирую прямо сейчас.
– Инспектору Лестрейду?
– Пока что не ему, Уотсон. Сначала мы должны убедиться в своих подозрениях, кроме которых у нас ничего больше нет. В первую очередь нужно добыть факты, затем на их основе разработать план.
И прежде чем я успел предложить себя в спутники, Холмс решительно вышел из комнаты. Через несколько секунд за ним захлопнулась входная дверь.
Не прошло и часа, как он вернулся домой. Вид у него был торжествующий.
– Первое препятствие преодолено, – провозгласил он. – Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе. Я послал телеграмму мисс Пилкингтон в отель «Регаль» и условился встретиться с ней в Брайтоне после обеда.
– В отеле?
– Нет, нет, приятель! Это было бы глупо. Если помните, во время расследования дела Карфэкс мы встречались с Питерсом Праведником лицом к лицу в его квартире на Полтни-сквер. Он может нас узнать. Я предложил мисс Пилкингтон выйти из «Регаля» ровно в четверть третьего, держа в правой руке какой-нибудь предмет, чтобы мы могли сразу ее узнать, и направиться туда, где мы сможем обсудить положение. Это будет первый шаг. Если я удостоверюсь, что доктор Уилберфорс и есть Питерс Праведник, мы сможем предпринять второй шаг, а именно зарезервировать комнаты в том же отеле.
Я хотел возразить против этого предложения, но Холмс улыбнулся и поднял руку:
– Не беспокойтесь, Уотсон, Питерс Праведник нас не узнает – мы изменим внешность. А теперь будьте добры, передайте-ка мне справочник Брадшо[13], я посмотрю, каким поездом нам лучше всего ехать в Брайтон.
Когда позднее мы с Холмсом отправились на вокзал Виктория, я пребывал в необычайном волнении. Прошло довольно много времени с тех пор, как я в последний раз участвовал вместе с ним в расследовании. Сердце у меня забилось еще сильнее, когда я с дрожью отвращения припомнил эту гнусную парочку – Питерса Праведника и его сообщницу. Рядом с Холмсом скучать приходилось редко, и я подумал, что обязан ему не только нашей дружбой и товарищеским общением, но и жаждой приключений, которую он всегда возбуждал во мне.
Мы прибыли в Брайтон за добрых полчаса до условленного свидания с мисс Пилкингтон и коротали время, прогуливаясь по набережной в толпе отдыхающих и наслаждаясь солнцем, морским ветерком и царившим вокруг беспечным настроением. Перед нами открывался восхитительный вид. Слева – искрящееся море и переполненный пляж, усеянный разноцветными зонтиками и напоминавший садовую клумбу; справа – длинная вереница роскошных гостиниц и ресторанов, фасады которых были выкрашены в аппетитные пастельные оттенки – ванильный, персиковый, кремовый, будто изысканные сладости, выставленные в витрине на радость покупателям.
«Регаль» оказался одним из самых больших отелей. Нижний этаж здания по периметру был обнесен застекленной верандой. Некоторые постояльцы устроились там в шезлонгах под сенью многочисленных пальм в горшках. Между ними ловко сновали официанты с подносами, на которых стояли высокие бокалы – там, верно, были ледяной шербет, горячительные напитки и клубничное мороженое.
На следующем углу, прямо напротив недавно открытого Дворцового причала, Холмс взглянул на часы и заметил:
– Пора отправляться на свидание с мисс Пилкингтон, Уотсон.
Мы неспешно вернулись к отелю «Регаль». Когда мы поравнялись с парадным подъездом, швейцар распахнул входную дверь и из вестибюля вышла миниатюрная женщина в сером костюме. Она немного помедлила на ступеньках, окинув взглядом набережную, а затем решительно спустилась с крыльца и прошла не более чем в десяти ярдах от нас. В правой руке у нее была сложенная газета.
– Полагаю, это и есть наша корреспондентка, – проговорил Холмс, и мы двинулись следом за дамой, держа дистанцию, но при этом стараясь не потерять ее в толпе.
Через несколько минут она мельком оглянулась на нас, затем свернула в боковую улочку и вошла в скромную чайную с кружевными занавесками на окне и вывеской «У Купера», висевшей над входом. Мы с Холмсом последовали за ней и все вместе устроились за маленьким круглым столиком, стоявшим в дальнем углу.
– Мисс Пилкингтон, не так ли? – учтиво осведомился Холмс. – Я Шерлок Холмс. Разрешите представить вам моего коллегу доктора Уотсона.
Мы обменялись рукопожатиями с этой низенькой, невзрачной хрупкой женщиной лет пятидесяти, с седыми волосами, собранными в строгий пучок. Резкая, прямая манера держаться выдавала в ней бывшую гувернантку или школьную учительницу.
– Итак, – продолжил Холмс, когда мы расселись за столиком и попросили пожилую официантку принести нам чай с пирожными, – как я уже сообщал в своей телеграмме, ваш рассказ, мисс Пилкингтон, крайне меня заинтересовал, но прежде чем мы примемся за расследование, я должен кое-что выяснить. Надеюсь, вы не возражаете?
– Нет, разумеется, – ответила мисс Пилкингтон. – Я буду только рада помочь вам, потому что дело это касается миссис Хакстебл, моей нанимательницы, и сильно меня беспокоит. Я хочу знать, можно ли доверять ее новым знакомым, этому доктору Уилберфорсу и его сестре.
– Да, доктор Уилберфорс! – пробормотал Холмс. – Не могли бы вы немного рассказать о нем? К примеру, сколько ему лет и как он выглядит?
– Что ж…
Мисс Пилкингтон сделала глубокий вдох и стала рассказывать, да так складно, что, верно, не раз повторяла это про себя.
– Доктор Уилберфорс хорошо сложен, средних лет, лыс, не носит ни усов, ни бороды, лицо у него красноватое.
– Отличное описание! – заметил Холмс.
Меня позабавило, что этот комплимент вогнал мисс Пилкингтон в краску. Мой друг обладал завидным талантом легко успокаивать своих клиентов, особенно дам, если, конечно, хотел этого[14].
– Заметили ли вы у него какие-либо особые приметы, например шрам или родимое пятно?
Тут он бросил на меня быстрый многозначительный взгляд, будто обращая на что-то мое внимание, но я не понял, на что он намекает. Мисс Пилкингтон отрицательно покачала головой.
– Я ничего такого не заметила, – ответила она.
Холмса это, казалось, разочаровало, но он продолжал как ни в чем не бывало:
– Хорошо. Давайте обратимся к другой стороне дела, а именно к личности доктора. Что именно возбудило ваши подозрения?
На этот раз мисс Пилкингтон заколебалась, прежде чем ответить, из чего я заключил, что она не придавала этому вопросу такого же значения, как внешности доктора, и, возможно, полагалась скорее на свою интуицию, чем на рациональные соображения.
Впрочем, помолчав, она внезапно выпалила:
– Это звучит глупо, мистер Холмс, но он слишком много улыбается.
– А! – мягко сказал Холмс, будто отлично понял, что она имела в виду. – «Можно улыбаться и злодеем быть»[15].
Лицо мисс Пилкингтон просияло.
– Шекспир, не так ли, мистер Холмс?
– Да, если быть точным, это сказано Гамлетом о Клавдии – одном из самых коварных негодяев, созданных гением великого поэта.
– Не считая Яго, – подхватила она, а затем с еще большей уверенностью добавила: – Я чувствую, что неспроста они с сестрицей постарались втереться в доверие миссис Хакстебл.
– Неужели? Тогда расскажите мне о своей нанимательнице, миссис Хакстебл, – ответил Холмс и поудобней устроился на стуле, откинувшись на спинку. – Скажем, каких она лет? Из вашего письма я сделал вывод, что ей далеко за шестьдесят. Я прав?
– Да, верно.
– Итак, она вдова и очень больна?
– Ее покойный муж, Джордж У. Хакстебл, владел мастерской по изготовлению шеффилдской столовой посуды[16]. Детей у них не было, близких родственников, насколько я знаю, тоже нет. Он умер около четырех лет назад, оставив вдове дом и внушительное состояние. После его смерти она дала в газеты объявление о найме компаньонки, которая должна была сопровождать ее в зарубежное путешествие. Поскольку я несколько лет жила за границей (обучала детей при различных посольствах и заморских делегациях) и желала сменить род занятий, то откликнулась на объявление, и миссис Хакстебл меня наняла. Мы отправились на континент, путешествовали большей частью по Средиземноморью, отдыхая на водах и морских курортах. У нее астма, знаете ли, и доктор посоветовал сухой теплый климат. Этим летом мы вернулись в Англию, чтобы миссис Хакстебл смогла уладить кое-какие вопросы со своим банком и продать дом в Шеффилде, который прежде сдавала внаем. Дела затянулись, и она решила не оставаться в душном Лондоне, а поехать в Брайтон, куда ее посредник и адвокат легко могут добраться из столицы поездом.
– А теперь расскажите о докторе Уилберфорсе и его сестре. Как они познакомились с миссис Хакстебл?
– Это еще одна причина, из-за которой я беспокоюсь. Когда мы приехали, они уже проживали в «Регале». В первое же утро мы познакомились с ними за завтраком, и они тут же – как бы это сказать? – налетели на нее, словно мухи на мед. Она одинока, и их внимание, особенно доктора Уилберфорса, очень ей льстит.
– А его сестра? Что вы можете сказать о ней?
– Судя по выговору, она, скорее всего, англичанка. Его акцент трудно определить, но он явно не британский.
– Южноамериканский? – предположил Холмс.
– Возможно, – неуверенно промолвила мисс Пилкингтон.
– Или австралийский?
– Это более вероятно, – согласилась она. – Но не поручусь. Я плохо знакома с особенностями австралийского выговора. Мисс Уилберфорс высокого роста. Характер у нее, я бы сказала, сильный, тем не менее она находится в тени своего брата – если они действительно брат и сестра.
– Вы в этом сомневаетесь? – отрывисто спросил Холмс.
– Внешне они совсем не похожи друг на друга, но ведь это ничего не доказывает, верно? Быть может, они единокровные или сводные. Но каковы бы ни были их родственные отношения, мисс Уилберфорс очень близка с доктором.
Открыв свой ридикюль, мисс Пилкингтон извлекла оттуда небольшую белую карточку и протянула ее Холмсу:
– Я нашла это в кармане у миссис Хакстебл вчера вечером, когда вешала в шкаф ее одежду. Она пока не заметила пропажу, а я, зная о вашем приезде, подумала, что это будет вам интересно.
Холмс внимательно изучил карточку и передал мне. На ней был печатный текст следующего содержания:
Клиника «Остролист», Рэндолф-роуд, Харрогейт, графство Йоркшир. Лечение минеральными водами ревматизма, а также сердечных заболеваний, болезней кровеносной и дыхательной систем, общей слабости. Водолечение, гипноз, гальванотерапия, траволечение под постоянным наблюдением квалифицированного врача и опытной медсестры.
– Весьма исчерпывающий список. Похоже, там лечат любые недуги, – криво усмехнулся Холмс, отдавая карточку мисс Пилкингтон. – Сдается мне, в медсестрах там подвизается не кто иной, как мисс Уилберфорс?
– Я тоже так подумала, – согласилась мисс Пилкингтон и с озабоченным видом добавила: – Вы возьметесь за это дело, мистер Холмс? Я все больше и больше тревожусь за миссис Хакстебл. Утром она говорила, что хочет заняться своей астмой. Боюсь, она обратится за помощью к Уилберфорсам. Мне бы хотелось побольше узнать о них, прежде чем она вверит себя их попечению.
– Я понимаю ваше беспокойство и намерен помочь вам. Кстати, не могли бы мы тайком взглянуть на доктора Уилберфорса и его сестру, если это возможно? И лучше не в вестибюле или ресторане отеля, где они смогут заметить, что за ними наблюдают, а в более людном месте.
– Думаю, я знаю такое место, мистер Холмс! – заявила мисс Пилкингтон. – Каждое утро перед завтраком, примерно в одиннадцать часов, доктор Уилберфорс отправляется гулять по Дворцовому причалу, как правило в сопровождении сестры.
– Превосходно! – воскликнул Холмс. – Таким образом, один вопрос уже решен. Может быть, вы хотите спросить меня о чем-нибудь?
Мисс Пилкингтон смутилась.
– Относительно вашего гонорара, мистер Холмс… – начала она.
Холмс беспечно махнул рукой:
– Не тревожьтесь об этом, мисс Пилкингтон. Уверен, мы сумеем договориться. А теперь мы с доктором Уотсоном должны вернуться в Лондон. Там я немедленно телеграфирую управляющему «Регаля» и попрошу его зарезервировать на завтрашнее утро два номера. Хочу предупредить, чтобы вы не удивлялись: к нашей следующей встрече мы с доктором будем выглядеть по-другому и сменим имена. Видите ли, мы уже встречались с доктором Уилберфорсом и его сестрой при других обстоятельствах, и если они нас узнают – все пропало. Вы должны будете вести себя так, будто раньше никогда нас не видели.
Когда, рассчитавшись за чай и попрощавшись с мисс Пилкингтон, мы вышли на улицу, я спросил:
– Что дальше?
– Арестуем Уилберфорсов, разумеется, – резко ответил он. – Опознать в докторе Уилберфорсе Питерса Праведника не составит труда. Когда я спрашивал мисс Пилкингтон, нет ли у доктора каких-то отметин или шрамов, по вашей реакции, Уотсон, я увидел, что вы начисто позабыли одну существенную деталь: Питерсу прокусили ухо в пьяной драке, случившейся в Аделаиде в восемьдесят девятом[17]. Правда, возможно, он попытался изменить внешность – отрастил бороду, например, или покрасил волосы. По крайней мере, теперь у него другая наживка…
– Наживка? – озадаченно переспросил я.
– Дорогой Уотсон, не будьте таким тугодумом. Я имел в виду, что раньше он заманивал своих жертв при помощи религии, за что и был прозван Праведником. Очевидно, нынче он использует другую приманку, не менее привлекательную для одиноких пожилых дам, которые любят поговорить о себе, в особенности о своем здоровье. Теперь он заделался доктором медицины, а не богословия. Впрочем, это неважно: как бы он себя ни называл, скрыть такую важную примету, как разорванное ухо, он, без сомнения, не в силах. И как только мы это установим, он и его сестра будут вынуждены оплатить свой долг правосудию. Пришло время наказать негодяев за покушение на убийство леди Фрэнсис Карфэкс.
Холмс замолчал и остановил проезжавший мимо кэб. Велев кэбмену отвезти нас на вокзал, он добавил:
– Простите, что приходится прерывать нашу прогулку, дружище, но, бог даст, мы вернемся сюда завтра, чтобы сполна насладиться морем, солнцем и пляжами этого очаровательного городка.
Как только мы вернулись к себе на Бейкер-стрит, Холмс сразу же вышел, чтобы телеграфировать в отель «Регаль» и забронировать два номера на следующую ночь. Не прошло и часа, как, получив подтверждение из отеля, он снова ушел, на этот раз – чтобы навестить в Скотленд-Ярде инспектора Лестрейда, а затем купить принадлежности для маскировки.
– Никакой вычурности, – решил он. – Мы ведь не хотим привлечь к себе ненужное внимание. Что-нибудь в легком курортном стиле, но не слишком вызывающее. Будем скромны.
Едва ли Холмсу свойственна скромность, иронически размышлял я, поднимаясь вслед за ним по лестнице, ведущей на чердак, в чулан, где он хранил разнообразный реквизит для своих многочисленных переодеваний[18]. Впрочем, я должен был признать: причиной того, что он с поразительной легкостью умел перевоплощаться в других людей, была его врожденная склонность к актерству.
В данном случае Холмс предстал франтоватым горожанином, выбравшимся на несколько дней отдохнуть от скучного делового Лондона. Он нарядился во фланелевые брюки, полосатый пиджак (на мой вкус, несколько кричащий) и канотье, лихо заломленную на затылок, что придавало ему фатоватый и праздный вид. Облик довершали трость с серебряным набалдашником, темный парик en brosse[19], накладные усики и очки в золотой оправе.
Поскольку я не умел принимать чужое обличье с той же непосредственностью, что Холмс, мне достался похожий, но гораздо менее броский костюм. Он состоял из светло-каштановых накладных усов и парика, темно-синего пиджака и пары серых фланелевых брюк. Неспешно шагая в этом наряде вдоль брайтонской набережной в направлении отеля, я чувствовал, что мы совершенно смешались с толпой отдыхающих.
По совету Холмса, который напомнил мне, что Питерс Праведник – опасный преступник, который ни перед чем не остановится, лишь бы избежать ареста, я положил в дорожную сумку свой армейский револьвер. Сам Холмс предпочитал охотничий хлыст с утяжеленной рукоятью[20].
Мы увидели мисс Пилкингтон и ее нанимательницу миссис Хакстебл лишь вечером, за обедом в ресторане отеля. Они сидели за столом, возвышавшимся над залитой солнцем верандой и толпами отдыхающих, видневшимися дальше, на фоне искрящегося моря. Сидевшую рядом с ними парочку было легко узнать: это были Питерс Праведник и его отвратительная сообщница, скрывавшиеся теперь под вымышленными именами доктора и мисс Уилберфорс.
Они мало изменились с тех пор, как мы виделись в последний раз в их убогом жилище на Полтни-сквер. Разумеется, оба постарели, но их все еще можно было узнать, несмотря на то что Питерс за прошедшие годы раздался вширь, лицо его совсем одрябло, а его так называемая сестра, напротив, отощала: скулы у нее стали еще острее, а губы тоньше. Они были хорошо одеты и производили впечатление – по крайней мере, в мраморно-бархатных интерьерах отеля «Регаль» – благополучной и процветающей пары.
К сожалению, мы сидели слишком далеко от их стола и не имели возможности разглядеть такие подробности, как разорванное ухо доктора Уилберфорса.
Мисс Пилкингтон заметила нас, но, будучи женщиной умной, и виду не подала, лишь рассеянно скользнула взглядом по нашим фигурам, пока мы занимали места за свободным столом, а она в это время внимала даме, сидевшей слева от нее, – очевидно, то была миссис Хакстебл.
Миссис Хакстебл была дородная, модно одетая особа на вид без малого семидесяти лет. Она отличалась тем самодовольством, которое могут придать человеку только богатство и уверенность в том, что он всегда настоит на своем. У нее был упрямый рот и повелительный наклон головы. Я подумал, что эта женщина любит внимание и легко поддается лести. Багровый румянец на щеках свидетельствовал о том, что у нее повышенное давление, видимо усугублявшееся привычкой ни в чем себе не отказывать. Тучность способствовала и затрудненному дыханию. Будь я ее врачом, я бы посадил ее на строгую диету, напрочь исключавшую пирожные, кремы, сахар, а также алкоголь в любых видах. Я заметил, что она часто прикладывалась к бокалу с мадерой, стоявшему рядом с ее тарелкой, а услужливый сомелье постоянно подливал ей вина.
– Идеальный образчик заблудившегося цыпленка, который только и ждет, чтоб его ощипали, не так ли, Уотсон? – пробормотал Холмс, не отрывая глаз от меню.
Я не успел ответить, поскольку к нам подошел официант, чтобы принять заказ. К этой теме мы вернулись лишь позднее, после обеда, когда по предложению Холмса вышли немного пройтись по Дворцовому причалу. Именно там, как говорила мисс Пилкингтон, доктор Уилберфорс, он же Питерс Праведник, как я предпочитаю его называть, любил прогуляться перед завтраком.
Теперь, когда солнце село, стало прохладнее, и толпа отдыхающих слегка поредела, хотя на причале благодаря разноцветным флажкам, которыми были украшены киоски и торговые палатки, по-прежнему царила атмосфера праздника. В некоторых местах ограждение причала прерывалось: там были устроены спуски, с помощью которых пассажиры увеселительных пароходиков проходили к дебаркадерам, а купальщики и рыбаки добирались до воды. Когда мы проходили мимо, некоторые рыболовы уже доставали из воды свои удочки и садки, собираясь домой. Мы с Холмсом решили последовать их примеру и вернулись в отель.
Питерса Праведника, его сестры и мисс Пилкингтон нигде не было видно. Но когда Холмс пригласил меня подняться к нему, чтобы обсудить планы на завтра, прямо у входа в номер, на ковре, он обнаружил сложенный листок бумаги, который кто-то подсунул под дверь. Как оказалось, это была записка от мисс Пилкингтон. Холмс развернул листок и, просмотрев, передал мне.
Никакого адреса на листке не было. Внутри содержалось краткое деловое сообщение:
Полагаю, доктор Уилберфорс намеревается перейти к активным действиям. Сегодня за обедом миссис Хакстебл объявила, что через два дня, то есть в пятницу, ложится в его клинику на лечение.
В качестве выходного пособия она согласилась выплатить мне мой месячный заработок. Я решила, что мне следует как можно скорее уведомить вас о происходящем, так как у меня имеются серьезные основания беспокоиться о ее будущем благополучии.
Эдит Д. Пилкингтон
– Я разделяю ее беспокойство, – хмуро промолвил Холмс, вновь складывая записку пополам и убирая ее в свою записную книжку. – Итак, Уотсон, ставки повысились, мы должны немедленно вступить в игру. Рано утром я телеграфирую Лестрейду, объясню ему положение и попрошу приехать в Брайтон с ордером на арест обоих Уилберфорсов. В восемь часов семь минут с вокзала Виктория отходит скорый поезд, который прибывает сюда в девять сорок девять. Я назначу инспектору встречу у входа на Дворцовый причал через четверть часа. Все, что нам остается, – это верить, что мы не ошиблись.
Лестрейд опоздал. Мы с Холмсом, уже переодетые в свои маскировочные костюмы, ожидали его у кассы, разглядывая людей на причале. Среди них было множество рыбаков, вооруженных удочками, а некоторые и складными стульями, – они стремились занять места получше вдоль ограждения и на ступенях спусков, ведущих к дебаркадерам.
Мы с Холмсом тоже вооружились подобающим образом, но совсем для другого дела. Он захватил свой охотничий хлыст, а у меня в кармане пиджака лежал револьвер.
Не прошло и десяти минут, как к нам присоединился Лестрейд, тоже облачившийся во фланелевые брюки, пиджак и канотье. В этом воскресном наряде он выглядел столь непривычно, что я поначалу его не узнал. Только когда он подошел к Холмсу и пожал ему руку, я наконец понял, кто это.
– Все сделано, как вы предусмотрели, мистер Холмс, – вполголоса рассказывал он, пока мы покупали билеты и проходили на причал. – Местный участок согласился выделить нам дюжину полицейских в подмогу. Они здесь – некоторые смешались с толпой гуляющих, другие сидят на причале под видом рыбаков.
Он кивком указал на кучку рыбаков, стоявших у ограждения.
– Если понадобится, я подзову их, дав два свистка.
– Отлично, Лестрейд! – ответил Холмс. – А как насчет сестры Питерса?
– Ее тоже не обойдут вниманием, – заверил его Лестрейд. – К отелю будут направлены две надзирательницы из Брайтонского полицейского подразделения. Ровно в одиннадцать часов они ее арестуют.
– Итак, все, что нам надо, – это дождаться, пока сюда приплывет самая крупная рыба, – удовлетворенно заметил Холмс. – Вне всякого сомнения, она явится с приливом.
Действительно, начинался прилив, а Холмс, несмотря на грядущее столкновение с Питерсом Праведником, казалось, безмерно наслаждался моментом. Он бодро прогуливался по пирсу, вдыхал свежий соленый воздух и наблюдал за происходящим вокруг, не упуская ни малейшей детали, будь то разноцветные платья прохаживавшихся по причалу дам или же находившийся невдалеке пляж с полотняными кабинками для переодевания, купальными машинами[21], осликами и козликами, катавшими детей на тележках, фургонами на конной тяге, расставленными вдоль побережья и ожидавшими туристов, желавших осмотреть достопримечательности вроде Чертова Рва[22]. Хотя в наше время Брайтон превратился в настоящий курорт, по сетям, разложенным на гальке для просушки, и лоткам, на которых торговали рыбой последнего улова, было заметно, что прежде он был обыкновенной рыболовецкой гаванью.
На море, почти теряясь в ослепительных отблесках солнца на волнах, маячили суда всех размеров и форм – гребные шлюпки и ялики, яхты и прогулочные лодки. Вдали смутно угадывались очертания колесного парохода «Брайтон куин», медленно подвигавшегося к причалу, чтобы на одном из его дебаркадеров высадить своих пассажиров.
Я сам был так поглощен всей этой пестротой и мельтешением, что чуть было не пропустил момент, когда в толпе неожиданно возник Питерс Праведник. Заметил я его, лишь когда Холмс дернул меня за рукав.
Холмс двинулся за ним по пятам, мы с Лестрейдом последовали его примеру, а жертва, не подозревая о нашем присутствии, целеустремленно шагала по причалу, не замечая никого вокруг. Через несколько минут намерения Питерса прояснились. Толпа внезапно расступилась, давая дорогу инвалидной коляске. Очевидно, она направлялась к выходу и потому катила прямо на нас, так что мы без труда могли разглядеть, что в ней сидела пожилая дама, укутанная, несмотря на хорошую погоду, несколькими шалями и накрытая пледом. Коляску везла женщина средних лет, судя по строгому темно-синему пальто и чепцу – профессиональная сиделка и компаньонка.
Мы с Холмсом и Лестрейдом затесались в компанию рыбаков у ограждения и с любопытством наблюдали за тем, как Питерс Праведник взялся за дело.
Надо отдать должное этому человеку, действовал он очень тонко. Вряд ли можно было лучше разыграть ту изумленную радость, с которой он приветствовал старуху, якобы совершенно случайно столкнувшись с нею, и ту заботливость, с какой он приложился губами к ее ручке.
– Еще один заблудившийся цыпленок – так и просится в бульон, – прошептал мне на ухо Холмс.
Питерс же закончил свои льстивые излияния, с мнимой неохотой откланялся, еще раз поцеловал старухе руку и проводил ее взглядом, почти вытянувшись по стойке «смирно». Только когда она исчезла из виду, он развернулся и энергично направился к дальнему концу причала.
– Итак, начнем, господа? – спросил Холмс.
Мы с Лестрейдом кивнули и последовали за Питерсом Праведником, постепенно сокращая расстояние между нами, так что в конце концов почти настигли его. Он уже не мог не замечать нашего присутствия, а также присутствия тех мнимых рыбаков, которые, уяснив, что дело близится к развязке, побросали свои удочки и присоединились к нам.
Трудно сказать, Лестрейд ли наставлял своих людей в тонкостях задержания, сами ли они, словно охотничьи псы, нутром чуяли, что делать. Но мало-помалу Питерс оказался приперт к ограждению причала у деревянных ступеней, спускавшихся к маленькому дебаркадеру.
Тут только он понял, что очутился в ловушке. Это стало очевидным по выражению его лица, когда он оглянулся. Угодливая улыбка, все еще игравшая на его губах с тех пор, как он распрощался с пожилой дамой, тут же растаяла, уступив место испуганному взгляду. Все его лицо словно бы сжалось, а обвислая кожа многочисленных подбородков затряслась от ужаса.
Он мог бы спрыгнуть с причала или попытаться сбежать по ступеням вниз, но вода поднялась уже настолько, что спуск почти скрылся под ее поверхностью. Возможно, именно прилив, коварно и тихо подкравшийся к причалу, заставил Питерса на миг заколебаться.
Тут Лестрейд, совершенно безошибочно (что удивительно для человека, которого Холмс однажды пренебрежительно уличил в недостатке воображения[23]) выбрав момент, решился действовать. Он дал два пронзительных торопливых свистка, и все вокруг пришло в движение. Несколько рыбаков бросились вперед, будто подстегнутые звуком свистка; один из них, высоченный молодой верзила, бросился на Питерса Праведника и, подставив ему подножку, повалил наземь. Такой изумительной сноровки я не видал со студенческих времен, когда играл за Блэкхитскую команду регбистов[24]. В следующий миг молодой полисмен в штатском с помощью двух своих товарищей быстро скрутил Питерсу руки за спиной и защелкнул на его запястьях наручники. Под стихийные аплодисменты небольшой толпы зевак, которые до последней минуты не понимали, кто тут герои, а кто преступники, Питерса поставили на ноги и потащили к выходу.
Впереди этой процессии, высоко задрав голову и выпятив грудь, гордо шествовал Лестрейд. Даже Холмс находился под таким впечатлением от операции, что заявил:
– Отличная работа, инспектор!
А уж он-то был скуп на похвалу.
Мы шагали позади. Холмс на секунду остановился, поднял с причального настила какой-то небольшой предмет и положил его в карман. Он показал, что это такое, лишь в полицейском участке, где мы узнали, что задержан не только Питерс Праведник; особа, выдававшая себя за его сестру, также была арестована в отеле «Регаль». Парочку рассадили по камерам, находившимся в нижнем этаже, и предъявили обоим обвинение в похищении и покушении на убийство леди Фрэнсис Карфэкс.
Когда с формальностями было покончено, Лестрейд отвел нас в сторонку, чтобы поблагодарить Холмса за ту роль, что он сыграл в поимке преступников.
– Это самые отъявленные мерзавцы, что мне когда-либо попадались, мистер Холмс, – заявил инспектор. – Даже жаль, что мы не можем их повесить, чтобы окончательно с ними покончить. Но во всяком случае мы будем уверены, что вашими хлопотами, джентльмены, они надолго отправятся за решетку. Вы теперь в Лондон, полагаю?
– У меня осталось еще одно небольшое дело, – ответил Холмс, – и маленький подарок для вас, инспектор.
– Подарок? – землистое лицо Лестрейда просияло от радостного предвкушения.
– Так, пустячок, дорогой инспектор, но я подумал, он вас позабавит, – с улыбкой сказал Холмс, вытаскивая из кармана и протягивая на ладони тот предмет, что он подобрал на причале.
Лестрейд наклонился, чтобы разглядеть его, и резко отпрянул. На лице его отразились недоумение и отвращение.
– Что это, ради всего святого, мистер Холмс? Вроде как ухо!
– Да, вы не ошиблись. Ухо, – подтвердил Холмс. – Если точнее, это накладное ухо, под которым Питерс Праведник прятал свое собственное, прокушенное в пьяной драке в Австралии. Чтобы скрыть опасную примету, по которой его легко могли опознать, Питерс пользовался этой восковой накладкой.
Лестрейд нервно хохотнул: предмет, лежавший у Холмса на ладони, все еще вызывал у него брезгливую оторопь.
– Очень похоже на настоящее, – выдавил он наконец, не зная, что сказать.
– Сдается мне, это работа мастера, – ответил Холмс, – возможно, мсье Оскара Менье из Гренобля, того самого, который, если вы помните, изготовил мою восковую фигуру, выставленную в окне на Бейкер-стрит для того, чтобы заманить полковника Морана[25]. А теперь простите нас, инспектор. Как я уже сказал, перед тем как вернуться в Лондон, нам с доктором Уотсоном надо завершить еще одно дело.
– Какое дело, Холмс? – спросил я, когда мы вышли из полицейского участка.
– Навестить мисс Пилкингтон и миссис Хакстебл, – кратко пояснил Холмс, останавливая кэб. – Хочу поведать им о случившемся и удостовериться, что с ними все в порядке.
Временами я осуждал Холмса за недостаток сердечности и участливости, но иногда, вот как теперь, он проявлял сострадательную сторону своей натуры, и тогда в целом мире не существовало человека более достойного, чем он.
Мы вернулись в отель, наскоро собрали свои вещи и отправились на поиски мисс Пилкингтон. Она в одиночестве сидела в дамском салоне. После расспросов обнаружилось, что миссис Хакстебл отдыхает, приходя в себя после потрясения, вызванного арестом мисс Уилберфорс и выяснением истинных намерений этой особы и ее так называемого брата.
– Какое счастье, что я вам написала, мистер Холмс, – сказала мисс Пилкингтон. – Боюсь даже представить, что могло произойти с миссис Хакстебл в той харрогейтской клинике.
– Вы правы, – серьезно ответил Холмс. – Но в данный момент меня скорее тревожит ваше будущее, мисс Пилкингтон. Вы останетесь у миссис Хакстебл?
– Не думаю, мистер Холмс. Я пришла к заключению, что дети и пожилые вдовы – не самая лучшая компания. Когда я служила гувернанткой в Париже, то подружилась с одной женщиной, которая содержит частную школу, где обучают английскому языку французских коммерсантов. Она предлагала мне место, но я тогда уже поступила к миссис Хакстебл и была вынуждена отказаться. Впрочем, ее предложение еще в силе, и я решила принять его. Утром я уже написала ей. Как только получу ответ – сразу же сообщу об этом миссис Хакстебл.
– Весьма мудрое решение, – заметил Холмс, поднимаясь и протягивая ей руку. – Желаю вам всего наилучшего.
В ответ она выразила свою признательность за то, что Холмс сумел предотвратить надвигавшуюся трагедию.
Оставалось выяснить последнее.
– А что же с миссис Хакстебл, Холмс? – спросил я, обеспокоенный тем, что эта дама осталась без присмотра.
– А, наш заблудившийся цыпленок! – улыбнулся в ответ Холмс. – Думаю, здесь мы ничем не сможем ей помочь, но надеюсь, что она усвоила этот урок и впредь не будет пускать в свой курятник лис, а вместо этого хорошенько запрет дверь.
Дело об одноглазом полковнике
В 1880 году после моего возвращения из Афганистана, где я служил военным врачом, меня комиссовали из армии, назначив пенсию по ранению, полученному в битве при Майванде[26]. Не зная, что предпринять и куда ехать, я решил остаться в Лондоне, где уже жил когда-то[27]. Примерно год спустя я подыскал себе жилье – квартиру на Бейкер-стрит, 221-б, которую снимал вместе с Шерлоком Холмсом. Впрочем, до того, как наши отношения из простого знакомства двух квартиросъемщиков переросли в настоящую дружбу, я чувствовал какую-то неприкаянность. Холмс часто отсутствовал, вечно занятый разнообразными делами, о которых я в то время понятия не имел, а я метался между поиском развлечений и попытками решить, чем мне заниматься дальше.
Как-то во время бесцельных блужданий по городу я набрел на клуб «Кандагар», располагавшийся на Саттон-роу, поблизости от Оксфорд-стрит. Это было скромное и даже довольно захудалое заведение, предназначавшееся специально для младших офицеров Индийской армии, таких как я[28], мелких гражданских чиновников и неприметных путешественников, большей частью холостяков, которые коротали время в странствиях по экзотическим областям Британской империи.
В отличие от шикарных клубов Пэлл-Мэлл, например Клуба армии и флота или Клуба путешественников, обслуживавших верхние эшелоны этих столь разных сообществ, «Кандагар» собирал умеренные взносы и предлагал своим членам простую и непритязательную пищу – жаркое и рисовый пудинг, какие вам подадут в любом английском доме или школе. То же готовила и наша домовладелица миссис Хадсон. Впрочем, ценителям настоящей индийской кухни в «Кандагаре» подавали отличное карри, до того острое, что слезу вышибало.
Именно здесь я познакомился и подружился с Сэрстоном. Он тоже был отставной офицер, но в Афганистане занимался по преимуществу гражданским делом – служил помощником главного счетовода в Управлении общественных сооружений. За исключением нескольких поездок с инспекциями он все время находился в Калькутте, при центральной конторе управления. Мы, военные, пренебрежительно называли таких «тыловиками», хотя в отличие от большинства из нас Сэрстон знал хинди – это было обязательное требование Военно-гражданской экзаменационной комиссии. К тому же он полюбил страну, в которой оказался, и активно интересовался ее историей и культурой. Холостяк сорока одного года от роду, для немногих близких друзей он был приятным, общительным человеком, но, подозреваю, временами, как и я, ощущал себя довольно одиноким. Вскоре мы с ним обнаружили, что у нас много общих интересов, в частности бильярд, которым я увлекся еще в больнице Св. Варфоломея. Хотя на первом месте у меня всегда стояло регби, из-за ранения в ногу я больше не мог заниматься активными видами спорта, а бильярд требовал минимального физического напряжения. Поэтому я согласился на предложение Сэрстона стать его партнером. Между прочим, играл я весьма неплохо, поскольку много упражнялся – сначала в армии, потом в госпиталях Пешавара и Нетли, где лечился после ранения[29]. С этого времени мы с Сэрстоном раз в две недели вместе завтракали в «Кандагаре», а затем играли в бильярд.
Во время одной из этих встреч Сэрстон представил меня новому члену клуба – полковнику Годфри Кэрразерсу.
В тот день я приехал в клуб немного раньше обычного и ожидал Сэрстона в баре. Он явился в сопровождении высокого осанистого мужчины лет пятидесяти, с рыжеватыми волосами, небольшими аккуратными усиками и повязкой на правом глазу. Судя по его выправке и по повязке, это был бывший военный, получивший ранение на службе.
Сэрстон познакомил нас, и Кэрразерс протянул мне свою твердую, мужественную ладонь. Я заметил, что он окинул меня внимательным, настороженным взглядом.
– Сэрстон говорил, вы служили в Афганистане, – сказал он. – Я тоже. Во всяком случае, мой полк был в составе корпуса, которым командовал генерал-майор Робертс, или Бобс, как его называли. Это он снимал осаду с Кандагара[30].
– Вот как! – оживился я. – Я и мои армейские товарищи многим обязаны вам! Если бы не ваши войска, мы были бы разгромлены и разделили участь наших собратьев под Майвандом.
– Вы, разумеется, говорите о газиях[31] с их не слишком приятной привычкой расчленять тела всех оставшихся на поле боя, живых и мертвых.
– Вот именно. Причем среди них были не только мужчины, но и женщины, отличавшиеся не меньшим усердием.
– Жуткое дело, – скривился Кэрразерс.
По его голосу и поведению я понял, что он предпочел бы не обсуждать это, и из уважения к нему не стал настаивать. Я и сам до сих пор с трудом нахожу слова, чтобы описать ужасы этой битвы, которые мне довелось наблюдать собственными глазами. Он тоже, должно быть, немало перенес во время того трехсотдвадцатимильного горного марш-броска из Кабула к лагерю Аюб-хана. Там Кэрразерс и его товарищи, обратив мятежников в бегство, сняли осаду с Кандагара.
Однако у меня осталось немало вопросов к нему. Когда он был ранен? Быть может, во время снятия осады? Ведь в сражении пострадало свыше ста девяноста наших людей. А вдруг его, как и меня, переправили в главный госпиталь в Пешаваре? Если да, то интересно было бы узнать, не помнит ли он лейтенанта Уилкса и капитана Гудфеллоу, с которыми я сдружился в госпитале. Или ту громадную бабищу – старшую медсестру, почему-то прозванную Душечкой? Да, умела она нагнать на пациентов страху. Уилкс даже сочинил про нее довольно пикантные куплеты на мотив песенки «Ты знаешь Джона Пила?..»
Однако я выкинул свои вопросы из головы, а вместо этого произнес:
– Позвольте угостить вас с Сэрстоном выпивкой. Что предпочитаете?
Заказывая у стойки бара спиртное, я оглянулся и, увидев, как Сэрстон с Кэрразерсом о чем-то шепчутся, будто старинные друзья, знакомые много лет, ощутил странное и неожиданное чувство. Даже теперь мне трудно его описать. Это была не совсем ревность, хотя, признаюсь, меня слегка задело, что новичок Кэрразерс, кажется, на короткой ноге с моим другом Сэрстоном. К этому примешивалась и профессиональная неприязнь, потому что Кэрразерс был участником героического марш-броска, освободившего наши войска, в то время как меня пуля сразила во время куда более прозаического занятия – ухода за ранеными[32]. Стыдно сказать, но мучило меня и то, что он был полковником, а я – простым лейтенантом. Но к этой вполне понятной враждебности примешивалось какое-то смутное беспокойство, которого я объяснить не сумел, а потому приписал его ревности и постарался о нем забыть.
Возвратившись к своим спутникам, я приложил большие усилия, чтобы ничем не выдать эти недостойные мысли, и нацепил на лицо приветливую улыбку.
Слава богу, полковник не остался с нами завтракать, хотя Сэрстон явно надеялся на это. Кэрразерс торопливо извинился, якобы вспомнив, что у него назначена встреча со старым армейским другом, пожал нам руки и откланялся, к явной досаде Сэрстона. Я же был чрезвычайно рад, что мне не придется обмениваться с ним воспоминаниями об афганской кампании.
Впрочем, окончательно отделаться от полковника Кэрразерса мне не удалось: едва мы принялись за завтрак, его имя снова возникло в разговоре, будто призрак Банко на пиру[33].
– Интересный человек, вы не находите? – заметил Сэрстон.
Я понял, кого он имеет в виду, но, тщетно пытаясь увести разговор в сторону, в притворном неведении спросил:
– О ком это вы?
– О ком? О Кэрразерсе, конечно!
Я не успел ничего ответить, так как Сэрстон с воодушевлением продолжал:
– Я подумал, он придется вам по нраву. Как только я с ним познакомился, то сразу сказал себе: «Дружище Уотсон будет рад свести знакомство с этим человеком». У вас ведь так много общего: Индийская армия, Афганистан, оба были ранены…
– Действительно, совпадений много, – согласился я. – Он играет на бильярде?
– Вряд ли. У него же нет глаза, – резковато заметил Сэрстон, давая понять, что я задал явно нелепый вопрос. Моя антипатия к бедняге от этого только усилилась.
Перекусив, мы отправились играть на бильярде, но к тому времени настроение у меня совсем испортилось. Я никак не мог сосредоточиться, и Сэрстону без труда удалось обыграть меня. Мое чувство собственного достоинства в очередной раз было задето, а неприязнь к Кэрразерсу возросла еще больше, хотя я внутренне корил себя за пристрастность.
Домой на Бейкер-стрит я вернулся не в лучшем расположении духа. Холмс, со свойственной ему проницательностью, не преминул заметить это, как только я вошел в комнату.
– Что привело вас в такое уныние? – спросил он.
– Ничего, – отрезал я.
– Неужели, приятель! Я уже достаточно долго живу с вами бок о бок, и научился улавливать ваши настроения, как свои собственные. Хотя женщины и заявляют о своей монополии на интуицию, мы, мужчины, иногда бываем не менее прозорливы, а в некоторые случаях – даже более. Это Сэрстон так повлиял на вас?
Я не собирался ничего ему рассказывать и все же против воли заговорил:
– Нет. Это новый член клуба по имени Кэрразерс. Полковник Годфри Кэрразерс.
– Ну и?.. – не отставал Холмс, вопросительно поднимая бровь.
– Что-то меня беспокоит, Холмс! – не выдержал я. – Не пойму, отчего я сразу ощутил неприязнь к этому человеку.
– Может, оттого, что он полковник? – мягко предположил Холмс.
– А я всего лишь лейтенант? Не думаю, Холмс. По крайней мере, надеюсь, что не поэтому. Все, что я могу предложить в качестве объяснения, – с ним что-то не так.
– Что-то не сходится?
– Да, и это меня тревожит. Я не знаю. Просто чувствую…
Я смолк, не зная, как выразить свои ощущения.
– Ага, снова интуиция! – воскликнул Холмс. – Однако за всеми этими интуитивными прозрениями может стоять вполне рациональное толкование. Во всяком случае, я так считаю. Итак, давайте препарируем ваши ощущения, как препарируют труп, выясняя причину заболевания. Может быть, что-то в его поведении показалось вам неестественным?
– Вовсе нет. Он выглядел и вел себя в точности как бывший офицер.
– Тогда манера выражаться?
– Она тоже была вполне обычной.
– Вы размышляли над тем, зачем ему понадобилось вступать в клуб?
Дело предстало в новом, неожиданном ракурсе, о котором я раньше не думал. Я замялся с ответом.
– Ну, думаю, он хотел вращаться в обществе бывших военных вроде меня…
– Он ведь полковник? В «Кандагаре» бывают офицеры в таких высоких чинах?
– Если хорошенько подумать – то нет. Там много капитанов, в лучшем случае майоров…
– Разве его решение вступить в ваш клуб не показалось вам отчасти странным? Не то чтобы я хотел бросить тень на «Кандагар», Уотсон. Уверен, там собираются достойные люди. И все же…
– Он, должно быть, офицер в отставке, и у него попросту не хватило средств на другой клуб. «Кандагар» – весьма респектабельное место, Холмс.
– Ну разумеется, дружище. Не сомневаюсь в этом. Просто мне подумалось, что вы тревожитесь потому… – Тут он оборвал себя, с улыбкой пожал плечами и воскликнул: – О, до чего ж все это глупо, Уотсон! Мы с вами толчем воду в ступе, обсуждая человека, которого вы видели лишь однажды, а я так и вовсе не знаю. Чтобы разгадать эту загадку, нужна информация. Вот что я предлагаю: когда вы в следующий раз встретитесь с полковником в клубе, постарайтесь разузнать о нем, особенно о его военной карьере, как можно больше. – Видя, что я сомневаюсь, он добавил: – Это один из главных принципов расследования в случае, если у вас зародились какие-либо подозрения. Вы должны спокойно и осторожно разведать все о его жизни и на основе этого делать выводы. Вы же знаете мои методы. Готовы сами применить их на практике? Я, разумеется, буду рядом и проконсультирую вас, если что-то внушит вам сомнения.
Зная, что Холмс расследует сразу несколько важных дел, в том числе дело Барнаби-Росса и дело об исчезновении личного секретаря лорда Пенроуза, я тут же согласился, устыдившись своих глупых тревог и будучи весьма признателен ему за то, что он пообещал мне помочь. Мы условились, что во время следующей встречи с Сэрстоном в «Кандагаре» я побеседую с Кэрразерсом на темы, предложенные моим другом, а потом поведаю Холмсу обо всем, что узнаю.
Однако в намеченный день мне не удалось увидеться с полковником. Сэрстон был в клубе, а вот Кэрразерс отсутствовал. Я спросил у Сэрстона, где же полковник, но тот ответил, что не знает.
– Мы с ним не виделись с того самого дня, – пояснил он.
– Как жаль! – ответил я, и в моих словах было гораздо больше искренности, чем мог вообразить себе Сэрстон. – Я так хотел снова с ним встретиться.
– Разве? Мне почудилось, будто он вам не слишком пришелся по сердцу.
Я поспешил загладить свою оплошность, подумав, что Сэрстон довольно проницателен и что мне следует быть осторожнее. Предложенная Холмсом тактика оказалась сложнее, чем я мог себе представить, и я в который раз восхитился мастерством своего друга.
Правда, вскоре я вновь обрел пошатнувшуюся было уверенность в себе – следующее замечание Сэрстона показало, что все не так уж плохо.
– Я не уверен, что он опять явится в клуб. Возможно, тот человек знает, – предположил мой приятель, жестом подзывая к нашему столу проходившего мимо официанта и интересуясь у него, намерен ли Кэрразерс бывать в «Кандагаре». Слуга с готовностью ответил:
– Разумеется, сэр. Я слыхал от управляющего, что полковник теперь будет завтракать в клубе не по средам, а по пятницам, в одиннадцать часов. Что-нибудь еще, сэр?
Сэрстон вопросительно взглянул на меня, я отрицательно покачал головой, и он, поблагодарив официанта, отпустил его.
– До чего жаль, что он изменил планы, – заметил Сэрстон, когда официант отошел.
– В самом деле, – разочарованно согласился я. Я-то надеялся повидаться с полковником в следующий раз, порасспрашивать его и таким образом побольше узнать не только об этом человеке, но и о собственных неясных подозрениях. Кроме того, мне казалось, что я подведу Холмса, если не осуществлю задуманное.
Сэрстон, понятия не имевший обо всех моих тайных соображениях, продолжал начатый прежде разговор:
– Да, он очень интересный человек. В позапрошлую среду, перед тем как вы пришли, он долго рассказывал о своих армейских приключениях.
Меня внезапно осенило: а ведь Сэрстон может послужить источником сведений о Кэрразерсе. В таком случае еще не все потеряно!
– И о чем же именно он рассказывал? – спросил я, стараясь не выдать своего жгучего интереса. – Упоминал об Афганистане?
– Да, не раз. Он явно увлечен этой страной и ее культурой, в особенности ее воинами, которыми он искренне восхищается, несмотря на то что временами они ведут себя недостойно.
Я важно кивнул, пытаясь не показать своего недовольства тем, как неудачно Сэрстон подбирает выражения. Омерзительный варварский обычай рубить на куски тела оставшихся на поле битвы вражеских солдат, да еще и при участии женщин, казался мне не просто «недостойным», а прямо-таки варварским. Когда меня ранило при Майванде, жизнь мне спасло лишь проворство моего ординарца Мюррея, успевшего взвалить меня на спину вьючной лошади и благополучно доставить в Кандагар. «Тыловик» Сэрстон, во время сражения преспокойно сидевший в Калькутте, мог и не представлять истинной картины произошедшего, но неведению Кэрразерса я оправдания не находил.
– Да, они отчаянные храбрецы, почти фанатики, – ответил я. – А он упоминал об осаде Кандагара?
– Несколько раз. Наверное, это было тяжелое испытание. Вам ведь тоже довелось его пережить. Тридцать дней без пищи и почти без воды! Через что вам пришлось пройти! Вы, должно быть, были просто счастливы, когда наши войска, и в их числе Кэрразерс, пришли вам на выручку.
– Не то слово! Правда, я все еще оправлялся от раны и временами впадал в забытье, не зная, что происходит вокруг. А Кэрразерс случайно не говорил, когда он был ранен?
– Вроде бы нет. Это важно?
– Вовсе нет, Сэрстон, вовсе нет, – беззаботно ответил я, про себя радуясь тому, что Сэрстон бездумно выболтал сведения, которые были нужны мне, чтобы доказать свою правоту. Подозрения подтвердились: с Кэрразерсом определенно что-то было не так! Я так радовался, что чуть позже в пух и прах разбил Сэрстона на бильярде.
Должно быть, мне не удалось полностью скрыть свой восторг, ибо первое, что спросил у меня Холмс, когда я вернулся на Бейкер-стрит, было:
– По вашему лицу видно, что вы одержали какую-то победу. Думаю, обыграли Сэрстона на бильярде.
– И не только, Холмс. Теперь сомнений нет: Кэрразерс обманщик!
– Неужели? Хорошая новость! Подвигайте кресло к огню, дружище, и рассказывайте, как вы пришли к этому выводу. Значит, сегодня он чем-нибудь выдал себя в «Кандагаре»?
– Нет, его там не было. У меня такое чувство, что он намеренно постарался избежать новой встречи со мной. Выдал его Сэрстон. Они разговорились в клубе две недели назад, как раз перед моим приходом. Кэрразерс подробно рассказывал о своем пребывании в Афганистане, в частности об осаде Кандагара.
– Продолжайте, – нетерпеливо сказал Холмс, поскольку я на минуту остановился, чтобы перевести дыхание и собраться с мыслями.
– Так вот, Холмс, в этой беседе Кэрразерс обмолвился о том, что осажденные солдаты вынуждены были целых тридцать дней обходиться без пресной воды.
– И что же? – спросил Холмс, удивленно подняв брови. – В чем суть, Уотсон?
Я поспешил объяснить:
– Суть в том, что осада длилась двадцать четыре дня, а не тридцать, и воды у нас было вдоволь. В крепости много колодцев, которые способны обеспечить водой весь гарнизон. Если бы он там был, то не мог этого не знать. Хотите мое мнение? Я думаю, он воспользовался сведениями, полученными у тех, кто побывал в осаде, а они слегка сгустили краски.
– Может, это он сгустил краски?
– Возможно, – вынужденно согласился я, – и все же вряд ли. Офицер его ранга не опустился бы до вранья. Как правило, ради красного словца преувеличивают именно рядовые. Этим, наверное, объясняется тот факт, что Кэрразерс теперь бывает в клубе по другим дням. Полагаю, он хотел уклониться от встреч со мной из боязни, как бы я чего не заподозрил. Откровенно говоря, Холмс, я не верю, что он бывал в Кандагаре, да и вообще в Афганистане.
Холмс встал и пару раз прошелся туда-сюда, потирая подбородок. Я знал, что он размышляет, и не стал ему мешать. Через несколько минут он, видимо, принял какое-то решение, потому что снова уселся в свое кресло у камина. Глаза его сверкали.
– Так вы говорите, Кэрразерс теперь посещает клуб по пятницам?
– Да. Так сказал Сэрстону официант. Кажется, он приходит к одиннадцати.
– Тогда я, пожалуй, прогуляюсь в окрестностях «Кандагара» примерно в то же время.
– Можно мне пойти с вами? – умоляюще попросил я, мечтая своими глазами увидеть, как Кэрразерса разоблачат.
– Нет, не в этот раз. Пока слишком рано. Кроме того, если он вас заметит, то может улизнуть и этим все испортит. Для начала я пойду на разведку один. Но позднее мне может понадобиться ваша помощь.
– Наверное, вам потребуется более подробное описание его внешности? – спросил я, страстно желая хоть чем-нибудь помочь расследованию.
Холмс рассмеялся.
– Навряд ли. Его легко узнать по повязке на глазу! – ответил он, к немалому моему смущению.
В пятницу Холмс пораньше вышел из дому, чтобы прибыть в «Кандагар» незадолго до одиннадцати часов. Зная, что мой друг не появится до обеда, а возможно и дольше, если решит проследить за Кэрразерсом, я приготовился к томительному ожиданию (надо признаться, терпение не входит в число моих добродетелей).
Я попытался скоротать время за чтением «Дейли газетт», но через час сдался, отложил газету и решил пройтись до ближайшей станции метрополитена, находившейся на Бейкер-стрит[34]. Однако на улице сеял противный мелкий дождик, и я вернулся домой, поближе к жаркому очагу. Холмса все еще не было.
Было почти четыре часа пополудни и уже темнело, когда он наконец явился после своей вылазки – явно удачной, поскольку я услыхал громкий стук входной двери и его быстрые торжествующие шаги на лестнице.
– Вы были правы, Уотсон! – объявил он, врываясь в гостиную. – Кэрразерс, безусловно, обманщик, как вы весьма точно заметили. Поздравляю, дружище!
Эта похвала дорогого стоила: обычно Холмс не расточал комплименты впустую. Я почувствовал, как мои щеки зарделись от удовольствия.
– Что вам удалось выяснить? – нетерпеливо поинтересовался я.
– Погодите вы, Уотсон! Дайте же мне рассказать с самого начала. Кому, как не вам, знать, что повествование должно идти своим чередом. Итак, начнем по порядку. Я добрых десять минут прогуливался по Орчард-стрит, прежде чем Кэрразерс вышел из «Кандагара». Отсюда он направился на Оксфорд-стрит, остановил бейсуотерский омнибус, из которого вышел в Холборне[35]. Отсюда он пешком направился по Грейс-Инн-роуд, в районе Клеркенуэлла нырнул в лабиринт маленьких улочек, наконец оказался у дома номер четырнадцать по Пикардз-клоуз и зашел внутрь.
– Что это за место? – спросил я. По выразительным интонациям Холмса было понятно, что этот район едва ли подходит для армейского полковника.
– Жалкие трущобы, – ответил он. – Ну, знаете, никакой зелени перед домами, на окнах нестираные занавески… Остальное пусть дорисует ваше воображение, Уотсон. В любом случае, когда Кэрразерс зашел внутрь, передо мной встала дилемма. С одной стороны, я понятия не имел, сколько он пробудет в том доме. С другой, не мог же я постучать в дверь и вызвать его на разговор. Это вмиг нарушило бы все наши планы.
– И что вы сделали, Холмс? – спросил я, ощущая такое напряжение, будто сам побывал там.
– К счастью, мы, англичане, вовсе не нация лавочников, как полагал Наполеон. Мы нация выпивох. Там на углу оказалась небольшая уютная таверна с малоподходящим (если взглянуть на окружающие ее закоптелые стены и грязные мостовые) названием «Деревенский паренек» и соответствующей вывеской, изображавшей кудрявого розовощекого мальчугана в белоснежной рубашонке и с таким же белоснежным ягненком на плече. Я зашел, заказал полпинты эля (самый уместный напиток, учитывая обстоятельства) и устроился за столиком у окна, откуда просматривалась вся Пикардз-клоуз, а главное – входная дверь дома номер четырнадцать. Надо добавить, что на мне, соответственно случаю, была короткая куртка, крапчатые брюки и котелок. И все-таки другие посетители обратили на меня внимание. Позже, поразмыслив над этим, я пришел к выводу, что виной тому были слишком чистые ботинки. В некоторых районах Лондона, таких как Клеркенуэлл, следует быть очень осторожным. Их обитатели ведут замкнутую жизнь, словно в каком-нибудь племени, и к чужакам относятся враждебно. Итак, они пристально оглядели меня и демонстративно повернулись ко мне спинами, чтобы выказать свое презрение. Вероятно, по моему котелку они заключили, что я сборщик долгов, а может, и шпик – полицейский осведомитель.
Я прождал не меньше получаса, прежде чем Кэрразерс наконец вышел из дома. На нем было поношенное пальто, в руке он держал несколько писем. В его внешнем виде произошла еще одна значительная метаморфоза: на глазу больше не было повязки. Она оказалась бутафорской, вроде тех, что надевают актеры на представлении. Он ведь тоже в своем роде актер: ему необходимо добиться сочувствия окружающих. Костыль и деревянная нога – первейшие помощники нищего и мошенника. Напомните мне как-нибудь, чтобы я рассказал вам о трехрукой вдове.
– О трехрукой вдове?.. – начал было я, но Холмс, не обратив на мою реплику ни малейшего внимания, продолжил свой рассказ:
– Однако вернемся к Кэрразерсу. С ним произошла разительная перемена. За самое короткое время из офицера, потерявшего глаз (предположительно в сражении), он превратился в обносившегося бедняка, хотя по-прежнему шагал твердой, уверенной походкой бывшего солдата, из чего я заключил, что какое-то время он действительно служил в армии.
– Поразительно, Холмс! – заявил я. – Как вы думаете, зачем Кэрразерсу понадобилась вся эта возня с переодеваниями?
– Думаю, ответ можно найти в тех письмах, которые он опустил в ближайший почтовый ящик. – Заметив мое недоумение, он со снисходительным видом учителя, разбирающего с туповатым учеником сложное уравнение, добавил: – Он побирушка, Уотсон. Тот, кто надоедает порядочным людям, рассылая им жалостливые письма и выклянчивая у них деньги, или, если вы предпочитаете более определенные выражения, профессиональный попрошайка. Возможно, у него в запасе есть и другие способы выманивания денег у простаков. Мошеннические розыгрыши, например.
– Розыгрыши?
– Это когда совершенно посторонний человек убеждает вас, что вы давние знакомые, и на основании «старинной дружбы» одалживает у вас деньги. Вот как это обычно происходит. Мошенник притворяется, что признал в своей жертве (иногда случайном прохожем на улице) старого знакомого. Он предлагает отметить встречу в ближайшей таверне или пивной. А когда приносят счет, то, пошарив по карманам, «обнаруживает», что потерял бумажник. Жертва, разумеется, не только предлагает заплатить за выпивку, но и дает «другу» немного денег взаймы, чтобы тот мог нанять кэб до дома. Они обмениваются адресами – мошенник ведь должен вернуть долг. Жертва, конечно, останется на бобах, а жулик с помощью этого трюка сможет поживиться и в дальнейшем. – Видя, что я озадачен, Холмс поспешил объяснить: – Дело в том, дорогой друг, что мошенник может продать адрес жертвы попрошайке – сочинителю жалостливых писем, который примется в свою очередь тянуть деньги из доверчивого обывателя.
– Ах, Холмс! Какая гадость! И мы ничего не сумеем сделать? Мне страшно подумать о том, что этот прохвост будет обирать членов клуба!
– Что ж, вероятно, мне следует поставить в известность Лестрейда. Возможно, полиция уже в курсе дела. Или вот что, навещу-ка я лучше своего старого знакомого Сэмми Нокса. Он фармазонщик, Уотсон, знаете, что это за птица? Тот, кто сбывает поддельные деньги. Специализация Нокса – банкноты. Он покупал их у братьев Джексонов, искусных фальшивомонетчиков. Братья владели небольшой, но вполне респектабельной типографией в Нью-Кроссе, где печатали визитные карточки, приглашения и всякое такое. Сэмми вовсю играл на скачках, а заодно сбывал поддельные купюры – не только на самом ипподроме, но и в близлежащих питейных заведениях. Если у кого и спрашивать о таких штуках, то только у Сэмми.
– А он все еще… Как вы сказали?.. Фармазонщик? – спросил я, пораженный тем, сколь глубоко мой друг успел изучить зловещий преступный мир.
– Формально – уже нет, – ответил Холмс. – Он пару раз попадал в руки полиции и успел посидеть в кутузке, но когда мы виделись с ним последний раз, он был твердо убежден, что не вернется к прежнему ремеслу, хотя я в этом сомневаюсь. Горбатого могила исправит, знаете ли.
– Может, предупредить Сэрстона и других членов клуба насчет Кэрразерса? Ведь это прожженный плут.
– Боже, не вздумайте! Он сразу затаится. Дайте-ка мне сначала разузнать, где нынче обитает Сэмми Нокс, и попросить у него помощи, прежде чем сообщать обо всем Сэрстону, членам клуба и Лестрейду в придачу. Теперь, когда этот человек у нас на прицеле, было бы жаль его упустить. Как гласит пословица, поспешишь – людей насмешишь.
Не знаю, каким образом моему другу удалось найти Нокса, но уже через четыре дня его поиски явно увенчались успехом, ибо во вторник после обеда Холмс пригласил меня вместе с ним наведаться в паб «Корявое полено», что на Касл-стрит. Там у него была назначена встреча с Сэмми Ноксом.
Это было непритязательное заведение, разделенное деревянными перегородками на отсеки вроде железнодорожных купе. Холмс занял один из них, неподалеку от входа; я понял, что он пришел сюда не впервые и часто назначает здесь встречи, подобные этой. Нам не пришлось долго ждать: вскоре дверь распахнулась и вошел какой-то мужчина. Я сразу понял, что это и есть Нокс, так как Холмс тут же встал, чтобы поприветствовать его.
Он оказался совсем не таким, каким я представлял его по рассказу Холмса. Это был маленький хилый человечек. Издали он казался совсем мальчишкой с юношеским румянцем во всю щеку, в лихо заломленном на затылок котелке и клетчатом костюме кричащей расцветки. Цветок в петлице и желтый жилет, дополнявшие образ, свидетельствовали о том, что перед нами «рисковый» джентльмен, каких пруд пруди на любом ипподроме[36]. Лишь когда Нокс приблизился к нам, я понял, что на самом деле он очень немолод: лицо его было покрыто сетью мелких морщин, отчего казалось потрескавшимся, будто старинная картина, а видимость юношеского румянца на щеках создавали лопнувшие сосуды.
Он, очевидно, был рад Холмсу, так как тепло пожал ему руку, а меня приветствовал с обезоруживающей учтивостью.
– Как дела, мистер Холмс? – спросил он. – А ваши, сэр? – добавил он с легким поклоном в мою сторону.
Но Холмс явно желал побыстрее покончить с любезностями и без лишних слов приступил к делу:
– Итак, Сэмми, я неспроста пригласил вас сюда. Вам хорошо знаком преступный мир. Вы когда-нибудь встречали человека, который называет себя Кэрразерсом и утверждает, будто он бывший офицер, а именно полковник, ни больше ни меньше?
– Возможно, – осторожно произнес Сэмми. – Как он выглядит?
Холмс посмотрел на меня, ожидая, что я отвечу за него, и я напряг память, чтобы как можно точнее припомнить и описать его внешность.
– Высокий, держится очень прямо; военная выправка. Речь правильная. Волосы рыжеватые. Уверяет, что служил в Афганистане.
Я пристально посмотрел на Сэмми Нокса, пытаясь разглядеть в его лице малейшие признаки того, что он понял, о ком речь. Но он бесстрастно выслушал меня, затем невозмутимо произнес: «Барти Чизмен» – и вновь замолчал.
То, что случилось после, произошло так быстро, что, когда я опомнился, все уже кончилось. Холмс поднял правую руку, крепко сжатую в кулак, но с выставленным указательным пальцем, и несильно постучал им по столу.
– Рассказывай, – ласково произнес он, – и будь так любезен, Сэмми, говори нормальным языком. Мой друг плохо понимает уголовный жаргон.
Сэмми бросил на меня лукавый взгляд, но все же послушался Холмса.
– Хорошо! – сказал он. – Буду говорить как полагается, мистер Холмс. Во-первых, что касаемо Барти Чизмена. В армии он служил: вроде как в ординарцах ходил, вот и нахватался хороших манер да разных красивых словечек. Фармазонит он – то бишь сбывает поддельные деньги. Предпочитает работать один и только в лучших домах. С голытьбой знаться не желает. Любит всякие богатые отели да клубы. Выкладывает за еду и питье пятерку… простите, мистер Холмс, пятифунтовую купюру – тут двойной навар: не только деньги сплавит, но и пообедает. Не то, так пойдет в табачную лавку и купит самолучшие сигары. А положит взгляд на добычу покрупнее – золотые часы там или шикарное колечко для своей зазнобы, – тогда платит чеком. Говорит: бумажник, мол, в отеле забыл, или еще какую ерунду выдумает. Ну, лавочник, чтоб покупателя не упустить, фальшивку-то и примет. Это тоже у Чизи особинка – сбывать чеки и векселя, и поддельные, и ворованные.
– Неужели? – спросил Холмс, и по тому, как он напрягся, я понял, что эти сведения чем-то его привлекли. Он мельком посмотрел на меня, но я не разгадал значения его взгляда. Когда он задал следующий вопрос, я поначалу был несколько ошарашен очевидной рассеянностью своего друга. Казалось, он спрашивал наобум, чего за ним обычно не водилось. Однако я успел неплохо узнать Холмса и его манеру прикидываться безразличным, если он чем-то очень заинтересовался. Сэмми же, незнакомый с этой чертой Холмса, отвечал на его вопросы со снисходительным самодовольством человека, который уверен, что знает все ответы.
– А как эти чековые книжки попадают к Чизмену? – полюбопытствовал Холмс. – Он, верно, шарит по чужим карманам, а?
Сэмми широко улыбнулся простодушию собеседника:
– Не-а, папаша! Чизи не карманник. Не обучен. Он может вытащить бумажник из бесхозного пальто, что висит на вешалке или перекинуто через спинку стула, но это самое большее, на что он способен.
– А, понял! – заявил Холмс, словно его только сейчас осенило. – Значит, он заполняет украденный чек и предъявляет его в банке жертвы?
На лице Сэмми снова расползлась насмешливая улыбка.
– Ежели б он так делал, недолго ему оставаться уркой.
– Так что же он делает?
– Он вырывает несколько последних листков из чековой книжки, так что ее владелец до последнего ничего не подозревает, и предъявляет их в другом банке, не том, что указан на чеке. Или попросту продает. Ворованными чеками промышляет куча народу. Что ж, мистер Холмс, это все или вам еще что-нибудь хочется знать? Меня дома дожидается одна хорошенькая девчонка. Такая красотка!
Холмс заверил его, что это все. Сэмми Нокс встал, пожал нам руки, а затем с ловкостью, достойной опытного фокусника, подхватил какую-то смятую бумажку, лежавшую на столе, и опустил ее в карман. Потом не без некоторого изящества приподнял свой котелок и вышел из пивной.
– Что это была за бумажка? – спросил я, когда дверь за ним закрылась.
Холмс рассмеялся.
– Не знаю, как называет эту бумажку Сэмми, – ответил он, – но мы с вами назвали бы ее купюрой, Уотсон. Он честно заработал фунт. Благодаря Сэмми я теперь знаю, как нам застукать полковника Кэрразерса, то есть Чизмена, и надолго упечь его в кутузку. Ну все, хватит на сегодня жаргонных словечек, несмотря на всю их притягательность.
– Как же вы планируете его арестовать? – спросил я, сгорая от любопытства.
– В «Кандагар» допускаются гости, не так ли? – небрежно поинтересовался Холмс.
– Да, – подтвердил я.
– А запасной выход там есть?
– Понятия не имею, – ответил я, поставленный в тупик его вопросами.
– Это надо выяснить, прежде чем мы предпримем дальнейшие действия. Кроме того, нужно поговорить с управляющим и предупредить Лестрейда, поскольку мне понадобится их помощь, а также участие двух констеблей. Сейчас я отправлюсь к Лестрейду, а после, пожалуй, начнем.
На обратном пути мы с Холмсом расстались: я вернулся на Бейкер-стрит, а он, видимо, отправился в Скотленд-Ярд, чтобы повидаться с Лестрейдом и рассказать ему о плане поимки Кэрразерса-Чизмена. Этого события (а именно ареста) я ожидал с нетерпением, так как чувствовал, что этот человек не только обвел вокруг пальца Сэрстона и членов клуба «Кандагар», но и в какой-то мере замарал репутацию британской Индийской армии и моих храбрых сослуживцев, которые как один – от высших чинов до самого последнего рядового – отстаивали, иногда ценой собственной жизни, честь нашей страны, и беркширцев в частности.
Должно быть, с Лестрейдом удалось договориться без труда, ибо Холмс вернулся еще до обеда и выглядел весьма довольным.
– Лестрейд прямо-таки мечтает упечь Кэрразерса за решетку, – объявил он, усаживаясь в свое кресло и раскуривая трубку. – Полковник у него как бельмо на глазу еще с прошлого лета, когда расследовалось дело Фицгиббонов.
– А, скандал с Фицгиббонами! – воскликнул я. – Значит, Кэрразерс и там наследил?
– Видимо, да. Во всяком случае, Лестрейд в этом уверен, хотя у него недостаточно доказательств, чтобы довести это дело до суда.
– Господи! – изумленно пробормотал я, не в силах выдавить что-либо еще.
– Да уж! – криво усмехнулся Холмс.
В свое время эту историю долго мусолили газеты, охочие до сенсаций. Хотя имена главных действующих лиц пресса, во избежание обвинений в клевете, не упоминала, каждому, кто хотя бы краем уха слыхал о том, что делается в аристократических кругах, было ясно, что «прекрасная дочь выдающегося члена палаты лордов» – это не кто иная, как леди Ванесса Фицгиббон, дочь лорда Уэлсли Фицгиббона. Ее тайная помолвка с блестящим гвардейским офицером Монтегю Орм-Уистоном, на которую вот уже три месяца намекали светские хроникеры «Дейли эко» и «Морнинг стар», внезапно расстроилась, а леди Ванесса и ее мать отправились с продолжительным визитом на Сейшельские острова.
– Итак, – продолжал Холмс, – Лестрейд полагает, что арест полковника принесет ему заслуженные лавры. – И вдруг без какой-либо связи с предыдущим добавил: – У вас есть чековая книжка, Уотсон?
– В данный момент нет. Если помните, Холмс, три дня назад вы изъяли ее у меня и заперли в своем письменном столе.
– Ну конечно! Я совершенно забыл об этом. Но если вы согласитесь с моим планом, я немедленно верну ее вам.
– Что за план? – спросил я, недоумевая, какая роль в нем может быть отведена моей чековой книжке.
– Мы придем в «Кандагар»…
– Мы? – перебил я Холмса. – Вы имеете в виду – я тоже там буду?
– Мы с Лестрейдом будем вашими гостями. Позавтракаем, затем сыграем на бильярде.
– Когда?
– В пятницу.
– Но ведь там будет и Кэрразерс! Если вы помните, он теперь завтракает в клубе по пятницам, а не по средам – думаю, намеренно переменил день, чтобы не встречаться со мной.
– Значит, вас обоих ждет радостная встреча, – заметил Холмс с веселостью, которой я отнюдь не разделял.
– Я не думаю… – запротестовал было я.
– И не надо, приятель. Думать предоставьте мне, ибо у меня это получается лучше. А теперь, – добавил он, направляясь к двери, – я должен снова заскочить к Лестрейду, чтобы окончательно все согласовать. Если бы я играл в крикет, я бы сравнил Лестрейда с участником, который стоит позади калитки и ловит мяч, вас – с защитником калитки, а себя – с игроком, который выполняет удар, именуемый, кажется, гугли[37].
– А Кэрразерса? – спросил я.
– О, он отбивающий, которого придется вывести из игры! – заявил Холмс и, от души расхохотавшись, побежал вниз по ступенькам.
В следующую пятницу мы с Холмсом отправились в «Кандагар», чтобы провести «небольшой крикетный матч», как он упорно продолжал именовать свой план. Холмс находился в чрезвычайно возбужденном состоянии и явно получал удовольствие от мысли о приближающемся приключении и его последствиях, которые, если все пойдет хорошо, будут означать разоблачение полковника Кэрразерса.
Перед тем как войти в клуб, Холмс настоял на том, чтобы осмотреть запасной выход и удостовериться, что Лестрейд обеспечил контроль над ним. Не то чтобы он считал, будто на инспектора нельзя положиться, просто, как любой генерал перед сражением, хотел убедиться, что все устроено согласно плану. Это педантичное внимание к мелочам распространялось даже на внешний вид Холмса: он приклеил маленькие черные усики, чтобы Кэрразерс, который мог видеть портрет моего друга в газетах, не узнал его.
Выяснилось, что Лестрейд, по мнению Холмса страдавший недостатком воображения, в других отношениях вполне ловкий малый. Он поставил у запасного выхода уличного продавца яблок с тачкой. Еще два полисмена в штатском прогуливались поблизости, беззаботно болтая и стараясь не вызывать подозрений.
Взглянув на них, Холмс одобрительно кивнул, и мы, обогнув угол здания, вновь подошли к парадному крыльцу, на ступенях которого нас уже поджидал одетый в гражданское платье Лестрейд.
После того как я зарегистрировал своих гостей, мы прошли в столовую, где нас усадили за стол, находившийся в глубине помещения, но прямо напротив выхода. Управляющий специально оставил его для нас, следуя указаниям Холмса. Затем нам подали завтрак, и мы принялись за еду. Согласно плану, я сел спиной к двери, так чтобы Кэрразерс не сразу меня заметил и не почуял засаду. Он явился, когда мы почти покончили с первым блюдом и ждали, пока принесут пудинг. Холмс дал мне знать о его приходе, дотронувшись тихонько под столом до моей ноги.
Надо признаться, мне очень хотелось обернуться и взглянуть на мнимого полковника, не столько из любопытства, сколько из желания удостовериться, что описание его внешности, которое я давал Холмсу, оказалось верным. Однако я сдержался и сосредоточился на еде и разговоре, который завязался за нашим столом, изо всех сил стараясь вести себя естественно. Это была непростая задача, поскольку я дрожал от волнения и желания поскорее увидеть, как гнусного мошенника арестуют и выпроводят из клуба в наручниках.
Все же, когда мы выходили из столовой, я позволил чувствам одержать верх над благоразумием и отважился искоса взглянуть в его сторону. Мои опасения оказались напрасны. Кэрразерс был поглощен своим бифштексом и почками в тесте, а в перерывах между едой проглядывал свежий номер «Морнинг хералд», прислоненный к подставке с солонкой и перечницей.
Он, как и прежде, хорошо выглядел, был аккуратно причесан, хорошо выбрит. Глазная повязка тоже была на месте.
По-видимому, он нас не заметил, так как продолжал есть и читать, когда мы прошествовали мимо него, вышли из столовой, пересекли вестибюль и направились в бильярдную.
Холмс подробно объяснил, каким образом мы должны разыграть последний акт этого маленького спектакля. Так, следуя его инструкциям, я снял пиджак и повесил его на спинку стула, стоявшего возле двери, которая нарочно была оставлена приоткрытой. Лестрейд встал около бильярдного стола, словно собираясь наблюдать за игрой. А мы с Холмсом взяли кии и стали кидать монетку. Начинать выпало Холмсу. Все, что нам надо было делать, – это гонять шары, причем Холмс должен был захватить инициативу, а я – стараться все время стоять спиной к двери, чтобы Кэрразерс, когда он войдет в бильярдную, не увидел моего лица.
Капкан был поставлен. Теперь оставалось только ждать, когда явится Кэрразерс.
И он пришел.
Поскольку я стоял спиной ко входу, то не заметил этого, зато услышал, как Лестрейд выкрикнул: «Эй, вы! Погодите-ка!», затем кий Холмса с грохотом упал на пол, а сразу после этого по паркету быстро застучали чьи-то каблуки.
Я обернулся и увидел, что Холмс и Лестрейд прямо в проходе сцепились с Кэрразерсом, который дрался совсем не по-джентльменски, явно не признавая правил маркиза Куинсберри[38].
Наконец Холмс сбил его с ног ловким апперкотом в челюсть[39], и тот упал как подкошенный. Стремительный удар вызвал стихийные аплодисменты у кучки случайных зрителей – лакеев и членов клуба, привлеченных шумной возней.
Лестрейд немедленно велел одному из лакеев позвать полисменов в штатском, охранявших запасной выход, другого отправил за наемным экипажем. А пока что инспектор надел на Кэрразерса наручники и проворно обыскал его карманы. Как и ожидалось, он обнаружил там несколько чеков, вырванных из моей чековой книжки. Лестрейд тут же конфисковал их вместе с сам́ой книжкой как доказательство незаконного присвоения этим человеком чужого имущества. Так у меня уже второй раз отобрали мою чековую книжку.
Но то была малая цена за удовольствие видеть, как Чизмен, он же Кэрразерс, он же бог знает кто еще, отправился под суд и был приговорен к нескольким годам каторжных работ. Зачитывая приговор, судья отметил, что преступник уже давно занимался воровством, мошенничеством и подлогами, не говоря о том, что он был глубоко безнравственным человеком.
– В последний раз я радовался подобному исходу дела после ареста трехрукой вдовы, – заметил Холмс, откладывая «Морнинг кроникл», где содержался подробный отчет о расследовании.
– Трехрукой вдовы? – удивленно переспросил я, ибо мой друг уже второй раз произносил эти странные слова.
– Да, Уотсон. Вы в жизни не встречали такой скромной и чопорной особы. Напомните мне, и я как-нибудь расскажу вам о том случае. Вы сможете добавить его к своей коллекции красочных рассказов о моей деятельности. Но в данный момент мне не помешает немного тишины – я должен дочитать эту статью о леди Питершем и цыганской гадалке.
С этими словами он вновь взял со стола газету и загородился ею от меня.
Дело о трехрукой вдове
Лишь в январе Холмс нашел время, чтобы рассказать мне о трехрукой вдове. Возникло несколько новых расследований, настоятельно требовавших его внимания, в том числе безотлагательное поручение епископа Сандерлендского, который просил выяснить, кто присылает в епископский дворец совершенно неподобающие товары, требуя уплаты наличными при получении. Только после того, как это щекотливое дело было успешно раскрыто, Холмс наконец вернулся к тому случаю, подробности которого, признаюсь, мне давно хотелось услышать.
Трехрукая вдова! Не шутит ли Холмс?
Помню, день выдался морозный и необычайно тихий, так как выпавший за ночь снег приглушал редкие звуки, доносившиеся через наше окно с пустынной улицы. Казалось, весь мир оделся в белое. Лишь фонари и голые деревья чернели на фоне свинцового неба.
Впрочем, у нас в гостиной было тепло и светло. Горели газовые лампы, в очаге уютно потрескивал огонь, отражаясь в вазе с апельсинами, стоявшей на столе.
Мы с Холмсом молча сидели у камелька, будто снег и нас лишил дара речи. Внезапно мой друг очнулся от грез и, вытащив изо рта трубку, заметил:
– Скажите-ка, Уотсон, я когда-нибудь рассказывал о том деле?
– О каком деле? – спросил я.
– О деле трехрукой вдовы.
– Нет, пока еще нет.
– Вот как! Я и сам позабыл о нем, пока недавний случай с епископом и капелланом не напомнил мне о том давнем расследовании, которое также касалось церковных служителей, на сей раз – приходских священников. Не хотите ли послушать, дружище?
– Очень хочу, – обрадовался я.
– Что ж, – улыбнулся Холмс, – тогда я начинаю.
Это случилось, когда я еще жил на Монтегю-стрит и лишь недавно стал зарабатывать на жизнь как сыщик-консультант. Впрочем, уже тогда я начал приобретать известность, и круг моих клиентов постоянно расширялся. Среди них выделялись два духовных лица: преподобный Сэмюэл Уиттлмор, приходский священник церкви Св. Матфея на Фаунтин-сквер в Челси, и его помощник Джеймс Форогуд.
В октябре я получил по почте письмо от преподобного Уиттлмора, который просил меня о встрече в среду, в половине четвертого, однако о причине своего визита ничего не сообщил, как не сообщил и о том, что придет в сопровождении своего помощника. К моему удивлению, в назначенный день у меня в гостиной на Монтегю-стрит появились сразу два священника.
Старший из них, преподобный Уиттлмор, был высокий сутулый пожилой мужчина с длинным носом и клочками седых волос на лысеющей голове. На лице его застыло недовольное выражение, причиной чему отчасти был я, отчасти же, видимо, его спутник, Джеймс Форогуд, – возможно, просто потому, что он был молод, хорош собой и жизнерадостен, хотя во время нашей встречи выглядел подавленным.
Вскоре я понял, отчего он хмурится.
Преподобный Уиттлмор с самого начала взял властный тон. Окинув меня подозрительным взглядом, он заявил:
– Вероятно, мистер Шерлок Холмс – это вы? Что-то вы слишком молоды для специалиста в любой сфере, тем более в уголовной.
Я заверил его, что обладаю всеми необходимыми знаниями, заметив, что даже полицейские из Скотленд-Ярда при случае советуются со мной, после чего он сдался и недоверчиво изрек:
– Что ж, молодой человек, посмотрим, как вы справитесь с моим делом.
Как вы догадываетесь, эта небольшая пикировка с самого начала настроила меня против моего облеченного духовным саном клиента. Я уже хотел предложить ему поискать более опытного консультанта, но тут он, попутно смерив презрительным взглядом своего помощника, надменно процедил в мою сторону:
– Дело, с которым я к вам явился, мистер Холмс, весьма возмутительного свойства. Оно касается одной моей прихожанки, пожилой дамы с безупречной репутацией и высоким общественным положением, имени которой я называть не стану. В прошлое воскресенье у нее украли ридикюль со значительной суммой денег. Случилось это во время посещения ею утренней молитвы в моей церкви.
По тону его голоса было ясно, что он ждет от меня негодующей реплики в ответ, однако я лишь осуждающе промычал, не в силах выдавить из себя даже что-нибудь вроде «Какое безобразие!». Не выношу, когда за меня решают, какие чувства мне следует испытывать, особенно если это оказывается бездушный, лишенный чувства юмора тип вроде Уиттлмора. Кроме того, я подозревал, что вышеупомянутая дама скорее всего была богата и щедро жертвовала на храм Св. Матфея, а возможно и на жалованье самого Уиттлмора, чем и объяснялось его недовольство. Поэтому я уклончиво ответил:
– Понятно. Когда именно произошла кража? Во время службы?
– Нет, после нее, – резко ответил он, словно мне следовало это знать. – По окончании заутрени я, как обычно, вышел на крыльцо церкви, чтобы пожать руки уходившим прихожанам, благодаря их за посещение. С моей стороны это любезность, которую весьма ценят. Мистер Форогуд стоит рядом и делает то же самое.
Последняя фраза прозвучала пренебрежительно, словно присутствие младшего священника являлось малозначительным фактом.
– Следует пояснить, – продолжал преподобный Уиттлмор, – что мои службы очень популярны у прихожан и всегда привлекают много людей, так что в тот момент крыльцо было запружено народом. О том, что случилось нечто неподобающее, я узнал, лишь когда рядом никого не осталось. Дама, о которой идет речь, вернулась к крыльцу и была очень расстроена. Выяснилось, что в похищенном кошельке было три гинеи, – тут он умолк, чтобы дать мне время уяснить, сколько именно денег было украдено, а затем с нажимом повторил: – Из ридикюля пропали три гинеи!
Я понял, что нужно что-то ответить, и произнес:
– Довольно крупная сумма.
– Совершенно верно! – подтвердил он. – Очевидно, их похитили, когда она выходила из церкви. На крыльце было настоящее столпотворение, люди ждали своей очереди, чтобы обменяться со мной рукопожатием, и в давке кто-то достал нож или ножницы, разрезал ридикюль, который висел у нее на запястье, просунул руку в отверстие и вытащил кошелек. Сам кошелек также представлял собой значительную ценность. Он был из шитого атласа; в универсальных магазинах Вест-Энда за такие просят не меньше гинеи.
Я заметил, что он вновь делает акцент на деньгах.
– Кто-нибудь видел, как это произошло? – спросил я.
Преподобный Уиттлмор медленно обернулся к своему помощнику, тихо сидевшему рядом. Молодому человеку явно было не по себе. На его миловидном лице обозначилось выражение крайней обеспокоенности.
– Ну? – строго промолвил преподобный Уиттлмор.
– Боюсь, именно я стоял ближе всего к леди… – начал было Форогуд, но осекся и виновато замолчал, потому что преподобный Уиттлмор грозно кашлянул, как бы веля помощнику воздержаться от упоминания имен.
– Простите, – заикаясь, проговорил младший священник, – я хотел сказать: к леди, о которой идет речь…
Я решил, что пора вмешаться, – отчасти потому, что хотел помочь молодому человеку, но, признаться, главным образом затем, чтобы ускорить выяснение всех обстоятельств дела.
– Поскольку вы явно беспокоитесь о соблюдении анонимности в отношении этой дамы, давайте будем называть ее леди Ди? – предложил я и, к своей радости, заметил, что Форогуду это пришлось по душе. Даже преподобный Уиттлмор склонил голову в знак согласия, и я почувствовал, что одержал пусть маленькую, но победу.
– Прошу вас, продолжайте, – обратился я к младшему священнику. – Вы говорили, что в момент, когда, очевидно, произошла кража, стояли около леди Ди. Заметили вы поблизости кого-нибудь подозрительного, вероятнее всего – женщину?
– Вы, кажется, твердо убеждены в том, что это была женщина, молодой человек, – недоверчиво вставил Уиттлмор.
– Вы правы! – резко ответил я, ибо к этому времени его высокомерие не на шутку меня разозлило. – Я кое-что знаю о карманниках, причем обоих полов. В таких обстоятельствах вор-мужчина вряд ли наметит себе в жертвы женщину и рискнет протянуть руку к ее карману (в данном случае к ридикюлю), потому что дама скорее всего инстинктивно отпрянет и этим привлечет к нему внимание окружающих. Искусство карманника состоит в том, чтобы оставаться вне подозрений. Вот почему я предположил, что это была именно воровка.
Я с радостью заметил, что после моих слов Уиттлмор откинулся на спинку кресла, давая понять, что этот раунд в схватке интеллектов остался за мной, что чрезвычайно взволновало меня. Тогда я был довольно молод и порой любил поставить на место зарвавшегося оппонента, особенно такого, как этот высокомерный священнослужитель.
– Да, там была одна дама, – неуверенно заговорил Форогуд. – Но я никогда не поверю, чтобы она…
– Почему? – спросил Уиттлмор.
Однако я больше не мог позволить ему распоряжаться здесь, несмотря на его возраст и сан.
– Пожалуйста, опишите эту женщину как можно подробнее, – сказал я, подчеркнуто обращаясь только к младшему священнику, который, заметив мою решительную властность, кажется, почувствовал облегчение.
– Думаю, ей немногим более двадцати. Ростом примерно пять футов шесть дюймов[40]. Вероятно, она недавно овдовела, так как была с ног до головы в черном, при этом платье, чепец и сумочка у нее в руке явно были новыми. За другую ее руку уцепилась маленькая трехлетняя девочка, тоже одетая в черное, светловолосая и очень хорошенькая, вся в мать.
Мне показалось, что последние слова вырвались у него против воли, потому что он тут же смешался и покраснел. Было заметно, что молодой человек очарован прекрасной вдовой и смущен тем, что выдал свой секрет полузнакомому человеку, а главное – преподобному Уиттлмору, который тут же осуждающе кашлянул.
Наблюдая эту сцену, я пришел к выводу, что несмотря на свои почтенные года и духовное воспитание, Уиттлмор был отнюдь не чужд земных чувств вроде зависти и даже вожделения, хотя он ни за что не признался бы в этом. Первопричиной всего, полагаю, была его неприязнь к своему помощнику. Это открытие застало меня врасплох, ибо я в один момент узнал о человеческой природе больше, чем за все годы, что просиживал над умными книжками.
Это внезапное озарение заставило меня вновь повернуться к преподобному Уиттлмору и как можно учтивее спросить его:
– Я понимаю ваше затруднительное положение, сэр, и сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам. Ваш помощник снабдил меня превосходным описанием особы, которая, видимо, и совершила кражу. Я постараюсь выследить ее.
В отличие от меня, Уиттлмор никакого озарения, очевидно, не испытал, поскольку неожиданно глянул на меня с прежней враждебностью и промолвил:
– Надеюсь, вы будете действовать осмотрительно.
Я ничего не ответил, боясь не сдержать раздражения, просто кивнул в знак согласия, а затем проводил посетителей к выходу.
Лишь когда я вновь уселся в кресло, до моего сознания стало доходить, чт́о произошло. Я сдуру позволил себе дать обещание, но не имел ни малейшего понятия, как его выполнить. Это был второй урок, полученный мною тем утром, Уотсон. Никогда не давайте клиенту надежду относительно исхода расследования, если сами не знаете, как к нему подступиться. Уверенность в себе – это одно, самонадеянность – совсем другое.
Чем больше я размышлял над этим делом, тем призрачнее представлялись его перспективы. Я с самого начала предположил, что воровкой была молодая женщина, столь живо описанная Форогудом. Но что, если я ошибался и кошелек из сумочки пожилой дамы вытащил кто-то другой, ведь все случилось в толпе? Или же похищение произошло еще в церкви?
Напрасно я держался с преподобным Уиттлмором так заносчиво. А вдруг он что-нибудь знал о молодой даме с ребенком? Возможно, она его верная прихожанка и ему известны ее имя и адрес.
Итак, мне не оставалось ничего другого, как разыскать преподобного Уиттлмора и пойти к нему на поклон. Так я получил еще один болезненный урок в то утро, Уотсон. Изо всех сил старайтесь не враждовать с потенциальными свидетелями.
По счастью, у меня сохранилась визитная карточка Уиттлмора, на которой значился его адрес. На следующее утро, наняв кэб, я отправился на Фаунтин-стрит, в церковь Св. Матфея, надеясь, что священник окажется дома и согласится меня принять.
Церковь – элегантное здание, построенное в восемнадцатом столетии, – располагалась на одной из тихих улочек Челси. Дом священника, впрочем, выглядел не столь привлекательно. Это белое оштукатуренное строение окнами выходило на церковное кладбище, окруженное высокой черной решеткой, сразу напомнившей мне о преподобном Уиттлморе, ибо у нее тоже был суровый неприступный вид. Пока я поднимался по ступеням парадного входа и звонил в колокольчик, меня охватили дурные предчувствия.
Дверь открыла пожилая, одетая в траур женщина – видимо, экономка Уиттлмора. Я ожидал встретить здесь холодный прием и был удивлен и обрадован, когда она с улыбкой взяла у меня визитную карточку и пригласила в прихожую. Оттуда меня через несколько мгновений препроводили в кабинет хозяина.
Это помещение в георгианском стиле, с изящными пропорциями, изысканным лепным карнизом и высоким окном с подъемной рамой, при желании вполне можно было превратить в уютное гнездышко. К сожалению, оно было заставлено тяжелой, уродливой мебелью из темного дуба, а из окна открывался вид на церковный двор с однообразными рядами могильных плит, унылую монотонность которых нарушала одинокая фигура мраморного ангела на одном из надгробий.
Преподобный Уиттлмор уже дожидался меня, стоя на коврике перед камином. Руки его были сложены на груди, на лице читалось явное недовольство.
– В чем дело? – спросил он, не давая себе труда обратиться ко мне по имени.
Я ощущал себя учеником, который вызван к директору школы за какую-то немыслимую провинность: то ли посмел насвистывать в коридоре, то ли зашел в часовню, не вынув рук из карманов.
Стараясь держаться как можно более учтиво, я проговорил:
– Я долго обдумывал тот любопытный случай, о котором вы рассказали мне вчера и, по тщательном размышлении, пришел к некоторым заключениям.
– В самом деле? – ответил он, поднимая брови.
Это был не слишком вдохновляющий ответ, но мне показалось, будто суровые черты священника смягчились, а жесткий, осуждающий взгляд слегка потеплел.
– На первом этапе расследования я, разумеется, ничего не могу утверждать с уверенностью, – продолжал я, – однако подозреваю, что предполагаемая похитительница – та дама в черном – опытная карманная воровка, которая не зря остановила выбор именно на вашей церкви. Впрочем, некоторые пункты этой гипотезы еще нужно прояснить. Буду вам очень признателен, если вы любезно согласитесь ответить на несколько дополнительных вопросов.
– О каких пунктах вы говорите? – спросил он, окинув меня если не благосклонным, то, во всяком случае, куда более снисходительным взглядом, чем прежде.
Я поспешил объяснить:
– Быть может, эта женщина ранее уже бывала в вашей церкви?
Он серьезно обдумал мой вопрос и как будто собирался ответить отрицательно, но тут я, боясь упустить инициативу, добавил:
– Она могла быть по-другому одета или сидела за колонной, где ее было трудно заметить.
– Да, полагаю, такое возможно, – нехотя вымолвил он. – Но ребенок…
– Быть может, прежде она не брала его с собой.
– О! – воскликнул он, словно сам не подумал об этом. – Что ж, думаю, это вполне вероятно. Я бы не вспомнил, но теперь, когда вы упомянули об этом… Приходила одна женщина, судя по всему молодая, но скрывавшаяся под вуалью, хотя и не вдовьей. Она села на одну из задних скамей, а перед тем, как из церкви стали выходить прихожане, быстро ускользнула. Я совершенно точно не обменивался с нею рукопожатием, и мой помощник тоже. Его как раз задержали у выхода.
– Вот как? Кто задержал? – спросил я, вдруг почуяв, что все оказывается не так просто, как представлялось мне поначалу.
– Какой-то мужчина. Он не из числа моих прихожан, я вообще никогда его раньше не видел. Средних лет, коренастый, в очках, волосы и усы с проседью. Я заметил его потому, что он несколько мгновений занимал мистера Форогуда каким-то разговором, но о чем шла речь, я не знаю. Помню, я тогда очень рассердился: они мешали людям выходить на улицу. Потом я сказал Форогуду: «Никогда ни с кем не болтайте. Просто подайте руку и пожелайте доброго утра или вечера. Мы же не общество взаимопомощи». В прошлое воскресенье мне показалось, что я снова его увидел. На задней скамье сидел какой-то человек, похожий на того, что приставал к Форогуду, но, приглядевшись, я понял, что ошибся.
– Вот как? Можно спросить, чем он отличался от того, первого?
– Этот был много моложе, темноволос и гладко выбрит. К тому же на лице у него было очень крупное родимое пятно – уверен, я непременно заметил бы его раньше, будь это тот самый человек. У меня неплохая память на лица. Волей-неволей приходится ее тренировать, когда у тебя большой приход.
В его речи послышались раздраженные нотки, словно он заподозрил меня в том, что я сомневаюсь в его словах. Я почувствовал, что ступил на опасную почву, и сменил тему.
– Скажите, в прошлое воскресенье вы проводили какую-то особенную службу?
– Особенную? Еще бы! Ведь это был наш храмовый праздник, день святого Матфея. Вот почему в церкви собралось так много людей.
– А в приходе знали об этом празднике?
– Разумеется! На церковных воротах и у входа в саму церковь вывесили объявления, – отрывисто произнес он, как будто я обвинял его в небрежении к своему пастырскому долгу.
На этом, Уотсон, я решил поставить точку, по крайней мере на время.
– А с младшим священником вы не побеседовали?
– Нет. Я подумал, что покамест сведений у меня достаточно. В случае необходимости я всегда мог вернуться в дом священника, когда доберусь до подоплеки.
– До подоплеки? – озадаченно переспросил я.
– До подоплеки всего дела, разумеется. Вспомните, я ведь тогда был молод и, откровенно говоря, слегка переоценивал свое мастерство сыщика, тогда как в действительности многого не знал, особенно когда дело касалось профессиональных преступников, связанных с уголовным миром. Возьмем, к примеру, мошенничество. Я имел весьма смутные представления о многообразии его видов, о солидной выучке мошенников, о неисчислимом множестве уловок и ухищрений, используемых в этом ремесле. У злоумышленников даже существует особый язык. «Шильник», «фармазонщик» – это лишь несколько слов из их богатого лексикона[41].
То же относится и к карманникам, или «щипачам», как их зовут собратья по ремеслу. Я в своем невежестве представлял, что этим промышляют лишь уличные мальчишки вроде Ловкого Плута[42]. Постепенно я начал догадываться, что это совсем не так, однако в то время мне было невдомек, сколько еще я должен усвоить (и усвоить быстро), если хочу раскрыть дело об украденном кошельке к вящему удовлетворению преподобного Сэмюэла Уиттлмора. А я этого очень хотел. Признать поражение значило нанести чувствительный удар по своему самолюбию.
Итак, я вернулся к себе на Монтегю-стрит, запер дверь и стал думать, какие действия мне следует предпринять, чтобы расследование увенчалось успехом.
Все факты лежали передо мной как на ладони. У некой леди Ди, или как там ее зовут на самом деле, на крыльце церкви Св. Матфея, под носом у двух священнослужителей, а также множества прихожан, похищен кошелек с тремя гинеями. «Щипачом» явно была молодая привлекательная вдовушка с трехлетним ребенком, которая ловко разрезала ридикюль леди Ди и вытащила кошелек.
Но как она ухитрилась совершить кражу, ведь одной рукой она вела ребенка, на запястье другой у нее висела сумочка? Это представлялось невозможным.
Что до ареста воровки, то о нем и речи не шло. Я понятия не имел, кто она и откуда, хоть мне и были известны некоторые существенные обстоятельства преступления, что впоследствии могло способствовать ее поимке. Например, похищение произошло в публичном месте – церкви – и при большом скоплении народа. Возможно, карманница намеренно выбрала именно это место и время? Тут я вспомнил, что преподобный Уиттлмор говорил, что в тот день проводилась особая служба, о которой прихожан оповещали заблаговременно.
Вдобавок ко всему там был некий коренастый мужчина, дважды замеченный среди прихожан. Маскировка – усы, очки, большое родимое пятно на лице – наводила на мысль о театральных переодеваниях, которые сами по себе очень интересовали меня. Как молодой сыщик-консультант, я все больше и больше осознавал важность париков, грима и прочих принадлежностей, с помощью которых актеры меняют внешность.
Должен признать, Уотсон, что, все хорошенько обдумав, я остался чрезвычайно доволен результатами своего анализа. Теперь я понял, что за способ использовала воровка, вернее воры, и это понимание, в свою очередь, подсказало мне блестящий план их поимки.
Я отправился в Скотленд-Ярд и изложил свой план инспектору Лестрейду, который был у меня в долгу: проживая на Монтегю-стрит, я помог ему в нескольких расследованиях, первым из которых было дело о подлоге[43]. Мы с ним пришли к полюбовному соглашению: я посодействую ему в расследовании одной кражи со взломом, а он, в свою очередь, предоставит в мое распоряжение констебля, некого Герберта Паунда – молодого неглупого полицейского, который впоследствии сумел быстро продвинуться и дослужился до звания инспектора. Между прочим, забегая вперед, скажу, что именно Паунд арестовал известного шантажиста Докинса, который убил Дженни Макбрайд и сбросил ее тело в Темзу. Об этом в свое время писали все газеты.
Однако вернемся к нашим баранам, как говорят французы. Вот в чем состоял мой план. Я нисколько не сомневался, что рано или поздно подозреваемые вновь применят свой метод на практике. Вообще, преступники – самые консервативные люди в мире. Они живут и промышляют в одном и том же районе, используют одни и те же приемы для совершения одних и тех же преступлений. Стоит лишь выявить эти закономерности, и вы сможете выследить злоумышленника, словно хищника в джунглях, побывать там, куда он приходит на водопой, разыскать его логово и места, где он сидит в засаде в ожидании добычи.
Все это было применимо и к моим карманникам, которых я для краткости окрестил Вдовой и ее Кавалером, ибо был уверен, что между ними существовало нечто большее, чем обычное сотрудничество. Они охотились на своих жертв не на улицах, а в многолюдных местах, очевидно предпочитая представителей среднего класса, которые часто носят на себе или при себе ценные предметы – золотые часы, тугие кошельки и бумажники.
Следуя этой гипотезе, я стал просматривать газеты в поисках объявлений о грядущих событиях, которые могли привлечь обеспеченную публику, – ярмарках, благотворительных базарах и концертах. Вы были бы удивлены, Уотсон, узнав, как часто проводятся такие мероприятия, большей частью предназначаемые для сбора средств на филантропические цели. Состоятельные граждане стекаются туда толпами, чтобы потратить на домашнюю выпечку или книжные закладки ручной работы свои кровные, которые затем перечисляют в пользу наших неграмотных соотечественников на Борнео, моряков, потерпевших кораблекрушение, или неимущих шедуэллских швеек.
Понимая, что Вдова и Кавалер всегда найдут, чем поживиться в подобных местах, я догадывался, что они, скорее всего, будут действовать так же, как в церкви Св. Матфея. Иными словами, сначала нанесут предварительный визит, чтобы прощупать почву (скажем, выяснить, где расположены выходы и как обстоит дело с охраной). Затем придут во второй раз – теперь уже для того, чтобы совершить кражу.
Поскольку Паунд имел и другие обязанности, кроме как быть у меня на подхвате, я отправился на разведку в одиночестве. О, до чего ж это было скучное и унылое занятие, дружище! Вы не представляете, на скольких ярмарках я побывал! Обычно их устраивают в церквях и других просторных помещениях; мне приходилось часами слоняться там, делая вид, что меня интересуют выставленные на продажу товары, и время от времени покупая что-нибудь для отвода глаз. Прошло пять дней, а мои блуждания все еще не принесли никаких результатов, если не считать дюжины носовых платков с вышитыми на них инициалами «Ш. Х.» и расписанных вручную шкатулок для запонок и пуговиц.
Я уже был готов отказаться от своей затеи, когда, в последнюю среду месяца, наконец выследил их в одном зале для приемов в Кенсингтоне. Я так ликовал, что чуть было не пустился в пляс, но в последний момент сдержался. Они были там! Кавалер в этот раз был с седыми волосами, в очках и с небольшими усиками. Он выглядел как высокооплачиваемый банковский служащий или зажиточный галантерейщик. Ни один человек в здравом уме не принял бы его за подозрительного типа, тем более за профессионального вора.
Обнаружив Кавалера, я стал разыскивать в толпе разгоряченных посетителей Вдову и вскоре увидел ее: она спокойно изучала лоток с букетиками лаванды, выручка от продажи которых шла в пользу вдов обедневших миссионеров.
Это была миниатюрная молодая женщина, державшаяся очень скромно. Впрочем, я могу понять, что именно привлекло в ней Форогуда. Было в ней что-то очень трогательное, робкое, уязвимое, а вдовья вуаль лишь подчеркивала эти качества – так, без сомнения, и было задумано. С нею была маленькая девочка, примерно трех лет на вид, также одетая в черное, начиная с премиленького чепчика и заканчивая изящными сапожками.
Я стоял поодаль и рассматривал их, пытаясь уразуметь, как ей удалось распороть ридикюль леди Ди и вытащить из него кошелек, ведь обе ее руки, затянутые в черные митенки, были заняты: в левой была сумочка, правой она крепко сжимала маленькую детскую ручку, словно боясь потерять ребенка в толпе, толкавшейся у прилавков.
Вместе они составляли чудесную пару: мать и дочь, недавно потерявшие близкого человека (вне всякого сомнения, мужа и отца), стояли тут, рука об руку, и с пленительным простодушием рассматривали букетики лаванды.
Эта картина на миг покорила и меня. Не может быть, чтобы эта женщина – сама добродетель и честность – оказалась преступницей! И все же здравый смысл возобладал. Кажется, я уже говорил вам, Уотсон, что самая очаровательная женщина, какую я когда-либо видел, была повешена за то, что отравила своих троих детей, чтобы получить деньги по страховому полису[44].
Итак, я запретил себе умиляться, вышел на улицу, остановил кэб и отправился в Скотленд-Ярд, к Герберту Паунду. Мы с ним уговорились встретиться в Кенсингтоне на следующий день, надеясь, что Вдова и Кавалер будут придерживаться своего обычного расписания.
Они, однако, вновь появились в зале для приемов лишь через три дня. Я уже потерял всякую надежду и хотел извиниться перед Паундом за то, что посягнул на его служебное время, но тут мы наконец заметили их. Вернее, первым увидел их Паунд, опознав парочку по моему описанию. Подтолкнув меня локтем в бок, он кивком указал в нужном направлении. Да, они вновь были здесь – Вдова и ребенок, как прежде, рука в руке. Однако нынче они уже не глазели на товары. Злоумышленница следовала по пятам за пожилой дамой и сопровождавшей ее молодой женщиной, которые медленно прогуливались вдоль прилавков. Одной рукой дама опиралась на трость, в другой держала старомодный ридикюль, в руках у ее спутницы было несколько маленьких свертков, в которых, несомненно, находились только что сделанные покупки.
Через несколько секунд я увидел и Кавалера: он держался на почтительном расстоянии от обеих дам, внешность его мало изменилась с тех пор, как я видел его в последний раз, только вместо усов он приклеил аккуратно подстриженную козлиную бородку.
Вид у обоих был сосредоточенный, и это убедило меня в том, что они наметили жертву и в скором времени приступят к выполнению своего преступного замысла.
Так и случилось. Мне оставалось лишь восхищаться их мастерством и безукоризненной согласованностью движений. Они решились действовать, только когда оказались в нескольких ярдах от выхода, где была настоящая давка. Мы с Паундом догадались об этом лишь по тому, что Кавалер внезапно ускорил шаг. Он обогнал Вдову и ее жертву и очутился впереди.
Вдова тоже устремилась вперед и быстро поравнялась с пожилой дамой и ее спутницей. Тут она на секунду потеряла равновесие, словно кто-то толкнул ее. А в следующее мгновение Кавалер, которому подельница что-то сунула в руки, ринулся к выходу, торопливо засовывая полученную вещь в карман своего пальто.
Похищение было совершено с такой дерзостью и мастерством, что старушка вначале не заметила пропажи ридикюля. Когда же она наконец обратила на это внимание, то вскрикнула, но слишком тихо и деликатно, чтобы теснившиеся вокруг люди могли ее услышать. К тому времени, когда ее спутница поняла, чт́о случилось, Кавалер уже вышел наружу, а Вдова с девочкой как раз собиралась проскользнуть в распахнувшиеся двери.
Я заранее условился с констеблем Паундом, что во время задержания мы разделимся: он схватит Кавалера, а я займусь Вдовой. Поэтому мы оба бросились выполнять свою задачу. Паунд последовал за мужчиной, я за женщиной. Она уже поняла, что их, выражаясь воровским языком, «засекли», и отчаянно пыталась отделаться от девочки, которая все еще цеплялась за ее руку и мешала скрыться, поскольку не поспевала за ней.
Лишь позже я понял, чт́о произошло затем, поскольку увидеть это своими глазами мне помешало пальто, которое было на Вдове. Воровка неожиданно отцепилась от ребенка и, подхватив юбки, побежала прочь, протискиваясь в толпе, словно большой черный заяц, а девочка осталась стоять одна. К крайнему моему изумлению, она по-прежнему держалась за женскую руку!
Но ведь это невозможно!
Если уж я был в замешательстве, то что говорить о малышке. Она еще несколько мгновений стояла, держа в руке то, что при ближайшем рассмотрении оказалось искусственной рукой в черной митенке и с ремнями, с помощью которых протез прикрепляется к плечу. Как только я увидел эти ремни, мне все наконец стало ясно.
Так вот как она воровала! Каким же глупцом я был, если не додумался до этого раньше!
Перед тем как отправиться на дело, Вдова пристегивала искусственную руку, затем продергивала ее через рукав пальто и подавала ребенку, который хватался за нее. А настоящую руку прятала под пальто, в боку которого имелась специальная прорезь. Вдова просовывала в нее руку и хватала ридикюль жертвы либо срезала его ножом или ножницами.
После совершения кражи к Вдове торопливо приближался Кавалер, и она передавала ему украденный ридикюль, который он ловко прятал в карман. Тем временем Вдова, все еще держа ребенка за руку, покидала место преступления, не вызывая ничьих подозрений.
Арест ей не грозил: едва ли нашлись бы свидетели того, как она воровала. Кража совершалась в считанные секунды, да и у кого достало бы черствости обвинить в столь тяжком преступлении молодую овдовевшую мать, не говоря уж о том, чтобы задержать и обыскать ее?
Это был дьявольски хитрый замысел, Уотсон, я даже в каком-то смысле восхищался изобретательностью преступников. Фальшивая рука! Овдовевшая мать! Прелестная малышка! Выбор места и жертвы был столь же гениален. Похищение устраивалось в многолюдном собрании, посещавшемся приличной публикой. Сама жертва также должна была выглядеть респектабельно. Люди этого круга обычно не ждут, что их обчистит трехрукая вдова, а если позднее что-то и заподозрят, то вряд ли станут поднимать шум.
– Неужели Вдову и Кавалера так и не поймали? – спросил я, решив, что история на этом закончилась.
Холмс быстро возразил:
– Разумеется, нет, Уотсон! Правосудие должно было свершиться, и мне предстояло довести дело до конца. Прошу вас, дайте мне досказать.
Ридикюль оказался у Кавалера, и опустить занавес в конце этой маленькой драмы выпало констеблю Паунду. Как я уже говорил, мы с Паундом разделились. Он должен был задержать Кавалера, а я – Вдову. Как только Кавалер выскочил на улицу с ворованным ридикюлем в кармане, Паунд с криком «Держи вора!» кинулся за ним. Я приготовился схватить Вдову, но та оказалась чрезвычайно увертливой. Отстегнув фальшивую руку, она тоже бросилась к выходу.
– Оставив ребенка? – в ужасе воскликнул я. – О, Холмс, ведь это просто чудовищно!
– Я тоже подумал: какая жестокость! Однако возмущался я зря. Как только Вдова скрылась из виду, малышка тоже побежала к двери, прокладывая себе путь в толпе. К тому времени, когда я добрался до выхода, Вдова уже исчезла, но девочка еще была там, отчаянно улепетывая прочь своими коротенькими ножками, и ее миленький черный чепчик так и маячил впереди.
– И что вы сделали? – спросил я, потрясенный услышанным.
– Побежал за ней, конечно, – твердо ответил Холмс. – У меня не было выбора.
За годы детективной работы я часто выслеживал преступников, случалось – и с собаками[45]. Но никогда еще я не гнался за ребенком. Ох, до чего ж она была шустрая, Уотсон! Словно маленький терьерчик! Она вела меня вначале сквозь толпу, потом стала петлять по разным улочкам и переулкам. Ей было невдомек, что я бегу за нею, так как она ни разу не оглянулась. Но мне было ясно одно: она отлично знакома со всеми закоулками в этой части Лондона, а значит, прежде ее не раз брали с собой на дело.
Мы с ней немного прошли по Оксфорд-стрит, затем свернули налево, к Уоррен-стрит, и там попали в один из тех странных лондонских районов, какие нельзя назвать трущобами, хотя и до приличных они не дотягивают. Наше путешествие закончилось у дверей маленького домика, который чем-то напоминал тот, где проживал полковник Кэрразерс, но выглядел намного более опрятным и ухоженным. В чрезвычайно сложной английской классовой системе я поместил бы его тремя ступенями выше нижнего уровня социальной лестницы. На окнах висели чистые занавески, у входной двери красовался ярко начищенный дверной молоток в виде русалки. На подоконниках даже стояли горшки с геранью.
Я ненадолго задержался у входа, вытащил из кармана записную книжку и сделал вид, что сверяю адрес, затем поднял русалочий хвост и решительно постучал в дверь.
Мне открыла дородная благодушная женщина в белоснежном фартуке. На руках она держала ребенка, завернутого в шаль. Я мельком увидел, что дверь в одну из комнат приоткрыта. Судя по всему, за ней находилась гостиная: в очаге уютно потрескивали дрова, каминная полка была уставлена стеклянными и фарфоровыми безделушками.
А перед камином, на бархатном пуфике, протянув к огню свои пухлые ножки, сидела прелестная малышка в чепчике – та самая, что давеча так доверчиво вцепилась в третью руку Вдовы.
Самой Вдовы, да и Кавалера, если на то пошло, здесь не было, зато в гостиной находились еще трое или четверо детей разных возрастов. Эти аккуратно одетые, заботливо причесанные малыши, излучавшие здоровье и благополучие, мирно играли друг с другом.
Когда я наконец понял, что все это значит, то был ошеломлен. Женщина, открывшая мне дверь, зарабатывала на жизнь с помощью этой маленькой девочки и остальных детей. Она попросту сдавала их напрокат людям вроде Вдовы и Кавалера, которые, в свою очередь, существовали за счет попрошайничества, воровства и тому подобных беззаконий, где наличие детей помогало в работе.
Мои размышления были прерваны хозяйкой дома.
– Да, сэр, чем я могу вам помочь? – проворковала она тем вкрадчивым голосом, каким обычно говорят бродячие торговцы, предлагающие разные безделушки и талисманы, и неискренность которого всегда вызывает у меня брезгливое чувство. Однако, не желая вызывать у нее подозрений, я учтиво поинтересовался, могу ли я видеть миссис Харрисон.
– Думаю, вы ошиблись дверью, сэр, – ответила она, – никакой миссис Харрисон здесь нет.
Я поблагодарил ее и удалился.
Мне не терпелось узнать у констебля Паунда, с которым мы должны были увидеться после поимки преступников, арестован ли Кавалер, и передать ему сведения, касающиеся Вдовы, а главное, ребенка.
Мы встретились в скромной маленькой кофейне неподалеку от Скотленд-Ярда, где Паунд, очевидно, бывал не раз, потому что официантка, дама средних лет, приветствовала его, как старого знакомого, назвала Бертом и провела нас в небольшую заднюю комнатку, где больше никого не было.
Паунд сообщил мне, что Кавалер, он же Джонни Уилкинс, задержан. В его кармане при обыске нашли похищенный ридикюль пожилой дамы и предъявили ему обвинение в краже, за которую он, учитывая его уголовное прошлое, вероятно, отсидит два или три года в Пентонвильской тюрьме.
Что касается Вдовы, то Уилкинс дал ее адрес в районе Клеркенуэлл, однако, явившись туда, Паунд ее не нашел: то ли женщина успела сбежать, то ли Кавалер намеренно дезинформировал констебля.
– Но вы об этом не беспокойтесь, – бодро заверил меня Паунд. – Рано или поздно и до нее доберемся.
Когда я рассказал Паунду о фальшивой руке, он рассмеялся:
– А, старый трюк! Бывает, они и без третьей руки обходятся: рукав болтается пустой, будто рука ампутирована, а на самом деле прячут ее под одеждой. Это работает, да еще как, особенно ежели щипач оденется бывшим солдатом и нацепит на грудь медали!
Потом я упомянул о девочке, и улыбка сошла с его лица.
– Да, вы правы, – ответил он, – ребятишек и впрямь поденно сдают напрокат.
– А когда дети подрастут? – спросил я.
– Ну, скажем так, их сдают напрокат уже для других целей, особенно девочек.
– О, Холмс! – вставил я, ужаснувшись услышанному. – Неужели мы ничего не можем для них сделать?
– Для той самой девочки – ничего. Вы забыли, что вся эта история случилась много лет назад. Однако ей все же оказали помощь, причем человек, от которого этого ждали меньше всего. Отгадайте, кто это был?
– Кто-то из действующих лиц вашей истории? – предположил я, заинтригованный этой тайной.
– Да, именно.
– Но тот, о ком и не подумаешь?
– Никогда не подумаешь.
Я некоторое время безмолвствовал, пытаясь угадать, кого он имеет в виду. И тут меня осенило.
– Тогда это младший священник Форогуд, ведь он вполне подходящая кандидатура. Что ж, если бы мне пришлось биться об заклад… – продолжал я, но тут Холмс от души расхохотался. Впрочем, взглянув на меня, он успокоился и сказал:
– Горячо, дружище!
– Значит, мне следует поставить на преподобного Сэмюэла Уиттлмора.
– Превосходно, Уотсон! – воскликнул Холмс, похлопав меня по плечу. – Прямо в яблочко! Это действительно был Уиттлмор, и он отлично справился со своей задачей! Когда я вновь пришел в дом священника, чтобы сообщить ему об аресте Уилкинса, который участвовал и в похищении ридикюля его прихожанки – леди Ди, мне пришлось упомянуть о малышке и о месте, где содержали ее и других детей. Уиттлмор, в свою очередь, сообщил мне, что леди Ди, которая была очень и очень богата, основала благотворительное общество под названием «Цветочки святого Матфея». Лично я ни за что не дал бы такое название, но, как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку.
Но этим ее добрые дела не ограничились. Знаю, Уотсон, вы любите, чтобы все кончалось хорошо, поэтому счастлив поведать вам, что та девочка, которую прежде звали Пити, теперь носит имя Рут и что леди Ди, которая так и останется неназванной, удочерила ее. Теперь Рут – очаровательная наследница большого состояния, она удачно вышла замуж за члена палаты лордов и ныне является патронессой благотворительного общества, основанного ее приемной матерью. Так что, дорогой друг, если опять прибегнуть к избитому выражению, нет худа без добра.
Убийство в Пентре-Маур
– Что вы знаете об Уэльсе? – спросил меня однажды утром Холмс, отрываясь от письма, которое он читал.
– О вальсе? – переспросил я, не расслышав вопроса. – Ну, это бальный танец, который…
Холмс громко расхохотался, а я смущенно умолк.
– Да не о вальсе, дружище! Я говорю о княжестве[46], лежащем к западу от Англии. Об Уэльсе!
Я тоже рассмеялся, хотя был слегка задет тем, что Холмс потешается над моей вполне объяснимой ошибкой. Тем не менее его оживленная реакция втайне порадовала меня, поскольку последние дни он сильно хандрил из-за того, что ему не подворачивалось никаких интересных дел, способных дать пищу его уму. По опыту я знал, что это чревато опасными последствиями. Несмотря на все мои усилия отвадить Холмса от дурной привычки, он до сих пор время от времени баловался кокаином, когда его, по собственному выражению, начинало тяготить «унылое однообразие»[47]. Единственным противоядием от этого состояния, помимо инъекции наркотика, являлось новое, запутанное дело, с помощью которого он смог бы отточить свое уникальное мастерство.
– Боюсь, я мало что знаю об Уэльсе, – ответил я. – Он славится своими угольными шахтами и мужскими хорами, вот, наверно, и все. Но почему вы спросили?
– Из-за этого письма, – сказал он, помахав листком бумаги, который держал в руке. – Пожалуй, я не буду его зачитывать, лишь вкратце перескажу. Местами оно чересчур многословно. Прислал его некий доктор Гвин Пэрри, практикующий врач из деревушки под названием Пентре-Маур (кажется, я правильно произношу). Он просит моей помощи в «крайне трагичной ситуации». Итак, один его пациент, местный фермер по имени… – тут Холмс обратился к посланию и зачитал небольшой отрывок из него: – «…Дай Морган был зарезан два дня назад у себя на ферме. Его сын Хувел арестован за убийство и в настоящее время томится в тюрьме Абергавенни в ожидании суда».
Судя по всему, именно Хувел Морган нашел тело отца и вызвал на место убийства доктора Пэрри, который и произвел первичный осмотр тела. Доктор замечает (цитирую), что «Хувел – работящий, богобоязненный молодой человек, который не способен на такое жуткое преступление, как отцеубийство». Кажется, доктор Пэрри присутствовал при рождении Хувела и на этом основании полагает, будто знает его очень хорошо, но лично я не уверен, что его утверждение примут к сведению, когда начнутся перекрестные допросы. Так что вы думаете, Уотсон? Стоит ли мне принять любезное приглашение доктора и заняться расследованием этого убийства?
Мне чрезвычайно польстило, что Холмс советуется со мной; он нечасто обращался за помощью, когда дело касалось его профессиональной деятельности. Я знал, что сейчас он ничем не занят, а потому скучает и не находит себе места. Путешествие в Уэльс могло избавить его от хандры и вернуть бодрость духа. Поэтому я быстро согласился. Дело тут было не только в Холмсе и его потребностях: мне вовсе не улыбалось в течение бог знает какого времени иметь под боком брюзгливого, угрюмого соседа.
– Почему бы и нет, Холмс? – отозвался я. – Я никогда не бывал в Уэльсе. Неплохо было бы сменить обстановку, а?
– Наверное, – ответил Холмс, но голос его звучал как-то вяло. – Что ж, пусть будет Уэльс, хотя насчет места действия у меня имеются серьезные сомнения. Ферма в валлийской глубинке едва ли сулит интересные впечатления. Остается только надеяться, что там не слишком много коров. По моему мнению, это самые скучные из всех животных, даже хуже, чем овцы. Да, я должен предупредить, Уотсон: путешествие, по всей вероятности, окажется крайне утомительным. Согласно маршруту, расписанному доктором Пэрри, нам предстоят две пересадки, причем одна из них – в захолустном Херефорде.
Тем не менее Холмс телеграфировал доктору Пэрри, сообщив ему о нашем приезде, и на следующий день мы с вокзала Паддингтон отправились в Абергавенни[48]. Путешествие это и впрямь оказалось долгим, но вовсе не столь утомительным, как предсказывал Холмс. Впрочем, сам он до сих пор пребывал в угнетенном состоянии и наотрез отказался любоваться проплывающими за окном вагона пейзажами, погрузившись в мрачное молчание и низко надвинув на лоб свою двухкозырку. Мне очень недоставало занимательной беседы, которой он непременно развлекал меня во время наших прежних поездок.
Лишь после пересадки в Херефорде – очаровательном, насколько я смог судить по виду из вагонного окна, городке, отнюдь не заслуживавшем пренебрежительного эпитета Холмса, – мой друг слегка оживился и стал рассуждать о названиях станций, мимо которых мы проезжали.
– Валлийский – прелюбопытный язык, Уотсон, – заметил Холмс. – Он, несомненно, ведет свое происхождение от кельтского и, как утверждают некоторые ученые, связан с древним бриттским диалектом, на котором говорили обитатели нашего острова до прихода англосаксов.
Тут он, к немалому моему облегчению, пустился в увлекательнейшие рассуждения о индоевропейском протоязыке, от которого, по всей вероятности, произошло огромное количество других наречий, в том числе кельтское. Эта своеобразная лекция продолжалась до самого Абергавенни. Там нас уже ждал доктор Гвин Пэрри – шустрый человечек невысокого роста, однако наделенный такой энергией, что даже воздух вокруг него будто потрескивал от электрических разрядов. Казалось, он сумел повлиять даже на погоду, ибо низкие облака, весь день застилавшие небо, пошли клочьями и мало-помалу стали рассеиваться. Когда мы выехали за пределы Абергавенни и покатили по сельским дорогам в ходкой бричке, запряженной пони, ландшафт, под стать настроению Холмса, тоже стал повышаться. И вот уже перед нами простирались горные склоны, встававшие впереди один за другим, а солнечные лучи скользили по ним, играя в прятки с облачными тенями.
Поначалу мы ехали молча. Холмс и я любовались чудесными видами, а доктор Пэрри, подозреваю, размышлял над обстоятельствами дела, которое привело нас в эти места, и над тем, как поведать двум незнакомцам эту трагическую и очень личную историю.
Первым нарушил молчание Холмс.
– Доктор Пэрри, расскажите мне об убийстве Дая Моргана, – буднично, но вместе с тем мягко произнес он. – Из вашего письма я понял, что он был фермером, что его уважали в этих краях и что его сын…
Казалось, доктор только и ждал этого замечания, чтобы слова полились из него бурным потоком, причем его валлийский акцент, то и дело проскакивавший в речи, делал ее еще более возбужденной.
– Хувел к его смерти непричастен, мистер Холмс! Он хороший парень, мухи не обидит, не говоря уж о собственном отце. Инспектор Риз сделал неправильные выводы! Он городской, знаете ли, из Абергавенни, где ему нас, горцев, понять! Мы для него будто иностранцы!
– Значит, делом занимается инспектор Риз, – спокойно промолвил Холмс. – И каково его мнение? Он полагает, что это именно убийство, а не самоубийство или несчастный случай?
Ровный голос моего друга произвел на доктора Пэрри желаемый эффект: он виновато посмотрел на Холмса и уже спокойнее ответил:
– О, нет, мистер Холмс, в том, что это было убийство, сомнений нет. Человек не может сам дважды пронзить себе сердце, будь то намеренно или случайно. Вы уж простите мне мое волнение. Я знаю Дая и Хувела Морганов большую часть своей жизни. Они мне как родные. Я уверен, что Хувел не убивал отца.
– Ведь это вы осматривали тело?
– Да, верно.
– Сколько тогда прошло времени с момента смерти?
– Не больше часа. Как только Хувел нашел тело в сарае, он тут же побежал в деревню. К моему приходу труп еще не остыл.
– Когда это случилось?
– Позавчера, примерно в половине десятого утра.
– Где лежало тело?
– На полу амбара, лицом вверх.
– Вы сказали, его дважды ударили в сердце?
Доктор Пэрри слегка смутился:
– Честно говоря, в сердце пришелся только один удар. Другая рана была на груди, чуть левее.
– Понятно. Орудия убийства поблизости не обнаружили?
– Нет, ни поблизости, ни где-либо еще. Я сам хорошенько поискал, а потом смотрели инспектор Риз и констебль, который явился вместе с ним. Мы не нашли ничего, чем можно было бы нанести подобные раны. Вообще они были довольно странные, я таких раньше не видел.
– Странные? Почему?
– Их нанесли острым клинком, скорее не ножом, а чем-то вроде рапиры, на расстоянии примерно шести дюймов[49] друг от друга. Орудие входило в грудь сверху вниз, входные отверстия оказались изогнутыми…
– Изогнутыми? – отрывисто бросил Холмс. – Вы уверены, доктор Пэрри?
– Жизнью могу поклясться. Я обследовал раны с помощью медицинского зонда. Убийца стоял лицом к лицу с Даем. Он дважды с силой вонзил клинок ему в грудь, тот упал спиной на пол амбара. Значит, убийца обладал необычайной силой. Дай был не очень высок, но крепок. Он с легкостью удерживал в руках овцу во время стрижки, то есть у него была хорошо развита мускулатура рук и грудной клетки.
– Очень интересно! – задумчиво изрек Холмс. – Можно нам с доктором Уотсоном осмотреть место происшествия?
Доктор Пэрри заговорщически глянул на нас:
– Это мы устроим. Амбар заперт, но я знаю, где взять запасной ключ от замка. Полиция уехала, так что амбар в вашем полном распоряжении. Только помалкивайте об этом. Если инспектор Риз проведает, что я вас впустил, будет шуметь. До чего он назойливый – любит, знаете ли, всюду совать свой нос.
– Когда мы туда отправимся? – нетерпеливо спросил Холмс.
– Прямо сейчас, если желаете. Я устроил вас с доктором Уотсоном в деревенской гостинице «Э Делин Аир», что значит «Золотая арфа». Я бы пригласил вас к себе домой, но жена у меня больна, так что вам, думаю, будет лучше в гостинице. Разумеется, я все оплачу. Там очень уютно. Эмрис Дженкинс, хозяин гостиницы, говорит по-английски. Вы можете выходить и возвращаться в любое время, а Эмрис поделится с вами местными слухами. Сейчас мы завезем ваш багаж, а затем поедем в Плас-э-Койд.
– Плас-э-Койд? – переспросил Холмс. Он был очарован валлийскими названиями. Обрадованный доктор Пэрри с удовольствием переводил их для гостя.
– «Дом в роще», – пояснил он. – Так называется ферма Дая Моргана. Она находится примерно в миле от деревни.
– Которая, как я понял из вашего письма, называется Пентре-Маур, не так ли?
– Совершенно верно, мистер Холмс. Это означает «большая деревня». А холм рядом с фермой носит название Брин-Маур. «Брин» означает «холм»…
– …А Маур – «большой», – подхватил Холмс.
Коротышка доктор громко рассмеялся, явно наслаждаясь этой топонимической игрой. Я тоже радовался, потому что Холмс наконец воспрянул духом.
Несмотря на название, Пентре-Маур показалась мне довольно маленькой деревушкой – несколько домишек из камня и кирпича, сгрудившихся у пересечения двух дорог, таких узких, что на них едва могли разъехаться две телеги. На перекрестке располагались главные достопримечательности селения: часовня из темно-красного кирпича с высоким фронтоном и стрельчатыми готическими окнами и деревенская гостиница из беленого камня, щеголяющая роскошной вывеской в виде золотой арфы на ярко-красном фоне.
Здесь бричка остановилась, доктор Пэрри отнес наш багаж в гостиницу, тут же вернулся и снова занял свое место в экипаже. Мы опять отправились в горы, которые возвышались над селением, будто крепостная стена над старинным замком.
А внизу простирались луга, усеянные белыми пятнышками овец, медленно передвигавшихся по пастбищу. Тут и там виднелись одинокие фермерские домики – сложенные из камня и крытые шифером, низенькие, будто пригнувшиеся к земле в поисках невидимых врагов, скрывающихся в скалах.
Проехав с милю, мы оказались у одного такого дома, находившегося чуть в стороне от тракта и окруженного деревьями. Когда мы проезжали через ворота, я услышал, как Холмс тихо пробормотал: «А, Плас-э-Койд!» Доктор Пэрри сразу же перевел это название на английский:
– Дом в роще. Да вы, мистер Холмс, схватываете на лету. Мы еще сделаем из вас валлийца!
Пони, замедлив шаг, протрусил по коротенькой подъездной аллее к дому. Это было незамысловатое каменное строение с низкой шиферной кровлей, которая казалась слишком тяжелой для этих стен. Перед домом находился мощеный двор, с боков окруженный надворными службами, самой большой постройкой среди которых, видимо, был амбар.
Как только пони остановился, доктор Пэрри спрыгнул на землю и, обмотав вожжи вокруг коновязи, достал из кармана большой ключ от входной двери, попутно пояснив:
– Хувел дал мне его на всякий случай. Я скоро, господа, – только возьму ключ от амбара, и вы сможете осмотреть место, где убили Дая Моргана.
Действительно, уже через несколько минут доктор Пэрри отпер двойные двери большой каменной постройки, стоявшей напротив хозяйского дома. Своим видом она напомнила виденные мною когда-то изображения саксонских церквей: та же строгая архитектура, просторный лаконичный интерьер, пол, вымощенный большими, неровными каменными плитами, крыша, покоящаяся на старых брусьях, скрепленных толстыми поперечными балками. С этих брусьев, будто изорванные стяги какой-то давней битвы, свисали клочья паутины. В дальнем конце помещения виднелся сеновал; лестница, которая должна была вести к нему, валялась на полу, среди охапок сена. Воздух был напоен душистым травяным ароматом; в косых солнечных лучах, проникавших внутрь через полукруглое окно на задней стене амбара, плясали крошечные пылинки, похожие на светлячков.
Доктор Пэрри указал на место на полу недалеко от сеновала.
– Тело Дая лежало здесь, – промолвил он тихо, будто и впрямь находился в церкви на отпевании, и добавил: – На груди у Дая отпечатался след грязного башмака, словно кто-то придавил тело ногой.
– Неужели? – только и сказал Холмс. Затем подошел к месту, указанному доктором, немного постоял, разглядывая клочья сена у себя под ногами. После этого посмотрел вверх, на сеновал, чем-то привлекший его внимание, перевел взгляд на стены амбара. Я много раз видел, как он изучал место преступления таким же быстрым, внимательным взглядом.
Мы с доктором Пэрри ожидали от него реплик, которые свидетельствовали бы, что он заметил что-то важное, но он ничего не сказал, только попросил меня помочь ему приставить лестницу к кромке сеновала и проворно влез по ней наверх. Однако, к моему изумлению, он не сделал попытки забраться на сеновал, лишь немного постоял на ступеньках; голова его при этом находилась вровень с полом сеновала. Затем он спустился и наконец заговорил:
– Инспектор Риз залезал на сеновал?
– Нет, не залезал, – ответил доктор Пэрри. – Сказал, что там слишком пыльно и что он не хочет испачкаться.
– А тот, другой полицейский, что был с ним?
– Он тоже не залезал.
Холмс промолчал. Он перешел в правую половину амбара, отведенную для хранения сельскохозяйственных орудий. Некоторые из них, в том числе большие деревянные грабли и коса, были прислонены к стене, на вбитых в стену гвоздях висели предметы помельче – резаки и садовые ножи разной величины, решета и большие плетеные корзины, которые, вероятно, использовались для просеивания зерна.
– Любопытно, – пробормотал Холмс, склонив голову набок и опять погружаясь в молчание.
Доктор Пэрри, не сводивший с моего друга восхищенного взгляда, был достаточно проницателен, чтобы понять, что Холмс ничего не делает и не говорит случайно. Однако немногословность гостя разочаровала его.
Холмс, как будто почуяв это, улыбаясь обратился к нему:
– Не обращайте на меня внимания, доктор Пэрри. У меня свои методы. Ваш случай напоминает мне о странном ночном поведении одной собаки.
Эта малопонятная реплика явно озадачила доктора Пэрри. Даже я, участвовавший в том давнем расследовании вместе с Холмсом, пребывал в замешательстве. Каким образом случай с пропавшей скаковой лошадью и собакой, которая должна была залаять, но не залаяла[50], мог быть связан с данным делом? Ведь здесь, насколько я мог судить, не было ни собаки, ни лошади, только валлийский фермер и амбар с сеновалом и сельскохозяйственным инвентарем.
Холмс заметил наше недоумение. Поймав мой взгляд, он улыбнулся краешком рта и незаметно покачал головой. Я хорошо знал своего друга и сразу понял, что означают эти сигналы. Дело было раскрыто, по крайней мере на данный момент, хотя, может статься, разъяснения мы получим еще нескоро. А пока что Холмс подошел к доктору, который с ключом в руке уже направлялся к двери амбара, давая понять, что осмотр завершен.
– Перед тем, как мы уйдем, доктор Пэрри, я хочу задать вам еще несколько вопросов. Должно быть, инспектор Риз полагает, что у Хувела Моргана был серьезный мотив для убийства, иначе он не стал бы его арестовывать. Что это за мотив?
Повисло долгое молчание, прежде чем доктор с явной неохотой ответил:
– Это всего лишь слухи, мистер Холмс.
– Неважно, – резко возразил мой друг. – Мне необходимо войти во все подробности дела, включая слухи. Если вы не готовы быть со мной совершенно откровенным, доктор Пэрри, мне придется отказаться от расследования и мы с доктором Уотсоном немедленно вернемся в Лондон. Выбор за вами.
Я видел, что доктор Пэрри старается не смотреть Холмсу в глаза. Он, верно, предпочел бы отделаться уклончивым ответом, но, когда дело касалось профессиональной репутации, мой друг проявлял неизменную твердость. Выкрутиться было невозможно, и доктор Пэрри прочел это по суровому, непреклонному лицу Холмса. Мне было жаль беднягу, когда он, запинаясь, попытался исправить свою ошибку:
– Что ж, видите ли, мистер Холмс, в деревне поговаривали о том, что Дай опять собирается жениться. Он ведь семь лет как вдовец. А у нас тут есть вдова, Карис Уильямс, неплохая женщина. У нее своя ферма в Брин-Теге, на другом краю деревни. Люди однажды видели, как они болтали за часовней, вот и напридумывали, чего не было. В одну секунду поженили их с Карис, поселили ее в Плас-э-Койд, в помощь Даю отрядили ее младшего сына, а старшего оставили хозяйничать на ферме в Брин-Теге. Из-за этих россказней у Дая с Хувелом испортились отношения. Если бы Дай снова женился, Хувел мог решить, что Плас-э-Койд ему уже не достанется.
– Существуют ли какие-то доказательства того, что он действительно этого опасался, или это просто слухи?
Доктор Пэрри беспокойно переминался с ноги на ногу.
– Ну, однажды утром почтальон, разносивший письма, и впрямь слышал, как Дай и Хувел ругались. Хувел сказал: «Если эта женщина и ее сын окажутся здесь, я соберу вещи и уйду». И, хлопнув дверью, выскочил из дому.
– Это все? – спросил Холмс.
– Они перестали вместе выпивать в «Э Делин Аир». Дай теперь сидел у одного края барной стойки, а Хувел – у другого…
Он скорбно умолк.
Но Холмс еще не закончил расспросы.
– По вашему мнению, все было настолько плохо, что у Хувела появился мотив для убийства? – спросил он.
Доктор Пэрри посмотрел себе под ноги, а затем, выпрямившись, взглянул Холмсу прямо в глаза:
– Такое возможно, мистер Холмс. Хувел очень вспыльчив. Тем не менее готов спорить на что угодно: вы докажете его невиновность. Вот и все, что я могу сказать.
– Понимаю, – сказал Холмс, на которого убежденность доктора, видимо, произвела сильное впечатление. – Итак, я возьмусь за расследование, но предупреждаю вас, доктор Пэрри, если у меня появятся какие-либо доказательства виновности Хувела, я, ни секунды не колеблясь, передам их полиции. Согласны вы на такие условия?
– Согласен, мистер Холмс, – уныло промолвил доктор Пэрри.
– Прекрасно, – подхватил Холмс. – Тогда продолжим. Прошу вас, доктор Пэрри, ответьте мне еще на кое-какие вопросы. Когда произошло убийство, на ферме был кто-нибудь, кроме Хувела и его отца?
– Оуэн Мэдок и его дочь Риан, – поспешно ответил доктор Пэрри, словно желая доказать, что больше не собирается ничего скрывать.
– Кто они такие?
– Оуэн работает на ферме, а Риан вроде как в экономках.
– Где они находились, когда убили Дая?
– Оуэн, кажется, кормил свиней, а Риан была где-то в доме. Инспектор Риз должен знать. Он опросил их обоих.
– А я могу с ними побеседовать?
– Конечно, почему бы нет? Но сейчас их нет на ферме. Правда, Оуэну позволили ненадолго приходить, чтобы кормить животных. Вообще-то Риз велел им сидеть дома до конца следствия. Но чуть позже вы сможете найти их здесь, в Плас-э-Койд.
– Значит, они живут не здесь?
– О, нет. У Оуэна что-то наподобие фермы, или, скорее, небольшое подсобное хозяйство в полумиле отсюда. Куры, пара свиней, что-то в этом роде.
– Я бы хотел поговорить с ними обоими. Может, завтра утром? Скажем, в десять часов? Поездка была весьма утомительной, нам нужно немного отдохнуть перед тем, как продолжить расследование. Думаю, доктор Уотсон со мной согласится.
Он повернулся ко мне, и я кивнул.
– Но мне бы не хотелось причинять вам беспокойство, – добавил Холмс, обращаясь к доктору, который тут же отмел подобное предположение:
– Никакого беспокойства, уверяю вас, мистер Холмс. Тут есть другой врач, он примет моих пациентов. Давайте вернемся в деревню, я отвезу вас в гостиницу, где вы отлично устроитесь на ночь.
Насчет гостиницы он оказался прав. Нас поселили в небольших, но уютных комнатах, свежее постельное белье источало аромат лаванды, ужин был незатейлив, но очень вкусен – он понравился мне гораздо больше, чем те блюда, что подают в лондонских ресторанах. Я отправился в постель усталый, но довольный и быстро заснул спокойным, глубоким сном, почти не думая о загадочной связи этого расследования с делом о собаке, которая не залаяла.
Как мы и условились, на следующее утро в десять часов доктор Пэрри заехал за нами, чтобы продолжить расследование. Я отлично выспался и сытно позавтракал, а потому горел нетерпением поскорее узнать, каким образом случай с Серебряным связан с этим делом об убийстве. Но Холмс, который, к превеликой радости, обрел прежнее расположение духа, не спешил удовлетворить мое любопытство.
Впрочем, у меня все равно не было времени его расспрашивать: не успел я и рта раскрыть, как явился доктор Пэрри, и Холмс сам начал задавать ему вопросы о людях, с которыми нам предстояло встретиться.
Доктор Пэрри, обрадованный тем, что Холмс опять ведет следствие, приступил к рассказу с большим энтузиазмом.
– Итак, господа, позвольте мне рассказать обо всем по порядку. Оуэн Мэдок вдовец, а Риан – его единственная дочь. Есть у него и сын, но он много лет назад уехал в Кардифф – в поисках приключений, знаете ли, но сомневаюсь, что он их там нашел. Оуэну под шестьдесят, его дочке… м-м… лет тридцать пять, наверное. Она не замужем. Говорит только по-валлийски, как и отец. Жизнь у нее не сахар, если вы понимаете, о чем я. Они живут в полумиле от фермы Дая Моргана, в маленьком домике под названием Картреф (это значит «дом», мистер Холмс, – вы ведь интересуетесь нашим языком). Если хотите, я могу отвезти вас в горы, чтобы вы взглянули на это место. Неужто, проделав такой путь, вы не удосужитесь осмотреть окрестности!
Получив согласие Холмса, доктор Пэрри продолжил рассказ о Мэдоках:
– Оба помогают по хозяйству в Плас-э-Койд. Оуэн возится с овцами и свиньями. Риан работает в доме: готовит, убирает, присматривает за курами, делает масло и сыр. Мне жаль их обоих. Картреф стоит на отшибе, вы сами увидите, когда мы там побываем. Хотя они скоро вернутся в Плас-э-Койд. Риз позволил им вернуться сегодня утром, и, раз вы хотите с ними поговорить, не страшно, если мы заскочим туда на минутку. Как я уже сказал, жизнь у Риан нелегкая. Оуэн, на мой взгляд, очень ожесточился. Ему хотелось бы работать на себя, но он был младшим сыном, и семейная ферма досталась его старшему брату. Это его здорово озлобило. Да еще жена умерла. Такая потеря! Он думает, что жизнь была к нему несправедлива, и, надо сказать, я его понимаю. К тому же он беспокоится, что станется с Риан после его смерти. Картреф она потеряет – они его арендуют, пока работают на ферме. Она останется без дома. Есть о чем тревожиться!
Тем временем бричка въехала в ворота Плас-э-Койд и остановилась у входной двери, которая оказалась открыта. И прежде чем доктор Пэрри сошел на землю, в дверном проеме появилась женщина. Она остановилась на пороге и с недоверием глядела на нас. Очевидно, это была Риан Мэдок.
Как и сказал доктор, ей было немного за тридцать, но выглядела она намного старше. Черные с проседью волосы были гладко зачесаны назад, открывая лоб и делая ее лицо сумрачным и изможденным. Поношенное коричневое платье и фартук из грубой ткани, подозрительно напоминавшей кусок обыкновенной дерюги, тоже отнюдь не красили ее, но вместе с тем было в ней что-то цыганское, по-своему привлекательное.
Они с доктором Пэрри толковали по-валлийски (она, в отличие от собеседника, говорила мало и неохотно), но по их жестам и выражениям лиц догадаться о содержании разговора было можно. Он, судя по всему, объяснил, кто мы такие, и спросил, где сейчас ее отец, так как она указала в сторону одной из дворовых построек, а потом и сама пошла туда, видимо, чтобы позвать его. Доктор Пэрри подтвердил мое предположение.
– Она сказала, чтобы мы обождали в доме, покуда она приведет отца, – пояснил он, проведя нас по вымощенному каменными плитами коридору в гостиную, выходившую окнами во двор. В ней стояли диван и несколько кресел, набитых конским волосом. Огромный буфет из темного дуба, часы с белым циферблатом в корпусе из того же мрачного дерева и коричневатые обои придавали комнате зловещий, похоронный вид. Двуствольное ружье, стоявшее у камина, только добавляло ей мрачности.
– Кстати, – продолжал доктор Пэрри, – я сказал ей, что вы мои друзья из Лондона и я показываю вам окрестности. Мы будто бы проезжали мимо, и я подумал, что надо зайти проведать ее отца. У него последние три недели побаливает в груди.
Заметив, что внимание Холмса привлекли две большие фотографии в овальных рамках, висевшие над камином, он добавил:
– Это Дай и Хувел.
Семейное сходство меж ними было очевидно. И отец, и сын чувствовали себя перед камерой неловко. У обоих были мужественные подбородки и прямодушное, открытое выражение лица, хотя у Моргана-старшего рот был упрямо сжат. Увидев это, я подумал, что не рискнул бы ему перечить. Я вспомнил, что вчера на обратном пути в Пентре-Маур доктор Пэрри рассказывал нам о ссоре отца и сына из-за вдовы Карис Уильямс. Теперь я понимал, как такое могло случиться.
Мне захотелось расспросить об этом доктора Пэрри, но тут на улице послышались шаги. Выглянув в окно, я увидел Риан Мэдок, подходившую к дому вместе с каким-то мужчиной. Лет пятидесяти с гаком, седовласый и седобородый, он был одет во фланелевую рубаху без воротника и старые вельветовые штаны с потертыми коленями.
Мэдоки, как и Морганы, были очень схожи между собой. Оба высокие, смуглые, они производили впечатление очень сильных людей благодаря крепким торсам и мощным рукам. Отец Риан тоже был в высшей степени немногословен. Когда доктор Пэрри представил нас с Холмсом, Оуэн лишь слабо кивнул в ответ. Пока Пэрри по-валлийски объяснял цель нашего визита, тот слушал молча, лишь в конце этого красноречивого монолога что-то пробурчал (по-видимому, нечто вроде краткого: «Все?») и собрался уходить.
Холмс был сильно раздосадован тем, что ему не удалось побеседовать с этим человеком. Причиной тому была не только языковая преграда, но и замкнутый нрав Мэдока. Мэдок был уже у двери, когда Холмс, обращаясь к доктору Пэрри, неожиданно произнес:
– Не могли бы вы передать мистеру Мэдоку и его дочери наши соболезнования в связи со смертью мистера Моргана? Должно быть, она стала для них обоих огромным потрясением.
Эти слова явно были произнесены с расчетом на какой-либо отклик, и он последовал, хотя не столь отчетливый, как хотелось бы Холмсу. Оуэн Мэдок замер, лицо его было сурово и бесстрастно, как скала. Затем, пробормотав что-то в ответ, он быстро повернулся на каблуках и вышел из гостиной. Его дочь отреагировала куда живее: она прижала ладонь ко рту, и с губ ее слетел слабый возглас. В следующее мгновение Риан кинулась прочь из комнаты, вслед за отцом, и, догнав его в дальнем конце двора, стала что-то яростно втолковывать ему, он же слушал ее в полном молчании. Потом они зашли в тот сарай, где находились до нашего прихода.
– Риан тяжело пережила смерть Дая, – заметил доктор Пэрри, по-видимому взволнованный только что разыгравшейся маленькой драмой. – Думаю, она всегда смотрела на него снизу вверх. А затем арестовали Хувела…
Он смолк, не в силах продолжать.
– Да, разумеется, я понимаю, – ответил Холмс. – Что ж, доктор Пэрри, вы, кажется, обещали нам небольшую экскурсию?
– О, да, – подхватил доктор Пэрри, явно обрадованный переменой темы и перспективой прогулки по окрестностям. Он вышел из дому и через двор направился к амбару, где оставил бричку; мы с Холмсом последовали за ним.
На этот раз мы отправились в горы, выехав в направлении, противоположном деревне, по крутой каменистой дороге, которая становилась все ́уже и ́уже, пока не превратилась в маленькую тропку, ведущую мимо небольшого домика, притулившегося в лощине меж отлогих пастбищ. Доктор Пэрри указал хлыстом на это едва различимое вдали строение.
– Картреф, – объявил он. – Дом Мэдоков.
Это действительно был очень уединенный уголок, каким и описывал его доктор. За исключением овец, щипавших жесткую траву, и паривших в вышине черных птиц (вероятно, воронов), тут не было ни одной живой души. Когда мы проезжали мимо, я спрашивал себя, как Оуэн, а главное, Риан выживают в этом унылом заброшенном месте, в особенности зимой.
И все же тут было очень красиво; чем выше мы поднимались, тем величественней становился пейзаж. Пастбища сменились горной местностью. Скальные породы выходили на поверхность, словно кости какого-то огромного доисторического существа, с которых содрали мягкую, сочную плоть лугов, оставшихся внизу. Утесы становились все выше, а перед нами постепенно разворачивались великолепные виды дальних полей и ферм, крошечных, будто игрушечных, домиков, дорог, узкими темными лентами петлявших вокруг зеленых пастбищ с гулявшими по ним овцами, которые отсюда казались лишь белыми крапинками.
Показался вдали и Плас-э-Койд, который прежде воспринимался как хаотичное нагромождение хозяйственных построек вокруг двора и большого амбара, а теперь предстал в виде четко распланированной усадьбы, где здания выстроены по линиям, веером расходящимся из центра. Даже на расстоянии можно было распознать назначение каждого из них: вот ряд свинарников с собственными маленькими двориками, вот более крупное сооружение – очевидно, коровник, от которого к соседнему полю, где паслось несколько черно-белых коров, вела едва различимая тропка. Я даже рассмотрел поблизости крошечную коричневую пирамидку – по-видимому, навозную кучу. Из ее вершины торчал черенок какого-то сельскохозяйственного орудия. Изумленный тем, что с такого расстояния можно увидеть столько подробностей, я обратил на это внимание Холмса, но он лишь безучастно пожал плечами.
Дорога забирала все круче, и наконец доктор Пэрри предложил нам сойти с брички, чтобы пони было легче тащить ее наверх. Пешком мы приблизились к огромному плоскому камню, лежавшему у тропы. Очевидно, это был любимый наблюдательный пункт доктора Пэрри, так как он, удовлетворенно вздохнув, опустился на камень.
– Ну, что я говорил, господа! – торжественно провозгласил он, обводя рукой панораму. – Таких красот вы еще не видали!
Да, я действительно видел такое впервые. Подозреваю, что и Холмс тоже: он устроился на краешке камня, сложив руки на коленях, и молча созерцал ландшафт. Сейчас он, с его точеным профилем, больше, чем когда-либо, походил на орла, оглядывающего из горного гнезда свои владения.
Мы пробыли там не меньше получаса, околдованные волшебным пейзажем. Холмс молчал. Он совершенно ушел в себя, и я не посмел прерывать его напряженные размышления.
Он предавался раздумьям и на обратном пути, лишь когда мы проезжали мимо Плас-э-Койд, повернул голову и бросил на ферму мимолетный взгляд, прежде чем дом и остальные постройки исчезли за поворотом.
Он так ничего и не сказал до самого Пентре-Маур. Там, обращаясь к доктору Пэрри, он отрывисто произнес:
– Могу я переговорить с вами в приватной обстановке?
– Конечно! – ответил доктор Пэрри, несколько озадаченный этой внезапной просьбой.
– Только не у вас дома, – продолжал Холмс. – Не хочу беспокоить вашу супругу. В гостинице есть отдельная комната, где мы обедали. Можно попросить хозяина предоставить ее в наше распоряжение?
– Думаю, Эмрис не станет возражать. Я прямо сейчас переговорю с ним.
И доктор все устроил, не теряя времени. Через две минуты нас провели в небольшую комнату рядом со столовой, наподобие тех, что существуют во многих английских пивных.
Мы уселись за стол, и Холмс, после минутного колебания, начал беседу с заявления, изумившего не только меня, но, судя по всему, и доктора Пэрри.
Безо всяких вступлений Холмс объявил:
– Господа, я знаю, кто и каким образом убил Дая Моргана. Однако мне потребуется ваша помощь, чтобы отдать убийцу в руки правосудия.
Его слова буквально ошарашили нас с доктором Пэрри, на что он, несомненно, и рассчитывал. Впрочем, хорошо изучив Холмса за долгие годы нашего знакомства и зная о его любви к эффектным сценам[51], я подозревал, что он поистине наслаждается ими, и поспешил отойти в тень, предоставив задавать неизбежные вопросы доктору Пэрри.
– Ради всего святого, мистер Холмс, как вы пришли к своему заключению?
– Изучив доказательства, разумеется, – холодно ответил Холмс.
– Доказательства? Но где же они?
– В амбаре и рядом с ним.
Холмс, видимо, имел в виду двор фермы и близлежащие постройки, но где именно он нашел улики, я не имел ни малейшего представления. Доктор Пэрри лишь удивленно качал головой. Первым нарушил молчание сам Холмс.
– Итак, господа, – произнес он, – поскольку дело успешно раскрыто, полагаю, нам следует заняться финальной стадией расследования – разоблачением преступника. Для этого я разработал некий план, который потребует вашего участия. Вот что я предлагаю.
И, склонившись над столом, он раскрыл нам детали этого плана – или «небольшого действа», как он его называл.
После обеда мы вернулись в Плас-э-Койд. Пони и бричку, как и прежде, поставили во дворе. Доктор Пэрри вновь зашел в дом за ключом от амбара, но на этот раз он вернулся в сопровождении Риан. Женщина, однако, не присоединилась к нам, а пошла через двор к калитке, которая вела на пастбища, чтобы позвать отца: он возился там с овцой, повредившей ногу, – перевел для нас доктор Пэрри ее слова. Холмс тоже отошел. Он заранее предупредил нас, что ему нужно сделать еще кое-что, но не удосужился объяснить, что именно. Тем временем доктор Пэрри открыл замок, висевший на дверях амбара, и широко распахнул их.
Внутри амбара все осталось без изменений. На полу среди клочьев сена по-прежнему валялась лестница, к левой стене все так же были прислонены сельскохозяйственные орудия.
Следуя наставлениям Холмса, я поднял лестницу и приставил ее к кромке сеновала. Не успел я это сделать, как подошли остальные участники нашего «небольшого действа», тщательно распланированного Холмсом.
Первым прибыл инспектор Риз – высокий мрачный человек, вызванный вчера телеграммой из Абергавенни. Он приехал утром в специальном фургоне, в сопровождении полицейского сержанта и констебля. Все трое тоже отправились в Плас-э-Койд, следуя, впрочем, на значительном расстоянии от нас. Теперь же, неохотно подчинившись указаниям Холмса, они расположились в дальней части амбара, откуда человек, входивший через двойные двери, не сразу мог их заметить.
Потом вошел Холмс, вернувшийся из своей загадочной экспедиции и принесший с собой нечто меня поразившее. Впрочем, у меня не было возможности оценить важность этого предмета, поскольку Холмс, проворно взобравшись по лестнице, мигом очутился на сеновале, похожем на театральную сцену. Это и впрямь был настоящий театр: над нами возвышался Холмс, словно какой-нибудь прославленный актер, а мы с доктором Пэрри и полицейскими превратились в зрителей – этакую невзыскательную публику, собравшуюся в шекспировском «Глобусе»[52] на представление одной из великих трагедий. Косые солнечные лучи с плясавшими в них пылинками создавали на этой сцене причудливое, беспрестанно менявшееся освещение.
По некому негласному соглашению мы молча ожидали остальных участников действа. Тяжелый скрип открывающихся дверей амбара, возвестивший об их появлении, был не менее драматичен, чем знаменитый стук в ворота в «Макбете».
Они нерешительно вошли внутрь – Оуэн Мэдок впереди, за ним его дочь Риан – и на мгновение замерли, подняв головы и увидев на краю сеновала фигуру Холмса, который тоже стоял без движения.
Затем Холмс медленно и осторожно, будто воин, поднимающий копье, взял вилы, которые принес с собой невесть откуда, и дрожавшей от напряжения рукой прицелился в тех двоих, что стояли внизу.
Риан не выдержала первой. Она завопила, словно раненый зверь, и закрыла лицо руками. Мэдок не издал ни звука, но на его лице явственно отпечатался тот же безумный ужас.
Мы застыли на своих местах, будто участники немой сцены в финале мелодрамы, ожидающие, когда опустится занавес.
И вдруг мизансцена распалась, а ее действующие лица бросились врассыпную. Мэдок метнулся к двери амбара, бешено распахнул ее и побежал через двор к дому. К тому времени, когда туда добрались остальные, он успел запереться изнутри. Риан бросилась к двери и, забарабанив по ней кулаками, закричала:
– Папа! Папа!
Мы с доктором Пэрри словно остолбенели, Холмс же ринулся вперед. Сорвав с себя пальто, он обернул им руку и выбил окно гостиной, находившееся рядом с входной дверью. Просунув руку внутрь, он открыл задвижку, а мгновение спустя уже протискивался через открытую оконную створку в комнату. Мы услышали звук его шагов по каменному полу прихожей, а затем приглушенный шум борьбы, сопровождавшийся громкими криками.
Я различил голос Холмса, очень громкий и звонкий, в котором слышались повелительные нотки, призванные усилить эмоциональное содержание диалога, как в оперных дуэтах, где бас дополняет тенора.
Он кричал:
– Не будьте глупцом, Мэдок! Опустите оружие!
Затем послышался пронзительный, истерический голос Мэдока, оравшего что-то по-валлийски. В следующий миг крик внезапно оборвался, и вслед за тем грянул оглушительный выстрел.
Мы с инспектором Ризом, а за нами и два полисмена наконец добежали до дома. В суматохе никто из нас не догадался, как Холмс забрался в дом через окно, которое по-прежнему оставалось открытым. Вместо этого мы безрезультатно пытались вышибить крепкую дубовую дверь, которая не дрогнула даже под напором здоровяков полицейских. Верно, мы еще долго продолжали бы свои бесплодные попытки попасть внутрь, но тут дверь резко распахнулась, и мы вчетвером чуть было не оказались на полу прихожей. К моему великому облегчению, на пороге появился Холмс, спокойный и, кажется, целый и невредимый. Он отвесил легкий насмешливый поклон и посторонился, пропуская нас внутрь.
Первое, на что упал мой взгляд, была распростертая на полу фигура Оуэна Мэдока. Он лежал лицом вверх на каменных плитах пола, из уголка его рта струилась кровь, рядом валялось двуствольное ружье, вокруг были рассыпаны куски штукатурки.
Я подбежал, чтобы нащупать у него на шее сонную артерию, но Холмс заметил сквозь зубы:
– О, не утруждайтесь, дорогой Уотсон. Он жив. Всего лишь оглушен апперкотом в нижнюю челюсть[53]. Если кому и нужна медицинская помощь, так это мне. От удара у меня разошлась кожа на костяшках пальцев, но жить я буду.
– Но я же слышал выстрел! – возразил я.
– Да, выстрел был. Я чуть не оглох. Однако к этому времени мне удалось отвести ружье, что находилось в руках у Мэдока, в сторону, так что, когда он спустил курок, дуло было направлено вверх. Вот откуда дыра в потолке и рассыпанная штукатурка.
Повернувшись к Ризу, он продолжал:
– На вашем месте я бы надел на него наручники, инспектор, на случай если, очнувшись, он опять решит драться. Он очень силен, а главное – доведен до отчаяния.
Однако Холмс переоценил Мэдока. Когда тот пришел в себя, он был тих и смирен. Он совсем не сопротивлялся, когда его вывели из дома и отвели к ожидавшему во дворе фургону. Отсюда инспектор Риз и два полисмена препроводили его в тюрьму Абергавенни, где он должен был дожидаться суда за убийство Дая Моргана.
Оставшимся на ферме тоже пришлось разделиться. Мы с Холмсом вернулись в «Золотую арфу» и стали ждать доктора Пэрри, который повез Риан Мэдок к соседям, чтобы те присмотрели за нею.
По какому-то негласному уговору ни Холмс, ни я не обсуждали утренние события, покуда не вернулся доктор Пэрри. Затем мы втроем опять уединились в маленькой комнате рядом со столовой, и я наконец смог задать своему другу все те вопросы, что теснились в моей голове со вчерашнего дня.
– Ради бога, как вы узнали, что Дая Моргана убил именно Оуэн Мэдок, а вовсе не Хувел? И почему вы вспоминали о собаке, которая не залаяла?
Холмс, который в этот момент раскуривал трубку, немного помедлил с ответом и, откинувшись на спинку стула, пустил длинную струю дыма к низкому потолку, когда-то беленному, но давно уже прокопченному любителями табака.
– Если вы помните, дружище, собака должна была залаять, но не залаяла. Вот в чем был смысл[54]. То, что должно было случиться, не случилось. В данном деле также отсутствовала одна деталь, только это был не звук, а предмет. У стены амбара хранился различный сельскохозяйственный инвентарь, но одного орудия явно недоставало, хотя оно должно было там быть, судя по наличию сеновала и разбросанного по полу сена. Речь, разумеется, о вилах. Я спросил себя: «Почему их нет?» И тут мне вспомнилось описание ран на груди Дая Моргана, сделанное доктором Пэрри. Мы все подумали, что они нанесены оружием с одним острием. Вы, доктор Пэрри, сказали, что раны и сами по себе были какие-то странные – с узким и изогнутым входным отверстием. Я никогда не встречал ножей или рапир, подходивших под это описание. Но само слово «нож» привело мне на память другой предмет, который мы каждый день видим за обеденным столом. Нож и…
Холмс смолк и обвел меня и доктора Пэрри дразнящим насмешливым взглядом, приподняв бровь и дожидаясь, когда кто-нибудь из нас произнесет искомое слово.
– Вилка! – хором ответили мы с Пэрри.
– Прекрасно, господа! – воскликнул Холмс. – Вы пришли к тому же самому выводу, что и я. Вилка! А что похожее на вилку можно найти в амбаре? Конечно, вилы. И когда я это понял, многое начало обретать смысл. Например, две раны на груди Дая Моргана. Они были нанесены не двумя, как мы полагали ранее, а одним ударом, но у орудия было два зубца. Этим объясняется необычайная сила удара, который повалил Дая Моргана на спину, а также то, что орудие вошло в грудь под углом. Значит, убийца не стоял лицом к лицу с убитым, но напал на него с расстояния, равного длине копья или дротика, а кроме того, находился гораздо выше жертвы, то есть на сеновале. Я установил этот факт, когда осматривал сеновал в день нашего приезда. На его пыльном настиле отчетливо виднелись чьи-то следы, но то были отпечатки только одних башмаков, причем совсем свежие. Доктор Пэрри утверждал, что ни инспектор Риз, ни его коллега не забирались на сеновал, значит, следы принадлежали кому-то другому. Судя по размеру, они были мужские, и это обстоятельство прямо указывало на Оуэна Мэдока, потому что в то утро он оказался единственным мужчиной на ферме, за исключением Хувела. Однако Риан Мэдок сообщила полицейским, что во время убийства Дая Моргана Оуэн Мэдок ухаживал за больной овцой на дальнем пастбище. Риан, возможно, не знала, что в какой-то момент он вернулся в амбар по делу – скорее всего, за сеном для коров.
Основываясь на этих выводах, мы можем в подробностях представить себе картину случившегося в амбаре четыре дня назад. Мэдок стоял на сеновале (вероятно, вилами сбрасывал сено вниз, на пол амбара), и тут явился Дай Морган. Между ними разгорелась ссора, о причине которой я расскажу позже, и Мэдок в гневе метнул вилы вниз, в Моргана, который стоял прямо под ним. Сильный удар свалил Моргана с ног, зубцы вил пробили ему грудь, один из них угодил в сердце и вызвал обильное кровотечение.
Несложно вообразить финал этой сцены. Спустившись по лестнице вниз и обнаружив, что Морган мертв, Мэдок испугался и запаниковал, не зная, что делать дальше. Посылать за доктором Пэрри не имело смысла; помощь Моргану уже не требовалась. Но что делать ему самому? Если он признается в убийстве, его повесят. С ужасом осознав это, Мэдок предпринял отчаянную попытку скрыть содеянное, прежде чем кто-нибудь докопается до истины. Избавиться от тела не представлялось возможным. Куда бы он его спрятал? Зато он мог выбросить орудие убийства и тем самым пустить полицию по ложному следу. Итак, он пытается вытащить вилы из груди жертвы. Но даже это оказывается далеко не просто. Зубцы глубоко застряли в теле. И тут он делает то, что сделал бы любой человек в подобных обстоятельствах: старается найти опору, чтобы облегчить себе задачу, и ставит ногу на тело мертвеца.
– Ну конечно! – воскликнул я. – След грязного башмака на груди у Дая Моргана!
– Правильно, Уотсон! Он вытащил вилы, и теперь ему надо было избавиться от них. На них оставались следы крови и, несомненно, куски плоти погибшего. Инстинкт подсказывал Мэдоку, что надо унести вилы как можно дальше от места преступления, чтобы никто не связал это орудие со смертью Дая. Кроме того, он хотел развязаться с этим убийством и с чувством вины, следуя простой логике: с глаз долой – из сердца вон. Итак, он относит вилы на скотный двор и втыкает в навозную кучу.
В действительности это оказалось ошибочным решением. Если бы он просто смыл кровь и поставил вилы на место, вероятнее всего, никто не связал бы их с убийством Дая Моргана и это преступление было бы внесено в разряд нераскрытых. Его могли приписать залетному вору, который случайно зашел в амбар, хотел что-то стащить, но попался на глаза Даю Моргану и вынужден был его убить.
Но Мэдоку не пришло в голову (и это подтверждает мою гипотезу о том, что убийство было непреднамеренным), что в смерти отца могут обвинить Хувела Моргана. Если бы Мэдок хорошенько обдумал все это, тот факт, что Хувел кормил свиней и находился довольно далеко от амбара, успокоил бы его. Другим доводом в пользу невиновности Хувела являлось то, что они с отцом были очень близки и все об этом знали. Поэтому арест Хувела привел его в ужас.
Однако в слепой панике он упустил из виду другой факт, который давал Хувелу мотив для убийства отца, на что вы, доктор Пэрри, указали еще в день нашего приезда. Я имею в виду отношения Дая Моргана с Карис Уильямс. Видимо, намечавшаяся свадьба была лишь деревенской сплетней, но Мэдок, возможно, вообще не знал об этом. Он замкнутый человек по натуре, к тому же избегал общения с односельчанами. Трагическая ирония состоит в том, что, когда Мэдок узнал об этих слухах, его реакция была почти такой же, какую полиция приписывала Хувелу.
– А именно? – удивленно спросил я.
– Подозрение в виновности Хувела основано на предположении, будто он боялся, что, если отец снова женится, один из сыновей Карис Уильямс приберет к рукам ферму. Это и послужило причиной ссоры между Даем и Хувелом Морганами. Но никто не взглянул на ситуацию глазами Оуэна Мэдока. Если бы Морган женился вторично, положение Мэдока и его дочери в Плас-э-Койд пошатнулось бы. Возможно, от их услуг и вовсе отказались бы. Карис Уильямс взяла бы на себя роль хозяйки, которую прежде исполняла Риан, а один из юных Уильямсов стал бы помогать на ферме вместо Мэдока. В таком случае Мэдоки могли потерять и свой дом, ведь его сдают только работникам фермы. Все это, разумеется, лишь догадки, но отнюдь не безосновательные. Если помните, Мэдок когда-то сам утратил право на ферму отца, потому что у него был старший брат. Есть и еще один мотив для ссоры, хотя доказать его невозможно.
– Что за мотив? – спросил я.
– Эта моя гипотеза тоже основана на предположении, – усмехнулся Холмс. – Я просто подумал, что Риан Мэдок вбила себе в голову, будто Дай Морган в нее влюблен и когда-нибудь они поженятся. В конце концов, она ведь просто одинокая женщина, которая много лет вела хозяйство в доме Моргана, то есть в каком-то смысле заменяла ему жену. Люди легко поверили слухам о Дае и Карис, вот так и она легко убедила себя, что он от нее без ума, – хватило улыбки, ложно истолкованного приветливого слова, случайного обмена взглядами во время работы. Она даже могла поведать о своих надеждах отцу. Если это действительно произошло, довольно было одной искры, чтобы воспламенить и без того напряженную ситуацию.
Холмс обратился к доктору Пэрри:
– Как вы считаете, такое возможно?
– Вполне, – серьезно ответил тот. – Но все это уже неважно. В настоящий момент, мистер Холмс, я больше всего беспокоюсь за будущее Риан. Дай Морган погиб, ее отца, вероятно, повесят за убийство. Что станется с ней и другими участниками этой ужасной трагедии?
Но никто из нас не отважился ничего предполагать. Прошел почти год, и вот однажды мы получили от доктора Пэрри письмо, в котором содержался частичный ответ на этот вопрос.
Риан, писал доктор, уехала из Пентре-Маур в Кардифф, к младшему брату, где некоторое время вела его хозяйство, а затем вышла замуж за местного сапожника. Хувел тоже женился – на Бранвен Хьюс, кузине Карис Уильямс. Он, кажется, счастлив, живет в Плас-э-Койд с женой и новорожденным сыном.
Оуэн Мэдок на выездной сессии суда[55] в Абергавенни признал себя виновным в убийстве Дая Моргана и был приговорен к повешению, но не дождался исполнения приговора и скончался от сердечного приступа.
Так завершился, по выражению Холмса, последний акт нашего валлийского расследования, и завершился, учитывая все обстоятельства, вполне удачно.
Дело о пропавшей падчерице
Это случилось одним ноябрьским утром. Мы с Холмсом только что вернулись из Девоншира после расследования баскервильского дела, в котором немаловажную роль сыграл инспектор Лестрейд[56]. К немалому нашему изумлению, именно он и стоял теперь на пороге гостиной. Обычно очень опрятный, инспектор имел до странности неряшливый вид. Холмс пригласил его войти и, как только гость устроился у камина, заметил:
– Я вижу, вы где-то недавно копались. Очевидно, это каким-то образом связано с вашим визитом?
Лестрейд был ошарашен.
– Какого черта… – начал было он.
– «По ногтям человека, по его рукавам, обуви и сгибу брюк на коленях нетрудно угадать его профессию», – процитировал Холмс.
Я тотчас вспомнил старую журнальную статью, принадлежавшую перу моего друга[57]. Однако Лестрейду она, видимо, не попадалась, ибо он в замешательстве таращился на Холмса.
– Вас выдают рукава вашего пальто, дорогой инспектор, – пояснил Холмс, – а также колени, не говоря уже о ботинках. Вы с ног до головы измазаны в лондонской грязи. Так где вы копались и для чего?
Вместо ответа Лестрейд полез в карман, вытащил оттуда какой-то конверт и отдал его моему другу. Я поднялся с места, подошел к Холмсу и встал у него за плечом, чтобы тоже взглянуть на послание. Долгое знакомство с Холмсом научило меня важности детального осмотра. Я увидел, что на конверте, изготовленном из дешевой бумаги, какую можно купить в любой писчебумажной лавке, крупными корявыми буквами, скорее всего измененным почерком, написано:
Инспектору Лестрейду из отдела убийств, Скотленд-Ярд
Холмс насмешливо поднял бровь.
– Убийство? – невозмутимо спросил он, но я-то заметил, что он уже поднял голову, словно охотничий пес, учуявший дичь.
– Прочтите письмо, мистер Холмс, – скорбно промолвил Лестрейд.
Последовав совету Лестрейда, Холмс открыл конверт и вынул из него коротенькую записку, нацарапанную на листке дешевой писчей бумаги все тем же корявым почерком. В послании не было ни обращения, ни подписи, лишь следующий текст:
Пойдите в сад, что за домом семнадцать по Элмсхерст-авеню в Хэмпстеде, и копайте под деревом, находящимся в десяти шагах слева от ворот. Вы найдете там труп мадемуазель Люсиль Карэр, падчерицы мадам Ортанс Монпенсье, которая убила ее и зарыла там тело.
Это будничное сообщение отдавало такой бесстрастной жестокостью, что у меня кровь застыла в жилах.
– Так вы обнаружили тело, инспектор? – поинтересовался Холмс, откладывая листок в сторону. – Судя по состоянию вашей одежды, это так.
– Верно, мистер Холмс. Обнаружили около часа назад. Как только я получил это письмо с утренней почтой, тут же отправился по указанному адресу, прихватив полицейского сержанта и констебля. Мы нашли труп в точности там, где указано. Это не составило большого труда. Хотя там все заросло плющом, было заметно, что земля недавно вскопана. В том месте она была более рыхлой, чем вокруг.
– А тело?
– Ну, по правде говоря, это не тело а, скорее, скелет. Я послал за анатомом из местной лечебницы Святого Клемента, и тот уже произвел беглый осмотр. Он считает, что труп пролежал в земле не меньше года, а то и все полтора, поэтому от него мало что осталось, за исключением костей и обрывков одежды.
– Где тело находится сейчас?
– Все там же.
Лестрейд запнулся, облизал губы и добавил:
– Я не хотел, чтоб его увозили, пока вы не взглянете.
– Я? – отрывисто спросил Холмс, но я-то заметил, что он уже был готов сорваться с места.
Лестрейд неловко заерзал:
– Видите ли, мистер Холмс, в том доме одни французы, а я кроме «сильвупле» да «уи, уи» ничего и сказать не умею. Какое уж тут расследование!
– Сколько там человек? – перебил его Холмс.
– Всего четверо. Владелица дома мадам Монпенсье, ее компаньонка мадемуазель Бенуа. А еще семейная пара, мсье и мадам Доде. Жена – экономка и немного говорит по-английски; вроде она кузина мадам Монпенсье. Ее муж за всех разом: он и дворецкий, и работник, и что душе угодно; а по-нашему не кумекает. У меня такое чувство, будто они бедные родственники. Вот так-то, мистер Холмс. Я знаю, вы по-французски ловко объясняетесь[58]. Вот и подумал, что вы захотите помочь следствию…
– Разумеется, при условии, что мадам Монпенсье будет согласна, – с безразличным видом ответил Холмс, но я-то сразу понял, что он горит нетерпением принять этот вызов.
– Думаю, она согласится. Она уже немолода. Когда нашли тело, она была просто потрясена, знаете ли. Насколько я понял, она отрицает, что знала…
– Оставьте, Лестрейд, я сам с ней побеседую и все выясню.
– Так вы поможете? – просиял инспектор.
– Ни за что на свете такое не пропущу. Тут одни имена чего стоят.
– Имена? – переспросил Лестрейд. – Ну, я ведь сказал, они французы…
– Понятное дело. Но я имел в виду другое.
Мы с Лестрейдом обменялись озадаченными взглядами, недоумевая, о чем он толкует, но времени объясняться не было. Холмс сказал:
– А теперь, Уотсон, скорее одевайтесь и пойдемте!
– Я приехал в кэбе, – сообщил Лестрейд, пока мы в спешке собирались, – и, надеясь, что вы не откажетесь принять участие в расследовании, попросил кэбмена подождать у входа.
– Отлично! – заявил Холмс, хватая свою шляпу и устремляясь вниз по лестнице.
Вскоре мы втроем уже мчались в кэбе по направлению к Хэмпстеду.
По просьбе Холмса Лестрейд во время поездки не говорил об этом деле. Мой друг объяснил, что предпочитает сделать собственные выводы, когда увидит все своими глазами, и Лестрейд, видимо, был согласен с ним. Во всяком случае, инспектор не сказал ни слова о расследовании, лишь когда кэб прибыл на тихую зеленую улочку, объявил:
– Мы на месте, господа! Элмсхерст-авеню, дом номер семнадцать. Место преступления!
Мы очутились перед большим неказистым строением из темно-красного кирпича, с тяжелой шиферной кровлей, напоминавшей свинцово-серую крышку блюда, которой будто накрыли здание, чтобы запереть жильцов внутри. Со стен свисали гирлянды плюща, некоторые его побеги успели опутать окна, усиливая сходство дома с мрачной гробницей.
Вымощенная черно-белой плиткой дорожка, начинавшаяся за высокими железными воротами, вела к входной двери, но, к моему удивлению, инспектор Лестрейд сразу свернул направо и отправился в обход дома, к заднему двору, затем резко свернул влево, к высокой изгороди. Там, в нескольких ярдах от нас, у деревянной калитки стоял на часах констебль в форме.
Увидев нас, констебль отдал честь и, толкнув калитку, пропустил нас в находившийся за ней большой заросший сад. Большинство деревьев и кустов уже сбросили листья, их переплетающиеся голые ветви частично закрывали обзор. И все же сквозь эту естественную преграду можно было разглядеть, что в правой части сада была разворошена опавшая листва и вскопана земля. Место преступления охранял полицейский сержант, возле него стоял, опершись на лопату, констебль с покрасневшим от натуги лицом, рядом на ветке висела его форменная куртка. При нашем приближении оба вытянулись, сержант выступил вперед и отдал нам честь, готовый в случае необходимости рапортовать начальству.
– Где доктор Читти? – спросил Лестрейд.
– Ушел минут двадцать назад, сэр. Сказал, у него пациент в лечебнице, – ответил сержант. – Но велел передать, что позже пришлет с нарочным подробный отчет. А пока что я должен сообщить следующее: тело принадлежит молодой женщине лет двадцати, ростом примерно пять футов четыре дюйма[59], хрупкого сложения, темноволосой. Как она встретила свой конец, покамест не ясно: череп не проломлен, и шея, к примеру, тоже не свернута.
Пока сержант говорил, он успел сгрести в сторону сухие листья и расчистить место захоронения. Это была яма не более четырех футов[60] глубиной, в которой находился скелет. Тело было аккуратно уложено на спину с прямыми ногами и вытянутыми по бокам руками. На черепе, слегка повернутом влево, застыл страшный оскал смерти. Во время своей врачебной карьеры я видел его сотни раз, особенно часто в Афганистане, и он всегда пробуждал во мне леденящую мысль, что смерть – всего лишь мрачная издевка каких-то злых сил, стремящихся продемонстрировать ничтожность человека.
Холмс подошел к самому краю ямы и пристально разглядывал ее содержимое. Я попытался перевести взгляд с ухмыляющегося черепа на другие части тела. Очевидно, труп завернули в самодельный саван, возможно одеяло, так как на костях еще виднелись лоскутья коричневой шерстяной материи, а также остатки более тонкой ткани, из которой, вероятно, было сшито платье. Ткань была синего цвета, и на ней просматривались следы голубого узора. Однако наблюдательный Холмс сумел заметить еще одну необычную деталь, которая ускользнула от моего взгляда.
– Обуви на теле не было? – отрывисто спросил он.
Лестрейд, который, судя по всему, также не обратил на это внимания, встрепенулся:
– Не знаю, мистер Холмс. А вы, Бенсон? Видели обувь?
Сержант покачал головой:
– Нет, сэр.
– А это что такое? – продолжал Холмс, указывая тростью на ком земли, лежавший слева от тела и по виду не отличавшийся от других комьев, разбросанных по дну могилы.
Лестрейд заглянул в яму и жестом подозвал констебля с лопатой:
– Эй, ты! Палмер, кажется? Видишь этот ком? Подай-ка его мне! – И пока тот осторожно спускался в яму, добавил: – Да помни, куда лезешь!
Вышеупомянутый ком был вытащен и передан Лестрейду, который бегло осмотрел его, пожал плечами и отдал Холмсу.
Понимая, что мой друг не зря заинтересовался этим предметом, я внимательно наблюдал, как он взял ком земли и аккуратно раздавил его пальцами, чтобы извлечь то, что находилось внутри. Стряхнув всю землю, он положил находку на ладонь. Это был серебряный медальон в форме сердца на тонкой серебряной цепочке. Вещица так потускнела и испачкалась, что я только диву давался, как ее вообще можно было разглядеть на дне могилы.
– Как, ради всего святого, вам удалось ее увидеть? – спросил я.
– Просто на земле что-то сверкнуло, – сказал Холмс. – Интересно, как он тут оказался?
– Это, конечно, принадлежало ей, – без раздумий ответил Лестрейд, указывая пальцем на скелет.
– Возможно, – согласился Холмс. – Но почему ее могильщик заботливо положил рядом медальон, а об обуви не подумал?
Наступила тишина. Лестрейд надул щеки и выразительно посмотрел на меня, словно намекая: «Теперь ваша очередь говорить». Но, зная о пристрастии Холмса выставлять на посмешище тех, кто самонадеянно торопится с заключениями, я на приманку не клюнул и промолчал. Холмс был явно разочарован. Пользуясь предоставленными ему полномочиями, он повернулся к инспектору и кротко спросил:
– Надеюсь, дорогой Лестрейд, вы разрешите мне забрать эту цепочку и медальон с собой? Обещаю, они вернутся к вам в целости и сохранности.
– Что ж, в интересах дела я позволю вам ее взять, мистер Холмс, – великодушно отозвался Лестрейд и тут же добавил: – При условии, если и вы позволите заглянуть к вам вечерком и узнать, к каким выводам относительно этой вещицы вы пришли.
– Разумеется, – столь же великодушно согласился Холмс, затем с едва заметной улыбкой опустил медальон в один из маленьких конвертиков, которые носил с собой на такой случай, и вложил конвертик в свою записную книжку.
– А теперь, – деловым тоном продолжал он, – настало время побеседовать с мадам Ортанс Монпенсье о ее падчерице мадемуазель Карэр. – И когда мы направились к калитке, прибавил: – Странно это, инспектор, вы не находите?
– Странно? Что странно? – спросил Лестрейд, спеша вдогонку за Холмсом.
– Имена, Лестрейд, – ответил Холмс.
– А что не так с именами? – удивился Лестрейд. – Им и положено быть странными, они ведь французские, разве нет?
Уже второй раз Холмс заговаривал об именах, но я все не мог понять, что он имеет в виду. Лестрейд, судя по всему, довольствовался собственным объяснением. Я же по-прежнему недоумевал, отчего это Холмс так настойчиво привлекал наше внимание к именам.
Когда мы подошли к парадной двери дома семнадцать по Элмсхерст-авеню, я так ни до чего и не додумался, а потому на время выкинул эту загадку из головы. Лестрейд взялся за тяжелый железный дверной молоток, отпустил его, и тот издал гулкий звон, такой громкий, что и мертвого мог разбудить.
Дверь открыл какой-то мужчина, с ног до головы одетый в черное, будто он собрался на похороны. Я догадался, что перед нами мсье Доде. Это был высокий широкоплечий человек. Он слегка наклонился вперед, словно стараясь выглядеть ниже ростом, отчего его лицо приблизилось к нам и мы смогли подробно рассмотреть его черты: длинный нос, отвислые щеки и густые топорщившиеся черные брови, из-под которых на нас взирали внимательные глаза, похожие на глаза дикого животного, притаившегося в терновнике. Он кивнул, видимо признав инспектора, который уже приходил сюда после получения загадочного письма, распахнул дверь и впустил нас в прихожую.
Мне хотелось поподробнее рассмотреть интерьер прихожей, но времени хватило только на то, чтобы мельком заметить темные обои с висевшими на них еще более темными картинами и лестницу справа от нас, верхние ступени которой тонули во мраке. Возможности разглядеть что-либо еще у меня не было, ибо мсье Доде подвел нас к какой-то двери и постучал.
Оттуда послышалось:
– Entrez![61]
Мсье Доде открыл дверь и с сильным французским акцентом объявил:
– Инспектор Лестрейд, мсье Холмс и доктор Уотсон, мадам!
Он посторонился, позволив нам войти.
Мы очутились в просторной, но очень сумрачной и чрезвычайно загроможденной комнате. Из-за плотных бархатных штор на окнах и мебели, занимавшей почти все свободное место, здесь было буквально нечем дышать. Кругом не было ни одной свободной поверхности – стены были увешаны картинами, столы уставлены вазами, полки забиты разными безделушками, и все это окутывал полумрак. Единственным ярким пятном был огонь, горевший в большом камине черного мрамора, перед которым сидела в инвалидном кресле сухонькая старушка – очевидно, сама мадам Монпенсье, одетая в траурное вдовье платье и, несмотря жар, исходивший от очага, укутанная пледами и шалями. Она застыла в надменном молчании, положив на колени крепко сцепленные ручки, и на лице ее ясно читалось выражение крайнего неудовольствия, вызванного появлением в ее гостиной трех незваных посетителей.
За креслом хозяйки стояла дама помоложе, тоже вся в черном, видимо компаньонка, мадемуазель Бенуа. Эта суровая особа со связкой ключей на поясе сильно смахивала на тюремщицу.
Лестрейд выступил вперед и сильно оконфузил нас всех, попытавшись по-французски объяснить причину нашего вторжения. В других обстоятельствах эта сцена могла показаться забавной, однако мадам Монпенсье слушала инспектора, поджав губы.
Лестрейд скоро совсем запутался и умолк, но ему на смену тотчас пришел Холмс. Сдержанный и учтивый, он заговорил на французском – вполне приличном, судя по облегчению и восхищению, которые явственно обозначились на лицах мадам Монпенсье и мадемуазель Бенуа.
Когда Холмс замолчал, мадам Монпенсье дала компаньонке какие-то указания. Та торопливо придвинула к камину три кресла, расположив их полукругом, и с любезным: «Asseyez-vous, s’il vous plaît, messieurs[62]» пригласила нас сесть.
Затем Холмс перекинулся с мадам Монпенсье парой слов. Я с моим школьным французским не мог уследить за беседой, хотя общий смысл сказанного уловил. Очевидно, мадам Монпенсье позволила Холмсу принять участие в расследовании. Как только с формальностями было покончено, последовала целая серия вопросов и ответов. Судя по тому, сколь часто упоминалось в беседе имя мадемуазель Карэр, я понял, что Холмсу удалось многое прояснить. В какой-то момент я услыхал слово photographie и предположил, что мой друг попросил показать ему портрет мадемуазель Карэр, так как компаньонка, повинуясь приказу хозяйки, вышла из комнаты и скоро вернулась, неся альбом в черном кожаном переплете и с золотым обрезом, который мадам Монпенсье распахнула на нужной странице.
Мы с Лестрейдом подошли к креслу Холмса и встали у него за плечом, чтобы тоже взглянуть на портрет. На коричневом снимке в овальной рамке была изображена красивая темноволосая девушка с решительным подбородком и ровными четкими бровями, взиравшая на нас со спокойной уверенностью. Глядя на эту фотографию, я испытал странное чувство, не в силах соотнести этот смелый взгляд и твердо очерченные губы с пустыми глазницами и разверстыми челюстями испачканного в земле черепа.
Закрыв альбом и вернув его мадемуазель Бенуа, Холмс, очевидно, стал расспрашивать мадам Монпенсье о медальоне, найденном рядом с телом, поскольку указательным пальцем нарисовал в воздухе сердечко. Видимо, ей было достаточно такого описания, чтобы понять, о какой вещице речь, так как она сразу же утвердительно кивнула. И в этот момент я впервые уловил в ее лице признаки страдания. Ее губы задрожали, а глаза подозрительно увлажнились.
Тут меня осенило, и я спросил себя: почему это Холмс ударился в объяснения, вместо того чтобы просто достать свою записную книжку, вынуть из нее конвертик с медальоном и показать его мадам Монпенсье. Впрочем, я приписал подобную уклончивость его врожденной скрытности.
Тем временем мадам Монпенсье оправилась от краткого приступа горя и обрела прежний величавый вид. В конце беседы Холмс, по-видимому, попросил позволения осмотреть комнату мадемуазель Карэр. Она разрешила, не выказав при этом явного недовольства. Мадемуазель Бенуа вновь отослали с поручением отыскать экономку мадам Доде. Скоро компаньонка вернулась, приведя ее с собой, и вновь заняла свое место за креслом мадам Монпенсье, а мадам Доде осталась стоять у двери.
Составить определенное мнение о мадам Доде оказалось нелегко. Как и другие женщины в доме, она была одета в черное, но выглядела столь незначительно, что, отведя от нее взгляд, я был уже неспособен подробно ее описать. Это была особа средних лет, среднего роста и среднего телосложения. Словом, в ней все было усредненным и заурядным; казалось, в ее внешности нет ничего ярко выраженного, индивидуального, за исключением глаз – очень темных, настороженных и проницательных. Однако многолетняя привычка сдерживать любые проявления чувств сказалась даже на этой особенности ее личности. Своими плоскими круглыми щечками и маленьким острым носом она напоминала виденную мною однажды сову в клетке. Птица недвижно сидела на своем насесте, и в ее цепком внимательном взгляде не было ни страха, ни покорности, ни даже ненависти к своим поработителям.
Мадам Доде безучастно выслушала указания хозяйки, молча вывела нас из гостиной и повела по темной лестнице наверх. На втором этаже она открыла одну из дверей и посторонилась, пропуская нас внутрь.
Как и другие помещения в доме, эта комната была сверх меры заставлена разнообразной мебелью, но, несмотря на это, в ней царила трогательная атмосфера девичьего будуара. На кровати с искусным резным изголовьем красного дерева лежало простое белое вязаное покрывало, стены украшали акварельные пейзажи и натюрморты в узких позолоченных рамах. Темные бархатные шторы – такие же, как и внизу, – были раздвинуты, и через окна открывался вид на сад, причем могилы не было видно, и я некстати обрадовался тому, что та прелестная девушка с решительным подбородком и смелым взглядом была избавлена от каждодневного созерцания места своего последнего упокоения, пусть даже знать этого ей было не дано.
Вопросительно взглянув на мадам Доде и получив от нее молчаливое позволение, выраженное кивком, Холмс подошел к большому гардеробу красного дерева, занимавшему почти всю стену, и распахнул его дверцы. Гардероб оказался пуст. В комодах и на туалетных столиках тоже ничего не было. Не осталось ни одного носового платка, ни одной ленты для волос – ничто не свидетельствовало о том, что мадемуазель Карэр когда-то занимала эту комнату. Внезапно меня охватил острый приступ жалости к юной девушке, чья жизнь столь трагически окончилась в яме в саду под деревьями.
Тем временем Холмс, в отличие от меня не ощущавший никакой скорби, остановился перед одной из акварелей, висевшей на стене около кровати, и, обращаясь к мадам Доде, о чем-то спросил у нее по-французски – очевидно, интересовался, кто автор этого пейзажа.
Ее ответ был понятен даже мне. Пожав плечами, она равнодушно произнесла:
– Je ne sais pas[63].
Холмс промолчал. Казалось, он заразился от нее безразличием. Мы сошли вниз, чтобы попрощаться с мадам Монпенсье.
На улице Лестрейд снова отправился в сад, объявив, что хочет в последний раз осмотреть могилу, перед тем как отправить труп в морг лечебницы Св. Клемента, и добавив, что он зайдет к нам вечером. Холмс кивнул, мы распрощались с инспектором и дошли до Финчли-роуд, где остановили кэб, который отвез нас домой.
По дороге мы почти не разговаривали. Я понимал, что Холмсу не хочется пересказывать мне беседу с мадам Монпенсье до визита Лестрейда, которому вновь придется давать отчет. Однако мне было ясно, что причина его немногословности заключается не только в этом. Моего друга сильно беспокоили какие-то обстоятельства дела, и он предпочитал не говорить о них, пока хорошенько все не обдумает.
Я тоже размышлял над нашим расследованием. Почему, спрашивал я себя, Холмсу показалось важным отсутствие обуви в могиле? И зачем он интересовался авторством акварели, висевшей над кроватью мадемуазель Карэр? Несмотря на показное безразличие моего друга, я знал, что он никогда не задает пустых, не относящихся к делу вопросов.
Пока мы катили по Финчли-роуд, я попытался вспомнить, что было изображено на той акварели, но не сумел припомнить ничего, кроме моста над рекой и городского пейзажа со множеством высоких строений на заднем плане.
Но главное, в голове у меня засело дважды повторенное Холмсом замечание о какой-то странности имен. Я чувствовал, что за этим кроется огромный смысл, но сколько ни ломал голову над этой загадкой, так и не сумел ее разгадать.
Как только мы вернулись на Бейкер-стрит и снова водворились в гостиной, Холмс приступил к тщательному осмотру медальона и цепочки. Он велел посыльному принести необходимые принадлежности: чистое полотенце, которое он расстелил на своем рабочем столе, таз с теплой водой и несколько ватных тампонов. Затем достал из своего арсенала инструментов маленькую кисточку с мягкой щетиной, скальпель, две чашки Петри и ювелирную лупу.
Аккуратно разложив все эти предметы на столе, он вынул из записной книжки маленький конвертик и осторожно выложил медальон и цепочку на полотенце.
Я бесшумно придвинул свое кресло ближе, чтобы понаблюдать за его манипуляциями. Эта область его деятельности представлялась мне особенно интересной – по моему мнению, ее можно было сравнить с четкими, продуманными действиями хирурга, готовящегося к операции.
Сначала Холмс кисточкой смахнул с медальона и цепочки остатки земли, затем тщательно очистил их ватным тампоном, смоченным теплой водой. После этого он отложил цепочку в сторону и стал с обеих сторон осматривать под лупой медальон. Кажется, ему удалось обнаружить нечто важное, потому что он тихонько рассмеялся себе под нос. Однако мне было трудно представить, что такого смешного он мог заметить на обратной стороне маленькой серебряной вещицы. Впрочем, он ничего не сказал, а спрашивать мне не хотелось.
Потом он взял скальпель и с величайшей осторожностью просунул лезвие между двумя половинками медальона, слегка поворочал им, крошечные петли наконец подались, и медальон открылся.
– Посмотрите-ка, Уотсон, – сказал Холмс, – и скажите, что вы об этом думаете.
Наклонившись вперед, я взглянул на раскрытые половинки медальона, но не увидел ничего особенного, кроме осколков тонкого стекла, клочков выцветшей бумаги и пары тонких серебряных рамок в форме сердца: очевидно, в них когда-то были вставлены две фотографии, от которых сохранились лишь обрывки.
Я описал все это Холмсу, а он серьезно слушал и согласно кивал, когда я перечислял все увиденное.
– Отлично, приятель! – к тайной моей радости, воскликнул он, когда я закончил. – На мой взгляд, ваши выводы вполне верны. В медальоне действительно хранились два снимка. Однако вы, быть может, пойдете в своих умозаключениях дальше?
– В каком направлении, Холмс? – спросил я, не понимая, что я мог упустить.
– Начните хотя бы с разбитого стекла и порванных фотографий. Что с ними случилось?
– Но здесь нет ничего необычного, разве не так? В конце концов, медальон пролежал в земле больше года. Неизбежно сказались сырость и давление почвы.
– Дорогой Уотсон, ваши доводы разумны, но они не объясняют, каким образом стекло превратилось в мелкие осколки, а снимки – практически в кашу.
– Не понимаю… – недоуменно начал я.
– Позвольте вам помочь. Взгляните на стекло. Как оно могло разбиться?
– От удара, Холмс! Что тут еще можно добавить?
– Очень многое! От какого именно удара?
– От какого? – воскликнул я. – Ну, на стекло что-нибудь упало и раздавило его.
– Что, например?
– Ради бога, Холмс! – взвился я, ибо эти вопросы стали не на шутку меня раздражать. – Скажем, камень. Либо кто-то наступил на медальон.
– Господи, Уотсон! Ну посмотрите же, дружище!
Он взял медальон и положил его себе на ладонь лицевой стороной вверх.
– Разве на крышке есть повреждения?
– Нет, Холмс, – смиренно согласился я, наконец уловив смысл его допроса.
– А на задней стороне? – настаивал он, переворачивая вещицу.
– Нет, никаких.
– Итак, какие выводы мы можем сделать из этих простых наблюдений? – Должно быть, он приметил мое смущение, потому что продолжил уже мягче: – Думаю, с уверенностью можно предположить, что, когда тело женщины закапывали, на шее у нее не было медальона, поскольку замочек цепочки закрыт. Сам медальон также был закрыт. Однако стекло, под которым, без сомнения, находились две фотографии, треснуло, более того: оно было разбито на мелкие осколки – и, полагаю, разбито нарочно. Передайте-ка лупу, Уотсон, сейчас мы осмотрим края осколков. Смотрите, они не просто разбиты, но раздавлены каким-то увесистым предметом, возможно молотком. Вы согласны?
– Согласен, – только и ответил я.
– А фотографии?
Я тоже взял лупу и, наведя ее на маленькие бумажные обрывки, был поражен результатом.
– Боже мой, Холмс! Кажется, их тоже намеренно уничтожили чем-то тяжелым.
– Тем же самым молотком? – подсказал Холмс.
– Скорее всего, – подтвердил я.
Вопросы Холмса перестали меня раздражать, я начал постигать метод, с помощью которого он шаг за шагом подводил меня к новым, совершенно неожиданным выводам.
– Что ж, теперь мы вновь можем порассуждать о том, каким образом медальон очутился в земле, не так ли? Он не висел на шее жертвы, напротив, его опустили в могилу отдельно от тела. Но перед этим кто-то взял на себя труд открыть его, вынуть стекло и фотографии и искрошить их каким-то тяжелым инструментом вроде молотка, по всей видимости, для того, чтобы нельзя было установить, кто изображен на снимках. Стекло тоже было разбито: если бы оно осталось неповрежденным, это выглядело бы подозрительно. После этого осколки стекла и обрывки бумаги снова поместили в медальон и закрыли его. Но тут перед нами встают два вопроса. Можете вы предположить, что это за вопросы, Уотсон?
– Ну, – неуверенно проговорил я, – пока вы рассуждали, мне пришло в голову: зачем понадобилось вынимать фотографии? Почему бы ему…
– Или ей, – вставил Холмс.
– …Или ей, – послушно согласился я и продолжал: – попросту не раздавить медальон вместе с фотографиями?
– Отлично, дружище! – воскликнул Холмс. – Вы поставили тот же самый вопрос, который задал себе я сам. Действительно, почему?
Я был польщен его похвалой, но в то же время понимал, что уже исчерпал свои возможности и ни за что не сумею разгадать эту загадку до конца.
Холмс деликатно пришел мне на выручку, постаравшись не ранить мое самолюбие:
– До того, как я бесцеремонно перебил вас, вы, несомненно, хотели добавить, что если бы он (или она) раздавил медальон, вещь стала бы неузнаваемой. Однако злоумышленнику было необходимо, чтобы медальон безоговорочно ассоциировался с телом. Впрочем, он не довел эту мысль до логического завершения. Всегда нужно помнить, что дедуктивный метод – не просто последовательность отдельных, пусть даже блестящих, выводов. Он, как цепочка рассматриваемого нами медальона, представляет собой непрерывный ряд взаимосвязанных суждений, в конце концов приводящих к единственно верному заключению. Исходя из этого, мы можем найти в рассуждениях нашего противника изъян. Он (или она – не будем подходить предвзято к решению вопроса о половой принадлежности) так беспокоился, чтобы медальон можно было легко идентифицировать, что позабыл об одном существенном опознавательном знаке, который в случае повреждения медальона был бы уничтожен.
– Что это за знак, Холмс? – спросил я, озадаченный новым поворотом в расследовании.
– Знак, который по закону должен стоять на любой серебряной вещи.
– Ну конечно! Проба!
– Именно. А теперь возьмите это, дружище, – продолжал он, вручая мне свою ювелирную лупу, – и поищите на медальоне пробу.
Это оказалось непросто, но все же после тщательного осмотра я обнаружил пробу внутри, у края левой створки медальона, чуть выше того места, где раньше находилась фотография.
Холмс раскурил свою трубку и откинулся на спинку кресла, наблюдая из-под полуприкрытых век за спиральной струйкой дыма, медленно поднимавшейся к потолку. Казалось, он полностью ушел в себя, позабыв о расследовании, но тем не менее мгновенно уловил произошедшую со мной перемену. Обнаружив пробу, я на секунду взволнованно замер, и Холмс, вынув изо рта трубку, тотчас произнес:
– Отлично, Уотсон! Буду очень признателен, если вы ее опишете.
Разобрать крошечные символы и буковки было нелегко даже с помощью лупы. Я шаг за шагом стал перечислять все, что видел:
– Вот голова какого-то животного, похожего на кошку…
– Леопард? – предположил Холмс.
– Да, возможно. Затем заглавная буква «А», дальше что-то вроде малюсенького льва с поднятым хвостом и лапой…
– Идущего?
– Вероятно. Потом женская голова в профиль…
– Случайно не королева Виктория?
– Да, действительно, Холмс! Теперь, когда вы сказали, я заметил корону.
– Ага! – ответил Холмс, ухитрившись вложить в это простое восклицание множество разных оттенков, от восторга до торжествующего довольства.
– Так я и думал, – начал он, но продолжить не успел. В дверь постучали, и в комнату вошла миссис Хадсон, чтобы сообщить нам о приходе посетителя. Мы были очень удивлены, ибо эта почтенная дама редко заходила в гостиную, чтобы объявить о визите клиента, как правило, она отправляла вместо себя посыльного Билли.
– Она иностранка, – словно оправдываясь, добавила миссис Хадсон.
– Благодарю вас, миссис Хадсон, – сказал Холмс. – Можете пригласить ее войти.
Миссис Хадсон отправилась выполнять указание, а Холмс, взглянув на меня, поднял брови и пожал плечами. Этот галльский жест неведения напоминал тот, который сделала мадам Доде, когда ее спросили об авторстве акварели, висевшей в спальне мадемуазель Карэр. Одновременно Холмс быстро накрыл медальон краем полотенца, пряча вещицу от посторонних глаз.
Посетительницей оказалась сама мадам Доде, которая мгновение спустя вошла в нашу комнату в сопровождении Билли, в то время как миссис Хадсон вернулась к привычной роли домашней хозяйки.
Несмотря на то что Холмс пригласил гостью присесть у камина, она осталась стоять у двери. Губы ее были сжаты, в руках перед собой она держала потрепанную черную сумочку, заслоняясь ею, будто щитом. Было видно, что она тщательно отрепетировала то, что собиралась произнести: не успел Холмс спросить, что привело ее к нам на Бейкер-стрит, как она затараторила по-французски, да так, что я не сумел разобрать ни единого слова, кроме повторенных несколько раз имен мадам Монпенсье и мадемуазель Карэр. Мне приходилось только догадываться о цели ее визита.
Холмс внимательно выслушал мадам Доде, время от времени кивая в знак того, что он понимает, о чем она говорит, однако было не ясно, согласен он с ней или нет. Впрочем, в конце он серьезно поблагодарил ее и, прежде чем выпроводить из комнаты, пожал ей руку.
Как только дверь за ней закрылась, он быстро пересек гостиную, подбежал к окну и, отдернув штору, стал наблюдать за тем, как она выходит из дому.
– Как странно! – воскликнул я. – Чего она хотела?
– Позже, Уотсон, – бросил Холмс. – События развиваются слишком быстро, теперь не время даже для кратких объяснений. В любом случае, к нам следующий гость.
– Кто это? – спросил я, и в этот момент колокольчик у входной двери возвестил о новом посетителе.
– Не кто иной, как наш старый приятель Лестрейд, – усмехнулся Холмс. Задернув штору, он повернулся ко мне, еле удерживаясь от смеха.
– Уотсон, – продолжал он, – если я когда-нибудь начну жаловаться на скуку и рутину, прошу вас, просто произнесите имя мадам Доде.
Я не нашелся с ответом, а в комнату тем временем вошел Лестрейд. Вид у него был хитроватый. Он как будто играл некую роль, но она не слишком ему удавалась, хотя была тщательно отрепетирована, как и речь мадам Доде. Инспектор с явно наигранным пылом пожал Холмсу руку, а потом указал большим пальцем на дверь и невинно полюбопытствовал:
– Что это она здесь делала, а, мистер Холмс?
Холмс, без труда заметивший притворство Лестрейда, тоже напустил на себя непонимающий вид:
– О ком вы говорите, инспектор?
– Об этой французской экономке… Как ее там?.. Мадам Дуде.
Взглянув на Холмса, я увидел, что уголки его рта подрагивают, и понял, что если не сумею быстро отвлечь его, он разразится бурным хохотом и тем самым обидит Лестрейда.
– Ах, мадам Доде! – вклинился я в разговор. – Любопытная дамочка. Вот только объясняться с ней тяжеловато, она ведь не говорит по-английски.
– Но то, что она сказала по-французски, было весьма примечательно, – уже нормальным, к счастью, голосом заметил Холмс и пригласил Лестрейда присоединиться к нашей маленькой компании, уютно расположившейся у камина, и угоститься виски. Лестрейд, который был не при исполнении, о чем тут же не преминул сообщить, с готовностью взял стакан.
– Примечательно? В каком отношении? – с плохо скрываемым нетерпением спросил Лестрейд.
– О, во многих, – беззаботно ответил Холмс. – Она нагрянула неожиданно, так как желала знать, о чем говорилось, или не говорилось, во время нашей сегодняшней беседы с мадам Монпенсье. О ней-то, Лестрейд, с вашего позволения, я и расскажу вначале, а уж потом перейду к визиту мадам Доде.
– Разумеется, мистер Холмс, – согласился Лестрейд, уже совершенно расслабившись, вытянув ноги к камину и вертя в руках стакан с виски.
– Я подробно расспросил мадам Монпенсье об ее отношениях с падчерицей, и она дала мне полный (по крайней мере, на первый взгляд) отчет, который я сейчас кратко перескажу вам. Для этого нам придется перенестись на несколько лет назад, в те времена, когда еще был жив сам мсье Монпенсье.
Этот преуспевающий банкир всю жизнь прожил холостяком. Женился он уже после пятидесяти. Его избранницей стала вдова по имени Карэр, унаследовавшая значительное состояние после смерти своего первого мужа, отца ее единственного ребенка – дочери Люсиль, чье таинственное исчезновение мы, собственно, и расследуем. Оба этих господина работали в банке «Континенталь»: мсье Карэр был директором главной конторы в Париже, мсье Монпенсье – главой лондонского подразделения, располагавшегося на Ломбард-стрит. Они были в дружеских отношениях, но из того, что рассказала мне утром мадам Монпенсье, следует, что мадам Карэр и ее дочь были не слишком хорошо знакомы с мсье Монпенсье. Он был убежденным холостяком с давно устоявшимися привычками. Впрочем, после смерти мсье Карэра мсье Монпенсье, помогавший его вдове улаживать наследственные дела, стал проявлять к ней внимание, что привело к неизбежным последствиям. Они полюбили друг друга и через два года поженились. Мадам Карэр превратилась в мадам Монпенсье и вместе с дочерью переехала в Лондон, в дом в Хэмпстеде. Девочке было тогда около одиннадцати лет.
К несчастью, отношения между мсье Монпенсье и его падчерицей не заладились с самого начала. Мадемуазель Карэр, очень любившая отца, была оскорблена тем, что мсье Монпенсье занял его место. Шесть лет спустя положение осложнилось кончиной ее матери. В довершение всего мсье Монпенсье снова женился – на той самой женщине, которая теперь носит его имя и живет в хэмпстедском доме.
Падчерица восприняла это как новое предательство, в то время как мсье Монпенсье считал свою женитьбу правильным решением, ибо мадемуазель Карэр взрослела и семейная обстановка постепенно накалялась.
Вы видели ее фотографию, Уотсон, и наверняка подумали, что с этой девушкой было не так-то просто сладить. День ото дня она проявляла к отчиму все большую враждебность, так что он просто не знал, что с ней делать. Своих детей у него не было, большую часть жизни он был одинок, а потому решил, что падчерице нужна мать, и, не мудрствуя лукаво, стал приискивать себе новую жену. Худшего выбора он сделать не мог, даже если бы попытался. Его избранница приходилась покойной мадам Монпенсье троюродной сестрой. Мсье Монпенсье рассудил, что эта старая дева, женщина здравомыслящая и волевая, к тому же находившаяся с его падчерицей в дальнем родстве, станет ей подходящей матерью и сумеет добиться от упрямой Люсиль Карэр дочернего смирения и покорности.
– Невероятно, Холмс, – воскликнул я, поражаясь его рассказу, однако ощущая некоторое злорадство, которое Холмс, судя по косому взгляду, брошенному им в мою сторону, явно разделял. – Неужели мадам Монпенсье чистосердечно поведала вам обо всем этом?
– Не напрямую, разумеется, но я без труда дорисовал картину. Обнаружение тела в саду, без сомнения, явилось для нее ужасным потрясением и, возможно, пробило брешь в ее обороне, хотя, когда мы разговаривали с ней сегодня, она изо всех сил старалась не показать этого. Кстати, супруги Доде появились в этом доме именно после повторной женитьбы мсье Монпенсье. Мадам Доде состоит в родстве с нынешней мадам Монпенсье. Видимо, мадам Монпенсье, словно бывалый генерал, нуждалась в подкреплении, которому она могла бы доверять.
– А медальон, Холмс? Что она сообщила о нем?
– Ах, медальон! – задумчиво отозвался Холмс. – По моему описанию она сразу опознала в нем вещь, принадлежавшую мадемуазель Карэр. Кажется, этот медальон ей подарил отец на десятый день рождения. Он был специально заказан у парижского ювелира. Внутри хранились фотографии ее родителей. Это был последний подарок отца, поэтому мадемуазель Карэр им очень дорожила и носила не снимая. Возможно, Люсиль нарочно выставляла его напоказ, чтобы позлить мачеху и напомнить, что та незваная гостья в их семейном кругу.
Тут что-то в тоне Холмса заставило меня спросить:
– Значит, медальон доказывает, что тело действительно принадлежит мадемуазель Карэр?
Не успел Холмс ответить, как Лестрейд раздраженно бросил:
– Ну конечно! Я в этом и не сомневался. Лично мне хочется знать другое: что эта мадам, как ее там, говорит об исчезновении падчерицы? Они поссорились?
– Ведете к тому, что это мадам Монпенсье ее убила? Вы так считаете, инспектор?
Смущенный прямолинейными вопросами Холмса, Лестрейд потупил взгляд.
– Что ж, она не скрывала, что между ними не все было гладко, – неохотно продолжал Холмс. – Даже призналась, что они порой ругались. Что же до бурных ссор, то мадам Доде, которая побывала здесь до вас, Лестрейд, подробно и откровенно рассказала об одном происшествии, имевшем место около полутора лет назад. Это случилось июньским вечером. Мадам Монпенсье и ее компаньонка мадемуазель Бенуа сидели в гостиной, мадемуазель Карэр находилась наверху, у себя в спальне, а супруги Доде на кухне, располагающейся в полуподвальном этаже, мыли посуду, оставшуюся после ужина. В этот момент посыльный принес письмо. Мадемуазель Бенуа взяла его и передала мадам Монпенсье. Та, посмотрев на имя, указанное на конверте, убрала его в карман. Минуту спустя мадемуазель Карэр спустилась вниз и захотела взглянуть на послание. Она явно ждала письма и слышала, как в дверь позвонили. Мадемуазель Бенуа, в общем не погрешив против истины, ответила, что письмо забрали.
То ли мадемуазель Карэр повела себя слишком дерзко, то ли сама мадам Монпенсье держалась чересчур высокомерно, мы никогда уже не узнаем, однако мачеха отказалась отдавать падчерице письмо, если та не согласится тут же вскрыть его и прочитать вслух. За этим последовала перебранка, да такая шумная, что ее было слышно даже внизу, на кухне. Мадемуазель Карэр обвинила мачеху в том, что та перехватывает ее письма, а мадам Монпенсье заявила, что отвечает за нравственный облик падчерицы, покуда та остается в ее доме.
– Нравственный облик! – повторил я. – О, Холмс, какие ужасные вещи она говорила!
– А каково это было слышать молодой женщине двадцати двух лет от роду, уже достигнувшей совершеннолетия и самостоятельно распоряжавшейся значительным состоянием, унаследованным ею от родителей! Можете представить, какое воздействие это возымело на мадемуазель Карэр, особенно если учесть, что несколькими днями ранее мачеха вынудила ее бросить уроки рисования, которые она посещала в художественном училище в Кенсингтоне[64].
– Когда вы успели об этом узнать, Холмс? – поразился я.
– Услышал сегодня от мадам Доде, которая весьма неодобрительно относилась к желанию мадемуазель Карэр обучаться рисованию. Оно, по ее мнению, лишний раз свидетельствовало о своеволии и неподобающем поведении этой девицы. Мадам Доде утверждала, что у той не было никаких способностей и что вся эта затея была лишь пустой тратой денег, игнорируя тот факт, что мадемуазель Карэр платила за уроки из собственных средств. Совершенно очевидно, что мадам Доде смотрела на все это глазами мадам Монпенсье. Та, в свою очередь, заявляла, что молодой незамужней даме неприлично водить компанию с художниками, которые известны своей распущенностью. То, что юноши и девушки обучаются там раздельно, она не учитывала. Мадам Монпенсье даже взяла на себя труд написать училищному начальству и потребовать, чтобы ее падчерицу исключили из списков учащихся.
– Какая бесцеремонность! – поразился я. – Наверное, мадемуазель Карэр очень рассердилась.
– Рассердилась? Она была в бешенстве. Последней каплей стала попытка мадам Монпенсье перехватить письмо, адресованное лично мадемуазель Карэр. Описанная мною ссора разгорелась именно из-за этого. А на следующее утро мадемуазель Карэр пропала.
– Пропала? – переспросил Лестрейд.
– Как именно? – поинтересовался я.
– Это тайна, покрытая мраком, господа. Мадемуазель Бенуа обнаружила, что юная леди исчезла, когда та на следующее утро после ссоры не спустилась к завтраку. Затем обнаружилось, что мадемуазель Карэр не ночевала в своей постели. Пропали ее драгоценности, кое-какая одежда и саквояж. Оставшиеся вещи мадам Монпенсье позднее приказала собрать и отнести на чердак.
Дальнейшие поиски, проведенные супругами Доде, показали, что входная дверь была закрыта, но на засов не заперта. Решили, что мадемуазель Карэр покинула дом именно этим путем. Впрочем, она не оставила ни прощального письма, ни адреса, по которому ее можно было бы найти. С тех пор о ней никто ничего не слыхал.
– Об исчезновении объявили?
Этот вопрос, заданный Лестрейдом, прозвучал скорее как утверждение.
– Официально – нет. Разумеется, соседи заметили отсутствие мадемуазель Карэр, которую прежде часто видели входившей и выходившей из дома. Она была молода и обладала примечательной внешностью. Впрочем, напрямую спросить мадам Монпенсье, что случилось с ее падчерицей, не удосужились: никто в округе не владел французским настолько хорошо, к тому же соседи побаивались мадам Монпенсье. Однако слухи бродили, некоторые из них даже дошли до местного полицейского участка. Поговаривали, будто мачеха убила мадемуазель Карэр из-за денег, а труп закопала в саду.
Слухам охотно поверили. Те, кому приходилось иметь дело с мадам Монпенсье, не любили ее. Она была резка и заносчива с местными торговцами, не делала попыток подружиться с соседями. Поэтому ее не жаловали. Однако прежде всего против нее свидетельствовало то, что она была француженкой, а главное – мачехой. Большинству людей этого было достаточно, чтобы поверить, что она преступница. Наконец пересуды достигли таких размеров, что к мадам Монпенсье явился полицейский инспектор, но она его прогнала, и пришлось ему убираться, поджав хвост (avec sa queue entre ses jambes, по выражению самой мадам Монпенсье). Хотя местонахождением мадемуазель Карэр больше никто не интересовался, этот вопрос по сей день остается открытым.
– А сама она так ни разу и не связалась с мадам Монпенсье, чтобы сообщить о себе и успокоить мачеху? – спросил я.
– Ни разу, – ответил Холмс. – Девушка будто сквозь землю провалилась.
– Значит, мачеха могла убить ее, а тело закопать в саду, – заметил Лестрейд с довольным видом, будто тайна уже раскрыта и толковать больше не о чем.
– Да что вы, Лестрейд! – возразил я. – Думаете, все так просто? Мадам Монпенсье – пожилая женщина. Неужто ей под силу убить падчерицу, выкопать в саду яму, вынести тело из дома и опустить в могилу?
Холмс сидел, откинувшись на спинку кресла и тихо улыбаясь своим мыслям. Лестрейд поспешил предложить свое объяснение.
– Возможно, у нее был сообщник, – заявил он.
– И кто же он?
Я почему-то чувствовал, что он неправ, и отчаянно защищал мадам Монпенсье.
– Та, другая француженка.
– Вы имеете в виду компаньонку, мадемуазель Бенуа?
– Да, ее самую! – самодовольно подтвердил Лестрейд.
Я хотел оспорить это предположение как бездоказательное, но тут Холмс, который, пока мы спорили, набивал свою трубку, оставил это занятие и тоном, не допускавшим возражений, произнес:
– О нет, Лестрейд, вы ошибаетесь, приятель. Мадам Монпенсье неповинна в смерти падчерицы. Это установленный факт.
Если бы речь не шла о серьезных вещах, эффект, произведенный этим заявлением на Лестрейда, показался бы комическим. От изумления он широко раскрыл рот, а когда, немного оправившись, закрыл его, чтобы ответить, то едва мог выдавить хотя бы слово.
– Неповинна? – заикаясь, пробормотал он. – Н-но меня уже просили представить письменный отчет, поскольку ранее я заявлял о ее причастности к преступлению.
– Тогда я предлагаю вам отложить его по меньшей мере на неделю, пока я не соберу доказательства невиновности мадам Монпенсье.
– Какие доказательства? – злобно буркнул Лестрейд. – Не вижу никаких доказательств.
– Я тоже, Холмс, – вставил я, немного раздосадованный тем, что теперь мне приходится выступать на стороне Лестрейда.
– Некоторые из них сейчас находятся не здесь, поэтому вполне понятно, что вы их не заметили, – улыбнулся Холмс, довольно попыхивая своей трубкой.
Он явно хотел поддразнить Лестрейда, и это ему удалось. Поднявшись, инспектор направился к выходу, однако у двери задержался и объявил:
– Ваши методы, мистер Холмс, меня не удовлетворяют. Если доказательств здесь нет, значит, их не существует вовсе. Вот и все, что я могу сказать. – Потом не без некоторого достоинства добавил: – Желаю вам доброй ночи, господа! – И вышел из комнаты.
– О, Холмс! – промолвил я, прислушиваясь к гулким шагам Лестрейда, спускающегося по лестнице к выходу. – Вы его очень обидели. Думаю, вам обязательно нужно извиниться.
– Всему свое время, приятель, – ответил Холмс, пуская к потолку струйку дыма. – Когда я соберу последние доказательства, то непременно покаюсь, и нашему славному инспектору за все воздастся.
На следующее утро сразу после завтрака Холмс отправился на поиски недостающих доказательств, однако отказался сообщить, что они собой представляли и где он собирался их найти, отговорившись тем, что это испортит coup de théâtre[65], которое он намеревается разыграть перед нами с Лестрейдом в конце недели.
Мне пришлось довольствоваться этим, но по прошествии нескольких дней я начал ощутимо раздражаться, когда он с самодовольным видом возвращался из своих таинственных отлучек.
Впрочем, к пятнице его поиски, видимо, завершились, так как в шесть часов вечера мне было велено уйти из дома и не возвращаться до половины седьмого. Очевидно, Лестрейд получил схожие указания, потому что, подойдя в назначенное время к дому с ключом от входной двери, я увидел, как из остановившегося напротив кэба выходит не кто иной, как сам инспектор. Он удивился мне не меньше, чем я ему.
– Что все это значит? – с подозрением спросил он. – Мистер Холмс сказал мне явиться сюда ровно в половине седьмого. Вы знаете зачем?
– Полагаю, дело близится к развязке, – ответил я.
– К развязке? Вы хотите сказать: оно раскрыто?
– Да, думаю, он собирается поведать нам, что же там произошло на самом деле.
– Что ж, очень надеюсь, – проговорил Лестрейд, входя вслед за мной в дом и поднимаясь по лестнице.
Как только мы вошли, coup de théâtre началось. Наша гостиная превратилась в salle à manger[66], достойную какого-нибудь престижного клуба. В очаге горел яркий огонь, на каминной доске, книжных полках и обеденном столе было расставлено не меньше дюжины свечей. На столе, застеленном белой камчатной скатертью, стояли бокалы и открытая бутылка вина в ведерке со льдом, а также несколько столовых приборов и серебряных блюд, накрытых крышками, чтобы не дать кушаньям остыть.
Не успели мы закрыть за собой дверь, как из своей спальни, соседствовавшей с гостиной, появился сам Холмс, одетый как метрдотель, с салфеткой, перекинутой через руку. Он хранил подобающий случаю важный вид, однако, пригласив нас сесть, не смог и дальше придерживаться роли, и лицо его осветила широкая улыбка.
– Итак, господа, – произнес он, – если вы готовы, я угощу вас небольшим изысканным ужином, специально доставленным сюда из ресторана «Мутон руж». Надеюсь, он изрядно пощекочет ваши вкусовые рецепторы, да простится мне мое пышнословие. Однако перед тем, как мы приступим, я попрошу вас до конца ужина не поминать о нашем расследовании. Обещаете?
Мы с Лестрейдом согласились. Холмс эффектным жестом циркового фокусника сорвал с серебряных блюд крышки, явив нашим взорам то, что было под ними, и трапеза началась.
Это и впрямь был изысканный ужин. Вначале была подана жареная камбала, затем фазан à la Normande[67] с жюльеном из сельдерея и картофеля. Венчали пиршество изумительные poires belle-Hélène[68] с сыром бри. Блюда сопровождались хорошо охлажденным «Шато Сен-Жан де Грав» – великолепным белым сухим бордо.
Когда ужин закончился и посуда была убрана, Холмс предложил нам кофе, бренди и сигары. Затем он вытащил из внутреннего кармана какой-то белый конверт, торжественно положил его перед нами и легонько постучал кофейной ложечкой по своему стакану с бренди, как бы давая понять, что пора приступать к делу, ради которого мы собрались.
– Господа, – начал он, вставая, – я рад сообщить, что тайна исчезновения belle fille, то есть падчерицы, мадам Монпенсье, раскрыта и мы снова можем спать спокойно.
Мы с Лестрейдом восприняли это утверждение по-разному: я с удивлением и облегчением, он – с плохо скрываемым недоверием.
– Раз так, мистер Холмс, – сказал инспектор, – поведайте нам наконец, кто убийца, и перестаньте нас изводить.
– Это было не убийство, – ответил Холмс, вторично сразив нас сенсационным заявлением.
– Не убийство? – повторил Лестрейд, приподнимаясь с места. – Но кто же тогда написал письмо и чье тело нашли в могиле?
– Всему свое время, Лестрейд. Если вы сможете ненадолго сдержать любопытство, я вскоре подведу и к письму. Что же до тела, то оно принадлежит вовсе не мадемуазель Карэр, а некой молодой женщине по имени Лиззи Уорд, которая умерла от пневмонии полтора года назад. Мы, представители так называемого приличного общества, стремясь оградить себя от темных сторон жизни, стыдливо именуем подобных особ «несчастными». Короче говоря, это была проститутка. Ее в бессознательном состоянии подобрали на одной из улиц Уайтчепела и доставили в Лондонский госпиталь[69], где она и скончалась. Через несколько дней ее тело забрала семейная пара, пришедшая в морг в поисках своей пропавшей дочери. Это были прилично выглядевшие мужчина и женщина средних лет, одетые в черное. Служитель морга хорошо запомнил их, потому что, хотя женщина немного говорила по-английски, между собой они общались на французском.
– Супруги Доде! – воскликнул я.
– Вне всякого сомнения, – ответил Холмс.
Однако Лестрейд все еще сомневался.
– Если они искали дочь, то зачем пошли в Лондонский госпиталь? Почему прежде не заявили в полицию? – возразил он.
– Дорогой инспектор, – терпеливо промолвил Холмс, будто учитель, объясняющий недалекому ученику теорему Эвклида, – никакой дочери у них не было. Они искали тело женщины, по возрасту и росту примерно соответствующей мадемуазель Карэр.
По лицу Лестрейда было видно, что до него постепенно стала доходить суть сказанного.
– А, ясно! – воскликнул он. – Значит, мы нашли в той могиле вовсе не мамзель Карэр, а труп совсем другой женщины?
– Именно, – подтвердил Холмс. – Сомнения возникли у меня, когда я впервые увидел тело. Прежде всего мне показалось подозрительным отсутствие обуви…
– Но куда она делась? – перебил его я. – Судя по остаткам одежды, найденным в могиле, покойная была в платье, а не в ночной рубашке. Значит, когда она умерла, на ней не было обуви?
– Скорее всего. Но дело не в этом, Уотсон. У меня была особая причина интересоваться наличием обуви на трупе. Вы оба видели скелет. Кто-нибудь из вас обратил внимание на сустав в основании большого пальца правой ноги?
Мы отрицательно покачали головами, и Холмс продолжал:
– Он слегка деформирован. Там образовалось утолщение, возможно мозоль. В этом, конечно, повинна дешевая обувь. Правый ботинок покойной, безусловно, тоже потерял форму. Полагаю, мы с уверенностью можем сказать, что на правой ноге мадемуазель Карэр мозоли не было и что супруги Доде знали об этом. Однако они стремились непременно подложить в могилу доказательство того, что это тело мадемуазель Карэр, и предприняли для этого немалые усилия. Я, разумеется, имею в виду серебряный медальон, найденный рядом с трупом. На первый взгляд, ловкая затея. Как нам известно, этот медальон подарил мадемуазель Карэр ее отец и она постоянно носила его на груди. Поэтому они решили, что наличие в могиле похожего по описанию медальона будет указывать на то, что жертва – мадемуазель Карэр. Трудность заключалась в том, чтобы отыскать точно такой же медальон. К несчастью, подменная вещица только укрепила мои подозрения.
– Как так? – спросил Лестрейд.
Холмс полез в карман и достал оттуда маленький конвертик с серебряным медальоном, который он осторожно выложил на салфетку, оставленную на столе.
– Боюсь, это долгая история, но я постараюсь пересказать ее в двух словах. Доде видели подлинный медальон и знали, что внутри хранятся портреты родителей мадемуазель Карэр, которые им предстояло заменить другими фотографиями.
– Это чьими же? – поинтересовался Лестрейд.
– Неважно, инспектор. Чьими угодно. Главное, чтобы было понятно, что прежде в медальоне находились две фотографии. Решение напрашивалось само собой: надо испортить фальшивые снимки, так чтобы их нельзя было узнать. Итак, кто-то (возможно, мсье Доде) почти полностью уничтожил фотографии и стекла, но к самому медальону не притронулся, поскольку тот должен был остаться в неизменном виде. Это-то и пробудило у меня сомнения. Осталось неповрежденным и кое-что еще. Я имею в виду пробу на медальоне. Вероятно, она была слишком маленькая и ее не заметили. Голова леопарда, идущий лев, профиль королевы и, самое важное, заглавная «М» в готическом написании – все это свидетельствует о том, что медальон изготовлен в Лондоне из английского серебра между 1887 и 1888 годами, а не в Париже в 1866 году, когда мадемуазель Карэр была маленькой девочкой.
Заметив на лице Лестрейда недоверие, Холмс подвинул к нему медальон и ювелирную лупу:
– Не хотите ли сами убедиться?
Лестрейд отмахнулся:
– Я в этом не силен, верю вам на слово. Но главное, чего я никак не могу уразуметь, – зачем они заварили всю эту кашу?
– А, мотив! Прямо в точку, инспектор! – заявил Холмс. – Это алчность – по моему мнению, худший из семи смертных грехов и главная движущая сила огромного количества преступлений. Если вы помните, мадам Доде – кузина мадам Монпенсье, бедная и, видимо, единственная ее родственница. Без сомнения, мадам Монпенсье упомянула ее в своем завещании, но, если я все верно понял, доля мадам Доде была весьма скромной, учитывая низкое общественное положение этой особы. Вот если бы несчастную мадам Монпенсье повесили за убийство падчерицы, ее состояние – а оно, судя по всему, довольно внушительно – перешло бы следующему в роду, то есть мадам Доде.
– Тут все ясно, – вставил я. – Вот чего я не понимаю, так это зачем мадам Доде понадобилось на следующий день приходить к нам.
Холмс пожал плечами:
– Я тоже не вполне понимаю это. Женщины – странные создания. Они повинуются малейшим своим прихотям, так что зачастую я сомневаюсь, сознают ли они сами, что творят[70]. Мадам Доде очень хитра, но не особенно умна. Думаю, она решила, так сказать, разведать обстановку, а заодно посеять в нас недоверие к мадам Монпенсье. Если помните, Уотсон, с одной стороны, она вроде бы подтверждала версию об исчезновении мадемуазель Карэр, а с другой – подвергала сомнению ее достоверность. Я убежден, что, несмотря на ее ограниченность, замысел всего предприятия принадлежал именно ей. Доде был простым орудием в ее руках. Конечно, это он выкопал могилу и похоронил в ней тело Лиззи Уорд, перевезенное в Хэмпстед из Лондонского госпиталя.
Лестрейд, слушавший Холмса со все возраставшим нетерпением, наконец вмешался:
– Очень хорошо, но как он это устроил, а, мистер Холмс? Скажите-ка мне. Не могу же я вернуться в Скотленд-Ярд с полусырой версией. Надо состряпать все как следует.
– Не беспокойтесь, состряпаем, инспектор. Я стал опрашивать кэбменов поблизости от Лондонского госпиталя и наткнулся на некого Сидни Уэллса. Ему на память (которую, признаюсь, потребовалось предварительно освежить с помощью монеты в полкроны и нескольких кружек эля) пришел случай, имевший место примерно полтора года назад. Одна пара, по описанию соответствующая супругам Доде, остановила его экипаж и велела отвезти их в Хэмпстед. С ними была племянница, которой сделалось дурно. Девушка была плотно закутана в одеяло (которое Доде, без сомнения, специально прихватили с собой); муж и жена поддерживали ее с обеих сторон. Они попросили высадить их на улице, названия которой он не запомнил. Последнее, что он видел, – это как они почти несли ее по дорожке, ведущей в обход большого дома. Думаю, мы с уверенностью можем утверждать, что это был дом мадам Монпенсье, где для бедняжки уже была приготовлена могила.
Холмс замолчал и внимательно посмотрел на меня и Лестрейда.
– Итак, господа, – сказал он. – О чем мы еще не сказали?
Мы с инспектором озадаченно переглянулись. Что, черт возьми, он имеет в виду?
– Жертва, господа, – мягко напомнил мой друг.
– Та бабенка, Лиззи, как ее там? – подал голос Лестрейд.
– Нет, нет! Я говорю о другой девушке – о мадемуазель Карэр.
– О, Холмс! – воскликнул я, жестоко устыдившись того, что мы с Лестрейдом позабыли о судьбе молодой женщины, с которой и началось наше расследование. – Что с ней стало?
– Она жива и здорова. Живет нынче с мужем в Нью-Йорке, – невозмутимо ответил Холмс.
– С мужем?
– В Нью-Йорке?
– Но как вы узнали?
– Кто он?
Холмс рассмеялся и поднял руку, чтобы остановить поток вопросов:
– Не все сразу, господа, прошу вас! Позвольте мне ответить вам по очереди. Ее мужа зовут Анри Шевалье, он художник. Как я узнал его имя? Довольно просто. Увидел подпись на акварели, висевшей в спальне мадемуазель Карэр. Между прочим, на ней был изображен вид Нью-Йорка с берегов Гудзона, и это навело меня на мысль об американском следе.
Установив, где находится мадемуазель Карэр, я телеграфировал своему давнему приятелю Уилсону Харгриву из нью-йоркского полицейского управления[71], и он любезно снабдил меня сведениями о ее местонахождении и подробностями ее замужества. Кажется, они с Шевалье познакомились в художественном училище, где он преподавал рисование, и влюбились друг в друга. Это была настоящая coup de foudre[72], как выражаются французы. Они планировали пожениться в Нью-Йорке после того, как контракт Анри Шевалье с училищем истечет. Письмо, столь бесцеремонно перехваченное мадам Монпенсье, было написано Шевалье, который сообщал мадемуазель Карэр о расписании судов, отправляющихся из Ливерпуля в Нью-Йорк. В сложившихся обстоятельствах влюбленные решили ускорить исполнение своего замысла, чтобы мадемуазель Карэр больше не пришлось оставаться под одной крышей с мадам Монпенсье. Итак, они поженились в Лондоне и сразу же приобрели билеты на пароход до Нью-Йорка.
Между прочим, мадемуазель Карэр, то есть теперь уже мадам Шевалье, написала мачехе письмо с объяснениями, которое, сильно подозреваю, было перехвачено и уничтожено мадам Доде. Я получил от мадам Шевалье телеграмму, где говорится, что в случае каких-либо юридических сложностей она готова прислать свои показания, заверенные адвокатом.
– Но какое обвинение можно выдвинуть против Доде? – спросил я. – Ведь не в убийстве же?
– Конечно нет. Лиззи Уорд умерла своей смертью. Никакого мошенничества они также не совершили…
Тут, к моему удивлению, раздался голос Лестрейда. С неожиданной уверенностью он заявил:
– Согласно гражданскому законодательству, воспрепятствование захоронению покойника по христианскому обряду с 1788 года, ежели я ничего не путаю, считается уголовным преступлением и наказывается двухлетним тюремным сроком.
– Отлично, Лестрейд! – с неподдельным воодушевлением воскликнул Холмс и, вновь наполнив наши стаканы, заявил: – Полагаю, тост напрашивается сам собой! За нашего великолепного инспектора Лестрейда!
– Правильно! – радостно откликнулся я.
Надо сказать, мне редко доводилось видеть людей, которые так же сияли от счастья и поминутно краснели, как наш старый друг и коллега в этот памятный вечер.
Впрочем, радуясь успешному исходу расследования и хорошим вестям о спасении и последующем счастливом замужестве мадемуазель Карэр, мы совсем позабыли о другой участнице этого дела, мадам Монпенсье. К немалому моему изумлению, напомнил о ней все тот же Холмс – Холмс, которого я столь часто упрекал в недостатке человечности по отношению к окружающим, особенно женщинам! Однако он не преминул связаться с одним своим приятелем, жившим во Франции, через которого мы позже узнали, что мадам Монпенсье вместе со своей компаньонкой мадемуазель Бенуа вернулась в Париж и, пользуясь значительным состоянием, оставленным ей покойным мужем, сняла большую роскошную квартиру на Елисейских Полях. Там две вышеозначенные дамы вели весьма приятную жизнь, посещая театры и делая покупки в шикарных магазинах на улице Риволи. Я желаю им обеим счастья.
Что же касается Холмса, то я понял, что поспешил с выводами. Мне следовало бы лучше думать о нем, и потому я искренне прошу у него прощения.
Дело о соглядатае
Хотя временами, признаюсь, мои записки о Шерлоке Холмсе грешат неточностями, особенно по части дат, день, когда началось это расследование, навеки запечатлелся в моей памяти, будто выжженный каленым железом.
Это случилось во вторую среду апреля 1896 года, примерно в половине десятого утра. Завтрак уже закончился, миссис Хадсон убрала со стола, и, поскольку на улице стояла промозглая погода, мы с Холмсом уселись в свои кресла у разожженного камина, чтобы на досуге, как обычно, заняться чтением газет.
Холмсу в это утро не сиделось на месте. Отложив газету, он встал и принялся, словно неугомонный кот, бродить по комнате, время от времени поглядывая в окно. Утреннюю почту он уже не ждал: ее принесли перед завтраком, и он за беконом и яйцами успел прочесть всю корреспонденцию. Она состояла из нескольких писем, которые он по беглом прочтении отложил в сторону, явно разочарованный их содержанием. Последние десять дней в его работе царило затишье. Никто не писал и не являлся лично, чтобы просить его о помощи, и он жестоко маялся от безделья. Когда его мысли не были заняты очередным расследованием, он начинал скучать и запросто мог обратиться к весьма специфическим возбуждающим средствам, от которых я уже давно пытался его отлучить. Я полагал, что преуспел в этом, однако, учитывая неустойчивый темперамент Холмса, полной уверенности в этом у меня не было и быть не могло. Он зависел от своих настроений и порою бывал совершенно непредсказуем.
Размышляя об этом, я тайком наблюдал, как он мечется по комнате, вот уже который раз обращая взгляд к окну.
– Холмс… – начал было я, но продолжать не стал.
– Знаю, что вы хотите сказать, Уотсон, – пренебрежительно заявил он, – однако я неспроста расхаживаю по комнате и нервно поглядываю в окно. Хочу получше разглядеть того молодого человека, что наблюдает за нашим домом, чтобы в случае чего предоставить полиции точное описание его наружности.
– Наблюдает за нашим домом? – переспросил я. – Вы уверены?
– Ну разумеется, дружище! Я бы не стал безосновательно разбрасываться подобными заявлениями.
– Быть может, он клиент или один из ваших многочисленных почитателей, который разыскал ваш адрес и надеется хотя бы мельком вас увидеть.
– Не думаю, – возразил Холмс. – Клиенты или, если на то пошло, почитатели не стоят целыми днями на одном месте и не стараются время от времени изменять внешность.
– Но в чем это выражается? – воскликнул я, изумленный услышанным.
– К примеру, он незаметно меняет головной убор, а иногда и прическу.
– Прическу! – недоверчиво повторил я, вставая с кресла и подходя к окну, чтобы рассмотреть этого удивительного субъекта, но Холмс властным жестом остановил меня.
– Стойте где стоите! – приказал он. – Хотя эти тюлевые занавески довольно плотные и скрывают внутренность гостиной от посторонних взглядов, сквозь них вполне можно разглядеть резкие движения. Если вы подойдете ближе к окну, мой соглядатай наверняка поймет, что его тоже заметили, и это его спугнет. Раз уж вы непременно хотите его увидеть, отойдите назад и посмотрите на левую занавеску. Тут в середине есть маленькая прореха, через которую вам будет его отлично видно. Только не задерживайтесь. Он не сумеет подробно разглядеть вас, но, безусловно, уловит общее движение.
Следуя указаниям Холмса, я осторожно подвинулся влево и взглядом отыскал маленькую дырочку в занавеске, длиной не больше мизинца, через которую можно было увидеть кусочек улицы, не застланный кружевными узорами.
Но даже теперь мне мало что удалось разглядеть, кроме смутного абриса фигуры. Это был худощавый черноволосый юноша в темной одежде. Черт его лица я различить не мог, но напряженная поза молодого человека свидетельствовала о присущем ему упрямстве, хотя спроси меня, с чего я это решил, я бы не знал, что ответить.
Холмс, стоявший за моей спиной, произнес:
– Я вижу, вы нашли дырочку в занавеске. Я сам ее и проделал на прошлой неделе, когда наш «клиент» впервые дежурил под домом. Это облегчает мне наблюдение за ним.
– Вы хотите сказать, он здесь уже не первый раз? – спросил я, вновь оборачиваясь к окну и бросая на юношу беспокойный взгляд.
– Да, он был здесь в прошлую среду.
– Но для чего?
– Загадка, – ответил Холмс. – Давайте-ка присядем, дружище. Если будете и дальше торчать у окна, то рискуете потянуть себе шейную мышцу, а кроме того, этот тип, кто бы он ни был, заметит вас и насторожится. Я не хочу спугнуть его прежде, чем получу возможность узнать, кто он и что за дело привело его сюда.
Когда я занял свое место у камина, Холмс продолжал:
– Я уже говорил, что впервые увидел его на прошлой неделе, причем по чистой случайности. Я принял его за робкого клиента, который боится войти в дом, но вскоре понял, что ошибся, ибо он провел на улице не меньше трех часов – расхаживал взад-вперед, время от времени переходил дорогу и торчал у соседних домов. Но лишь когда он сменил парик, я заинтересовался по-настоящему и решил понаблюдать, к чему все это приведет. Через час он отошел к дому номер двести семнадцать и скрылся за оградой, нырнув в ворота, но скоро вышел. На этот раз у него были светлые волосы, твидовая кепка и, кажется, очки. Позднее он вновь нацепил прежний темный парик и сменил кепку на берет вроде тех, что носят французские рабочие. Кроме того, он успел «отрастить» усики, но так как разглядеть подробности через тюль было трудновато, после того как стало темнеть и он покинул свой пост, я решил проделать в занавеске маленькую дырочку.
Я ошарашенно выслушал Холмса, а когда он закончил, воскликнул:
– Но кто он, Холмс?
– Понятия не имею, – пожал плечами мой друг.
– А что ему надо?
– Этого я тоже не знаю.
– Значит, вы в полном неведении?
– Не совсем, – ответил Холмс. – Предлагаю это обсудить. Уже можно прийти к кое-каким заключениям.
– К каким? – недоуменно поинтересовался я, не в силах понять, как Холмс, даже при всем его мастерстве сыщика, сумел сделать определенные выводы всего по нескольким скудным деталям, вроде примерного возраста, роста и телосложения нашего соглядатая.
– Ну, для начала заметим, что в прошлый раз он следил за домом тоже в среду.
– И что?
– В самом деле, Уотсон! Не будьте таким тугодумом! – нетерпеливо упрекнул он меня. – Я думаю, мы можем с уверенностью утверждать, что молодой человек всю неделю занят и свободное время выдается у него только по средам. О чем это говорит?
– О том, что в среду у него выходной, разумеется, – ответил я, подумав, что дедуктивный метод Холмса вовсе не так сложен, как мне это порой представлялось.
– Именно, – согласился он. – Давайте попробуем развить эту мысль. В конце недели он не появился, и это о многом говорит, ведь у большинства работающих людей выходные приходятся именно на конец недели – если не на субботу, то уж на воскресенье непременно. Но бывают и исключения. Какие же?..
Он умолк и посмотрел на меня, вопросительно подняв бровь. Тут я догадался, что угодил в ловушку, которую он загодя приготовил для меня, чтобы немного позабавиться. Я попытался выкрутиться.
– Ну, – проговорил я, напряженно соображая, – тут может быть несколько вариантов.
– Например?
– О, Холмс! Я не в настроении играть в угадайку. Но раз вы настаиваете… Возможно, у него есть подружка, к которой он ходит по воскресеньям.
– Неплохо, дружище! Вы нашли отличное объяснение, даже я до него не додумался. Подружка! Что ж, соглашусь: он молод, а потому всякое может быть. Но отсюда возникают новые вопросы. Проводит ли он в ее обществе все воскресенье? Если да, то как насчет вечеров, ведь легко допустить, что вечерами он также не занят? Нет, Уотсон, ваша гипотеза остроумна, однако тут требуется объяснение попроще, без сомнительных радостей флирта сразу с несколькими девицами. Где бы он ни работал, по средам он свободен весь день до самого вечера. На полдня может освободиться, скажем, приказчик из магазина. Но на весь день? Следовательно, надо искать среди других профессий. Возьмем, к примеру, сферу услуг. Он может работать в ресторане или гостинице – поваром, рассыльным…
– Или официантом? – предположил я.
– Возможно, и так. Но по средам он занят совсем другим делом, а именно слежкой. Посему впредь предлагаю называть его Соглядатаем. Вы согласны?
– Как вам будет угодно, Холмс.
Признаться, я ответил довольно грубо, ибо его легкомыслие начало меня раздражать. Лично мне вовсе не казалось забавным, что какой-то юноша – неважно, официант он или кто-то еще, – часами околачивается у наших дверей. Я усмотрел в этом некую злонамеренность. Будь моя воля, я был спустился вниз, подошел к этому типу и потребовал объяснить, что означает его поведение, а не пялился бы на него из окна через дыру в занавеске.
Надо отдать Холмсу должное, он заметил мое раздражение и, усевшись поближе к огню, примирительно сказал:
– Как думаете, Уотсон, что нам с ним делать? Я бы хотел знать ваше мнение.
Я был польщен тем, что он советуется со мной, однако прямо заявил, что предпочел бы поговорить с тем парнем в открытую.
– Вы, разумеется, правы, дружище, – ответил Холмс, – и ваш совет хорош, но я не приму его по той простой причине, что этот юноша, как мне кажется, очутился тут неспроста. Не спрашивайте меня почему, я не сумею дать вам разумное объяснение, скажу, как в «Макбете»: «Палец у меня зудит, что-то злое к нам спешит»[73]. Так вот, мой палец здорово меня беспокоит.
Я привстал и внимательно посмотрел на него:
– Но как вы это объясняете, Холмс?
– Никак, Уотсон. Чисто инстинктивная реакция, не оправдываемая логикой. Единственное, что я могу добавить, – мне чудится, что я уже когда-то видел нашего Соглядатая и что он представляет для нас опасность. Но, хоть убейте, не могу припомнить, где именно мы с ним встречались.
– И что вы предполагаете делать дальше?
– В настоящий момент – ничего. Останусь дома, буду читать «Морнинг кроникл» и писать письма. Могу даже разобрать свои бумаги, чем, безусловно, порадую вас, Уотсон. Вы часто пеняете мне на то, что они в беспорядке валяются по всей гостиной[74]. Если Соглядатай будет придерживаться своего обычного расписания, он покинет пост около шести часов вечера. И если все пойдет хорошо, завтра я смогу предпринять кое-какие действия.
– Какие?
– Прежде всего пошлю телеграмму.
– Но разве вы не можете сделать этого сегодня, после того как он уйдет?
– Мне бы не хотелось; хотя, я уверен, ваше предложение продиктовано самыми лучшими побуждениями, Уотсон. Однако этот тип – темная лошадка. Я совершенно не представляю, куда он направится после, и вы тоже. Я вовсе не желаю подвергать вас или себя какой бы то ни было опасности.
– Но… – начал я.
– Никаких «но», – ответил Холмс, полушутливо погрозив мне пальцем.
Я прикусил язык, и остаток дня мы с Холмсом спокойно просидели дома. Он рассортировал свои бумаги и аккуратно сложил их в коробку, которую хранил у себя в спальне[75], я же лениво просматривал в «Таймс» перечень ценных бумаг и акций и прикидывал, куда бы я мог вложить свои средства, если бы Холмс наконец соизволил выдать мне мою чековую книжку, которая была заперта в его письменном столе[76].
На следующее утро Холмс приступил к выполнению своего плана, с помощью которого собирался перехитрить Соглядатая. Для начала он произвел предварительную рекогносцировку через дырочку в занавеске, чтобы удостовериться в том, что путь действительно свободен. Однако, подчиняясь своей врожденной скрытности, он не удосужился рассказать мне, куда и зачем направляется.
Впрочем, ходил он недалеко, так как уже через полчаса вернулся, радостно потирая руки.
– Первый пункт моего плана выполнен, – объявил он. – Если все пойдет как надо, уже сегодня утром дойдет и до второго пункта. Кстати, – добавил он, как будто меняя тему, – в полдень вы свободны? Случайно не встречаетесь со своим другом Сэрстоном?
– Нет, я свободен, – ответил я, спрашивая себя, к чему он клонит.
– Отлично! Тогда в двенадцать мы с вами пообедаем у Марчини[77].
И он удалился к себе в спальню, откуда вскоре донеслись звуки скрипки: Холмс наигрывал живую шотландскую мелодию – верный знак того, что нынче он в бодром настроении.
О предстоящем обеде Холмс больше не сказал ни слова, даже не сообщил, пойдет ли там речь о Соглядатае, а когда по пути в ресторан, в экипаже, я спросил его об этом, в ответ он лишь загадочно улыбнулся и перевел разговор на другую тему, принявшись обсуждать мусолившийся газетами скандал с лорд-мэром, которого обвиняли в превышении расходов. Поговаривали даже, что тот покупал на казенные средства новые серебряные пряжки для своих ботинок.
По приезде в ресторан Холмс по-прежнему вел себя странно. Когда нас проводили к столу, он заставил меня сесть спиной к двери, сам же сел напротив.
Эта продуманная рассадка свидетельствовала о том, что Холмс явился сюда не только затем, чтобы пообедать в компании друга. И все же я оказался совершенно не готов к тому, что произошло дальше.
Вскоре после того, как мы сели, Холмс улыбнулся и привстал с места, приветствуя какого-то вновь прибывшего посетителя. Я непроизвольно обернулся, чтобы взглянуть, кто это.
К крайнему моему изумлению, к нашему столу приближался не кто иной, как сам Холмс! Я остолбенел, не в силах вымолвить ни слова, и несколько секунд сидел разинув рот, пока не сообразил, что это вовсе не Холмс, а человек, поразительно похожий на него: тот же рост и телосложение, то же худое лицо, ястребиный нос и выступающий подбородок. На этом, однако, сходство заканчивалось. Двойник не обладал присущей Холмсу живой сметливостью. Да и одет он был совсем не в стиле Холмса: на нем было длинное пальто свободного покроя, больше похожее на плащ, и мягкая широкополая черная шляпа, придававшая ему фатоватый, богемный вид.
Он подсел к нашему столу, и когда Холмс представил нас друг другу, я про себя улыбнулся. Ну конечно, это же Шеридан Ирвинг! Холмсу едва ли была нужда объяснять:
– Это мой старый приятель, актер, который время от времени бывает мне чрезвычайно полезен.
– В качестве двойника, – добавил Ирвинг, изящным жестом отмахиваясь от комплимента.
– И отличного двойника, – с жаром подхватил Холмс.
– Видимо, я опять вам понадобился, потому вы и пригласили меня отобедать сегодня с вами, – без тени обиды заметил Ирвинг.
– Вы правы. Но мы поговорим об этом позже, Ирвинг, как и о вашем гонораре. А пока давайте наслаждаться обедом. Дела обсудим за чашкой кофе, – ответил Холмс, подзывая официанта.
Это была весьма занимательная трапеза. Ирвинг оказался приятным собеседником и развлекал нас анекдотами из театральной жизни под tagliatelle con prosciutto[78]. Лишь когда подали кофе, смех и шутки за нашим столом уступили место серьезному настрою.
– Итак, к делу, – объявил Холмс, ставя локти на стол и наклоняясь к гостю. – Последние две недели по средам мне сильно досаждает один тип, который следит за моим домом. Мне не терпится выяснить, кто он такой. Вас, Ирвинг, я попрошу сыграть роль подсадной утки. Поскольку Соглядатай, как правило, заступает на пост вскоре после завтрака, я предлагаю вам в следующую среду рано утром (скажем, в восемь часов, если вам будет удобно) явиться к нам домой. Чуть позднее вы переоденетесь в мою одежду и выйдете на улицу…
– Один? – уточнил Ирвинг. – Знаете, когда берешься за такую работу, надо заранее выяснить все детали, чтобы не оказаться втянутым бог знает во что. Не будем вдаваться в подробности, но со мной такое, признаюсь, уже случалось.
Холмс бросил на меня быстрый взгляд.
– Я предложу доктору Уотсону сопровождать вас, если он согласится. Что скажете, дружище? – прибавил он, обращаясь ко мне.
Его просьба застала меня врасплох, однако не вызвала никаких возражений. Я понял, почему он не раскрыл мне свой план раньше. Если бы я заранее знал, что Шеридан Ирвинг будет обедать с нами, то его появление не поразило бы меня. Холмс просто хотел проверить, действительно ли они настолько похожи. Если уж я попался на эту удочку, то Соглядатая мы и подавно одурачим, особенно если он увидит подставного Холмса в компании со мной. Поскольку он следит за домом, то должен знать о моем существовании, а также о моей дружбе с человеком, которого он держит под наблюдением.
– Разумеется, я согласен, Холмс, – без колебаний ответил я.
– А вы, Ирвинг? – спросил Холмс, обращаясь к гостю.
Ирвинг, в отличие от меня, не спешил соглашаться – вероятно, из желания побольше узнать о предлагавшемся ему задании, но главное, я подозреваю, из любви к театральным эффектам.
– Вы сказали, что не знаете этого типа? – спросил он, с сомнением поджимая губы.
– Да, не знаю.
– И не догадываетесь, зачем он следит за домом?
– Совершенно верно. Конечно, может статься, это всего лишь застенчивый клиент, который боится обратиться ко мне напрямую.
Судя по всему, Шеридана Ирвинга это предположение не устроило, и я понял, что этот человек, несмотря на свой плащ и нелепое имя, не говоря уж о шляпе, в действительности куда проницательней, чем на кажется.
– А может, – проговорил он, понижая голос и заговорщически оглядываясь по сторонам, словно за нами следили агенты иностранной разведки, – это ваш давний враг, который жаждет мести.
– Не думаю, – пожав плечами, возразил Холмс. – Он всего-навсего юнец, явно неспособный на убийство.
– В таком случае, – милостиво заключил Ирвинг, – я с радостью приму ваше предложение. В следующую среду, вы говорите? В восемь утра? Рановато, конечно, но я актер и привык работать в неурочное время.
Он встал, запахнул пальто, надел шляпу, мельком взглянул на себя в ближайшее зеркало, слегка повернувшись, чтобы предстать в более эффектном ракурсе, и по очереди пожал нам руки.
– Au revoir, mes amis[79], – объявил он. – В следующую среду, в восемь утра!
И направился к выходу.
Я насилу дождался, пока дверь ресторана закроется за ним.
– Ну, знаете, Холмс!.. – начал было я, но мой друг уже все понял.
– Знаю, что вы хотите сказать, Уотсон, и совершенно с вами согласен. Это было довольно безответственно – пригласить Ирвинга принять участие в моей маленькой авантюре.
– Это вовсе не маленькая авантюра! – возразил я. – Вы говорили, что ситуация может оказаться довольно опасной…
– А, вы говорите о зудящем пальце?
– Да, о зудящем пальце! – запальчиво повторил я. – И несмотря на это, вы решили втянуть Шеридана Ирвинга в рискованную затею, не предупредив его и не оставив ему выбора!
– Я сознаю это, Уотсон, – серьезно ответил Холмс. – Но ради бога, давайте потолкуем об этом в не столь многолюдном месте. На нас уже смотрят.
Я оглянулся кругом и в смущении обнаружил, что два-три посетителя за соседними столами повернули головы в нашу сторону, явно заметив, что между нами разгорелся какой-то спор. Однако Холмс быстро нашел выход из неловкого положения, прошептав:
– Вызовите кэб, дружище, а я тем временем оплачу счет.
На обратном пути мы оба молчали. Вернувшись домой, Холмс так же молча занял место у продырявленной занавески и устремил взгляд на улицу, хотя знал, что сегодня четверг и Соглядатай вряд ли появится под окном. Его неподвижность и скрещенные на груди руки свидетельствовали о том, что он погружен в глубокое раздумье, которое я, хорошо зная Холмса, не смел прерывать.
Ни один из нас не промолвил ни слова, и вдруг Холмс вскрикнул и повернулся на пятках.
– Ну конечно! – воскликнул он, ударив себя ладонью по лбу. – Глупец! Глупец! Глупец! Ирвинг был прав!
– Насчет чего прав, Холмс? – спросил я, встревоженный этой внезапной вспышкой. – Вам нехорошо?
– Нет, я в жизни не чувствовал себя лучше. Подойдите, Уотсон, мне нужно знать ваше мнение.
Я, недоумевая, приблизился к окну.
– А теперь взгляните на улицу и скажите, что вы видите.
Я посмотрел за окно.
– Ничего особенного, Холмс, – ответил я.
– Взгляните еще раз! – настаивал он. – Кто там идет?
– Какой-то мальчишка-посыльный. Верно, принес в соседний дом телеграмму или письмо.
– И?
Он вперил в меня до того тяжелый, пристальный взор, что я уже начал опасаться, не помешался ли он.
– Не понимаю, Холмс, – в полном замешательстве проговорил я.
– Что я вчера говорил вам о Соглядатае?
– Вы много чего говорили, в том числе – что, кажется, где-то его уже видели.
– Превосходно, Уотсон! Вы просто сокровище! Именно это я и имел в виду. Теперь я знаю, кого он мне напомнил. А теперь проверим, насколько вы проницательны, дружище. Итак, я вижу посыльного и неожиданно понимаю, кого напоминает мне Соглядатай. Догадались?
– Честно говоря, нет, Холмс, – признался я.
– Тогда я сделаю еще несколько подсказок. Вспомните горы и водопад.
– Водопад! – воскликнул я. – Вы ведь имеете в виду…
Но произнести это название я не сумел. Слишком свежи были в моей памяти страшные воспоминания о разыгравшейся там драме. Холмс пришел мне на выручку:
– Да, Рейхенбахский водопад, – спокойным, даже будничным тоном произнес он.
Я все еще не мог собраться с мыслями и усмотреть здесь связь с событиями, которые произошли пять лет назад, в тот кошмарный майский день 1891 года, в Швейцарии. Ведь я был убежден, что Холмс погиб от руки своего заклятого врага профессора Мориарти. На один ужасный миг перед моими глазами мысленно пронеслись картины тех мест (говорят, так проносится в голове тонущего человека вся его жизнь). Я отчетливо видел узкую тропку, блестящие темные скалы и бурный поток, низвергавшийся в ущелье; слышал, как грохочут бурлящие пенные струи, устремляющиеся в бездну. Я вновь ощутил ту ужасную пустоту, ту ноющую боль, которую испытал, когда пришел к единственно возможному, как мне тогда казалось, заключению: мой лучший друг, который был мне вместо брата, навеки исчез в этом жутком водовороте.
Вероятно, Холмс уже забыл о том, какой удар я перенес, когда стоял на краю Рейхенбахского водопада, думая, что он умер, а он в это самое время лежал в расселине скалы, что высилась надо мною. Сейчас он был занят другими вещами, поскольку чуть нетерпеливым тоном произнес:
– Ну же, приятель! Неужто это так сложно? Водопад, посыльный…
– Ах, вы имеете в виду мальчишку из отеля, который принес записку от господина Штайлера[80] о том, что в его гостинице находится при смерти какая-то англичанка и что он просит меня вернуться? Но вы ведь не думаете, что Соглядатай и тот мальчик – одно и то же лицо?
– Вот именно, – подтвердил Холмс, явно обрадованный тем, что я наконец сообразил, в чем дело.
– Но, Холмс… – запротестовал было я.
– Я знаю, что вы хотите сказать, – перебил он меня. – Если Соглядатай – это тот паренек из швейцарской гостиницы, значит, он один из тех, кто состоял в шайке Мориарти, но после смерти главаря сумел ускользнуть от полиции. Мы знаем, что таких было несколько. Например, душитель[81] Паркер, который сидел в засаде у нашего дома на Бейкер-стрит, дожидаясь моего возвращения. Вспомните также о происшествии на борту голландского парохода «Фрисланд»[82] – я убежден, что это была месть приспешников Мориарти. Я уж не говорю о полковнике Моране[83], правой руке Мориарти…
– Не думаете же вы…
– Что Моран все еще жив? Такая вероятность существует, Уотсон. Нам известно, что он дьявольски умен и способен на убийство. Вспомните о судьбе юного Рональда Адэра. Хотя в тот вечер в доме Кэмдена Моран был арестован, а позже отдан под суд, ему удалось избежать виселицы. Что же касается Соглядатая, даты вполне совпадают: если в 1891-м, в год моего поединка с Мориарти над Рейхенбахским водопадом, тому швейцарскому пареньку было, скажем, лет семнадцать, то теперь ему должно быть около двадцати двух, что примерно соответствует возрасту нашего приятеля, которому, судя по всему, немного за двадцать.
А теперь давайте разовьем эту версию. Исходя из той роли, которую сыграл юный швейцарец, заманив вас в гостиницу и тем самым оставив нас с Мориарти наедине, можно с уверенностью сказать, что юноша являлся членом преступной организации, созданной профессором. Вы согласны, дружище?
– Да, Холмс, – тихо ответил я, не желая вспоминать тот ужасный день в Бернском Оберланде, когда за мной к водопаду явился швейцарский паренек и я, как последний осёл, поверил, что письмо у него в руке – подлинное.
С тех пор я безжалостно казнил себя за доверчивость. Мне следовало догадаться, что это всего лишь уловка! Холмс, по-видимому, это понимал, но ничего не сказал, чувствуя, что пришло время смертельной схватки с врагом. Но мне-то записка показалась настоящей. На ней значились адрес гостиницы «Англия», в которой мы остановились, и подпись Петера Штайлера. Содержание письма также выглядело правдоподобным: якобы вскоре после нашего ухода в гостиницу приехала какая-то англичанка в последней стадии чахотки. У нее внезапно пошла горлом кровь. Она при смерти. Не могу ли я тотчас вернуться в гостиницу? Для нее будет большим утешением умереть на руках у английского доктора.
Это был чертовски коварный замысел. Мог ли я, как врач, отказать пациентке, тем более соотечественнице? Итак, мне пришлось, хоть и неохотно, покинуть своего друга. Помню, Холмс стоял со сложенными на груди руками, прислонившись к утесу, и смотрел вниз, в бушующую бездну, а мальчишка-швейцарец ожидал меня поодаль, чтобы проводить назад, в гостиницу.
Каким же идиотом я был!
А теперь Холмс преспокойно уверяет, что тот паренек и есть Соглядатай, который следит за нашим домом, очевидно, с намерением завершить дело, начатое Мориарти задолго до драмы, разыгравшейся над Рейхенбахским водопадом, другими словами – уничтожить Шерлока Холмса.
Ко мне наконец вернулся дар речи.
– Холмс, вы должны немедленно пойти в полицию! – воскликнул я.
Он с удивлением воззрился на меня.
– Дружище, это последнее, что мне следовало бы сделать, – возразил он.
– Но если вы ничего не предпримете, то рискуете расстаться с жизнью! Этот тип собирается вас убить!
– Безусловно, – невозмутимо согласился он. – Я отлично сознаю: он здесь именно для этого. У меня нет сомнений и в том, что за время, прошедшее с нашей последней встречи у Рейхенбахского водопада, его хорошенько подучили, как за это взяться, а сделал это не кто иной, как наш давний противник Моран. Полковник поднаторел в грязной науке убивать. Мориарти некогда почуял в нем эту жилку, вот почему он приблизил Морана к себе и доверял ему особые поручения, выполнить которые рядовым членам шайки было не под силу. Помните странную смерть миссис Стюарт из Лаудера в 1887-м? Я уверен, что это дело рук Морана, хотя, как и в случае с покушением на меня, доказать это невозможно. А когда после гибели Мориарти я забился в расселину над водопадом, он стрелял в меня из духового ружья[84]. Удивительно, почему он не прикончил меня тогда, учитывая, что он один из лучших стрелков в мире. Помните? Затем было убийство Рональда Адэра, застреленного им через открытое окно[85]…
– Да, я помню, Холмс, вот поэтому-то вам и следует пойти в полицию.
– И что я им расскажу?
– Все, разумеется.
– Дорогой Уотсон, мы уже как-то говорили об этом, припоминаете? Моран оказался на свободе, и я объяснял вам, что у меня нет способов защитить себя. Ведь не стрелять же в него, иначе меня самого осудили бы за убийство. Но и к властям я пойти не мог: по закону, одних подозрений мало. Теперь я нахожусь точно в таком же положении, но на месте Морана оказался Соглядатай.
– О, Холмс! – воскликнул я, потрясенный безвыходностью положения.
Он тотчас очутился рядом со мной и, положив мне руку на плечо, сказал:
– Но это не значит, что мы сдадимся, Уотсон. Я многому научился за то время, что мне приходится иметь дело с этим старым шикари[86] Мораном. Поверьте, мы его одолеем. На самом деле я уже начал приводить в действие план, с помощью которого надеюсь засадить его за решетку.
– План! – воскликнул я. – Какой план? Тот, к участию в котором вы привлекли Шеридана Ирвинга?
Холмсу стало не по себе. Мне редко приходилось видеть, чтобы он чувствовал себя неловко.
– Послушайте, Уотсон… – заговорил он, но я тут же его перебил:
– Нет, это вы послушайте, Холмс. Раз уж вы собираетесь задействовать Ирвинга, я настаиваю на том, чтобы его известили об истинном положении дел. Вы сумели выяснить, что Соглядатай хочет вам отомстить. И, ежели не ошибаюсь, вы намерены использовать Ирвинга, который очень на вас похож, в качестве подсадной утки. Верно?
Воцарилась тишина. Холмс невидящим взором оглядывал комнату, лицо его было непроницаемо. На один ужасный миг я решил, что зашел слишком далеко. Он глубоко задет моими словами, и теперь нашей дружбе, возможно, придет конец. Но в то же самое время я ничуть не сожалел о сказанном. Выступив в защиту Ирвинга, я был совершенно прав. Если бы я этого не сделал, то подвел бы самого себя – но как и почему, я объяснить затруднялся.
Молчание затягивалось, тягостная атмосфера все нагнеталась, и наконец я не смог больше этого выносить и был готов даже закричать, лишь бы что-то сказать, все равно что. Быть может, стоит извиниться? Пойти на мировую?
К счастью, первым нарушил молчание именно Холмс.
Повернувшись ко мне, он хмуро и пристально уставился на меня, а когда заговорил, голос его был тих и серьезен:
– Вы правы, Уотсон. Я не имею права втягивать Ирвинга, да, говоря по совести, и вас, дорогой друг, тоже, в дело, которое может поставить под угрозу ваши жизни. Я был нестерпимо самонадеян и прошу за это прощения. Единственным оправданием мне служит моя решимость избавить мир от последних подонков из шайки Мориарти, в их числе – полковник Моран, если он действительно еще жив, и это презренное отродье, Соглядатай, чтобы они больше не отравляли воздух вокруг себя. Но при этом я обязан играть по правилам, иначе быстро опущусь до их уровня. Теперь я это вижу, Уотсон, и благодарен вам за внушение. Кроме того, я понимаю, что должен не только пересмотреть свой план, но и рассказать обо всем Ирвингу, чтобы он понимал, на какой риск ему придется идти, если он согласится участвовать в нашем предприятии.
– Вы думаете, он согласится? – усомнился я, ибо с трудом представлял, чтобы Ирвинг решился на дело, которое подвергнет его жизнь опасности.
– Мы можем только надеяться на это, – криво усмехнулся Холмс, направляясь к двери, и добавил через плечо: – Меня некоторое время не будет, Уотсон. Надо уточнить кое-какие детали, а заодно разыскать нашего приятеля Ирвинга.
Я хотел пожелать ему удачи, но дверь за ним захлопнулась, прежде чем я открыл рот.
Холмса не было дома несколько часов, я же в его отсутствие не находил себе места от беспокойства и все раздумывал над тем, согласится ли Ирвинг принять участие в холмсовском плане. Наконец я решил, что актер, скорее всего, откажется. Он был не из тех людей, что готовы рисковать своим благополучием ради кого бы то ни было.
Поэтому, когда хлопнула входная дверь и на лестнице раздались шаги Холмса, я пребывал в подавленном настроении. Как ни глупо, но я стал прислушиваться к тому, как он ступал, стараясь угадать, в каком расположении духа он вернулся. Однако мне это не удалось. Равным образом, когда он вошел в комнату, я ничего не сумел прочитать по его лицу, как ни пытался.
– Ну что, Холмс? – воскликнул я. – Какие новости? Виделись с Шериданом Ирвингом? Что он сказал?
– Сколько вопросов, дружище! Дайте мне хотя бы сесть. Между прочим, сигара и стакан виски с содовой тоже придутся весьма кстати.
Пока я возился с танталом и сатуратором, Холмс взял из ведерка с углем сигару[87], и наконец мы оба уселись перед камином.
– Итак, – объявил Холмс, когда над головой у него начала медленно подниматься струйка дыма, – давайте, как полагается, начнем с самого начала. Сперва о Шеридане Ирвинге.
– Он согласился? – нетерпеливо перебил его я.
Холмс рассмеялся.
– Ох, Уотсон, Уотсон! – укоризненно промолвил он. – Знаю, вы взяли на себя роль моего биографа[88], но, даже несмотря на это, позвольте мне рассказывать своими словами. Выйдя из дому, первым делом я послал телеграмму Ирвингу, назначив ему встречу в маленькой незаметной таверне на Флит-стрит, где мы обычно с ним видимся. Я никогда не бывал у него дома. Сдается мне, он немного стесняется того места, где обитает.
Словом, мы встретились, и я поведал ему все обстоятельства дела, включая преступные намерения Соглядатая и возможную опасность, которой подвергается каждый, кто имеет с ним дело. Короче говоря, дружище, он, к моему изумлению, согласился.
– Согласился? – с удивлением и глубочайшим облегчением повторил я, радуясь тому, что Ирвинг сыграет роль Холмса и Соглядатаю придется отказаться от своих преступных планов.
– Вот именно, Уотсон. Более того, он согласился без колебаний. Думаю, я здорово недооценил его, за что извиняюсь перед ним теперь, в его отсутствие. Оказалось, он настоящий смельчак. Покончив с этим вопросом, я приступил к подробному изложению своего плана. Как мы условились ранее, он придет к нам рано утром в следующую среду, наденет один из моих костюмов, а в десять часов, к тому времени, когда Соглядатай уже заступит на пост, вы с Ирвингом вместе выйдете из дома. Вскоре после вашего ухода я, изменив внешность, последую за вами, так что, даже если Соглядатай обернется, он меня не признает.
Разумеется, я буду вооружен, и вы тоже. Вдобавок вы с Ирвингом наденете специальные жилеты, которые в этот самый момент шьет согласно моим указаниям один портной из Криплгейта.
Мною овладело любопытство, и я, не удержавшись, перебил его:
– Жилеты?
– Да, жилеты для вас и Ирвинга. Сдается мне, Соглядатай отнюдь не джентльмен и потому будет играть не по правилам. Полагаю, он будет избегать столкновений лицом к лицу, но, как все трусы, попытается напасть сзади. Однако я принял кое-какие меры к тому, чтобы в случае чего обеспечить вам прикрытие. Об этом позже.
Во-первых, давайте будем считать, что знаем, какой тактики придерживается Моран. Если мое предположение верно и он все еще жив, он обучил Соглядатая своим приемам. Моран предпочитает атаковать своих жертв издали, о чем свидетельствуют его покушения на мою жизнь – одно у Рейхенбахского водопада и второе в доме Кэмдена. Оба нападения были сделаны с некоторого расстояния. А в Рональда Адэра он стрелял из Гайд-парка, отделенного от дома улицей. Во всех этих случаях он использовал мощное духовое ружье. Оно практически не производит шума, лишь в момент, когда пуля вылетает из ствола, раздается свист.
Возьмем другой пример. Паркер, еще один член шайки Мориарти, некогда тоже дежуривший у нашего дома на Бейкер-стрит, был душителем, применявшим другой способ бесшумного убийства, в данном случае совершаемого на близком расстоянии. Когда я раздумывал надо всеми этими происшествиями, мне пришло в голову, что Моран скорее всего готовил Соглядатая к чему-то подобному. При этом методе используется оружие. Его легко спрятать, а при надлежащем употреблении с его помощью можно убить человека буквально за секунду. Но теперь это будет не ружье (ведь даже духовое ружье производит некоторый шум) и не удавка. Соглядатай тощ, к тому же он ниже предполагаемой жертвы, то есть меня. Я владею боевыми искусствами и сумею дать ему отпор, прежде чем он сможет меня прикончить. На чем же он остановит свой выбор? Ответ очевиден: на ноже. Нож бесшумен, его можно носить в кармане, а в умелых руках он превращается в смертельное оружие. Кроме того, он убивает на расстоянии вытянутой руки.
Итак, собрав все эти факты вместе, я пришел к выводу, что Соглядатай последует за вами с Ирвингом и нападет сзади. После этого я заглянул в Скотленд-Ярд и попросил помощи у Стэнли Хопкинса[89], который устроит так, что впереди вас будет идти констебль, переодетый почтальоном, и это вынудит Соглядатая напасть сзади.
А теперь обсудим детали, Уотсон. Место нападения мы должны выбрать сами, не оставляя это на откуп Соглядатаю. Итак, дорогой друг, если вы захватите ваше пальто и трость, я покажу вам это место.
К следующей среде у нас все было готово. Место грядущего нападения было изучено и одобрено, все участники заняли свои позиции. Тем временем главный персонаж намечаемого представления, Шеридан Ирвинг, уже прибыл и переоделся в костюм Холмса, под которым был надет сшитый на заказ жилет, который доставили еще вечером. Он представлял собой прелюбопытную вещь. Спинка его была изготовлена из простеганной холстины и набита конским волосом. Выяснилось, что она обладает противоударными свойствами. Примерив жилет, я обнаружил, что он не так уж неудобен. Холмс настоял на том, чтобы я тоже надел его, хотя мне представлялось крайне маловероятным, чтобы Соглядатай попытался напасть на нас обоих. Под расстегнутым пальто свободного покроя жилет был почти незаметен.
Костюм Холмса, напротив, был прост. Он состоял из рабочего комбинезона, в просторном переднем кармане которого лежало любимое оружие Холмса – хлыст с утяжеленной рукоятью. Довершали образ старый картуз и клочковатая борода.
Переодевшись, мы втроем расположились в нашей гостиной на Бейкер-стрит и стали ждать. Ирвинг расхаживал туда-сюда, будто за кулисами театра перед выходом на сцену; я сидел у слабого огня, разведенного миссис Хадсон поутру; Холмс стоял напротив окна, устремив взгляд на дырочку в занавеске, сквозь которую был виден небольшой кусочек улицы. Он казался вполне спокойным, но я, знавший его лучше, чем кто бы то ни было, по положению его плеч и наклону головы догадывался, что каждый его нерв, каждый мускул был напряжен и предельно натянут, словно скрипичная струна.
Мы условились, что приступим к выполнению нашего плана вскоре после появления Соглядатая, который прежде являлся около половины девятого, чтобы не дать ему времени обосноваться на посту и почувствовать себя в своей тарелке. Не менее чем за четверть часа до ожидаемого прихода преступника явился сослуживец Хопкинса, переодетый почтальоном, и стал прогуливаться по тротуару, будто бы сверяя адреса на конвертах с номерами домов. Он был готов, когда понадобится, тотчас пересечь улицу и пойти впереди нас с Ирвингом, чтобы вынудить Соглядатая напасть сзади. Остальные полицейские, участвовавшие в операции, очевидно, тоже заняли свои позиции.
Ожидание было почти невыносимым. Миссис Хадсон и мальчику-рассыльному было велено заниматься домашними делами и ни в коем случае не выходить в прихожую и на лестницу. В доме было тихо, как в могиле, лишь с улицы доносились звуки шагов, цоканье лошадиных копыт и скрип колес, да на каминной полке тикали часы, минутная стрелка которых неумолимо приближалась к цифре «шесть». Я, как зачарованный, следил за нею.
И вот время пришло. Холмс поднял руку, предупреждая нас о появлении Соглядатая. Я тоже ухитрился увидеть его, привстав со стула и вытянув шею вправо. Тюлевая занавеска частично скрывала его фигуру, и он почудился мне всего лишь частичкой кружевного узора, подобной бесплотному призраку.
Через пятнадцать минут, показавшихся нам вечностью, минутная стрелка подошла к девяти. Наступило время привести план в действие. Окинув нас быстрым взглядом, дабы убедиться, что мы готовы, Холмс кивнул, и мы трое двинулись к двери: впереди шли Ирвинг и я; Холмс, прежде чем спуститься за нами по лестнице, выждал полминуты.
Следуя наставлениям Холмса, мы шли обычным шагом и, несмотря на сильное искушение, ни разу не оглянулись, чтобы узнать, идет ли за нами Соглядатай, хотя мне чудилось, будто я ощущаю позади присутствие какого-то злого духа, крадущегося за нами по пятам.
Холмс решил, что погоня не должна затянуться. Все произойдет быстро и четко, чтобы Соглядатай был захвачен врасплох и лишился возможности предугадывать наши действия.
Согласно плану, отойдя на пятьдесят ярдов от дома, мы повернули вправо, на тихую улочку Фулбек-уэй, где в этот утренний час было мало экипажей и прохожих. Вскоре нас обогнал полицейский, игравший роль почтальона, и, как было условлено, пошел в нескольких шагах от нас, чтобы помешать Соглядатаю напасть спереди. Оказавшись перед нами, он открыл кожаную сумку, висевшую у него на плече, вынул оттуда пачку писем и стал поглядывать на номера домов, словно сверяя адреса. Соглядатаю было невдомек, что в его сумке кроме писем лежали «ночная дубинка»[90] и пара наручников.
Через несколько секунд мы с Ирвингом, как было отрепетировано накануне, нырнули в узкий проход, который вел к шедшему параллельно Фулбек-уэй переулку, из которого можно было попасть в садики на задворках домов.
Здесь операция по поимке Соглядатая вступала в решающую стадию. Почует ли он ловушку? Или выйдет вслед за нами в переулок, где в засаде сидят Стэнли Хопкинс и еще два полицейских?
До переулка оставалось не более двадцати шагов, но это краткое расстояние показалось мне поистине нескончаемым. Пока я шел, в ушах у меня звучали последние наставления Холмса. Идти как ни в чем не бывало. Не торопиться. Главное – ни в коем случае не оглядываться. И еще один совет, который он дал мне, пока Ирвинг не слышал: «Оружие используйте только в случае крайней нужды. Там, на маленьком пятачке, столпятся несколько человек, и вы рискуете застрелить кого-нибудь из них. Кроме того, – добавил Холмс, – я предпочел бы взять Соглядатая живым».
Шеридан Ирвинг исполнял свою роль куда лучше, чем я свою. Возможно, умением справляться со страхом он был обязан актерской выучке, возможно – присущей ему самоуверенности. Верный своей природе, все это время, пока мы шли с ним по проходу, он говорил лишь о себе. Насколько я уловил (хотя я едва понимал, о чем он толкует), Ирвинг вспоминал, как исполнял заглавную роль в постановке «Гамлета» в провинциальном Страуде.
– Гримерки там ужасные, но вы бы слышали, какие аплодисменты раздавались в конце! Оглушительные, мой дорогой!
Я шагал, как автомат, механически переставляя ноги, наблюдая за тем, как переулок становится все ближе и ближе, и ожидая условного сигнала к началу операции.
Наконец прозвучали два свистка, и тотчас все вокруг пришло в движение. Я схватил Ирвинга за плечо и втолкнул его в переулок, одновременно вытаскивая револьвер. В тот же миг я увидел, как с одной стороны к нам бросился Стенли Хопкинс, а другой – похожий на пантеру в прыжке Соглядатай, занесший над головой руку со сверкающим лезвием.
Я впервые увидел его вблизи, без тюлевой преграды между нами, и был поражен его молодостью и бледностью его лица, подчеркнутой темными глазами и прядью черных волос, упавшей на лоб. Но еще более глубокое впечатление на меня произвела другая его черта – безумная ненависть во взгляде, какой я никогда прежде не встречал. Я инстинктивно отпрянул, ошеломленный этой неприкрытой злобой.
В следующий миг его лицо исчезло из поля зрения: началась потасовка, среди участников которой в самой гуще свалки я различил Хопкинса и мнимого почтальона, уже потерявшего свою сумку. Холмс, будто судья поединка, стоял чуть в сторонке.
Соглядатай дрался так отчаянно, что прошло несколько минут, прежде чем он был усмирен, закован в наручники и уведен двумя констеблями в форме. За ними шествовал Стэнли Хопкинс, который нес острый нож с шестидюймовым клинком, в суматохе выроненный Соглядатаем. Это было поистине смертоносное оружие, которое даже Хопкинс держал в руках с явным почтением.
Шеридан Ирвинг, стоявший рядом со мной, издал долгий, протяжный вздох облегчения и восхищения.
– Это было превосходно! – заметил он. – Давненько я не видел столь безупречно поставленных драк. Мои поздравления режиссеру!
Мы договорились, что Стэнли Хопкинс заглянет к нам на Бейкер-стрит вечером, после того как уладит формальности, связанные с предъявлением Соглядатаю обвинения и заключением его под стражу. Оказалось, что это долгий процесс, поскольку детектив объявился у нас, когда на часах было уже почти девять.
Холмс постарался принять его как можно радушнее. В очаге пылал жаркий огонь, на журнальном столике, сервированном дорогим фарфором, был подан кофе и фирменный фруктовый пирог миссис Хадсон. Кроме того, я заметил, что в честь нашего гостя графины в тантале были доверху наполнены виски и бренди.
– Итак, господа, сегодня мы славно потрудились! – потирая руки, заявил Хопкинс, вошедший в нашу гостиную в сопровождении рассыльного. – Арест Соглядатая делает честь всем нам – и мне тоже! Но вы ведь еще не знаете, кто он такой. Его настоящее имя – Ганс Тетцнер. Он разыскивается австрийской полицией за совершение нескольких серьезных преступлений, в том числе убийства, покушения на убийство и предполагаемой государственной измены.
Все эти сведения инспектор Хопкинс выдал прямо с порога, запыхавшись от волнения. Он был молод (немного за тридцать), энергичен, сообразителен и без ума от дедуктивного метода Холмса. В свою очередь, Холмс уважал Хопкинса и возлагал на него большие надежды. Мальчишеский энтузиазм гостя сразу обезоружил нас.
Холмс, улыбаясь, жестом пригласил его занять кресло у камина.
– Кофе? – предложил он. – Или что-нибудь покрепче?
– Что ж, – проговорил Хопкинс, бросая выразительный взгляд в сторону тантала, – я уже не при исполнении, а вечер сегодня прохладный, сэр.
– Тогда – всем виски, – объявил Холмс, кивком прося меня подать стаканы и графин с виски.
Когда мы втроем наконец устроились у камина, Холмс обратился к гостю:
– А теперь, дорогой Хопкинс, расскажите нам все, что вы знаете о Гансе Тетцнере. Но прежде, чем вы приступите, я должен задать вам один вопрос. Будет ли фигурировать в вашем рассказе полковник Себастьян Моран?
Хопкинс привстал, не донеся стакан до рта:
– Да, мистер Холмс, но под другим именем. Мой швейцарский коллега Эрик Вернер упоминал о неком полковнике Викторе Норленде. Он описывал его как крупного мужчину, прежде служившего в Индийской армии и отличного стрелка.
– Должно быть, это он и есть, – с удовлетворением сказал Холмс. – Значит, старый шикари до сих пор жив. Я так и думал. С радостью погляжу на них обоих, Тетцнера и Морана, в наручниках. Отменная добыча!
Хопкинс помрачнел:
– Боюсь, я вас разочарую, мистер Холмс. Господин Вернер сообщил, что швейцарские власти упустили полковника. Пару дней назад он, что называется, улизнул. Но они его ищут, и мы тоже решили устроить облаву на него и его маленькую шайку.
– Шайку? – переспросил Холмс, сверкнув глазами.
– О да, мистер Холмс. Небольшая такая банда. В ней состоит несколько аристократов и молодых армейских офицеров.
– Можете назвать какие-нибудь имена? – быстро спросил Холмс, подаваясь вперед.
– Сейчас подумаю. Господин Вернер упоминал два или три имени. Дайте-ка вспомнить… – ответил Хопкинс, ставя свой опустевший стакан на столик и с сосредоточенным видом, который произвел бы впечатление на самого Ирвинга, потирая подбородок.
Холмс встал и вновь наполнил стакан инспектора, а затем уселся на место, оперся локтями о колени и напряженно уставился на Хопкинса, словно пытаясь посредством одной лишь силы воли вытянуть из него необходимые сведения. Ощутив на себе его испытующий взгляд, Хопкинс откашлялся и отхлебнул из своего стакана.
– Значит, так, – проговорил он наконец, – он называл барона фон Штаффена и Эрнста Хидлера, а еще какого-то Густава (фамилию его я не запомнил).
– Все они швейцарцы?
– Нет, не все. Господин Вернер говорил, что некоторые – немцы, в том числе и тот, которого мы сегодня арестовали.
– Неужели? – равнодушно пробормотал Холмс, будто бы потеряв всякий интерес к делу, хотя я знал, что все обстояло как раз наоборот, что и подтвердилось после ухода Стэнли Хопкинса.
– Вы понимаете, насколько это важно, Уотсон? – спросил он, как только дверь за инспектором захлопнулась.
– Вы имеете в виду – что Соглядатай оказался немцем, а не швейцарцем?
– Вот именно! Тут дело вовсе не в национальности. Хопкинс назвал еще двух членов шайки, связанных с Соглядатаем, он же Ганс Тетцнер. Хотел бы я знать, кто еще туда входит.
– Кто? – переспросил я, не понимая, кого он имеет в виду.
– Например, Эдуард Лукас[91], – предположил Холмс, насмешливо поднимая бровь.
– Эдуард Лукас! – воскликнул я. – Дело о втором пятне? Вы утверждали тогда, что там была замешана большая политика и что, если бы пропавшее письмо было опубликовано, «наша страна (вы прямо так и сказали) была бы вовлечена в большую войну».
– Да, верно, я именно так и говорил, – хмуро ответил Холмс.
– Но Лукас мертв, Холмс! – возразил я. – Убит своей собственной женой, француженкой!
– Я знаю, дружище. Но это вовсе не исключает того, что при жизни он являлся членом той «маленькой шайки», о которой говорил Хопкинс. Мы должны добавить к списку ее участников еще одно имя: Гуго Оберштейн.
– Вы имеете в виду… – ужаснулся я.
– Да, я имею в виду похищение чертежей Брюса-Партингтона и последующее убийство Артура Кадогена Уэста[92]. Как говорил сам Майкрофт, это происшествие грозило кончиться международным кризисом. Он воспринимал его настолько серьезно, что обещал предоставить в мое распоряжение всю британскую полицию, если я возьмусь вернуть чертежи. Я видел, что за обоими преступлениями стоит глава некого европейского государства, возомнивший себя новоявленным Цезарем и задумавший, на пару со своим канцлером, приобрести контроль не только над территорией нашей империи, но и над международными водами. Если мы не прислушаемся к этим тревожным сигналам, то вскоре будет бесполезно призывать Британию править морями, как поется в песне, потому что все будет потеряно. Пусть нас не поработят в прямом смысле слова, но мы обязательно превратимся в страну второго сорта.
И это еще не все, Уотсон. В этот список международных преступников и убийц, которые, если им дать такую возможность, непременно примутся хозяйничать на мировой сцене, надо включить и более зловещие имена. Я, разумеется, говорю о полковнике Моране, который, как нам с вами теперь известно, все еще жив.
– Так вы усматриваете связь между преступной шайкой Мориарти и этой бандой международных шпионов? – спросил я, потрясенный заявлениями Холмса.
– Да, Уотсон. На первый взгляд это разные организации, но цель у них одна: добиться контроля над любыми независимыми государствами и разрушить все демократические установления. Обеими группами движет жажда власти, а также богатств, которые попадут им в руки, как только они завоюют Западную Европу. Подумайте о золоте, хранящемся в банках, о барышах, приносимых международной торговлей, не говоря уже о музеях и художественных галереях с их бесценными полотнами и историческими сокровищами, которые будут отданы на разграбление этим преступникам! Граница между беспринципными политиканами и алчными дельцами, с одной стороны, и представителями преступного мира, с другой, очень тонка, а порой и вовсе становится невидимой. Впрочем, мы можем благодарить Бога за то, что омерзительного паука, сидевшего в центре паутины, больше нет. Я сам был свидетелем его гибели в Рейхенбахском водопаде. Члены его шайки по сравнению с ним – всего лишь ничтожные насекомые, хотя, если их вспугнуть, они еще способны ужалить. А если они, будто муравьи, собьются в кучу и выползут из своих убежищ, то сумеют истребить и куда более крупное существо, чем они сами. Ганс Тетцнер – один из этих муравьев. Полагаю, Мориарти лично поручил ему уничтожить меня в том случае, если бы сорвался другой его план, где был задействован голландский пароход «Фрисланд».
Случай с Тетцнером ярко свидетельствует о том, что сообщники Мориарти испытывают нужду либо в подходящих исполнителях заказных убийств, либо в опытных наставниках, обучающих искусству убивать.
– Но ведь это прекрасная новость, не так ли, Холмс? – спросил я, пытаясь найти в обрисованном им положении что-то хорошее.
Его ответ отнюдь не утешил меня.
– Это ненадолго, Уотсон, ненадолго. Но попомните мои слова, дружище. Мы должны неизменно быть начеку, иначе муравьи попытаются уничтожить нас.
Восемь лет спустя мне пришлось вспомнить это предсказание и поразиться прозорливости моего друга. Второго августа 1914 года, через два дня после внезапного начала Первой мировой, мы с ним стояли на террасе дома в Харвиче, принадлежавшего фон Борку. Холмс только что разоблачил этого прусского шпиона, а позже передал его Скотленд-Ярду[93]. Мы стояли там в тишине, а наши взгляды были устремлены на восток, за залитое лунным светом море, туда, где уже копошились орды муравьев. Их целью, как и целью злодея Мориарти, было поставить нас на колени и уничтожить то, что нам и миллионам таких, как мы, дороже всего: нашу свободу и жизнь.