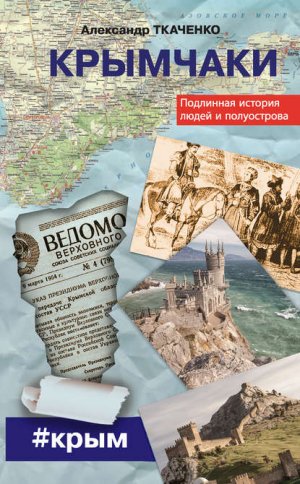
Автор признателен Дмитрию Пуриму и Константину Пуриму за идею создания этой книги
Книга издана при содействии литературного агента Ирины Горюновой
© А. Ткаченко, наследники
© ООО «Издательство АСТ», 2015
Песнь крымчака
Александр Ткаченко написал книгу о крымчаках – своем народе, исчезающем, кому он сам – «последний из могикан». Какая трепетная задача – удержать от погибели, собрать по крупицам быт, дух и культуру своего прародителя, воскресить и явить его образ и уникальный голос во человечестве… И сейчас – или никогда! И кто другой, если не я?.. Такой дух, воля и интонация слышатся с первых строк этого сочинения.
И что оно такое? Этнографическое исследование об истории, быте и нравах народа? Психолого-художественное описание характеров и типов людей, наподобие «Характеров» Теофраста или Лабрюйера? Книга новелл, анекдотов, мифов и притч, преданий старины глубокой и событий недавних, происшествий близкой нам истории? А и «Ноев ковчег» жанров: тут и повесть, и детектив, и приключения судеб невероятных, очерк и репортаж… Есть такой жанр, как «книга народа» – сама собой сложившаяся в памяти людей энциклопедия жизни, в которую вслушавшись, взялся записать и пересказать одаренный искрой Божьей слова сын этого народа.
Такая книга перед нами. Запечатлеть образ своего уникального этноса, что вот-вот канет в Лету, реку забвения истории: ведь всего несколько сотен человек осталось из некогда пятнадцатитысячной популяции крымчаков!.. А каждый народ – это же космоисторическая Личность, с «лица необщим выраженьем» (слова поэта Баратынского), стилем жизни и мышления.
И как человечество спохватилось создать «Красную книгу Природы», куда занесли редкие и тем драгоценные породы животных и растений, что под угрозой вымирания в переделках индустриализации, – так давно пора бы завести и «Золотую книгу народов, этносов», в которой особые права на существование означить, выговорить для так называемых малых народов: ненцев, эскимосов, тех же могикан, а у нас нивхов, коряков – и вот крымчаков… Ведь спектр и радуга мировой культуры изо всех таковых и слагается, и они – незаменимый инструмент и тембр в симфоническом оркестре человечества. А между тем вектор истории ведет к ужасающей стандартизации, монотонности и однозвучию – под танком глобализации, под катком которой вытоптаны невосполнимые уже ценности Природы и Духа. Для него тоже – «Голубую книгу Духа» бы создать, где оберегать странные идеи и теории…
Но тенденция к нивелировке касается ныне не только так обозначаемых малых народов, но и больших, и великих. Что наблюдаем в культуре Германии, Франции, Испании?.. Американизм и его стиль распространяется и удушает национальное своеобразие и сих культур! Гипноз Количества (и его главные орудия: число, математика и деньги) задавливает принцип Качества, Неповторимости, Оригинальности. А именно самобытность выпестована долгим трудом Бытия, Эволюции и Истории при сложении каждого народа и его культуры. Тысячелетия и века ушли на выделку каждого великим художником Творцом, приложившим климат к рельефу, тундру – к оленеводству и шаманизму… И вот пришел Прогресс, пролетарий с заводом-фабрикой и водкой – и где народы Севера, такие умельцы существовать и творить в условиях тундры и снега? Что, не востребованы уж их умения Человечеством, Рынком? Прочь, вымирай?!.. А ведь вон потепление Земли грядет – и снова могут понадобиться таланты природосообразного образа жизни…
Или вон как на территории Крыма Тавриды, в сем привлекательном по земле и климату благодатном ареале, – как самослагались в поселениях и переселениях, во встречах и перемешивании многие разные этносы, каждый образуя особый букет… И что же? Приходит одержимый арийской идеей безумец и ставит под пулемет 8 тысяч крымчаков в декабре 1941 года – и где нежные влюбленности, тонкие кружева и песни?..
«Это не рок, не судьба, это преступление на все времена, из которых выпал целый народ с его историей, культурой. Так уничтожались крымчаки. Прошедшие долгий путь от девяти десятков дворов в Карасубазаре в XIII–XV веках до 10–12 тысяч человек к началу тысяча девятьсот сороковых. Сейчас их осталось всего несколько сотен. А было бы к настоящему времени около 25–30 тысяч человек, если бы… История не терпит сослагательного наклонения. Так говорят. И это страшная правда. Скоро крымчаков не будет вообще. Есть такая точка в каждом небольшом народе, после которой ему уже не восстановиться биологически. Конечно, он останется, растворившись в других людях, но этих и этого уже не будет…» (Из главы «Листая небеса»).
И вот писатель-крымчак Александр Ткаченко – я чувствую, слышу, как он в известный момент жизни просто заболел судьбой и бедой своего народа, отложил прочие темы и замыслы литературные, которых у него не счесть, – и приник собирать остатки и останки преданий, историй, судеб и сложить мозаику, или монумент-памятник, мавзолей, дом-храм, куда отныне люди человечества могут прийти и поклониться, воспамятовать и восхититься – и помолиться и поплакать о сем жившем, любившем и творившем – и таком прекрасном!
То есть писатель-художник принялся за труд воскрешения. Он симметричен и встречен работе Природы по порождению народа в ходе эволюции и труду Творца по сотворению космоисторической личности данного народа в его культуре. Только у тех в запасе была вечность, не поджимали сроки, а ему – уж поспешать надо, ибо неровен час… на перепутьях истории.
Таковой импульс знаком, испытан и мною. Я тоже жил увлеченный познаванием всемира и разных стран и культур, ученый и писатель и много уже натворивши, – как вдруг горло мне перехватила на 50-м году жизни судьба моего отца, болгарского политэмигранта в СССР, философа, писателя и музыканта, кто закончил свои дни, теплокровный южанин, в вечной мерзлоте в лагере на Колыме, 43 лет от роду в 1945-м… И я бросился собирать его сочинения и воспоминания о нем и подготовили с матерью книгу «Дмитрий Гачев. Статьи. Письма. Воспоминания» (М.: «Музыка», 1975), а на его родине, в Болгарии, подготовил к изданию два тома его «Избранных произведений». И так утолив душу и сердце, смог высвободить дух для новых интересов и писаний.
Подобное душенастроение чувствую собратски и сострадательно и в писателе Александре Ткаченко. Это ведь на перегоне от 60 к 70 принялся он за труд воскрешения своего народа. А до этого самоосуществлялся интенсивно и в жизни разнообразной, и в творчестве. «И жить торопится, и чувствовать спешит», – это и про него в эпиграфе к «Евгению Онегину» (из стихотворения П. Вяземского). А он – сосуд всеодаренный, и мужик красивый и мощный: шутка ли – играл как футболист экстра-класса! С авантюрным характером, человек риска, в жажде все испытать и познать – разные среды общества и типы людей: контактен и любопытен, умеет и дружить, и любить, и враждовать смеет. А главное – призванный к Слову: вознесясь на небо мысли, в эмпирей воображения, свободен оттуда созерцать все поприще бытия и быта, описывать страсти людей, осиливать и свои боли и страдания… Ибо при видимом богатырстве и всепобедительности (донжуанизмом славен – и это полигон его испытательской работы в половине рода людского), душою чувствителен и хрупок. А. Ткаченко и поэт (его книги стихов: «Сотворение мига», «Подземный мост», «Игра навылет», «Облом», «Избрань» и др.), и прозаик (книги «Футболь», «Левый полусладкий», «Джетлег», «Русский суд», «Женщины, которых мы не любим», «Париж – мой любимый жулик»), и общественный деятель: вице-президент Русского ПЕН-клуба. Изъездил он полсвета – и все же притянуло на прародину, в Крым, в Карасубазар, к любимым сонародникам…
Чем же привлекателен космос крымчаков в реконструкции, живописании Ткаченко? Это – мир без отчуждения: малый, уютный, теплый. Тут все друг друга знают, переплетены соседством и родством. Если портной тебе шьет или парикмахер стрижет – то не за страх и не за деньги (только), но за совесть и честь мастера, а и оказывая добрососедскую услугу, в долг – как еще в натуральном хозяйстве. Потому человечески душевные отношения и сюжеты вословесниваются писателем обильно: случаи из жизни, истории, характеры – все с чудесностию особенностию какой и голосом. Недаром и серия коротких рассказов, новелл озаглавлена «Окнами во двор» – не на улицу и площадь, на вынос в мир и люд чужой, а как на посиделки знакомых и знаемых, случаи забавные и трогательные, теплые, как и слова тут: «разговорная речь соплеменников – быстрая, горячая, добрая – все эти бала ала буюн хала»… где славянские слова перемежаются характерными тюркскими в многослойном языке многосудебных крымчаков («Одинокая лодка»). Читать рассказы «Окнами во двор» – это как «Вечера на хуторе близ Диканьки» – тоже посиделки, неистощимые, перебивающие друг друга голоса, предания, даже мифы, и страшненькие, а и чудесные вызволения и избавления, переплетения судеб. Но более всего – юмора.
«Крымчак никогда не бывает пьяным, – сказал Нысым, заглатывая очередной стаканчик красного. – Так уж и не бывает, да ты сам сейчас отрубишься, а для нас это позор – валяться на улице под забором». Но добавляют стаканчик за стаканчиком четыре соседа, потом идут, повторяя: «Крымчак никогда не бывает пьяным. – Вот поэтому и не бывает, что жена находит и ведет домой». Крымчак любит пофилософствовать: «Куда мы идем, где наше место в истории и кто мы такие? Мы и по-русски, и по-татарски, и по-крымчакски, а кто мы такие, куда мы идем?..» Тем временем:
«Я вижу, что мы уже выходим из нашего города… – И что, идем в другой? – Дурак, мы зайдем в наш с другой стороны. Земля, говорят, еще пока круглая.
Однако, попали в канаву. А в это время четыре жены искали своих пропавших мужей…
– Ну вот, я же сказал, что моя меня найдет и не даст повода говорить, что крымчак валяется под забором, – сказал Ныcым.
– Нет, моя нашла, – начал было ныть Бохорчик.
В три часа ночи они медленно подошли к домам соседей и услышали сдержанный плач из одного и сдержанные радостные всхлипы из другого.
– Что случилось? – громко спросил Ныcым.
– Старый Мангупли помер, – послышалось в наступившей тишине.
– У Ломброзо девочка родилась, – откликнулись тут же.
…Они сели в саду за деревянным столом и откупорили бутылку виноградной водки. И выпили за упокой и за здоровье» («Белый ослик и луна»). Такой вот сбалансированный и уютный мир доброго старого времени.
Как слышим, национальная часть обострена у малого народа:
«А я плохо делать ничего не умею, особенно кубэтэ, мы же крымчаки… – говорит мама, изготовляя национальное блюдо на угощение. А само приготовление блюда рассказано увлекательно – как и рецепт, и сюжет, и предание:
– Почему не завершила второй кружок? – требовательно спрашивал я.
– Это, парень, узор на кубэтэ, незавершенная линия показывает путь наверх, к Богу Тенгри, прошение к нему, что бы все было у нас хорошо. Это – линия в космос, к звездам, понял?.. Мы не знаем, откуда пришли и куда уйдем, тоже не знаем, поэтому и обращаемся к небу… Кубэтэ мы любим не потому, что это просто пирог с мясом, а потому, что вокруг него мы соединяемся, думаем об одном и том же, переживаем» («Разорванный круг»).
Глазами мальчика также рассказ о свадьбе, где «мама спросила папу:
– А кто же все-таки заказал вчера такой грандиозный салют в честь молодых?
– Кто заказал, – ответил отец, – ты разве ничего не знаешь? Вчера вышло постановление Правительства СССР о присоединении Крыма к Украине. Поэтому и салют был…
На следующий день я увидел, что Марк и Куюна с утра пораньше куда-то ушли надолго.
– Ой, сынок, да они пошли на кладбище договариваться, чтобы им оставили места рядом. – Я был потрясен.
– Это что же такое, только поженились и сразу умирать?
– Да это обычай такой у нас, крымчаков, глупенький, говорящий о том, что муж и жена теперь до гроба вместе» («Свадьба»).
Так и обычаи, и история переплетаются в повествовании автора о своем народе. Тут не случайно упомянут Тенгри – Бог тюрок, по вершине Хан Тенгой («Тянь» – небо и для китайцев). Он и у нас в Средней Азии для казахов, киргизов. А в крымчаках – как переплет этносов, так и вер-религий. Приняли иудаизм, как и хазары (не будучи евреями по этносу), а в быту – и тюркское, и татарское, и средиземноморское – вон имена: Ломброзо, Анджело – итальянские, испанские… И такой тигель кровей, что и породил уникальную красоту в «породе» крымчаков. (Смотри фотографии). Вон в рассказе «Запах чабреца и моря» – женщина, личность: «Часто я вздрагиваю в толпе, вдруг видя ее лицо, Авва?.. Нет, не она. Похожа, но лицо слишком обыденное. В ее лице было что-то неправильное…» – и это как раз создает «лица необщее выраженье» той, уникальной, кого – любить! И точное слово найдено писателем: «лицо не серийное», так сказать, «штучное», как создает художник-ремесленник, а не конвейер, как ныне сексапильных красоток. «Их семья была из древнего испанского рода, из Галисии. Вероятно, бежав от инквизиции четыре столетия назад, они оказались в Крыму».
Так что Карасубазар, главный регион обитания крымчаков, – еще и ковчег этносов, где «всякой твари по паре» собралось за историю. Да и идей, образов и ассоциаций в сознании писателя. «Карасу» ведь по-тюркски – «черная вода, река». А с чем ассоциируется это название у русского чело века, поэта? Да, угадали: та Черная речка, на которой состоялась дуэль Пушкина. И автор не преминул развить эту ассоциацию в новелле о посещении Пушкиным Тавриды с Раевским, где тот слушал от ашуга сюжет: «Султан… с ними Черномор… мимо острова… – Пушкин слушал, а потом сказал:
– Все, Аджи… А как речка называется?
– Карасу, Черная речка. – Я видел, как Александр Пушкин пошел на мост, встал, опершись на деревянные перила, и уставился вниз на воду Карасу… И думал, думал… Вероятно, о петербургской Черной речке. Мистика и здесь, и там».
Это из стилизации автора под «джонку» – рукописный жанр семейно-домашних записей крымчаков: «Из джонки карасубазарского толмача, лето 1825: Я, Аджи Измерли, сын Яшаха Измерли, писал…»
Вообще Карасубазар и община вокруг него – это в исполнении писателя особая планета, анклав, как у Фолкнера округ «Йокнапатофа», со своим рельефом, людом, характерами. Или «Миргород» Гоголя – тоже целое население персонажей… Даже герб им придан особый: запечатлевает некий набор национальных символов, – и автор приводит его в иллюстрациях к книге. «Герб Карасубазара, проект 28.08.1875. В золотом щите положен зеленый пояс, обремененный тремя серебряными лунами, сопровождаемыми вверху и внизу черными крымчакскими шапками. В вольной части – герб Таврической губернии». Вдумаемся. Зеленый – цвет Ислама, а серебряные полумесяцы (не «луны» шары) – тоже символика этого ареала. Золотой – цвет Солнца и звезды иудаизма. На гербе Таврической губернии символы России: двуглавый орел и крест. Шапки же крымчакские – меховые со скошенным залихватски верхом – это как у казаков, кочевников, тюрок… Так что вот в каком переплете составляющих элементов обитали крымчаки. Это и в психологии, в характерах отложилось, и в ментальности, что чутко воспроизводит писатель. В стиле его рассказов-новелл слышатся «фацетии» итальянского чинквенченто, а юмор – то ли с чертами еврейской «хохмы» (а «хохма» – мудрость на иврите), то ли в жанре турецких анекдотов о хитрецах «бекташи», или о Ходже Насреддине.
«Чипче на Ташхане слыл чудаком… Так сидел он однажды в тени на камешке, а перед ним стояли старые аптекарские весы». Что продает? «Пыльцу для опыления цветов» – и попался-таки приезжий татарин. Или поставил ишака на против часов недалеко от дома композитора Спендиарова – и продавал его как умельца определять время. Хлопал ишака по заднице, тот сдвигался, Чипче видел часы – и говорил точное время… Или еще фокус оптический: «Поднимаю белую скалу указательным пальцем за алтын» («Торговля воздухом»).
«А вот здесь, на этом месте, стоял дом самого знаменитого бандита начала века. Звали его Алим, жена у него была красавица-крымчачка. Он грабил богатых и деньги раздавал бедным, ну такой местный Робин Гуд, правда, крымского масштаба» («Карасубазар»). Или славный циркач Коко, кто носил «крымчакский наряд – яркая красная, подпоясанная кушаком рубаха, шелковые черные брюки, заправленные в короткие мягкие кожаные сапожки», выступал с номером «Жонглер в темноте» и раз «сыграл свою смерть» («Жонглер Коко»). Или гениальный шулер-картежник («Игровой Зяма») – артист в своем деле. Все таланты в мозаике персонажей своего народа – восхитительны.
Но главное же, конечно, – это простые трудяги: жестянщики, портные… Но все – с каким-то своим «задором» (слово Гоголя). Начитанный и наслышанный жестянщик Ольмез порассуждать любит «научно» и, предвидя катастрофы – землетрясения, что вода умалится («чаю надо пить меньше, кофе…»), а кометами «небо рассыпается на мелкие кусочки», – взывает к общественности: «Надо писать письма, надо собираться вместе и думать, думать, как нам жить, так дальше нельзя… Вчера я лудил железо оловом, и капля упала в воду и не остыла. Это значит, что вся вода уже горячая, понимаешь? Это знак, что там все уже созрело, напрелось, и скоро… А вы все… Эх!..» («Жестянщик Ольмез»).
И вот все это изобилие жизни, трепетание душ – и в ров? «Это ужасно, когда рок уносит не только целый народ, но и каждые его капельки в океан быта, а затем и небытия… Война. Вторая мировая» («Бася и Давид», повесть).
По капельке собирает писатель эти кровиночки – в крымчакскую «чашу Грааля», где остатняя кровь распятого историей народа собрана, светится…
Светопреставление народу совершилось 11 декабря 1941 года. К катаклизму этому неотступно и неустанно возвращается писатель, представляя ужасные картины, чтобы «пепел Клааса», не потухая, горел в сердце. И словно голос расстрелянной девочки звучит из рва – в завершающем книгу пронзительном стихотворении поэта:
И сказала девочка
Звери вы, господа, звери, как ни прячьте горячечный глаз.
Но и новое надругательство совершалось спустя время над погибшими: объявились гробокопатели, что повели раскопки во рву захоронения, отыскивая золото коронок зубных, кольца, перстни… И начальство местное, чтоб «шито-крыто», препятствовало гласности – и сколько усилий пришлось развить А. П. Ткаченко уже в его правозащитной деятельности, чтобы отстоять права жертв на достойную память!.. Книга эта тоже им памятник. Она – Реквием Вечная память душам убиенных – не покой, не усопшим… Но и – Лебединая песнь. Лебедь ведь поет свою экстатическую песнь – испуская дух, умирая! И писатель и поэт еще и стилизовал, представив прообразы крымчакского фольклора, редкостные записи в «джонках». Вот – «Из джонки, найденной в доме крымчака в городе Ак-Мечеть осенью 44-го»:
Или вот фрагмент:
«Вчера разлилась Карасу унесло два небольших мостка для полоскания белья вода подступила совсем близко к домам словно ком к горлу унесло вороного коня он бил копытами по воде но потом заржал в последний раз сверкнув черным мокрым крупом на солнце скрылся под водой цыгане найдут в океане…»
А вот из мудрости:
Сколько перлов сотворила душа крымчакского народа!.. И сколько пропало. И сколько воскрешено Александром Ткаченко! Но без людей – где они? В возДухе Бытия? Небытия?..
Помянем их, живших, прекрасных, восхитимся и полюбим! И утешимся божественно-мудрыми стихами В. А. Жуковского:
Георгий Гачев
Сон крымчака, или Оторванная земля
Книга исчезающего народа
Посвящается Ю. М. Пуриму и его отцу М. Ю. Пуриму
В настоящее время крымчаков осталось несколько сотен человек. Сейчас их мифологическая память гораздо важнее реальной жизни всего народа в прошлом.
Автор
«Мы – народ, похожий на одинокую птицу».
Из письма Александру I, 12 мая 1818 года
Хаджема
Древняя молитва крымчаков
Творец наш, Создатель, Бог отцов наших! Прости нам прегрешения наши, дай нам силы творить добро, сохранить наши обычаи, язык, доставшиеся нам от древних времен.
Аминь!Творец наш! В эти черные и трудные дни пусть каждая родная душа, друг или близкие, найдут в нашем крымчацком доме веру и надежду. Помоги нам обрести светлую дорогу и увидеть счастливые дни. Да будет судьба к нам благосклонна, и наши дети и внуки увидят лучшие времена.
Аминь!Вразуми нас всегда помнить об ушедших от нас в лучший мир, вспоминать в молитвах своих покойных отцов, – матерей, дедушек и бабушек, братьев и сестер – всех своих родных и близких. Пусть души их молятся за нас.
Аминь!Мертвым – покой, живым – милосердие.
Аминь!
Карасубазар
Более двухсот лет назад Павел Сумароков, писатель, путешественник, назначенный судьей по земельным спорам в Крыму от имени императорского двора, посетил Карасубазар. Это было в мае 1799 года. В 1800 году в Москве была напечатана его книга «Путешествие по всему Крыму и Бессарабии Павла Сумарокова». Первого февраля 2007 года я приехал в Карасубазар, ныне Белогорск, прошелся по местам, где ступала нога Павла Сумарокова, и сделал свои заметки. Последовательно вслед за моими я перепечатываю главки из книги Сумарокова под заголовком «Карасубазар».
Яко ждал меня на Ташхане ровно в двенадцать. Было ветрено, морозно, и от этого хотелось согреться.
– Ну что, по кофейку?
– По кофейку…
– И куда пойдем?
– Да на базар… Там есть шалман один.
Мы вошли в прокуренное и пропитое кафе на рынке. На нем торговали челноки из Турции, Харькова, Молдавии и, конечно, местные… Дубленки, кожаные куртки, колготки, ножи, отвертки, туалетная бумага, тасол, запчасти, винтики, гвозди и молотки, отвертки на четыре удара и такие же шурупы…
– Два кофе можно? – спросил я официантку.
Она презрительно посмотрела на нас с Яко и отвернулась в сторону компании парней с кружками пива, явно повеселевших не только от него, словно бы призвала их в свидетели: мол, вот лохи, кофэ им…
– Кофе только растворимый.
– Ну ничего, сделайте покрепче, по две ложечки с верхом и сахарку…
– Сахарку им еще… А может, поесть? И водочки?
– Нет, два фужера сухого красного.
Лицо ее еще возмущенней повернулось в сторону компании с пивом: мол, красного им, «интелехенция», сухого, без него на дырку в уборной не сядут!
– Сухое фужерами не продается, только бутылками, целяком. Целяком! – подчеркнула она. И вся компашка по смотрела на нас с пьяным презрением, правда, с незлой улыбкой. «На злость сила нужна», – подумал я.
Надо сказать, что музыка непонятно каких годов забивала нам уши, и мы так и не поняли, что нам пихали соседи, конечно же, знавшие опрятного и благочинного последнего крымчака Карасубазара Якова Мангупли.
– Шалман, как был еще при отце шалман, так и остался шалманом. А ведь раньше на веранде Дома Спендиарова за чашкой хорошего кофе по-турецки решались все проблемы. И было все тихо, мирно и уважительно. Много людей стало, и им этот город не родной, а так, прошвырнуться…
Кофе принесли и швырнули прямо на лакированный, как ни странно, стол. От этого он разлился, потек на брюки и на пол, погорячил наши лодыжки, и мы, отхлебнув по горькому глотку кофе с именем великого футболиста «Пеле», встали и ушли под тупые взгляды шалмана.
– Ну что, куда дальше? – спросил Яко.
– Да пройдемся… Здесь были еще двести лет назад три церкви – греческая, католическая и православная и еще мечети. А что сейчас?
Яко смутился, словно ему стало стыдно за всех, и повел меня по улицам Горького, Дубинина, Серова, Продольной, Шоссейной, мимо маленького, покрашенного позолотой Ленина в каменном пиджаке, призывающего правой рукой в горы, туда, за Карасу, в сторону моря через горный перевал Исткут. Но было так холодно и снежно, что даже ему хотелось налить горячего кофе или стаканчик горячительного… Надо сказать, что Карасубазар находится в окружении невысоких гор, в середине неглубокой долины, и для летнего быта он приспособлен природой прекрасно, а вот для зимнего… Это просто стол с закусками, правда, зима здесь коротка и несерьезна. Два месяца снежного ветра, морозец, и вот уже весна разговаривает на разных языках. Здесь живут русские, татары, армяне, греки, украинцы, грузины и… один крымчак, Яко Мангупли.
– Яко, ну так что с церквами-то?
– Католическая церковь была на месте вот этой котельной, – он показал на груду дымящегося черного железа. – Перед войной ее взорвали. Большевики. У меня была фотография. Такой красоты я не видел. А вот здесь основание греческого снесенного храма, в нем были захоронены останки князя Серебрякова. Помню, как в начале шестидесятых приехали моряки и останки перевезли для перезахоронения в Севастополь… Вот там подальше была старая мечеть, мне отец рассказывал, что ее тоже взорвали, но она стояла и не падала, а потом все же развалилась на большие куски. Это были гранитные камни, скрепленные между собой свинцовыми связками. Потом все это жители растащили на мелкие кусочки для заборов и огородов.
– Яко, а какое население сейчас в городе?
– Около тридцати пяти тысяч.
– А сколько гостиниц?
– Одна – «Белая скала».
Это было трехэтажное крупноблочное строение с сырыми стенами, крашенными синей масляной краской, с не очень приветливыми хозяйками и администраторшей, перед которой красовались объявления в деревянных рамках типа «Мест нет» или «Койка, не оплоченная до 12 часов, считается свободной». Правда, когда я спросил о свободном месте для меня, она оживилась и сказала:
– Пришлите заявку по факсу.
– Но зачем, я же здесь.
– Ну так, для перманента, и порядку чтобы было, а так я вас знаю, вы интересуетесь нашей рекой, чтобы того… приватизировать… из центра… В общем, платите десять зеленых, и я вас поселяю… на койку… С вами еще будут два соседа… челноки из Хабаровска. Не наши, «узкопленочные», но по-русски балакают… Вот анкета, заполняйте.
И мы пошли дальше под недоуменные взгляды администраторши.
А ведь была когда-то система гостиных дворов, так называемые ханы. Там можно было получить комнату, столоваться, поить и кормить лошадей и двигать дальше. Плата была разнообразной. Можно было рассчитываться русскими монетами и рублями, а также натуральным обменом. Ну, допустим, корзина или ведро яблок или груш на полведра пшеницы. Или вообще любым товаром рассчитаться, который бы пригодился хозяину хана.
– И что, ни одного хана не осталось, Яко?
– Да все посносили, разобрали на дома, остались только части одного Джелялхана, я в нем работаю плотником.
– Как это? С тех пор и еще работает, но ведь более двух сот лет прошло?
– Там все уже перестроено, и в Джелялхане расположена городская психоневрологическая больница. Пойдем к Бахтияру, это главный врач, он много знает.
Нас встретил крупный шестидесятипятилетний татарин с улыбчивым лицом. Он сразу врубился в то, что я хотел узнать, почувствовать, и тут же повел меня в сохранившуюся часть – главный въезд хана. Это было крепкое толстостенное строение из скального камня с высокими потолками. Понятно, что летом в нем было прохладно, а зимой тепло. Он провел меня по деревянному полу двухсотлетней давности, а может и больше, по доскам из дуба и граба, которые были крепки и даже не шатались, только слегка поскрипывали. От коридоров шли комнаты, где раньше живали постояльцы, а сейчас располагались тихие душевнобольные разных возрастов.
– Джелял – это одно из 99 имен Аллаха, каждый такой постоялый дворхан в Крыму носил другое его имя, если хан был татарским, но в основном мы держали ханы в прошлом, – продолжал рассказывать Бахтияр по ходу. – Вот сейчас пойдем в трапезную, где приезжие кормились.
Мы спустились по скошенным ступенькам в подвал. Он оказался большой камерой с высоким, подпертым колоннами потолком, заваленной бочками с солениями, просто сваленной капустой и морковью.
– Ступени стерты катанием бочек, а не временем, – опять улыбнулся Бахтияр и вывел меня наверх.
Пройдя через веранду с резными окнами, мы оказались на улице. Нас окружили больные, такие же улыбчивые, как Бахтияр, и приветствовали нас:
– Во, мужик, лафа, оставайся!
Бахтияр повел меня вместе с Яко к берегу Карасу и объяснил, что здесь, в низине, у воды под акациями и ивами отдыхали лошади, здесь их купали, а затем отводили на ночлег в стойло, опасаясь цыган, норовивших всегда увести одну две.
– Ну хорошо, Карасу, черная вода, черная речка, но почему так назвали, почему именно черная, мистика или?..
– Нет, думаю, что все гораздо проще. Карасу по весне разливается так, что оба берега плывут под водой. Видите черную полосу? Это прошлогодняя отметина. А в дни разлива столько грязи и перегнивших листьев выносит с гор и из-под скал, что вода становится действительно черной. Отсюда, Карасу. А вообще предки поставили город в правильном месте у воды. Карасу – самая большая речка в Крыму, здесь всегда была проблема с пресной водой. Опять же – здесь все дороги на Кафу, Сурож, на юг, на Акме и Ахтиар, да и на север к Перекопу. Когда-то и работорговля здесь процветала.
Накачивали так старушек, разукрашивали под молодых, что уходили мгновенно, но вот потом неприятности были, когда рабыни дома раздевались через день-два. Все торговали – и крымчаки, и караимы, и поляки. Давно это было, а в воздухе все чувствуется… Ну да ладно, мне к больным надо. Яко, покажи гостю, как дома укреплялись от землетрясений связками из дуба, это интересно.
И мы пошли с Яко по улицам – в лужах и грязи, замешанной на примерзшем снегу. Ноги вязли и расползались, и я подумал: как хорошо, что когда-то нашли карасубазарцы способ ходить по своим великим грязям – на ходулях или на деревянных колодках…
Мы подошли к православной церкви, единственной оставшейся в ценности и сохранности. Построенная еще в конце XVII века и чудом уцелевшая, она сверкала и сияла реставрацией, двумя-тремя нищими снаружи и горсткой верующих внутри… Итак, что мы имеем? Один православный собор – Свято-Николаевский, две мечети, ни одной синагоги и ни одного каала.
– Ну что, двинем в сторону православного кладбища?
– Да, это на склоне горы Дорт-Куль.
Уже подходя к кладбищу, я увидел, что большинство надгробий было повалено, словно игральные кости домино. Причем мраморные или белокаменные, побитые, конечно, не только временем, но и хамским отношением к прошлому, к предкам… «Здесь покоится Киния Долма, скончалась 7 сентября 1900 года в возрасте 56 лет», «1888 год, 55 лет от роду, Кирькула Куластрова», «Здесь покоится прах Екатерины Александровны Пановой», «Здесь покоится младенец Николай Николи, скончался 13 июля 1908 года»…
– А бывало и того похуже, когда мраморное надгробие обматывали проволокой и, подцепив за бампер «жигулей», утаскивали неизвестно куда при свете дня. И никому ничего не надо, – грустно сказал Яко.
Теперь наш путь пролегал в сторону горы Исткут, прямо к мосту над Карасу, в бок которой с мощной вертящейся силой била узкая, но жирная речка Бурульча – один из основных горных притоков Карасу. Мы шли опять в сторону Ташхана мимо виноводочного завода и того же самого базара, и я мечтал съесть кусок вареной баранины, но нигде ею даже и не пахло.
– В свое время в крепости Ташхан сидел Богдан Хмельницкий, перед тем как его отправили в Польшу. И даже Григорий Иванович Котовский, перед тем как стать знаменитым красным полководцем. Мощная крепость была, все равно взорвали, хоть часть осталась благодаря нашему крымчаку Токатлы, – он основал музей в городе. И теперь здесь все крутится вокруг осколков былого величия: тут знакомятся, идут отсюда на Ильинскую улицу, особенно хорошо летом, прохладно, с гор дует ветерок, и мальчишки бегают отсюда окунуться в Карасу. Кстати, раньше каждый район города купался на своем участке берега, даже дрались между собой за владения. А Котовского убил завербованный еще в Первую мировую войну немцами агент и скрылся аж на Дальнем Востоке. Но НКВД искало его повсюду. И вот однажды аж в Приморском крае, на станции под Артемом, где и поезд-то стоит полминуты, к нему в окошко постучали, он успел только сказать: «Я так и знал, что вы меня найдете, хоть через десять лет».
Яко продолжил:
– Хочу найти дом, который был построен еще в те времена, когда Екатерина была в Карасубазаре и подарила кусок земли полковнику русской армии Ламбро Качиони. Потом он построил себе особняк на этой земле, но все это затерялось. Думаю, что он был крымчаком грузинского или итальянского происхождения. А вот здесь, на этом месте, стоял дом самого знаменитого бандита начала века. Звали его Алим, жена у него была красавица-крымчачка. Он грабил богатых и деньги раздавал бедным, ну такой местный Робин Гуд крымского масштаба. Его сообщники работали по всем городам Крыма, хорошо была поставлена сеть информации. Когда его набеги стали особенно дерзкими, один офицер, сидя в ресторане города Ялты, поклялся своему другу убить Алима или поймать и сдать полиции. Вечером он уехал в Акме, на дороге его авто остановил человек лет тридцати с компанией и, наставив пистолет прямо в лоб, сказал: «Ну вот, я тот Алим, которого ты хотел поймать, убить или сдать. Ну, делай, что обещал!» Офицеру ничего не оставалось, как просить у Алима прощения. Алим же не убил офицера, а отпустил со словами: мол, передай всем, что… И так далее. Поймали Алима перед революцией при довольно странных обстоятельствах, когда он попытался проникнуть в дом губернатора. Зачем – никто не знает, потому что после этого его увезли в тюрьму, в которой он исчез бесследно. Поговаривают, что он подкупил охрану и убежал в Турцию, забрав из Карасубазара наскоком свою красавицу жену.
Итак, мы вышли к слободке Хаджема, района, где когда то компактно жили крымчаки, опять шли по круглым витиеватым улочкам с низенькими домами, обращенными окнами внутрь двора на восточный манер, по тем же улицам Дубинина, Продольной, Горького, Серова…
– И что, ни одной улицы со старым родным историческим названием не осталось? Все, как в любом городе по всему периметру, вдоль и поперек бывшего Союза…
– Нет, есть одна, Крымчакская, вот как раз сейчас идем по ней, вот…
– Ну и где же название? Не вижу…
– Вот паразиты, опять содрали, сегодня же снова приколочу в начале улице, а другую – на своем доме.
Я уходил к автостоянке и видел, как в темноте над Карасубазаром, так бесцеремонно переименованным в Белогорск, высилась и нависала Ак-Кая, белая скала, гордость и любовь карасубазарцев всех времен. На нее поднимались и поднимаются свадьбы, политики, полководцы и однажды даже императрица Екатерина. Ну и, конечно, простые люди: чтобы взглянуть на свою жизнь с высоты парящих птиц и замирающих сердец и увидеть под собой одну колею, правда, ведущую всех в разные стороны.
Прощай, Яко…
Из «Путешествия по всему Крыму и Бессарабии Павла Сумарокова в 1799 г.»
Изд. 1800 г., г. Москва
Kaрaсубaзaр
28 число мая
Толмач мой привез меня в Карасубазар в дом Мурзы, которой по вежливом приеме поднес мне тотчас трубку и я, поджав под себя ноги, спокойно расположился на его диване. Потом придвинули пред нас низенькую скамейку, и поставили на нее круглой поднос с деревянными ложками без вилок и ножей. Наконец покрыли мне колена затканным платком, подали умывать всем нам руки, и мы сели трое вокруг скамеички за обед. Восточной обычай есть по-братски из одной чашки мне очень не понравился; а когда по снятии Чорбы, их супа, появились другия блюда, то способ брать всякое кушанье голыми руками мне также показался отвратительным. Я межевался с своими товарищами черезполосно, отгораживал свою долю в уголке и ел вилкою по Европейски.
После обеда подносили свежую черешну, шелковицу, варенья в сахаре из Айвы, Кизила и подчивали притом шербетом, род меду варенаго, каковой мне показался весьма вкусным. Опять делали омовение рук моих, и разносили кофий в небольших фарфоровых без блюдичек чашечках, разместив их в другия серебряныя, дабы в руках держать их было не горячо.
Хозяин мой говорил довольно чисто по Руски, и мы пошли с ним смотреть город. Карасубазар стоит при речке Карасу на долине и среди гор, каковое положение его для здоровья не удобно, и сливающияся с гор воды, равно дожди, делают в нем великую грязь. Он пространен, имеет в себе много жителей, и по причине средоточия его есть из лучших торговых городов в Крыму. В нем три церкви: Греческая, Армянская и Католицкая, да 18 мечетей. Улицы здесь узкия и изгибистыя, по Азиатски, в которых каменныя ограды дворов составляют по обеим сторонам непрерываемыя стены. Домы низки, не обширны и построены из белаго нетесаного камня и не обозженаго кирпича.
Вступя в ряды, где спущенные навесы защищают от зноя солнца и дождя, мы переходили из одного попарнага в другой. Они все деревянные, занимают великое разстояние, и в них лавок, полагая с пекарнями, также и состоящими в Ханах, щитают до 1300. Тут Татары, Руские, Греки, Армяне и Польские Жиды в отделенных линиях торгуют своими товарами. В пекарнях, то есть их харчевнях, Татары продавали хлебы, опускали сверху печи взоткнутые на железных крючьях для жарения куски баранины, и приготовляли для приходящих разныя кушанья. Мальчики возглашали продажной шербет, и великое множество стояло арабов, или их телег на двух колесах, наполненных черешнею. Ханы их (гостиные дворы), коих в Карасубазаре 11, походят на тюремные замки, и огорожены со всех сторон каменными стенами. Сделанныя в тех стенах о двух ярусах каморки служат для приезжающих из Анатолии купцов, также здешних Греков и Армян жилищем, где они и продают лучшие красные товары, как то: шали, парчи, кисеи, разные платки и иные Турецкие товары, которых в других лавках не держат, и это преимущество предоставлено по всему Крыму только Ханам.
Отсюда мы вошли в кофейный дом, куда Татары сбираются пить кофий, курить табак и прохлаждаться. Оной состоит из одной комнаты, устланной по полу коврами с отгороженными вокруг диванами, и тут на очаге безпрестанно варился кофий. Татары, поджавши ноги, разкуривали из поставленных пред ними жаровень свои трубки, между собой разговаривали; иные из них играли в шашки, и это было публичным местом их забав. При виде моем они кланялись мне, прижимая руки к груди, сажали меня подле себя, подали тотчас мне трубку, и подчивали кофием без сахара и сливок, котораго чашка продается по одной паре, то есть по три денежки.
29 число Мая
На другой день мы были в мечетях, садах, сафьянных фабриках, и я видел ту пространную долину, на коей собранные с полуострова Крымцы присягали в верности Российскому престолу. Сей город имеет еще другую в себе достопамятность: блаженной памяти ЕКАТЕРИНА II заключила в нем трактат с Неапольским Королем на 20 лет. После обеда по Европейски, ибо Азиатския приправы мне уже наскучили, я разсудил сделать посещение известному Батал-Паш, которой, живши долгое время в Петербурге, имеет здесь более двух лет свое пребывание. Я нашел его окруженного множеством Турок, с безмолвным почтением пред ним предстоящих; толмач мой бросился обнимать его колена, и он, приняв меня с Восточныя величавостию очень ласково, посадил подле себя и угощал трубкою. Он говорил весьма чисто по Руски, и между прочим объявил мне, что ожидает из Петербурга позволения, чтобы ехать для принятия вверенного ему над Анатолиею начальства. Потом, откланявшись Сиятельнейшему Турецкому Превосходительству, я пошел еще ходить по городу.
По возвращении домой вечер провел я, поваливаясь на диване, с моим хозяином в разговорах. Он разсказывал мне о прежнем положении Крыма, о происходящих в нем переменах, и дым из трубок наших разстилался тремя колоннами по комнате. Наконец, поблагодаря его за вежливости, равно квартиру, я на разсвете оттуда выехал.
Слободка
Переселенцы стали строить дома и селиться в них слишком близко к старому крымчакскому кладбищу в Карасубазаре, почти смыкавшемуся с районом Хаджема, где те веками жили и хоронили своих предков. А потом и вовсе стали сносить его, переворачивая мертвых вместе с землей, утрамбовывая могилы для фундаментов. Никто точно не знал, с какого года там хоронили крымчаков, но один из надгробных камней сохранил выбитые железом даты и надпись – 1517–1591, Хондо… Имя было затерто.
Яко подходил к переселенцам в момент закладки первого камня и уговаривал:
– Как вы можете строить дома на наших могилах? Не будет вам никогда счастья на костях…
– Э, парень, уходи, ваши предки выбрали для жизни и смерти слишком хорошее место. Посмотри вокруг – внизу течет река, впереди зеленые луга и горы, а по бокам – дороги в город и из города, над тобой небо и солнце в высоте, сухо, тихо, только птички поют! Привет вашим, они поймут нас живых, рай на земле, а не на небе, потом поговорим, уходи…
Дома крымчаков старели и оползали медленно по склонам к Карасу, время дробило даже самые крепкие строения, но никто из жителей Хаджемы не думал строиться на месте старого кладбища, тем более что для этого нужно было сносить старые могилы. Дома крымчаков были крепкими не только силой семейственности и родственности, но и чисто технически. Когда их строили, то стены прокладывали особенны ми мягкими, как бы сейчас сказали, пластичными породами деревьев, расщепляя для этого стволы дубов, осин… Это служило амортизацией при землетрясениях, которые иногда тревожили землю Крыма, порой так сильно, что падали города Севастополь и Ялта. К примеру, в 1927 году. На памяти у всех были погребенные под камнями гор деревни с жителями, такие, как Демержи и Роман-Кош. Дома Карасубазара стояли крепко. Или потому, что город не трясло так сильно, или потому, что он не был в эпицентре, или потому, что дома были построены грамотно, по старинному рецепту, в правильном месте, по правильному плану.
– Нельзя соединять в одно живой мир и мертвый, там, где веселятся и пьют, – не место покойнику, там, где лежат покойники, должна быть тишина и два метра земли над прахом… В суетности и забывчивости, беспамятстве и бездуховности жизни, – продолжал повторять Яко, – иначе…
Крымчаки ходили на свое кладбище посидеть над рекой, подумать и вспомнить умерших, близких или далеких родственников, и это давало им силу. Странно, но общение с давними предками заражало их плоть не на день, не на два. И уходя, каждый оставлял над надгробием камешек или еще какую-нибудь бытовую мелочь, говоря этим: «Я здесь был, я тебя помню»…
Когда старое кладбище стало исчезать под варварскими ударами кувалд, ломов, кирок и лопат и люди стали растаскивать крепкие горные камни для своих заборов и домов, когда на земле захоронений стали подниматься новые дома и переселенцы стали зажигать в них свет, – начали происходить вещи, которые никак не укладывались в мозгу новых хозяев. Ребенок открыл окно и случайно разбил стекло, порезав при этом руку. А через несколько дней умер от заражения крови. В одном из домов провалился пол, и вся семья ушла под землю, никто не успел спасти даже кошку. Однажды всей семьей сели обедать прямо в саду, но в тарелках вместо супа появилась кровь, и бараньи кости в нем стали человечьими…
Новые хозяева стали призывать Яко и спрашивать, что происходит, но Яко лишь отвечал: «Я же говорил вам: мир мертвых нельзя соединить с миром живых, но я не имею влияния на потустороннюю жизнь, думайте сами…» Выстроенных домов было жаль, и хозяева стали приглашать священника или муллу, чтобы отогнать проклятие, как они думали, с места, где они поселились. Однако бесполезно. Молитвы, заклинания, ничто не помогало, и наконец все пришли к выводу, что это не проклятие. Даже придорожные цыгане, узнав о страшных случаях, ушли, сказав перед этим: «Кочуют только кости живых, кости мертвых кочуют вместе с землей. Кто трогает мертвых, тот останавливает землю… А это против воли неба и солнца…»
Однажды Яко увидел, как из одного из домов стала выезжать семья, и подошел к ним. Хозяин дома сказал:
– Ты виноват в наших несчастьях, потому что мы часто видели тебя на остатках кладбища, ты разговаривал со своими, будь проклят!
– А вы знаете, где покоятся ваши близкие? Попробуйте построить дом на этом месте, а?
– Нет, Яко, это невозможно, потому что мы не знаем такого места, и в этом наша беда…
В скором времени Карасу разлилась настолько, что стала подмывать новые дома на месте крымчакского кладбища. Два из них в ночь тихого и прекрасного мая унесло течением, люди успели выскочить из домов и долгое время ночевали под открытым небом. Многие могли видеть, как плыли комоды, диваны и кровати, на которых спали и сидели обреченные люди. Им кричали, пытались их спасти, но они были словно завороженные – не отвечали, не поворачивали голов. Скорее всего они действительно спали. Мертвым сном. Вскоре поутру жители Карасубазара заметили, что их городская река течет не слева направо, а справа налево, солнце встало не на востоке, а на западе. Пожухлая трава начала зеленеть, а огрызки яблок превратились в большие наливные яблоки сорта кандиль, но самое удивительное, что со старого кладбища стали приходить покойники. Они стучались в дома и просили еды, здоровались со своими знакомыми и родственниками. Лица их были изъедены тленьем, но с каждой минутой они все больше разглаживались и молодели. Покойники подсаживались на скамейки во дворах и на Ильинской улице к живым, пытаясь приобнять их и посидеть в обнимку. В это время с другой стороны города донесся слух, что начался мор. Стали умирать люди, которым не исполнилось и двадцати. Время пошло вспять. Воскрешенные и живые перемешались на Ташхане, и начался торг золотыми украшениями, рубахами и халатами расшитыми, драгоценностями, снова началась работорговля… Но никто ничего не замечал.
Один Яко понял, что произошло, и пошел к большому базальтовому надгробному камню, единственному уцелевшему, несмотря на попытки взорвать его динамитом, и просидел там всю ночь, передумав обо всем, что знал о своих близких и далеких, покоившихся за его спиной. Над ним стояло раскрытое настежь золотистое небо, под ним шевелилась от мыслей и чувств крымская карасубазарская земля, и он сказал вполголоса сам себе:
– Яко, если взрослые не понимают, что они творят, то при чем здесь малые дети? Если мужчины сильнее, чем женщины, то при чем здесь малые дети? Мертвые не должны мстить, они и так неглубоко спрятаны от живых, на расстоянии одной человеческой жизни… Кто в нашем народе был кем, мы не знаем, нам тоже послано проклятие, если мы можем быть такими жестокими после смерти… Если есть ты, всемогущий, прости детей малых, взрослые уже наказаны…
Наутро все дома опустели, и люди пешком или в повозках потянулись из города. Никто не провожал их. Куда они шли, никто не знал, но шли они все вместе, пустив впереди детей. Они не взяли с собой даже вилки или ножа, даже по душки или одеяла, ни одного саженца алычи или груши, или черенка винограда… На месте старого кладбища так ничего и нет, пустырь, а осенью в Хаджеме было небольшое землетрясение. Все дома пришлых опали листьями завядших ореховых деревьев, но ни один человек не погиб. Дома крымчаков, поскрипев, покачавшись, не потеряв и черепицы, остались целы и невредимы. После произошедшего крымчаки стали жить еще ближе друг к другу. Браки стали теснее. Дядя мог жениться на племяннице, и двоюродные братья и сестры вступали в брак. Пришельцы, получившие урок, все равно не уважали законов других.
– Что это вы спите на полу? А девушки ваши не гуляют по улицам, хотя и лица не прикрывают? Что это мужчины носят барашковые шапки даже летом? Вы и не татары, вы и не евреи, да и уж точно не русские. Кто же вы тогда?
– Мы такие, какие мы есть, и если мы спим на полу, посмотрите, какие у наших женщин фигуры стройные. Если наши девушки не гуляют по улицам, тогда почему у них у всех мужья есть? А шапки барашковые тепло дают зимой, а летом закрывают от жары. Да и мысли всегда теплые. У нас нет ни одного злодея в племени, ни одного вора. Мы будем бедными, но никогда не возьмем чужого, – посмеивались крымчаки. – Что на гербе Карасубазара изображено, а? То-то же. Две барашковые шапки, причем на гербе всего Карасубазара, а не Хаджемы. – И продолжали: – Когда мы идем в каал молиться, где сидят наши бедняки? На передних лавках, чтобы поближе к Богу быть, может, Бог даст. А богатым уже дал. Чтобы поближе к слову… Почему мы больше говорим, чем пишем? Потому что наше сказанное слово много значит. Если мы сказали, что будет завтра дождь, так он будет точно, если мы договорились без бумаг, то держим слово. Хаджема – это не просто место проживания нашего народа, это еще и неписаные законы наших предков, растворенные в воздухе, напоившие корни наших деревьев, и мы сами длим эти законы, как нам подсказывает небо, наша совесть…
Чем народ меньше, тем он чище, дружней, благородней. Нет, мы не кичимся своей одеждой и едой, но голодных у нас нет. Хаджема научила нас веками делиться, мы даже жадному дадим столько, чтобы он объелся и навсегда забыл голод. Монисты наших женщин – это кружки и кружочки в круге на шнурке, это круг, замкнутый круг Хаджемы – от брата к брату, от сестры к сестре, от отца к сыну, от матери к дочери… Это Хаджема. В этом слове корень «джем», что означает: пятница, день поминовения, единения.
Мы приходим на кухню, в ашхану или в переднюю, в аят, как к себе домой, потому что мы продолжаем друг друга, и за круглым столиком, софрой, найдется место еще одному, и еще одному, и еще…
Школа
– Учитель, кубэтэ, корзинка яиц, чугунок соте… Я могу рассчитывать хотя бы на тройку?
– Послушай, ты так плохо знаешь предмет, что я съем на один кусок кубэтэ и на одно вареное яйцо меньше и откажусь от соте, но поставлю тебе двойку. Голодный…
– Но учитель…
– Или я вообще не буду брать еду от твоих родителей, если ты меня будешь шантажировать…
– Учитель, только не это, только не это…
– Так кто решит нам задачку? – обратился учитель ко всему классу единственной крымчакской школы Карасубазара. – Из города А в город Б вышел человек…
– Если он ходит пешком между городами, то что это за человек, учитель? Что, нельзя на лошади, наконец, на бричке, учитель?
– Ну, хорошо. Из города А в город Б вышла лошадь со скоростью десять км в час… Ну, кто продолжит? Так, Дормидор, ты…
– Лошадь вышла, вышла… – начал потупленно Дормидор…
– Я знаю, учитель, ей тяжело, но она дойдет, я точно знаю…
– Ага, – выкрикнул отличник Бебе, – до кладбища дойдет… Она у тебя что, доходяга? Настоящая лошадь скачет…
– А у меня ходит, если учитель сказал «вышла», значит ходит и дойдет до города В…
– Так, не мешать Бебе! И за сколько она, как ты думаешь, Дормидор, дойдет?
– Ну, рублей так за пять или шесть… Ее же кормить надо: овес, ну там ночлег… Класс начал смеяться.
– Да, еще воды. И всадника кормить надо…
– Так-так, дети. Ну, кто продолжит? Это же урок математики, а не литературы.
– Я, – сказал отличник Бебе.
– Ты-то ответишь, а вот остальные…
– Давайте произведем опыт, – встал Гурджи, невысокий крымчак с горловым голосом и начал: – Выйдем вместе из города А, из нашего Карасубазара, в город Б, ну, допустим, до Судака. Когда придем в город В – искупаемся, потом еще раз искупаемся, засечем время и лошадь одну возьмем с собой… Вот и будет ответ…
– Э, – сказал учитель, – это вам не урок литературы и гимнастики, подумайте, главное здесь не искупаемся, а что-то другое… А у тебя чуть что – сразу искупаемся.
Следующей была география. Учитель в перерыве зашел в свою каморку и начал завтракать. Хороший кубэтэ у этих Хондо, тесто хорошо раскатывают, особенно вот этот кусочек боковой, кинари… Он посматривал в окно, где на школьном дворе носились дети и играли в жоску, набивая до сотен раз маленький кусочек козьей шкуры с привязанным кусочком свинца. Надо разогнать, подумал учитель, а то набьют себе грыжу… Но было жарко, стоял май месяц, стрижи и ласточки летали прямо перед открытым окном, издавая скрипучие тон кие звуки, и взмывали над крытой красной черепицей крышей школы… День растворялся в воздухе от четкого голубого неба и зеленых холмов его родного города, и учитель подумал: зачем гонять, сам был недавно таким, надо в класс всех, там будет попрохладнее от белых известковых стен, чисто вымытого пола…
– Так, агланчик Леви, покажи нам самую большую реку Крыма.
– Карасу, учитель.
– Неправильно, подумай хорошенько.
– Правда, учитель, я в ней чуть не утонул, меня спас Кебе.
– И как он тебя спас?
– Сказал: встань, Леви, с корточек. Я встал и вышел из воды… А так захлебывался, такая она большая, наша Карасу.
– Нет, Леви, неправильно. Кто скажет, ты, Кебе?
– Салгир.
– А почему?
– Потому что о ней написал какой-то русский поэт, Пушкин, что ли…
– Да не поэтому, а потому что она берет свое начало в горах Чатырдага и пересекает всю Крымскую степную долину и впадает куда, а?
– Прямо в Одессу, – закричал Дормидор. – Или, нет… В Карасу, потому что Карасу самая большая…
– Да нет же, деточки, Салгир впадает в Черное море, и длина его аж 120 км… Повтори, Бебе. Бебе встал, насупился и начал:
– Карасу… Нет, Салгир течет через… Одессу, задевает на повороте Карасубазар, Ак-Мечеть, Сарабуз, а уже оттуда исчезает в Черном море. Поэтому Леви чуть не утонул не в Карасу, а в Одессе…
– А Одесса, что это по-твоему? – спросил, улыбаясь, учитель.
– Это самая большая река, впадающая в Черное море… Я учил… Вода в Одессе глубокая, течет медленно, и поэтому море такое… Ну, волнистое. И наша Карасу несет свои воды в Одессу. Вот наш Леви, если не выплыл, сейчас жил бы… А, учитель, я забыл, Одесса это же город такой, где-то на севере…
Учитель стоял и улыбался всем этим милым бредням и вспоминал свое время, проведенное в этой же школе.
Он окончил четыре класса крымчакской школы, потом русскую целиком и поступил в Петербургский университет, затем поучился еще в Московском, но так ничего не окончил до конца. Вернулся домой в Карасубазар, осел, женился.
И вот крымчакская община пригласила его преподавать в крымчакской школе в четырех начальных классах. Дети говорили на крымчакском, татарском, русском, армянском, и вот, чтобы закрепить знания родного языка и подготовиться для следующей ступени обучения, они учились здесь вместе. Крымчакский язык преподавался устно и письменно. Это был урок устного, и учитель называл слова и толковал их значения, переводил на русский, татарский и обратно. Часто дети повторяли за ним хором. Крымчакский язык в детском произношении становился более четким, правильным, звучащим, интонационным, ребятишки слету начинали понимать друг друга.
Учителю полагалось небольшое жалование от общины, и поскольку времена были трудными, а они почти всегда были таковыми, то каждая семья по очереди еще кормила учителя ежедневно обедом. Это было принято и не вызывало удивления.
«Да, так пропутешествовал я почти по всей округе и ни чего не достиг», – думал учитель.
Но когда он смотрел на своих трех детей дома и еще на своих учеников, то на душе становилось легче – родной город, покой, жена, которую он обожал. И он думал, что не так уж его жизнь не удалась… Было ему чуть больше тридцати, он был бородат, зимой носил каракулевую высокую папаху, за что дети его дразнили Папахан…
Наконец зазвенел звонок, и он вышел к классу… А в классе никого не было.
– Что случилось, Яко? – спросил он единственного оставшегося ученика.
– Учитель, через центр города, мимо развалин крепости Ташхан, на Исткут и на Феодосию тянут на бревнах большой недостроенный корабль, все наши там, в центре…
– Ну, беги тоже.
– Не, я не хочу… Там страшно, там солдатов бьют плетьми.
«Да, – подумал учитель, – это наверняка из Ахтиар (так крымчаки зовут Севастополь), опять готовятся к войне. А тут язык крымчакский. И что они будут делать со своим маленьким языком в этом большом и враждующем мире? Корабль для сообщения с мирами, а не для разрушения. Да еще бьют!»
– Ну что, успокоились? – спросил учитель, когда класс собрался и затих. – Начнем с повторения. С самого главного в жизни слова «СУВЕРЛЫК – ЛЮБОВЬ». Хором повторите: «суверлык».
И дети повторили…
– Как будет «НАДЕЖДА» по-нашему? Итак, надежда – «ИШАНЧ». И класс повторил: «ЙАБАН» – чужбина. И класс повторил…
Язык был довольно трудным, особенно в фонетическом плане. Труден он был еще и близостью с татарским и караимским. Но все же были основательные различия за счет произношения гласных, таких, как «ы», «о» с точками. «Коз – глаз». Или «у» с точками, или «омпек – целовать». Произношение остальных восьми гласных было таким, как и в русском языке…
– Так, а теперь, дети, кто ответит, как возник наш язык? Ну, ты, Дамжи. И как его еще называют?
Дамжи встал из-за коричневой низкой парты и, получив от сидящего сзади Эчки подзатыльник, начал:
– Наш язык… Наш, его еще называют Чагатай, это по-древнему, вообще возник, как возникают все языки – надо раз говаривать, торговать, ребенку говорить, чтоб он ел и пил… А вообще, как все наши животные воют, так и мы сначала мычали, мекали, бекали, лаяли, а потом заговорили… Нужно было, вот и заговорили…
Учитель рассмеялся.
– В целом, наверное, правильно. Хотя вообще ученые считают – чтобы облегчить процесс приобщения нашего народа к пониманию библейских текстов для нас с вами, крымчаков.
– Да, уж облегчить! А то сломаешь язык от всех этих «эуы йоыу».
– Так, а скажи-ка ты, Дамжи, как образуется множественное число в нашем языке. Ну, допустим, «деве» – один верблюд, а множественное?
– Дэвелер, – протянул Дамжи, – но я не понимаю, учитель, как это так! Я добавил только «лер», а уже в моей голове стало много верблюдов. А уберешь «лер» – всего один. Не понимаю! Что-то в древности наши намудрили… Я понимаю настоящее размножение… Класс захохотал, но учитель все же сказал:
– Тебе, Дамжи, четверка. У тебя хорошо с чувством юмора…
Школа находилась в районе Хаджема, где в основном жили крымчаки. Правда, до центра, где происходили все основные события, было рукой подать. Нужно было пройти две-три крутых извилистых улицы с крымчакскими домами, обращенными окнами внутрь двора, перейти мост через Карасу – и вот ты уже возле каала, молитвенного дома крымчаков. Рядом развалины древней татарской крепости Ташхан (по-русски «каменный хан»). Тут же рядом был фонтан с холодной водой, к его воде припадали в жаркие пыльные дни не только горожане, но и путники. Вокруг него располагались верблюжьи караваны, брички, повозки и кареты, прежде чем обустроиться на постоялом дворе. У школьников книг было мало, в основном тетрадки и ручки с чернилами, которые они носили за кушаком, поэтому их котомки были небольшими, в которых были обязательно свертки с едой. На переменках только и слышалось «дай шмат», «дай шмат». Это те, кто был победнее или просто забыл взять что-то из дома, просили поделиться куском еды. И ученики делились. Жадных не любили, особенно у крымчаков. У Ташхана вечно что-то происходило: то недостроенный корабль тащили от моря к морю, то раскидывал шатры на лето цирк шапито, то какой-то заезжий музыкант играл на скрипке, и ему бросали монеты.
Чуть поодаль пацаны постарше играли в абдрашик, в кости бараньего хвоста. Они скучивались, затем склонялись, трясли кости в зажатых ладонях, затем выбрасывали и подсчитывали выигрыши или проигрыши. Игра была бы безобидной, если бы время от времени кто-то из пацанов не выходил из игры, раздетый до трусов, не убегал с ревом домой. Пацаны исчезали, а на пустое место прибегали родители вместе с городовым, но было поздно. Школьники не лезли в эти хулиганские игры и, изображая ученость, похаживали по тенистой площади, осматривая все. Затем неслись на речку, где у запруды купались в летние дни почти дотемна.
В один прекрасный день у ворот школы остановилась повозка, и из нее вышла крымчакская семья. Она была из отдаленного района, но считала, что их сын, уже переросший школу, все равно должен учиться и закончить четыре класса. На лице матери и отца были страх, недоумение и желание как можно быстрее поговорить с учителем. Они тащили за собой огромный мешок с продуктами, которых хватило бы на месяц.
– Учитель, – сказали они громко на всю школу. И учитель вышел навстречу.
– Надо поговорить! – и начали говорить тут же и наперебой. – Что-то с нашим агланом Дейнаром случилось, стыд но даже сказать, – начал первым отец. – Вчера я сидел в саду и слышал, как мой Дейнар что-то громко причитал… Потом я разобрал… И это касалось меня, моего ребенка! И с ребенком что-то случилось… Неужели он так рано… Это у нас не принято, как вы знаете, учитель…
– Так-так, все по порядку, – успокаивал их учитель…
– Так вот, – продолжал отец, – я услышал, как из-за кустов донесся голос моего Дейнар:
«Баламамыз (наш ребенок), баламызнынъ (нашего ребенка), баламызгъа (нашему ребенку), баламызнэн (с нашим ребенком)!»
– Ой, что-то случилось с нашим ребеночком! – завопила мать Дейнара. «Баламыздан (у нашего ребенка)!»
– Ой, что-то произошло у нашего ребеночка! – повторила вопль мать Дейнара. – Баламыздан! Ой, что с нашим ребенком! Где Дейнар, мой агланчик… Ты стал отцом… Говори!
На этом отец закончил. Почти весь класс, высыпавший во двор, хохотал до упаду, а учитель плакал от радости, потому что он, как и ученики, знал, что ничего не случилось.
– Послушайте, – обратился он к маме и папе Дейнара. – Это он готовился к уроку крымчакского языка и повторял склонение имен существительных! Вот и все… Успокойтесь…
На лицах родителей появилась улыбка, и они посмотрели на своего Дейнара. Он тоже улыбался.
– Ладно, придешь домой, все равно поговорим, – сказал отец, и они пошли к коляске. Класс же вернулся в здание школы, и урок продолжился.
– Так вот, дети, – продолжил учитель, – к происхождению слова «крымчак». Одна из идей происхождения – это легенда о том, что был когда-то на нашей земле писарь, и звали его Крым Исак. Отсюда, возможно, и произошло слово «крымчак». Посмотрите, как это могло произойти: звук «ис» перешел со временем пользования в звук «ч», вот и получилось – «крымчак».
Когда Дейнар, герой школьного дня, пришел домой, то его отец сидел и читал молитвенник так, что было слышно. Но сын заметил, что держал он молитвенник вверх ногами. Видимо, читал наизусть.
– Папа, как ты держишь молитвенник! Вверх ногами…
– Э, сынок, откуда я знаю, как надо… – важно ответил ему отец.
Тайна Ребе
Как всегда, ночь в южных городах наступает мгновенно, и происходит это примерно так: кровавый желток солнца тонет в мареве накопленной за день жары, все герои, все части природы застывают на подмостках сцены в ожидании совместного акта затемнения, и затем, разом, вдруг, вместе с солнцем падают за холмы и горы, а на небе начинают пульсировать яркие мусульманские звезды. Даже собаки, не успев напоследок облаять прошедший день, падают у своих будок, вывалив шершавые языки в ночной сон после невероятной, настоянной на поте и пыли духоты…
Так и Карасубазар однажды уснул всеми пирамидами дынь и арбузов на базаре, возчиками на телегах и бричках, полицейскими на недописанных протоколах, грузчиками на своих мешковинах… Уснул всеми своими жителями в домах и садовых постелях, даже рекой, замедлившей ход рыб и мелких течений. Все умолкло, запахло полынью, лавандой, степными ромашками, словом, все раскрылось, расслабилось до утра, отдалось друг другу без капли недоверия. Южные ночи так коротки, что только коснешься подушки, а потом даже на миг откроешь глаза, как уже небо светлеет пятнышком нового солнца на востоке и не дает опять впасть в беспамятство, в сон…
В одну из таких ночей зацокали копытами по булыжнику кони бандитов, стали потихоньку глохнуть, стихая за городом вдалеке. И вдруг потянуло дымом и криком, огнем и пожаром. Делаясь под казачков, банда пришла из-под Ишуни и подпалила два молитвенных дома. И проснулась окраина крымчаков Хаджема, все побежали гасить свои каалы. А кони с всадниками все удалялись, только и оставляя в темноте брань и проклятия на разных языках и еще вот это, знакомое:
– А что, жидков пожечь – дело полезное…
Всадники исчезли в соленых степях, а каалы горели, разгораясь и разгораясь, и все сбежались тушить их, чем только можно… Пожарные сверкали шлемами и ведрами, крик и рыданья смешались в воздухе, дети стояли, и на их лицах был жар от огня. К утру пожар погасили с трудом. Двери сгорели, рамы, какие-то рукописи… Но большинство рукописей исчезли.
Ребе сказал:
– Будем еще разбираться, что осталось. – Все двинулись по домам. А там… Дома были разграблены, пока все тушили каалы. Бандиты действовали слаженно двумя группами. Видно, продумано все было толково, чуть ли не по-военному. Все было собрано в тюки, все нажитое годами, вместе с подушками, коврами и одеялами, сметали подчистую. На полу разбитое стекло, рассыпанная мука и чай: деньги искали и золото. Пропали и домашние тетради для записей – джонки. Навьючили все на лошадей и даже на угнанного с базара верблюда и через горы… Куда? На Феодосию, Сурож, к морю и лодкам. Знали куда. Плакали дети опять, матери плакали, и ничего не отражалось на их лицах, кроме недоуменного: «За что нам такое?» Более двадцати семей пострадало…
Карасубазар проснулся от шока почти весь, но некоторые еще спали. Сразу начали приходить, жалеть, армяне несли простыни, татары еду, караимы и греки денег собрали. Ребе сказал, что община поможет каждому дому. Но разве дело только в этом? Коварство. Да еще и вот это – «жидков пожечь и пограбить – дело полезное»… Обидней всего. Утром поймали одного из нападавших: молодой, лет семнадцати. «Откуда? – Да и сам не знаю. – А банда откуда? – Из-под Ишуни. – Знаем, что из-под Ишуни»…Полицейские держа ли его в участке двое суток, а потом выбросили на крыльцо и сказали:
– Полоумный какой-то, что хотите, то и делайте с ним.
А что делать? Страсти улеглись, обида остыла, и жалкий он какой-то… Ребе сказал: пусть посидит три дня и три ночи привязанным к дереву на Ташхане, пусть люди на него посмотрят, пусть он посмотрит в глаза нашим детям. А потом пусть живет у нас в городе. Это ему и будет наказанием. Так и сделали. Днем ему приносили еду, а на третий день сказали: «Отпустим к вечеру». А к вечеру его украли. Слух прошел, что за ним по следу шли сыскари. Месяца два никто ни чего не слышал. Ограбленные уже успокоились, привыкли, и вдруг к Ребе пришли из полицейского участка и пригласили на разговор.
– Вы или дело делайте, господа полицейские, или ущерб общине возмещайте, – сразу начал говорить им Ребе.
– А вы не очень тут расходитесь, здесь вам казенное учреждение, а не молитвенный дом, мы нашли преступников, скоро их предадут суду, а вещи они, к сожалению, успели сбыть, причем в городах, куда вам заезжать или жить не след, понятненько?
– И что? И может их оттуда и забрать нельзя?
– Кого?
– Ну, грабителей…
– Грабители – это наше дело, а ваше – смиренно ждать, пока из Петербурга не соизволят ответить, что делать с бумагами, которые у вас изъяли…. грабители…
– Так кто изъял? – уточнил Ребе.
– Ну, украли грабители… И вот что мы нашли в сих записях: что вы стараетесь показать, что вы из мусульманского рода, а не жидовского. А нам не нужно в России прироста по этой линии, да чтоб еще и черту оседлости вам изменили! Знамо дело, все письма ваши изучили.
– Так это значит не они, а вы ограбили, ваше жандармейское высо…
– Что?! Да как вы смеете! Если хоть слово из нашего разговора дойдет до ваших караимов…
– Крымчаков.
– Тьфу ты, не все ли равно, вера у вас иудейская.
– Да, но мы чтим талмуд, а они нет, в этом и разница.
– Я не буду в этом разбираться, мне вы все на одно лицо, вот список вещей, которые мы вам возвращаем. Как бумаги придут из канцелярии Петербурга, я их вам передам. Бандитам они не нужны и нам тоже.
Ребе пошел, сгорбясь и не попрощавшись. Он один будет знать эту горькую правду, а остальным покажет вот эту опись:
1. Одеяла байковые – шесть.
2. Подушки без наволочек с пухом и пером – двенадцать.
3. Платков женских вязаных шерстяных – четыре.
4. Фески разных цветов – двадцать четыре.
5. Ложки металлические – двенадцать.
И еще двести разных бытовых наименований. Вещи вернулись месяца через три. Рукописей среди них не было. Не пришли они и потом.
Но крымчаки все равно знали правду.
Жонглер Коко
В начале лета каждый год в Карасубазар приезжал цирк шапито. Он раскидывал свой шатер из белой плотной парусины с окнами для воздуха в самом центре базарной площади. Поднимали его на высоченный вкопанный надолго мачтовый ствол дерева крепкой породы и затем внутри устраивали сиденья для зрителей и манеж для артистов. В городе появлялся целый необычный мир, вокруг которого начинала крутиться жизнь, с проснувшимся многообразием, в отличие от зимней и весенней тишины и покоя. Там же неподалеку складывался и городок из повозок и телег, на которых приехали цирковые артисты и в которых они жили. Цирк был передвижным, и колесил он по степным городам и поселкам таврических степей и Крыма. Акробаты, клоуны, канатоходцы, дрессированные собачки, пара борцов-тяжеловесов и все остальное, что может украсить мир веселых и в то же время опасных представлений, были в репертуаре приезжих артистов. Они, как всегда, надеялись на дешевизну и гостеприимство Карасубазара, на обилие фруктов. И, конечно же, они имели возможность в свободные дни добираться через скалистые невысокие горы напрямую к морю, чтобы сбросить с себя пыльный жар путешествий и манежного пота.
Среди всех номеров особенно выделялся один, приводивший в легкий трепет и ужас зрителей. Это был номер жонглера ножами. Мужчина лет тридцати выходил на арену, становился на круглый деревянный помост и, обнаженный по пояс, начинал жонглировать сначала двумя ножами, а затем тремя, четырьмя, доводя количество ножей до пяти… Ножи были с заостренными лезвиями. Видно было, что рукояти были тяжелыми, именно поэтому он мог управлять потоком хищных сверкающих клинков. Затем на манеж выходила лошадь, и жонглер, разогнав ее по кругу, запрыгивал на нее, и затем уже, стоя, повторял то же самое на протяжении двух трех кругов с помощью ловкого мальчика-ассистента. В конце, спрыгивая с лошади, он бросал на ходу ножи в центр деревянного круга, и они вонзались в него с глухим звуком, еще долго покачиваясь, словно тяжелые полевые цветы. Номер пользовался колоссальным успехом у всех, но особенно у мальчишек, которые не пропускали ни одного представления, проникая под шатер когда за деньги, когда тайком, бесплатно, когда по жалости контролеров…
Кокоз, крепкий мальчик лет тринадцати-четырнадцати, сын известного в Карасубазаре мастера по выделке кож, был среди таких же, как и он, очарованных бесстрашием, ловкостью и славой жонглера. Между собой мальчишки звали его просто Коко, опуская труднопроизносимый, нелегко проходящий сквозь зубы, казавшийся попросту лишним звук зззззз.
По вечерам Коко с друзьями уходил за город. Они брали с собой домашние ножи и пытались ими жонглировать… Сколько было мелких порезов, сколько было трепок от отцов и матерей, однако они продолжали заниматься этим упорно. И даже как-то им удалось договориться с артистом, чтобы он поучил их немного. Жонглер пришел, лениво посмотрел на пацанов и сказал странную для них вещь: «Главное в жонглировании – это ноги, всегда быть на полусогнутых, пружинистых, только тогда вы успеете за всеми подвигами ваших острых братьев и одновременно врагов». Сказал и удалился. Мальчишки были разочарованы, и только Коко принял это на веру, и у него стало здорово получаться. С той же последовательностью от одного ножа до двух, ну максимум трех… Однажды жонглер встретил Коко на рынке и сказал ему:
– У тебя хорошо получается, я как-то видел случайно. Запомни: главное – не думать о лезвии и острие ножа, сосредоточься на рукояти, на чувстве ее веса. И еще: надо, чтобы все малейшие движения твоего тела совпадали с движениями того, чем ты жонглируешь, пусть хоть ножами… Но важней всего поймать кураж, почувствовать, что ты летаешь, и все под тобой поет и трепещет, и руки твои поют… А вообще, – продолжил он, – мне, возможно, понадобится новый ассистент. Попробуем? Поговори с родителями…
– Э, нет, сынок, это не дело. Я научил тебя выделке кож, люди всегда занимались этим: мой дед, мой прадед, мой отец. Это кормило нас, наши семьи, это дело навсегда. Твои руки всегда заработают на кусок хлеба…
– Папа, жонглер тоже работает руками…
– Э, Коко, сегодня работает, завтра не работает, а мы нужны всегда…
– Но, папа, мне нравится быть жонглером.
– А ты что, уже им стал? Даже если бы и стал, я бы не позволил уехать из дома, мне нужна опора… Я еще поговорю с этим артистом, – сказал, правда не зло, отец. Он слишком любил Коко, чтобы грубо врезаться в его душу.
Дни потихонечку шли. Коко все так же каждый день тренировался, но уже один за городом, учтя все советы мастера.
Появилась еще одна причина, которая заставляла Коко любить цирк. Ему нравилась канатоходка, которая выступала вместе со своими родителями. Было ей лет двенадцать, светленькая и черноглазая, полная противоположность Коко. Она часто ходила по Карасубазару с родителями, иногда одна, но Коко стеснялся приблизиться к ней. Помог случай. Он стоял недалеко от цирка, карауля, конечно же, семью канатоходцев, чтобы полюбоваться ими всеми. И вдруг… из шапито вместе с ними вышел жонглер. Поравнявшись с Коко, жонглер неожиданно сказал, обращаясь к артистам:
– А вот мой юный друг Коко. Скоро будет настоящим жонглером. Познакомься, Машенька, – обратился он к девочке…
Сердце Коко запрыгало так, что он еле устоял на ногах. Он вспыхнул и пожал протянутую руку маленькой артистки. Хотя она уже была плотно сбита тренировками и работой, но фигурка ее, тянувшаяся вверх, напоминала Коко невысокий кипарис или тополь… Так они познакомились, и теперь у Коко появились два вожделенных объекта в цирке: жонглер, которого звали Петр Савельевич, и Машенька…
Дело шло к осени, к отъезду цирка, но Петр Савельевич так и не звал Коко в ассистенты. Спросить сам он стеснялся, но, встретив Машеньку одну на улице, заговорил о предложении жонглера.
– Да, я слышала об этом, но толком ничего не знаю. Знаю только, что ассистент – это его сын, и Петр Савельевич хотел бы, чтобы тот унаследовал его искусство. Но у него не очень здорово получается, а он уже почти взрослый. Петр Савельевич очень переживает, – закончила Маша.
Коко сразу понял, какая драма разыгралась в душе у жонглера, и пожалел своего отца. Ведь любое ремесло всегда лучше переходит от отца к сыну.
Коко и Маша стали часто ходить по городу вдвоем, доходя до самых окраин, сидели у речки Карасу и любовались убегающей водой. Коко носил тогда яркую красную рубаху, перехваченную поясом, за которым был небольшой традиционный нож, плотно закрывающуюся чернильницу с пером; штаны были заправлены в короткие кожаные сапожки. Ну чистый крымчак… Маша же была южнорусской девушкой, носившей яркие сарафаны, вот только стрижка была почти мальчишеская.
– Это чтобы, когда работаю, ничто не отвлекало и не лезло в глаза, – оправдывалась она.
– Все равно красиво, – говорил Коко, почти признаваясь ей в любви… Это была такая чистая юношеская пора, они даже не касались друг друга ни плечами, ни руками, только взглядами…
Наконец шапито опал, как проколотый большой воздушный шарик. Наступила осень, и в течение недели цирк собирался уехать из Карасубазара. Неожиданно Петр Савельевич пришел в дом семьи Коко.
– Я хочу сделать из вашего сына артиста, – сказал он прямо отцу Коко.
– Мало ли что ты хочешь, ты нам чужой человек, хотя я тебя и уважаю, – ответил отец. – Мой сын продолжит мое дело.
– Он должен сам выбрать, кем ему быть.
– Маленькие не выбирают, а потом будет поздно. Пока я его кормлю. А циркач – это не профессия, это образ жизни, его на стол не положишь…
– Ну, папа, – взмолился Коко…
– Молчи, Коко, не может быть дом на колесах, человек рождается и умирает в постели, а не посреди дороги.
– Вы слишком жестокий, отец. Я приду еще раз на будущий год, – сказал жонглер и вышел из дома…
Коко простился с Машей и долго вместе с другими провожал большой латаный-перелатаный караван цирка, который уходил на заре в уже моросившую даль северных степей. Только однажды он увидел, как Маша выглянула из своего шарабана и долго смотрела в толпу провожающих, выискивая Коко…
Осень и зима в Карасубазаре были долгими, ветреными. Коко, отчаявшись ждать, помогал отцу, не забывая ни на миг прошедшего лета, круто его изменившего. Во-первых, он понял, что не хочет заниматься тем, чему учил его отец. И арена с огромным количеством людей, аплодисменты, другие города все чаще вставали у него перед глазами. Во вторых – Маша… Он даже себе боялся признаться, что не может без нее, хотя уже дважды отец заговаривал о каких-то сватах, которые хотят познакомить его с невестой… Но самой главной, терзавшей его страстью было жонглирование ножами. Каждый вечер он уходил за город и у старых заброшенных конюшен до темноты и после, с зажженным факелом, тренировался, начиная с двух ножей, доводя по степенно до пяти. Руки его были исколоты и порезаны.
Отец его за это постоянно ругал, но ничего поделать не мог.
Коко к весне делал уже все почти безукоризненно, жонглируя в движении, забираясь на камни. И однажды его осенило: он научится жонглировать в темноте! Это то, чего ни когда не делал Петр Савельевич. И Коко стал завязывать себе глаза, и по свисту ножей, по их воздушному шороху проходил весь путь от двух ножей до пяти, снова и снова, а в конце с силой метал их в старые обрушенные ворота конюшни, вновь поднятые и поставленные им для цели с кружочками, нарисованными мелом.
Так прошла еще одна зима, и весна, и в чудный-пречудный ярко-голубой вечер на горизонте показалась знакомая вереница повозок, колясок, бричек и привязанных к ним лошадей… Это цирк шапито, сделав свой обычный жизненный круг, вернулся в город Коко. Коко стал крупным четырнадцатилетним юношей, и, конечно же, он ждал свою канатоходку. Но Петр Савельевич при встрече сразу же сказал:
– Канатоходцы не приехали, Маша сломала руку. Может быть, к концу лета… А я приехал без сына, он бросил жонглировать, не получилось… Пойдем к твоим родителям…
– Нет, – сказал Коко, – если вы берете меня, то надо, чтобы я вышел с вами на манеж, а я приглашу отца. А то он не верит, пусть сам увидит…
– Ладно, пошли, я сам сначала тебя посмотрю.
Петр Савельевич был поражен тем, как Коко работал с ножами.
– Так ты… Даже с завязанными глазами! Ладно… Еще неделю, пока будем устраиваться, порепетируем. А отца я сам позову на первое представление…
Коко пошел один к реке. Он грустил по Маше и только и мечтал, что вот она приедет, войдет во время представления и увидит его во всем блеске мастерства и таланта… Весь город был потрясен, когда пышный конферансье объявил:
– А сейчас на манеже в оригинальном жанре выступят…
И далее последовали имя и фамилия Петра Савельевича и… о чудо для слуха земляков и самого Коко:
– Ассистент – Коко Кокоз!
Больше всех увиденным был потрясен отец Коко. Коко очень ловко ловил отброшенные ножи, затем так же ловко отправлял их под руку Петра Савельевича. Публика на каждый удачный пас Коко аплодировала. Далее появилась лошадь, и сам Коко разогнал ее для маэстро по кругу, и тот начал работать с помощью Коко под радостные крики:
– Давай, Коко, давай! Карасубазар, не подкачай.
А Коко и не думал про это, он делал все машинально, и только что и видел перед глазами Машу и то, как она видит его… Все лето Коко работал с Петром Савельевичем, и даже получил от цирка неплохие деньги.
– Да, это не шальные деньги, я видел, каким трудом ты их заработал, – сказал отец сыну. И это было самой высшей похвалой для Коко…
В начале сентября шапито опять засобирался в дорогу. В дом Коко постучал Петр Савельевич.
– Знаю, зачем пришел, – сказал отец и заплакал… – Коко, иди сюда, мальчик, собирайся, я решил… Но знай, если что то не так – сразу домой. Здесь тебя ждут всегда, понял?
– Угу, – сказал довольный Коко и пошел складывать вещи и успокаивать мать…
И Коко исчез. О нем только ходили слухи, что он там-то и там-то. И даже газеты мельком писали о его таланте и таинственном и рискованном номере с ножами в темноте. Года два цирк шапито не приезжал в Карасубазар, иногда приходили письма, короткие и лаконичные: мол, у меня все нормально, жонглирую, получите деньги на почте… Коко стал знаменит, у него был свой номер «Жонглер в темноте», и его большой цирк ни разу не заезжал в Карасубазар. Однажды шапито все же приехал на старое место, но это уже были другие артисты. И главное – не было жонглера с ножами. Правда, была Маша-канатоходка, которая работала все так же с постаревшими родителями – чисто, элегантно, красиво. Да и сама она уже была красивой молодой женщиной, но… Как то она зашла в дом Коко, где ее приняли, как родную, и она все выспрашивала о Коко. Отец только улыбался и сказал, что последний раз он получил письмо от Коко из Парижа.
– Не женился?
– Нет. Все спрашивает, не приезжал ли шапито и была ли Маша, маленькая отчаянная канатоходка.
– Уже большая, – бросила Маша и убежала, заплакав…
Прошло несколько лет, и Маша, будучи в Киеве, вдруг увидела афиши с жонглером Коко. Они были расклеены на толстой рекламной тумбе возле большого каменного цирка с оркестром, световыми эффектами, шикарным буфетом в фойе перед началом представления и в перерыве. Она купила билет на первый ряд и устроилась в ожидании представления. Все было ей нудно и тягостно. Она ждала Коко. Наконец объявили его номер. Сначала Коко феерически жонглировал ножами, прохаживаясь и почти бегая по манежу. Затем появилась лошадь. Ассистировал постаревший Петр Савельевич, Маша была потрясена. Коко вырос в красавца-мужчину, смотревшегося настоящей знаменитостью: в концертном костюме – то был его любимый крымчакский наряд – яркая красная, подпоясанная кушаком рубаха, шелковые черные брюки, заправленные в короткие мягкие кожаные сапожки… Наконец погасили свет и приглушили музыку. И Коко зажег острые концы ножей, пять штук, и начал работать с ними на лошади. Они взлетали в темноте, Коко их подбрасывал и ловил, затем сбрасывал своему учителю-ассистенту. Наконец, свет выключили совсем, и это чудо продолжалось еще минут пять или больше… Маша была потрясена: цирк, набитый битком, неистово аплодировал. Наконец, свет вспыхнул, и Коко прямо перед собой увидел Машу и на мгновенье остановился. В это время ассистент бросил ему нож:
– Держи, Коко!
Но он смотрел на Машу. В ту же секунду нож вонзился ему прямо в грудь. Коко рухнул на манеж, а зал взорвался еще большими аплодисментами. Коко лежал неподвижно, а зал аплодировал и аплодировал уже стоя, смутно догадываясь, но так до конца и не понимая, что случилось: Коко случайно убили или он мастерски ушел от своих почитателей на пике славы?
Маша, потрясенная, была вынесена толпой на улицу, которая долго не расходилась, разглядывая и парадный, и черный вход в надежде понять хоть что-то. В течение часа площадь перед цирком опустела. Осталась только одна Маша. Она стояла, как и перед началом, у тумбы с афишей «Жонглер Коко». И плакала, плакала… Вдруг кто-то тронул ее за плечо. Она обернулась и увидела Коко.
– Маша, я сразу нашел тебя, когда разглядывал полный зал из-за кулис. Я давно мечтал об этом. Я сыграл свою смерть, чтобы навсегда вернуться в Карасубазар. Ты поедешь со мной?
Прижавшись друг к другу, они стали медленно уходить от погашенных огней большого цирка.
Бася и Давид
повесть
1
Давид шел по своей родной улице, почти подпрыгивая от чувства молодости, удачи и азарта. Он только что вернулся из Карасубазара, там он встретил девушку Басю, и она ему очень понравилась. Была она невысокого роста, с черными азиатскими глазами, со смуглым улыбчивым лицом, говорила только на крымчацком, а по-русски очень плохо. На «он» говорила «она», на «она» говорила «он».
– Типичная крымчачка, – подумал Давид, – у крымчаков ударения ставятся в конце слова, отсюда и путаница.
Была она из бедной семьи, и Давид, подойдя к ней поближе, вдруг увидел, что в летнюю лютую жару, когда пыль жжет ступни даже через подошвы туфель, она была босиком. Ему, коммивояжеру, который занимался поставками обуви в города Крыма из Европы и России, было как-то неловко пытаться подойти к ней. Сам он был одет так, что видна была его состоятельность, но при этом чувство жалости и какой-то врожденной вины двигало им. Он спросил девушку, как пройти к мосту через Карасу. Было это все на том же Ташхане. Бася поняла, что перед ней мужчина значительно старше ее, и сказала, что покажет ему…
Сделав свои дела, Давид вернулся на Ташхан и снова увидел Басю, разглядывавшую в обувной лавке какие-то тапочки. Давид тут же попросил принести несколько пар обуви, из которых выбрал на его взгляд лучшую, и после примерки подарил Басе легкие летние туфли с пряжками по бокам. Поскольку Бася была босиком и ее ноги были в пыли, то хозяин лавки принес мокрую тряпку, и сам Давид, усадив девушку на кожаный пуфик, вытер ей ноги. Бася удивленно, но смиренно и в то же время восторженно все принимала, что и вовсе покорило Давида…
2
Давид работал на хозяина, владельца больших обувных складов и магазинов в Ак-Мечети. Был он высок, коренаст, волосами рыж, но, несмотря на молодые еще годы, лысоват. Словно желая уравновесить отсутствие волос на голове, но сил роскошные, разметанные по щекам усы. Его корни были турецкими. Рыжий крымчак по фамилии Зенгин окончил крымчакскую школу, затем русскую, даже выучил немецкий, и поэтому работу нашел себе с размахом: поездки, коммерческие встречи, в общем – деньги-товар-деньги… Был исполнительным и безупречно честным, за что и любим хозяином. Бася оставила след в его душе, и в следующий раз по приезде в Карасубазар он сразу же нашел ее и пошел к родителям свататься. Вскоре они поженились, и он привел ее в квартиру, которую снимал в центре Ак-Мечети…
3
Мама водила меня гулять по городу, и часто мы проходи ли мимо одного и того же двухэтажного дома. Дом был старой постройки с довольно высоким фундаментом и крепкими стенами, в шесть окон на каждом этаже, с нишей для входной двери. Ниша была с аркой, и к ней вели ступени с железными перилами, покрытыми деревом… В доме почти всегда горел свет, чувствовалось, что в нем было весело. Снизу, с тротуара, был виден лепной высокий потолок. Да и окна переливались каким-то необыкновенным светом, вероятно, от разноцветных дорогих абажуров. Мама останавливалась возле окон, смотрела снизу на потолок, брала меня крепче за руку, вздыхала, и мы шли дальше. Дом стоял в самом центре города, на одной из уютных улиц. Однажды мама, когда я стал постарше, призналась мне, что в этом доме жила ее семья до революции: и бабушка Бася, и дедушка Давид, сестры Женя, Сима и братья Аркадий и Семен, когда были маленькими.
– И что? – спросил я.
– Теперь там живут другие люди.
– А зачем мы сюда ходим?
– Станешь постарше – поймешь…
4
Давид честно зарабатывал свои деньги и содержал семью. Через год уже родилась моя мама и был на подходе дядя Семен. Но купить свой дом было практически невозможно. Помог случай.
Давид поехал в очередной раз в Европу для закупки большой партии товара. Хозяин сказал:
– Давид, речь идет о целом пульмановском вагоне, будь повнимательнее…
Три месяца Давид мотался по Берлинам, Лондонам и Парижам, по другим городам поменьше, заключил сотни контрактов. И вот наконец в итальянском городе Милане был загружен целый вагон обуви различных моделей, образцов и размеров. За все было заплачено по счетам через международные банки. И теперь вагон, прицепленный к товарному составу, покатил по железным дорогам многих стран, становясь принадлежностью и игрушкой разных пространств и случаев. На нем был привешен сертификат с указанием адреса – Россия, Крым, станция Ак-Мечеть и фамилия хозяина…
5
Давид поехал домой другой дорогой со спокойной совестью. Доложился хозяину, и они стали ждать, когда вагон придет на станцию. Через некоторое время пришло сообщение, что вагон прибыл. Они вместе поехали на товарную станцию и увидели свой вагон. Им сказали, что завтра начнут разгружать и вывозить товар на склады и по магазинам. Утром же, когда более тридцати подвод были готовы загружаться, Давид вдруг с ужасом увидел, что вагона с обувью на месте нет. Они с помощниками оббегали всю станцию, подключили к поиску полицию и сыщиков, но вагона не было нигде. Пропало целое состояние. Давид чувствовал себя виноватым, хотя, конечно же, вины на нем не было. Вагон по существовавшим правилам был под охраной станции, пока его не разгрузят.
6
Никто не мог найти вагон с обувью. И Давид решил сам спасать ситуацию. Точно вычислив, для чего был угнан целый вагон с таким товаром, он поехал на станцию Инкерман. Он понял, что похитители решили угнать его в Стамбул, пройдя таможню в Инкермане за взятку и загнав его по рельсам на паром. Когда он примчался в Инкерман, то увидел непостижимое количество новых и старых, пассажирских, грузовых и товарных составов, состоящих из одинаковых вагонов, похожих на его вагон с обувью… В глазах зарябило, ему чуть не стало плохо… Как отыскать свой вагон в этом вагонном «стаде»?
7
Тогда он стал ходить вдоль составов и присматриваться. И вдруг его осенило: надо принюхиваться к вагонам. Кожа! Запах кожи. Все знают, как едко пахнет кожа новой обуви. Даже кожа одной пары.
«А тут – целый вагон, тут целый букет, – подумал Давид, – конечно же он будет пахнуть, да еще как».
Он уже знал профессионально, как пахнет обувь из свиной, овечьей, говяжьей кожи… И Давид сутки ходил возле вагонов. Чем только они ни пахли!
«Боже, – подумал он, – зачем людям столько ненужного?»
А вот запаха обуви не было… И вдруг он почуял, как запахло тридцать пятым женским номером на каблучке, затем лакированными, мужскими под смокинг штиблетами большого размера, затем просто школьными ботинками… И разом всеми шкурами животных, убиенных ради тепла для людских ног, разносимым вместе с запахом металлических гвоздиков и про мыленной дратвы…
На вагоне было мелом написано: Ак-Мечеть – Инкерман – Стамбул.
8
Ситуация была спасена, и хозяин в знак благодарности подарил Давиду дом, который тот принял с благодарностью. Его семья начинала жить в доме из восьми комнат с верандой и внутренним двориком счастливо. Однако надвигалась Первая мировая война. Давид облачился в форму русского солдата и после убийства герцога Фердинанда в Сараеве ушел на фронт. Семья осталась без кормильца. И хотя Давид смог оставить на пропитание, Бася тянула деньги по копейкам, чтобы полноценно кормить детей и содержать дом как можно дольше. Когда Давид вернулся, добросовестно отвоевав на передовой, то нашел семью в целости и сохранности. Политикой он не занимался, и поэтому вернулся к старому хозяину на работу коммивояжером. Работать он умел и хотел, несмотря на то, все больше демагогов и провокаторов мешали это делать. Революция, Гражданская война, – почти все прошло мимо него. Он знал – надо работать, кормить детей… К началу тридцатых у них с Басей уже было четверо, и вскоре родилась и самая маленькая: Сима, Симочка…
9
После того, как белая армия покинула Крым и Советы начали вводить свои порядки, Давид сразу почувствовал неладное. Склад хозяина был разграблен в одну ночь пьяными красноармейцами. Там поживилось чуть не полгорода и в конце концов он был еще и подожжен. Хозяина объявили буржуазным пособником с его «хранцузской» обувью. Не расстреляли, но ему срочно пришлось бежать в Турцию. Давид лишился привычной работы, стал грузчиком на железнодорожной станции. Вскоре к нему пришли и сказали:
– Какой ты грузчик, если живешь в таком доме?
– Вот документы на дом, все законно.
– Законно – это хуже всего, плевали мы на законы.
– Я пойду по судам, – сказал Давид…
– Вот именно, по судам, а там все уже наши. Убирайся отсюда… пока тебя не стрельнули, – сказали кожаные тужурки… – В этом доме будет жить семья начальника районного ГПУ. Ну, тебе мало этого? Даем три дня…
10
Давид вышел на улицу, Бася пошла за ним…
– Останься с детьми, я скоро вернусь.
Он пошел по родному городу, слезы подступали к горлу. Друзья начали подыскивать квартиру под съем… Но Давид уже не мог пережить этого… И как только он вспоминал об Олечке, Семене, Аркадии, Женечке, Симочке и о Басе, о том, что им придется уйти из дома, в котором они все так уютно жили, он не мог, не мог… Удар настиг его у Салгира, где он сидел на мостках и глядел на воду. Его так и нашли лежащим на берегу. Правая рука и правая нога лежали в воде против течения и шевелились в последний раз на этой земле.
11
Хоронили его по всем крымчакским обрядам. Пришли пожилые мужчины и женщины, положили Давида головой на северо-запад в прямоугольной могиле с заплечиками, переложив перед этим яму деревянными дощечками, и засыпали землей. По дороге на кладбище мужчины и женщины разделились. Мужчины обращались в молитвах и пенье к богу Тенгри, женщин же не пустили за ворота. Одна Бася, несмотря на запрет, прошла к могиле и простояла все время похорон, правой рукой подпирая щеку. У часовни поминали Давида водкой, чоче и амин имерта, то есть запеченными яйцами. На седьмой и тридцатый день сама уже Бася устроила ткун, поминки… Но все это уже происходило в большой и низкой комнате с верандой, куда на следующий день после смерти Давида была выброшена совдепами Бася с детьми. И началась совсем другая жизнь у семьи Давида Зенгина… Со всем другая.
12
Община стала помогать Басе, дети, все, кроме маленькой Симы, начали ходить в школу. От Давида осталось немного денег, о существовании которых знала только Бася, но это не спасало. Дети были красивыми, особенно девочки. И вот, когда им исполнилось 15 и 16 лет, пришли в дом свататься два брата-татарина, которые были старше их лет на восемь. Бася не нарадовалась, и состоялась свадьба. Но девочки не понимали, зачем и куда они должны были уходить из дома. В общем, что-то не сложилось у двух братьев-татар и двух сестер-крымчачек, и ровно через год обе вернулись домой почему-то очень счастливые.
– Ну, они другие, другие, совсем не такие, как мы. Мы все время смеемся, – говорили сестры.
Их новый, теперь уже не собственный дом оказался тоже в центре города. Они делили большой внутренний двор с еще примерно десятью квартирами. Люди как-то жили, помогали друг другу. Юг есть юг, на юге люди добрее и мягче, теплее. Бедность и сиюминутность маленьких радостей объединяли их, они давали друг другу в долг спички, керосин, деньги, могли выслушать…
13
Как-то все стало устраиваться. Оля и Женя через два года снова вышли замуж. Оля – за азартного и доброго русского парня, отслужившего на флоте, Женя – за добродушного крупного хохла Ефима и даже уехала жить с ним в Россию. Оля же осталась с Петром в Крыму. Мужчина появился в доме – и все пошло на лад. Он был работящий, веселый. Семья стала жить лучше. Подросший Семен стал работать на железнодорожной станции, Аркадий поступил в летное училище. Все налаживалось. Бася часто ходила на могилу Давида и все рассказывала ему, и он словно радовался вместе с ней. Прожили так в тесноте и в относительном счастье почти десять лет, в доме у Ольги и Петра появились еще двое детей. Но судьба снова обрушила на семью Баси невыносимые испытания. Это ужасно, когда рок уносит не только целый народ, но и многие его капельки в океан небытия… Война. Вторая мировая!
14
Петр понимал, что может случиться с семьей, тем более с крымчакской. Немцы еще не дошли до Крыма, а уже все знали о том, какая бойня развязалась. Он понимал, что должен будет воевать, и был уже призван на фронт. Поэтому он решил отправить семью в эвакуацию. Инстинкт сильнее знания. Он посылал двоих маленьких детей Валеру и Людмилу с женой и бабушкой и еще с девочкой Симой в никуда, даже не представляя, какие страдания выпадут им в эти три года. Петр погрузил семью в товарный вагон с тысячами беженцев, и они медленно поплыли вместе со всеми в сторону керченского пролива, в сторону переправы на Кубань. Он посылал их на Волгу, к своей родне… Именно этим он спас их всех от того, что случилось буквально через два месяца после взятия немцами Крыма.
15
В вагоне было битком народу. Томительно тянулись часы однообразной езды. Затем – переправа, и вдруг совсем недалеко от Волги на состав с эвакуированными посыпались с неба бомбы под никогда не слышанный людьми вой и рев самолетов. Состав был разгромлен полностью посреди волжской степи, и те, кто остался жив, уходили в сторону реки в надежде перебраться на ту сторону горя. Басе удалось уцелеть вместе с Олей, Симой и детьми, но все, что было с ними, весь домашний скарб был сожжен и разбросан взрывами. Осталось только то, что было на них. Пешком вместе со всеми они потянулись к переправе. А там, чтобы попасть на паром, нужны были и удача, и риск…
16
С ними рядом все время шел раненый военный, которому понравилась пятнадцатилетняя Сима. Он говорил Басе шутя:
– Ой, красавица! Подрастет – женюсь…
Бася, печально улыбаясь, говорила ему:
– Какое там женюсь, выберись отсюда хотя бы сам живой.
– Я-то выберусь, – сказал твердо военный. – И вам помогу.
В поле, перед паромом простояли несколько дней. По ночам было холодно, укрывались соломой, надерганной из стожков. Военный все время пропадал где-то, но приходил снова то с куском сахара и кипятком, то с банкой тушенки…
– Вот, Бася, корми мою невесту и всю компанию.
А невеста улыбалась, а потом заикалась от страха и ужаса при звуке самолетов, раскалывавших небо на куски. Два или три раза бомбили. Опять кое-как уцелели. И вот наконец погрузились на огромную баржу, и она начала переправляться через Волгу.
17
Вскоре, опять налетели самолеты, по ним откуда-то стреляли, опять они бомбили. Но все сидели неподвижно, как мертвые, потому что знали, что баржа старая, и если начнется беготня с борта на борт, то она перевернется. Один раз немец попал. Раненого военного не было с ними, он где-то, видимо, промышлял для неожиданно обретенной семьи. Однако, когда баржа причалила к берегу, вынесли несколько убитых. Среди них оказался и тот военный. Он лежал на земле как-то одиноко и сиротливо, ожидая вместе с другими мертвыми телеги или полуторки. Бася подошла к нему, постояла, поплакала и ушла к детям.
Погрузились они в первый попавшийся эшелон, идущий на восток, и через трое суток оказались посреди оренбургской степи. Они пошли на огоньки и добрались до небольшой деревни.
18
– Только вас еще и не хватало, самим жрать нечего, – сказали им в первой хате.
И во второй. И в третьей. Они пошли к председателю колхоза, показали документы, кто они и откуда. В общем, их пристроили в какой-то дом к совсем старой женщине. Олю и Симу определили на работу – перебирать мерзлую картошку и морковь. Еды не было почти никакой. И еще начался холод, какого в Крыму они не знали. Выдали им по тулупу, давали немного крупы, и если удавалось пронести домой по морковке или картофелине с работы под платьем, то это было счастьем. Известий никаких. Послали письмо Аркадию с адресом. И вот однажды над деревней все загудело и загремело. Все испугались, но потом узнали, что сел наш военный самолет. Это был Аркадий, которому за боевые заслуги раз решили слетать к семье на два часа. Он привез много по тем временам продуктов: хлеб, шоколад, сахар, сала куска три… Поплакали, погоревали, и он улетел назад, на фронт.
19
После этого в деревне семью эвакуированных зауважали. А потом уже и Петр разыскал семью в конце сорок третьего. А летом сорок четвертого все вернулись в Крым и стали жить в другом доме, с садом и водой на кухне…
Семен застрелился в сорок первом, когда немцы сбрасывали наш последний оборонительный рубеж в море. Железнодорожный полк, в котором он воевал, ждал корабля из Новороссийска. И вот когда уже на горизонте показались его дымящие трубы, по нему стала бить вражеская артиллерия. Корабль развернулся и пошел назад. А немцы были рядом, и надо было сдаваться… Семен предпочел смерть.
Аркадий всю войну был командиром эскадрильи бомбардировщиков: ордена, медали, дослужился до полковника. После войны при испытаниях новых самолетов «Миг» облучился и вскоре умер от этого.
Бася страдала, старела, но берегла то, что осталось. Сама ушла, когда все уже выросли и определились. Ее похорони ли рядом с Давидом на старом кладбище. И все было бы, как полагается в этом жестоком и яростном мире, но вот кладбище, на котором они лежали бы вечность вместе с мужем, снесли пришлые люди – без памяти, без совести. И некуда прийти, помолчать, оставив камешек: мол, я был здесь.
Небесный монгол
Сыну Федору
Юноша стоял перед монахом.
– Ты хочешь странствий души, ее духовного наслаждения вплоть до нирваны?
Монах задумался. Над ним куполом сиял яркий, небесного цвета день…
– Ты знаешь, что ты должен сделать для этого?
– Нет, я поднялся на Тибет, я прошел по плато мимо трех холмов, чтобы ты мне объяснил… Я живу в небольшой деревне у подножья. Я не знаю, кто я такой и откуда, как и многие в нашей деревне не знают, кто они и откуда пришли…
– Это неважно. В конце концов, никто не знает, кто он такой и откуда пришло его племя. Мы все дети неба, но живем на земле. Это нас объединяет… Если ты хочешь знать, кто ты такой, ты должен познать самого себя и пройти испытания, после которых будешь посвящен. И после этого у тебя не будет вопросов о твоем происхождении и о происхождении твоего племени… Ты будешь посвящен, но это будет твоя тайна соприкосновения с Буддой, его благословением. Никто тебе не будет верить, если ты расскажешь, но ты-то будешь знать. У тебя будет преимущество перед многими, но ты не должен воспользоваться им, иначе… Итак, ты готов?
– Да, – ответил юноша, даже не представляя себе, что ему предстоит пройти.
– Первое, – продолжил монах, – переплыть шесть морей и шесть океанов. Второе – пройти шесть пустынь. Третье – подняться на самую высокую вершину в мире. Четвертое – пройти испытание властью. Пятое – дойти до края света. Шестое – пройти испытание богатством. Если ты выдержишь все это, то я увижу тебя через десять лет на дорожке к моему дому. А если не увижу – значит, ты остался там, на равнине, навсегда… А сейчас иди, не теряй ни минуты…
Юноша, которого звали Бахыт, пошел по верхнему плато Тибета, отыскивая едва видимые тропинки, ведшие вниз по горным склонам этого загадочного пространства. Ему на пути попадались огромные бабочки-махаоны, сидевшие на траве, слегка пульсируя черно-синими крыльями и даже не думавшие взлетать от шороха шагов Бахыта.
– Да, мир нетронут, мир думает о себе, осознает существование и, как и я, пытается понять, что стоит за тем, что возникает перед тобой…
Время словно засасывало Бахыта в свое нутро, и ему в самой середке времени становилось удобно. Он просто не сопротивлялся ему, медленно постигая кривые линии от звезд к созвездиям, уходящим за край темно синего неба… Наступала ночь, и он шел, ориентируясь на пенье сверчков, поскольку заметил, что сверчки возле его деревни пели тоньше и не с такими паузами, как здесь…
Наконец он пришел домой, но тут же двинулся дальше, к морю. Дороги он не знал. Тогда он выловил небольшую рыбку в реке и пустил ее в банку с водой, подумав, что каждая рыба, даже речная, если ее оторвать от воды, будет тянуться к большой воде, к ее большим течениям и волнам, и поэтому будет вытягиваться по направлению к морю. Так, держа перед собою банку с рыбкой, время от времени меняя воду и подкармливая пленницу, он шел к берегу моря.
Вскоре, за горами он услышал какой-то повторяющийся шум, затем ветер запах солью и донесся резкий крик неслыханных им доселе птиц. Рыбка в банке заколотила хвостом и стала чуть ли не выпрыгивать из нее. И Бахыт понял, что пришел к морю…
Войдя в воду и проплыв немного, он, собираясь плыть через шесть морей и океанов, вдруг понял, что все моря и океаны связаны между собой проливами, речками и даже дождями. Иначе почему его рыбка из банки тут же, как он ее вы пустил, уплыла неведомо куда с радостью в родную безбрежную стихию. И если он вошел в одно море, то разве не вошел в шесть морей и океанов?
Через некоторое время Бахыт, оказавшись в пустыне, оглянулся назад и, увидев покинутые им леса и зеленые от травы поляны, почувствовал, что если он пройдет через шесть пустынь внутри самого себя и внутри своей души, то это и будет тем испытанием, о котором говорил монах. И Бахыт замолчал на три года и уединился в своей деревне, поселившись в забытом всеми чаире, питаясь грушами, сливами и одичавшими яблоками…
После этого он решил, что пора одолеть самую высокую вершину в мире. Тогда он поднялся на самый обыкновенный холм и подождал, пока земля не обернется единожды вокруг себя. И вот, когда наступила темень и земля удалилась от солнца на расстояние своей ширины, он понял, что стоял на самой высокой точке земли, ибо в какой-то момент вращения все было под Бахытом, а он стоял над всем миром…
Наконец, войдя в город Бакнапур, что в Непале, он встретил толпу людей, пребывавших в горе и печали.
– Правь нашим городом и нами! Холера и чума косят наших людей тысячами, нас мучают голод и холод. Мы станем твоими рабами, только спаси нас и детей наших…
Бахыт попросил принести серебряный кувшин с водой и большое шелковое покрывало. Затем попросил обильно намочить его водой из серебряного кувшина.
– А теперь пустите его по ветру, пусть оно полетает над вашим городом.
Несколько дней шелковое покрывало летало над городом и собирало своей влагой все дурные испарения, шедшие от мертвых и больных. Наконец оно упало от тяжести, и Бахыт велел сжечь его, а пепел закопать глубоко в землю и всем поколениям рассказывать о том, какое было горе, и показывать место, где упрятан пепел, чтобы никто даже случайно не выпустил на волю крупицы смерти… С тех пор в Бакнапуре не было ни чумы, ни холеры…
– Так оставайся же править нами и городом нашим.
– Нет, я еще не прошел всех испытаний, – произнес Бахыт и удалился.
Однажды, смотря вдаль и думая о себе, Бахыт понял, что самое быстрое в мире – это мысль. Только он подумал о крае света, как оказался у пропасти. Перед ним бурлили вода, огонь, останки человеческих тел и животных, дома, разрушенные землетрясениями. Пар стоял над всем этим. Здесь шла переплавка отжившего мира. Сюда никто не стремился и здесь никто не говорил: «Да я за тобой хоть на край света».
Бахыт помыслил о возвращении домой – и тут же вернулся в свою деревню.
Богатства у Бахыта никогда не было. Он и не хотел быть богатым. Он понял, что сам и есть собственное богатство. И берег его. Приходил на берег озера или смотрелся в кадку с водой, видел свои глаза и уши, нос и губы, и радовался – это все мое, единственное. За какие деньги купишь все это? Разве можно купить жизнь или выкупить жизнь у смерти? Не быть богатым и не хотеть богатства – это и быть богатым. Так думал Бахыт, пока не нашел клад. Это был большой кувшин с золотыми монетами. Он растерялся, но в тот же момент увидел записку:
«Здесь целое состояние, нашедший, помни! Эти деньги собраны бедными для помощи бедным в черные дни. Если возьмешь – ничего не будет дурного, богато проживешь всю жизнь и, кроме тебя, никто не будет знать об этом. Только ты один».
Бахыт так и понял это испытание: знать про себя самое страшное и жить с этим, да еще тайно передать своим детям. Он ушел без клада, закопав его поглубже.
Десять лет пролетело. Бахыт укрепился, стал быстрым и ловким мужчиной. Родители не нарадовались на него и собрали в дорогу. Куда? Сын скрывал, что будет подниматься на Тибет. Высота закладывает не только уши, но и память. Если я скажу, куда ушел, то могу забыть путь назад, – со словами уходит изображение.
И он начал восхождение. Дышалось хорошо, и он вспоминал свой визит к тибетскому монаху десять лет назад. Вокруг ничего не изменилось, словно не только время, но и пространство, и вещный мир вокруг изъяли себя друг из друга. Он все время ощущал свои шаги в полной пустоте: так было легко идти. Ни зверь ему не встретился, ни человек; ни костей зверя, ни костей человека… Такого раньше не было с ним. Он вспоминал ужасы, которые сопровождали его тогда по пути наверх. Правда, все они были нереальные, словно декорации, но ведь были же. Только красота махаона стояла у него перед глазами, пульсирующая, как ночное небо, при абсолютном безразличии к нему. Тогда домой он шел весну, лето и пол-осени… Сейчас же – словно кто-то вел его. И вот наконец он увидел дорожку к дому монаха и уже стал разглядывать того, кто сидел под деревянным навесом в кресле. Подойдя поближе, Бахыт увидел, что это был другой монах.
– Заходи, Бахыт, – сказал сидящий. – Я тебя жду, мой отец рассказал о тебе.
– А что с отцом? – спросил Бахыт.
– Все в порядке, он растворился, рассыпался на мельчайшие частицы и живет во всем мире. Я разговариваю с ним каждый день. У нас на Тибете, как ты знаешь, смерти нет, есть только долгое отсутствие. Только сейчас, когда ушел отец, я чувствую это сильнее. Итак… Ты явился – значит ты прошел все испытания?
– Как узнать, прошел ли я их успешно, добился ли я посвящения и благословения Будды?
– Сейчас мы это узнаем. Пошли к пруду, там чистая вода, будет хорошее отражение… Когда они подошли к пруду, монах сказал:
– Обнажись по пояс и встань так, чтобы нижняя часть спины справа отразилась в воде…
Бахыт встал, как велел монах, и посмотрел вниз на воду. Чуть ниже поясницы справа он увидел небесного цвета пятно.
– Что это значит? – спросил он у монаха.
– Это отметина Будды, он благословил тебя. Теперь ты небесный монгол. И в каком бы народе ты ни жил – и у детей твоих, и у детей твоих детей будет это небесное пятно. Они тоже будут посвященными. И пошло это от тебя. Тебе много дано и ты можешь многого достичь, но остерегайся услад земных и соблазнов, чтобы не познать горечь и муку… И сохрани это в тайне, иначе эта связь прервется. То же самое будет с твоим потомством. Племя твое – монголы, и ты монгол. Ты пришел из деревни у подножия Тибета? Это прародина монголов. Они разбрелись во все края из этих мест, но ты особенный… Отныне ты – небесный монгол. Знай, что у тибетцев бирюза – воплощение жизненной силы… Ты заметил, как поднимался сюда?
– Да, практически за один день! Мне было легко, вокруг – как-то прозрачно, особенно когда я шел мимо одного из холмов на плато.
– На этом холме живет Будда. Он дал тебе знать о себе таким образом… Даже если потомки твои растворятся в других племенах, то при рождении мальчика или девочки все равно у них чуть ниже спины справа будет пятно бирюзового цвета: признак того, что родился человек из древнейшего рода небесных монголов.
Как известно, в середине четырнадцатого века в Крым пришли татаро-монголы. А совсем недавно в одной семье крымчака родился мальчик с небесным пятном чуть ниже спины справа. Родители и родственники долго думали и гадали, что же это значит, но потом как-то забыли, замотались и больше об этом не вспоминали. Молчал и мальчик…
Из Джонки карасубазарского толмача, лето 1825 годаЯ, Аджи Измерли, сын Яшаха Измерли, писал:
В середине июля 1820 года я получил письмо от хозяина гостиного двора, самого близкого к порту Пантикапей, с просьбой быть у него через месяц для сопровождения до Юрзуфа трех господ, прибывающих военным бригом «Менгрелия» из Тамани. Господа путешествуют из Петербурга в Тавриду, изъясняются на русском, французском, им нужны татарский, еврейский языки, говоры караимские и крымчацкие, другие «тафре» языки для устного перевода при продвижении в среде крымцов.
И был я к назначенному времени в гостином дворе, где мне была отведена комната с чашкой кофе утром, обедом днем и ужином к вечеру. Хозяин был очень любезен, сразу дал мне русских денег, кои у нас в цене. Через три дня и три ночи, 18 августа, мы поехали на его тарантасе в порт. После полудня на горизонте показался парусный бриг, и вскоре он уже начал швартоваться. Сначала снесли вещи, а потом сошли господа. Пожилой сразу представился – «генерал Николай Раевский», а двое молодых, крепко скроенных, но невысокого роста сказали, что они его солдаты, и почему-то засмеялись. Особенно весел был один – с бакенбардами, в белой шелковой, почти прозрачной рубашке, в черных тонких брюках и мягких летних ботинках… Он был ладного атлетического телосложения, на вид лет двадцати, ноги, однако, были немного коротковаты, и поэтому туловище казалось большим, а сам он был невысок на вид. Солдаты с брига погрузили вещи на тарантас, и хозяин отправил по адресу гостиного двора возчика с вещами, мы же все впятером взяли лошадей и поехали верхом осматривать Пантикапей. Господин с бакенбардами все рвался увидеть развалины стен крепости Пантикапей и был разочарован бедностью сохранившейся истории, кроме, конечно, храма царя Митридата.
К самому вечеру все вернулись в гостиный двор после дневной жары и увидели, что военный бриг светится красными парусами на закатном солнце у причала. После обильного ужина все разбрелись по своим прохладным комнатам. Утром мы отплыли в Юрзуф. Они все сидели на скамейках, держась за веревки. Тот, с бакенбардами, лежал у них за спиной лицом к берегу и переговаривался с друзьями, и что-то в его повадках и движениях выдавало известного, избалованного славой и игрой страстей человека. Кто же он такой?
– Да, Сашка, если бы не письма Карамзина, Тургенева вкупе с Чаадаевским к Императору, не плыть бы тебе с нами сейчас среди таких красот, а то, может, и в крепости какой сидел бы, – сказал младший, по вероятности, сын пожилого, уж больно был похож на него фигурой и походкой.
– Да, у нас все так – если бы да кабы, определенность только в наказании, можете быть уверены, хоть какое, а точно будет.
– И это ты называешь наказанием? – возразил генерал.
– Дело не в том, где я сейчас, а в самой сути – сошли он меня хоть в Париж, а все равно наказание. И за что – за слово…
– Ну брат, слово – еще какое оружие, посильней пороха и ядер, – сказал генерал.
– Николай Николаевич, у нас и ядра с порохом назовут свободомыслящими, если надо сослать…
– Ну-ну, ты уж совсем разошелся. И это называется со слать! Посмотри, какая прелесть, это тебе Таврида, а не Псковщина какая-нибудь, смотри, вся история перед тобой от Страбона с Геродотом проплывает. Сарматы, скифы, греки, генуэзцы, хазары… Какая тебе заграница? Увидишь Тавриду – весь мир оглядишь.
– Сударь, – обратились бакенбарды ко мне, – как вас зовут?
– Я Аджи, Аджи Измерли.
– Меня Александром, будем по-простому, зовите Сашей. Из каких краев будете?
– Из Карасубазара, а вообще турецкого рода, из города Измир, но вера иудейская.
– Эк тебя занесло, турка да в иудейскую веру, – засмеялся Саша.
– Не меня – предков, я люблю свою веру, не ты ее, она тебя выбирает.
– И талмуд признаешь?
– И талмуд…
Все молча приняли к сведению, и я понял, что они это знали. Бриг был военным, но об этом говорили только несколько маленьких пушек по бортам и военная команда, одетая поморскому, в синие рубахи с кожаными поясами. Бриг шел по волнам довольно быстро, было очень солнечно и жарко, два раза мы останавливались, чтобы искупаться вдалеке от берега. Все, кроме меня, хорошо плавали. Наконец, на второй день мы пришли в Юрзуф и сразу начали перебираться на берег в дом генерала Раевского, стоявший недалеко от моря среди кипарисов, виноградников и платанов. Тут же начали обговаривать план путешествия. Раевский сказал, что бриг вернется в Пантикапей и будет ждать, а мы все верхом на лошадях с татарскими проводниками и охранниками по едем через Ливадию на мыс Ай-Тадор, посмотреть Георгиевский монастырь, а оттуда через Бельбекскую долину на Ахтиар и Херсонес, затем в Бахчисарай, к ханскому дворцу – увидеть знаменитый фонтан, высеченный из мрамора скульптором Омером. Оттуда в Ак-Мечеть и затем через Карасубазар на Сурож, Кафу и Пантикапей… Ночевать будем в горах, в палатках, либо на постоялых дворах…
Отдохнув неделю в доме Раевского, накупавшись и наевшись вдоволь зеленого и черного винограда, мы чуть свет двинулись верхом в Ливадию. Был конец августа, бледные звезды еще кое-как держались в небе, а на востоке уже всходило солнце. Господа все время говорили на французском, и видно было, что Саша был гостем. Он больше всех расспрашивал то младшего Раевского, то старшего, но иногда те не могли ответить, и тогда Саша спрашивал у татар через меня.
– Кто на этой земле был первым?
– Мы, – ответили татары.
– Нет, еще до вас?
Татары промолчали.
– Сашка, – сказал на русском генерал, – не все ли равно тебе, вот ты и есть первый человек на этой земле, – и рассмеялся. – А вообще считается, что аланы, готы и тавры… грузины, немцы и греки… Минотавра помнишь? Так вот он здесь и гулял, – сказал генерал и опять рассмеялся…
Саша не унимался.
– Ну а что означает Таврида или тот же Крым?
Тут уже я толковал ему, что слово «керим» означает «ров» по-тюркски, далее «е» заглохло, а «и» стало гласным «ы»…
– Интересно, почему же оно заглохло, «е»?
– У тюрков нет звонких согласных, они глуховаты, отсюда и Крым, а ров – это перешеек между большой и оторванной землей, как еще называют Крым.
– Кстати, – вступил в разговор молодой Раевский, – Александр, мы еще в лицее с тобой учили греческий, что такое «тафре»? Конечно, Саша, тоже ров, а от «тафре» образовалось слово «Таврида»… Ров есть ров и на греческом, и на татарском…
– Так кто же был первым на этой земле? Греки, наверное…
– Не, татары, – пошутил я, и все рассмеялись.
За день мы проехали на лошадях вдоль берега до мыса Ай-Тодор, поставили палатки, и татары начали готовить баранье мясо с овощами. Перед едой все купались в море. Позже, счастливые и загорелые, мы заедали все это катыком. А я все думал: «Ну кто же этот господин? Такой молодой и не зависимый, такой образованный и стесняющийся своего незнания… Офицер, а с генералом спорит…» Так я и уснул под гул ночных тварей, земных и небесных.
Утром, побродив в окрестностях монастыря и войдя внутрь, православные гости уединились.
Потом все двинулись на Ахтиар и Херсонес. Бельбекская долина тянулась вдоль ровно текущей реки Бельбек, над поверхностью которой вились бабочки, мотыльки и стрекозы.
Тополя стояли вдоль самой воды, обмотанные остатками июньского пуха… Путешественники ехали все больше молча в ожидании античного Херсонеса. Но и Херсонес не вызвал большого удивления, так же, как и Георгиевский монастырь, особенно у Александра…
– Что это, осколки бывшей жизни, так отчего они так мелки? – Осмотрев мраморный портик бывшего храма, он, обратившись ко мне, сказал как-то мимо меня: – Вот, Аджи, даже бессмертный мрамор растворяется в море, словно сахарные куски… Пошли дальше.
Татары в дороге кормили пилавом, шашлыками, баклажанами с творогом. Было много персиков, винограда, слив и мускатных груш. Запивали это красным молодым вином. Делалось все быстро и чистоплотно. На поляне под деревьями стелили они большой ковер, и все путники, кроме охраны, трапезничали вместе. Разморенные вином, кроме татар, те не пили вина как магометане, все спали часа по два, а затем двигались дальше.
В Бахчисарае ханский дворец был пройден довольно быстро и тоже не вызвал восторга у путешественников, особенно новые постройки, а у самого Фонтана слез они стояли молча и с недоумением смотрели на невысокий мраморный памятник любви, по которому из одной чаши в другую медленно стекали капли воды из проржавленных трубочек. И только внизу, на сплетении вырезанных из камня змей, было больше воды, откуда она снова утекала в безбрежность… Саша положил розу на верхнюю часть фонтана, и мы долго стояли молча. Раевский постарался, чтобы в этот момент с нами не было никого из других приезжих…
– Теперь Ак-Мечеть, Ак-Мечеть! – как-то весело воскликнул знатный гость, я его уже так называл. И в тот момент, когда мы выходили на двор из ханского дворца, двое право славных, вероятно, из русских столиц, вдруг воскликнули, увидев моего спутника:
– Так это же Пушкин, поэт Александр Пушкин, пойдем поприветствуем его за «Руслана и Людмилу», – и они по дошли к нам, вернее к нему.
Александру стало неловко, он побледнел, вздрогнул и резко сказал подошедшим:
– Ну что, поприветствовали? И давайте… До скорого… – и мы исчезли вдвоем.
Так вот он кто… Я только слышал о нем, но ничего не читал. Однако знал, что в Ак-Мечети в народной библиотеке есть русские журналы из Петербурга с его стихами, и что русские в восторге от его таланта и чуть ли не гениальности. Но ему же лет двадцать всего-то, а каков, а?
– Ну что, Аджи, – прервал мои мысли Пушкин, – куда после Ак-Мечети? В Акме и смотреть нечего, промчимся на лошадях, пропылим…
– Губернский город, – начал я, – Екатерина…
– Да знаю я, все это знаю… И храмины, и присутственные места… плохое подобие столицы… и франты на манер наших невских девок охмуряют… Но все же придется задержаться на денек, к Баранову, местному губернатору зовут, надо уважить.
– А потом прямиком в Карасубазар и через него на Сурож, а там и до Пантикапея рукой подать, домой вы рветесь, вижу…
Мы медленно двинулись в сторону Кафы. Проехав верхом всей нашей большой компанией чуть больше сорока верст, мы увидели вдалеке дымы небольшого, кучно построенного города, над которым возвышалась белая скала. Это был Карасубазар.
– На этой скале в 1799 году Суворов подписал мир с турками, – обратился я к Пушкину, но тот резко ответил:
– Да знаю, знаю я, это же наша история… Аджи, ты порази меня чем-то своим.
– Своим? Тогда поехали на Ташхан, такого ашуга послушаем… – вы будете потрясены.
– Ну да? Столько прошел по Тавриде и не потрясался, а тут в Карасубазаре… – И мы поскакали дальше.
На Ташхане, как всегда, было полно народу. Там жарили шашлыки, торговали кожами и фесками, пахло жареным кофием и корицей, ходили татары в зеленых кафтанах, агланчики разносили холодную воду и щербет. Здесь же цыгане торговали лошадь бородатому армянину, слышались свирели и глухие удары бубнов, и посреди всего этого звучал нудноватый, со срывами, долгий, словно бы плачущий голос ашуга. Ему подыгрывал на трех струнах сидевший на камне музыкант. У ашуга развевались полуседые волосы, пел он отчаянно. Слова были тюркские, и Пушкин, застыв, тут же начал тормошить меня.
– Вот давай теперь, переводи… переводи… не понимаю, но чувством слышу, как хорошо. Я переводил и переводил, а Пушкин слушал и слушал.
– Султан… с ними Черномор… мимо острова… Золотая головка, серебряная спинка ребенка… Пушкин слушал, слушал, а потом сказал:
– Все, Аджи, останови его, пойдем погуляем… вернее, я один… на речку… Как она называется?
– Карасу, Черная речка.
Я видел, как Александр Пушкин пошел на мост, встал, опершись на деревянные перила, и уставился вниз на воду Карасу… И думал, думал… Может быть и о петербургской Черной речке. Мистика и здесь, и там. Дома – черная речка, не вырвешься… Видно, все, на что смотришь черными глазами, начинает казаться темным… Придумываю…
Посмотрел еще глубже, увидев еще более темное течение, и отшатнулся, глянул на солнце. Оно сверкало так, что он мгновенно забыл о глубине Карасу и тут же вернулся на Ташхан, где ашуг продолжал петь.
Переночевав в Карасубазаре, Раевские и Пушкин попрощались со мной и, заплатив мне очень хорошее вознаграждение, поехали на тарантасах до Сурожа, а оттуда двинулись через Кафу на Пантикапей, где в порту у причала стоял военный бриг «Менгрелия», чтобы переплыть пролив до Тамани, но уже только с одним человеком – Александром Пушкиным.
Окнами во двор
Жестянщик Ольмез
Чанчих сторонился Ольмеза. И не потому, что тот был ему крайне неприятен. Просто Ольмез любил долго и нудно о чем-то талдычить, перед этим тщательно подготовив к долгой беседе свою жертву. Так, однажды Чанчих не сумел вовремя уйти с дружеской вечеринки и попал все-таки в поле тягучего внимания Ольмеза. Друзья называли его кто философом, кто фантазером, а самые близкие вообще не обращали внимания на него и попросту отмахивались: отстань со своей дурью, лучше делом займись.
– Эх, бараны, послушные, жующие бараны, на небе такое происходит, такие молнии невидимые сверкают, а им бы все о чужих бабах да о том, что на огороде цветет… Так, слушай, Чанчих, ты не уходи, у меня к тебе серьезный разговор есть…
Чанчих сделал несколько витков по двум большим комнатам, полным гостей, и все равно попал под твердый взгляд Ольмеза: мол, не уходи без меня, все равно толковища не избежать. Ольмез по специальности был простым жестянщиком. Ведра паял, водосточные трубы собирал, крыл крыши… Работы было много. Но он к этому относился пренебрежительно – а что железяки? Два удара деревянным молотком, и любая вещь стоит и звенит на солнце… Эх, чудаки, живут и не знают, что у них под ногами такие сульфаты ворочаются, пропадают…
Наконец после третьего подхода к нему Ольмеза Чанчих понял, что ему не избежать разговора, и сам как бы заинтересованно обратился к Ольмезу:
– Ну так что у тебя там случилось? Может, я чем смогу…
– Да нет, Чанчих, ничего не надо, но знаешь, что сейчас самое важное в мире может произойти? – начал загадочно Ольмез, когда они уже вышли на улицу вместе. – Ты вообще представляешь, что может быть?
– Нет, а что?
– Эх, слепой, что ли…
И Ольмез начинал молчать, дуться, вздыхать, обводить глазами вечернюю улицу и цветное небо над головой, словно искал то, что хотел давно сказать. И вдруг тихо, с придыханием отпускал слово на волю:
– Землетрясение…
И начинал молчать. Тихо, зловеще, с намеком на большие знания о природных катаклизмах, так что Чанчиху становилось страшно и он легко бросал:
– Да ладно, брось ерунду-то пороть, Ольмик…
Ольмез смотрел в лицо Чанчиху с презрением и превосходством, и Чанчиху снова становилось не по себе.
– Да ты знаешь, на каком провале мы живем, наш полуостров держится на коралловой ножке… А в двадцать седьмом году легли Ялта и Севастополь, столько людей погибло, а вы все… Да весь мир на грани катастрофы, все подземные пещеры связаны между собою: если в одном месте ухнет, в другом отзовется… Я когда водосточную трубу проверяю на прочность, то бью ее с одной стороны, а с другой вылетает знаешь какой гул… А вы… Эх!
– Ну и что надо делать?
– Я-то знаю, но кто поверит… Надо писать письма, надо собираться вместе и думать, думать, как нам жить, так дальше нельзя… Вчера я лудил железо оловом, и капля упала в воду и не остыла. Это значит, что вся вода уже горячая, понимаешь? Это знак, что там все уже созрело, нагрелось, и скоро… А вы все… Эх!.. Как она меня, как я ее… Вот так и накроет вместе…. Это первое….
– А что, есть еще и второе? – спросил напуганный Чанчих.
Ольмез остановился и начал строго смотреть в глаза Чан чиха, чуть покачивая головой.
– И до чего ж мы беспечны, Чанчих, а ведь у всех дети… Ну конечно, есть и второе, и третье… Слушай сюда, – сказал Ольмез и нагнул голову, словно приглашая таким жестом выслушать тайное сообщение. – Вода, да-да, вода, Чанчих… Ты посмотри, как мы ее тратим, детей моем по вечерам часами, жены волосы чешут с водою, сады поливаем и огороды, пьем, наконец, сколько! А ведь ее мало, наши озера высыхают, колодцы мельчают… Сколько я своей говорю: не проливай зря и капли… А она, дура баба: вода в землю уходит и из земли приходит. Вот так и вы все. Нет чтобы понять, что небо дает нам воду. Я это знаю по крышам, которые крою, как они ржавеют. Это значит, что вода стала порченой из-за того, что мало ее там, наверху, и она не очищается. А вы все: в землю, из земли… Да как бы она была такой чистой из земли, ха, Чанчих?… Чаю надо пить меньше, кофе… Мы, крымчаки, бережливый народ, но в последнее время очень расточительны, особенно с водой плохо у нас… Карасу, ты посмотри, во что превратилась, а? Раньше корабли ходили, утонуть можно было, а что сейчас? Я перехожу по камешкам, сапог не замочив. Вода – это наша кровь, а мы ее мешаем с землей, тратим, чтобы мыть руки…
– А как же быть? – спросил потрясенный Чанчих.
– А вот и думать надо, письма писать, собираться вместе, у стариков спрашивать, как мы дошли до жизни такой. Руки можно ветошью вытирать, всякие там смеси… А вот еще: росу собирать на наши нужды, лицо умывать утром с листьев, зимой – снег, если выпал…
– Эх, Ольмез, где ты всего этого набрался? Тебя послушаешь, так вообще по земле ступать боязно, – немного встряхнулся Чанчих. – А как же люди до нас жили?
– А кто тебе сказал, что они жили? Ты спроси у них. Мучались, – протянул Ольмез. – И потому польза была, а мы расточительствуем, богатеем, купечествуем…
– Ой, да что уж, лишний стакан воды нельзя выпить?
– Выпей, но с толком, с чувством, а потом запиши: здесь тогда-то такой-то выпил лишний стакан воды. Чтобы все учитывалось, записывалось, а то гуляем, понимашь, а в мире с водой ой как плохо, и никто об этом не думает, никто… И последнее, – сказал Ольмез, по-особенному как-то прищурившись.
– Что, с едой что-нибудь? – перебил его Чанчих.
– Смотри повыше, – еще загадочней и даже страшней произнес Ольмез, – смотри повыше…
В этот момент они проходили крыльцо дома с тремя ступеньками, и Чанчих понял это «повыше», что, мол, нужно посмотреть со ступенек, и это и будет «смотреть повыше…» И он инстинктивно остановился и встал сначала на первую ступеньку, потом на вторую, но остановился, услышав резкий и издевательский смех Ольмеза…
– Слезай! Ну, и хомячок ты, Чанчих! Повыше смотри – это не с крылечка, а вообще повыше… Так вот, третье, последнее, – совсем тихо и таинственно прошипел Ольмез, – с солнцем плохо, ходят разговоры, что гаснет оно…
– Как это? Так не может быть! Каждое утро я встаю вместе с ним и смотрю на него, и ничего не замечал… Летом жаркое, зимой холодное, все как полагается…
– Это для тебя, как полагается. А я вот тут крыл одну крышу в марте, и по моим расчетам весь снег уже в этот день должен был сойти… Я уверенно встал – и как поскользнулся!.. Ногу сломал… Это что по-твоему? Мне дохтур сказал, что бы я раньше, чем в апреле, не лез на крышу. А дохтура – они все знают. День стал короче, ты заметил, Чанчих? Раньше я возвращался домой к семи, а сейчас на полчаса раньше…
– Это ты постарел, раньше уходишь домой с работы…
– Нет, фрукта стала кислей, виноград несладкий, а самое главное – все молчат и согласились с этим. А надо писать куда-то, собираться всем вместе, думать… А то ведь у меня в сарае раньше мышей знаешь сколько было, а сейчас – ну одна-две… От сырости все поуходили. Скоро вся земля по кроется туманом, и мы не будет различать друг друга.
– Ну тебя-то по твоим крымчакским бровям узнает каждый. Черные, накладные, словно в театре, не брови, а усы над глазами…
– Кстати, о театре… Это, пожалуй, будет четвертым… С языком плохо…
– С каким языком?
– С русским… Его поедают другие языки. Актерки говорят то на французском, то на английском. Я раньше понимал заказчика с первого слова. Вчера иду мимо магазина, а на нем вывеска «Гастроном», тоже, говорят, нерусское… А главное – все молчат…
– А тебе-то что? Ты о своем языке думай…
– Ты не прав! Ох, как ты не прав, Чанчих… Если мне нужно править мягкую жесть, то я беру кусок железяки, и на нем молоточком выделываю, что хочу… Так и русский… От его силы и наш становится сильней, а дети куда пойдут с нашим… А главное – молчат все, не собираются… Ох, нехорошо это…
Так, в легком подпитии после дружеской вечеринки Чанчих и Ольмез медленно шли по домам. Чанчих клялся себе в том, что больше никогда не будет возвращаться домой с Ольмезом, но потом подумал: а куда от него денешься? Ольмез смотрел на небо в промежутках беседы, и падающие кометы поражали его воображение.
– Смотри, Чанчих, небо рассыпается на мелкие кусочки… А главное – все молчат…
Поход в театр
Карасубазар шумел дневным гвалтом торговли. Стоял густой крымский август, состоявший из плотного солнца, липнувшей к босым ногам пыли, скрежетов стрижей в низком сине-зеленоватом небе. Абрикосы и персики вспухали бутафорскими театральными ранами на столах торговок. Мальчишки, таскавшие кувшины с водой на голове, придерживая одной рукой глиняную ручку, кричали резко и со всех сторон: «Вода аянская, холодная вода, аянская»…
Толкотня и суета уже рассасывались, жара сбивала людей с ног, толкала к тенистым, протоптанным с разных концов города каменистым дорожкам. И только старый караим, с почти черным от природы и загара лицом, с глазами, подернутыми слепотой, все стоял под солнцем. На его шее на кожаном тонком ремешке был подвешен таз, наполненный караимскими пирожками. Таз был прикрыт марлей. Продавец причитал: «Пирожки караимские, караимские пирожки!» Его челюсть опускалась так низко, что был виден в глубине рта единственный золотой зуб.
Караимские пирожки… Наполненные соком, с петрушкой и мясом, и все это в тесте, пропитанном бараньим жиром… Хотя их продавали и крымчаки, и татары, и греки, но таких вкусных, съедаемых до корочки, как у высокого караима, не было ни у кого…
– С базара уйдешь, на базар вернешься, на базаре уснешь, на базаре проснешься! Покупайте караимские пирожки, караимские пирожки…
Метеш подошел к караиму, протянул две копейки:
– Дай один, хотя наше чоче лучше, один чоче – и я сыт целый день, а караимских мне надо два-три, слишком много сока пустого…
– Иди-иди. Куда собрался?
– Пойду в театр, никогда не был, говорят, целый день идти надо…
– Иди-иди, только зачем тебе театр на старости лет?
– Он мне приснился: белые колонны, артисты в белых одеждах, полуобнаженные…
– Ну да, особенно женщины… Метеш, что твоя старуха скажет, когда узнает, что ты был в театре, где…
– Не беспокойся, она не видела моего сна и не увидит…
– А мне расскажешь? На тебе еще один пирожок в дорогу.
– Конечно… Мне ничего не принадлежит вокруг, только бы дойти и вернуться, сутки туда и сутки назад…
– Э, – сказал караим, – на одном чоче и караимском пирожке не дотянешь… – И он достал пожелтевшую старую газету и завернул туда еще три истекающих жиром пирожка… – Брось в торбу. Денег не надо, я твою семью, Метеш, хорошо знаю. Вы честные люди…
Метеш пошел прямо на дорогу, ведшую в Ак-Мечеть, столицу, где и находился театр. Он пошел по пыльной горячей обочине, ступая босыми ногами, потому что свои белые летние туфли он спрятал в торбу вместе с пирожками и баклажкой холодной воды. Телеги и редкие авто обгоняли его с безразличием. Он оглянулся и увидел, что его родной город, где он родился, вырос и состарился, стал далеким и совсем маленьким. Метеш вздохнул и еще решительней зашагал по своему пути. Приближалась прохладная крымская ночь. Сверчки и цикады сверлили черное небо, и Метеш видел над собой хлопавшие веками большие глаза синих, желтых и зеленоватых звезд. Он свернул с дороги и направился к костру, еле колыхавшемуся меж садовых деревьев.
– Ты кто такой и откуда?
– Я Метеш из Карасубазара, иду в Ак-Мечеть. Вот негде переночевать.
– А чего, ложись вон на солому, в которую мы заворачиваем яблоки и груши, и спи себе. Может, хочешь поесть?
– Нет, у меня кое-что тут есть…
– Ну да, знаем. Чоче, да? На, возьми кусок баранины, яблоко, грушу. Спи, а мы еще потолкуем о нашем.
Сборщики говорили по-татарски, и Метеш спокойно разлегся на клочках сена и уткнулся лицом в небо. Утром его позвали к костру, угостили чаем с лепешкой, и он двинулся дальше. Обернувшись, он увидел, как рабочие склонялись над ящиками, укладывая туда фрукты, обернутые в хрустящую вощеную бумагу, и, перекладывая все это тем сеном, на котором он спал. День начинался ранней жарой, а впереди еще был огромный путь. И Метеш пошел вдоль дороги, надкусывая чоче – это был его завтрак. Чоче – треугольник и дырочка для воды, а вода – это жизнь, жизнь, он знал, на что это похоже, и даже слово «чоче» на его родном арамейском языке означало то самое вожделенное место у женщины. Но именно сейчас он почему-то очень зримо соединил эти два понятия и предмет и с еще большим удовольствием откусил кусок пирожка…
На дороге, точнее на перекрестке, от Зуи до Ак-Мечети он заметил трех парней, которые сидели на корточках и играли в абдрашик… Он подошел поближе и увидел, как они трясли высохшими косточками бараньего хвоста в закрытых ладонях и потом выбрасывали на землю…
– Что, хочешь поиграть, а? У тебя есть, чем отвечать?
– Чем-чем, есть два караимских пирожка.
– Ну садись, а то мы жрать хотим.
– А вы что ставите?
– А вот видишь что? – и один из парней скрутил дулю.
– Эх, ты, боколыбок, дерьмо, это не по-нашему.
– А как это по-вашему?
– Не по-человечески играть не будем, а пирожок один на троих я вам дам.
– Э, да мы у тебя заберем все.
– Ну и берите! Моя жизнь стоит того, чтобы вы съели их и стали добрее. А вы сами откуда будете?
– Из деревни Саблы.
– Так у меня там друг живет, Ава, он лошадей пасет. Я его мальчиков нянчил, когда они еще голожопиками были… Парни смутились и сказали:
– Ладно, идите своей дорогой, никаких нам пирожков не надо.
– Не надо-то – не надо. А вот вы… так вымахали уже, что чуть меня не ограбили…
– Да нет, мы играем в честную, просто никто не ходит по этой дороге уже второй день…
– Понял, – сказал Метеш и, положив у ног парней сверток с едой, пошел дальше…
Вдруг за спиной он услышал стук колес по каменистой дороге. Он обернулся, и телега с возницей остановилась.
– Это ты, Метеш? Утром, когда я выезжал из Карасубазара, то караим сказал мне, чтобы я догнал тебя и передал вот это. – В его руках был сверток. – Садись, я еду почти до Ак-Мечети…
Метеш забрался на телегу и уселся поглубже спиной к вознице. В середине на цветастом плетеном коврике спала молодая женщина, укрывшись летним платком, но от подрагивания телеги платок все больше сползал с нее, обнажая и колени, и смуглые крепкие руки. Метеш, оглядывая ее, наконец увидел красивое лицо с резкими черными бровями и едва-едва проступающими черными усиками над верхней властной губой. Ресницы во сне сцепились, как два черных цветка лепестками… Она спала, но и во сне источала силу и страсть…
– Кто эта женщина? – спросил Метеш.
– Это не женщина, это моя младшая дочь.
– Куда ты ее везешь?
– К доктору, тут недалеко осталось…
– Зачем к доктору? Она здорова, как солнечная долина, как море под Судаком…
– Я это знаю, но внутри этой душистой груши завелся червячок…
– И какой же?
– Она влюбилась.
– Что, не в того, в кого хотел ты?
– Именно!
– И, конечно, он бедный?
– Именно!
– И, конечно, не крымчак?
– Именно!
– И, конечно, русский?
– Именно!
– Так это хорошо, у нее будет много детей, и все будут не русские, а крымчаки.
– Именно!
– Нас и так мало осталось на этой земле.
– Именно!
– Думаешь, с русскими будет больше?
– Не знаю насколько, но больше. Они нас считают иудеями и…
– А мы и есть иудеи, и что с того? Говорим по-татарски, но наш язык гораздо шире, можем и по-русски.
– Именно! Однажды я слышал, как они шептались за моим домом, и он ей сказал, представляешь: ах ты, жидовочка моя!
– Ну и что с того? Она и есть прекрасная жидовочка.
– Именно! Я и сам это знаю, но как-то он это сказал с пренебрежением. А он сам знает, кто он? Такой русский – жопа узкий.
– Ээ, перестань, Ако, а если бы он был богатым? – спросил Метеш.
– Тогда другое дело.
– Вот видишь ты какой, дочку готов продать.
– Успокойся, Метеш, я не знаю ни одного русского богатого, они все пропивают. Э, какие дети? Ты посмотри на нее, я не уверен, что после первого ребенка он сможет сделать ей хотя бы второго. Вот поэтому мы и вымираем.
– Перестань, Ако, наши тоже пьют. Говорят, тоска оттого, что вымирают. Но так не бывает. Все в каждом человеке. Мне вот уже за шестьдесят, а я хочу посмотреть театр, может, на учусь чему. Знаешь, там такие слова, такая мудрость.
– А, перестань, Метеш! Караим на базаре сказал, что ты поехал посмотреть на голых баб в театре.
– Хотя бы так. Я вообще ни разу там не был, может, там и правда голые бабы изрекают мудрые мысли?
– Метеш, где ты видел бабу с мыслями, да еще и голую?..
Метеш увидел, что дочка Ако давно не спит и, прикрыв глаза, слушает разговор.
– Ты скажи, а что ты думаешь, твой доктор, как он поможет, если любит-то. От этого нет таблеток.
– Не знаю. Покажу, посоветуюсь, Может, надавит в нужном месте, потрет… Может, она другого мужчину увидит… А то живет в Карасубазаре, с улицы на улицу ходит, только об одном думает.
– Э, Ако, а ты о чем в ее возрасте думал?
Телега стала трястись все сильнее, лошади пошли под уклон…
– О жене своей будущей думал, и сам был, конечно, богатым.
– Так что же она пошла за тебя?
– Э, Метеш, посмотри какая красавица! Был бы ты молодой – за тебя бы отдал.
Солнце встало во весь рост и припекало невыносимо. Ако остановил лошадей у родничка, и они втроем, умывшись, на пившись холодной воды, сели в тени придорожного ореха.
– Дядя Метеш, – сказала Лили, так звали дочь Ако, – мой папа хочет убить меня. Ведь нельзя достать червяка из груши или яблока, не разрезав их…
– Это правда, Лили, но можно дождаться, когда он сам вылезет изнутри… Обычно это происходит, когда плод перезреет и червяк упадет на землю вместе с ним.
– Ничего твой доктор не сделает, папа, во мне уже живет его ребенок…
Ако от неожиданности просто упал лицом в сухую жесткую траву и тихо зарыдал.
– Я так и знал, я так и знал…
Метеш подождал, пока Ако успокоится, затем встал, по гладил Лили по голове и пошел прямо через степной, пахнущий лавандой и чабрецом холм, преодолевая последнее препятствие перед большим городом. Когда он поднялся, то обернулся и увидел вдалеке телегу, возвращавшуюся в Карасубазар. На козлах сидел Ако, его обнимала за плечи дочь Лили.
«Кто кого успокаивает?» – подумал Метеш и улыбнулся своей мысли.
В Ак-Мечети было уже около семи, и Метеш, сев у салгира на камень, вымыл ноги, надел свои туфли, затем ополоснул лицо и шею, облачился в свежую, пахнувшую домашним теплом рубашку. Затем мешок со своими пожитками спрятал в кустах, чтобы забрать на обратном пути. И вот он уже стоит у кассы и спрашивает самый дорогой билет, на самое лучшее место в театре русской драмы.
– Осталось только одно место в амфитеатре, берете?
– Так давайте скорее. Лопе де Вега! Какой к черту русский театр! А вот это да: «Собака на сене».
И Метеш уселся в кресло среди поразившей его нарядами и запахами городской публики. Наконец все захлопали в ладоши, и тяжелый, неуклюжий бордовый занавес раскрылся медленно и торжественно…
– А я-то думал, что он поднимается вверх, как юбка у женщины, когда…
И на этой мысли Метеш уснул решительно, уснул как человек, прошедший по солнцепеку сорок километров. Он даже не спал, он впал в состояние между жизнью и сном. Он не храпел, его бы разбудили, он не прислонился к чьему-либо плечу, его бы разбудили. Он просто застыл на стуле в позе внимательного зрителя. Он только ничего не слышал и ни чего не видел. И вышел из этого состояния, лишь когда кто то потряс его за плечо. Спектакль закончился, почти все ушли… Метеш встал, бодро зашагал на выход и прошел почти через весь город Ак-Мечеть с веселой, дружелюбной, о чем-то возбужденно толковавшей толпой. Наконец он остался один. Перед ним тихо протекал тот же Салгир. Метеш быстро нашел свой мешок, переоделся и медленно двинулся по дороге на Карасубазар. На следующий день после полудня он был уже дома, на базарной площади. Караим стоял еще на своем месте и тут же дал ему пирожок.
– На, подкрепись. Ну, как театр, расскажи…
Метеш раскрыл рот, чтобы сказать правду, но неожидан но произнес:
– Все было, как мне приснилось до того…
– Я так и думал, – сказал караим, – ни стыда, ни совести…
– Да, – сказал Метеш, – куда катимся?
И пошел домой.
Белый ослик и луна
– Крымчак никогда не бывает пьяным, – сказал Нысым, заглатывая очередной стаканчик красного.
– Так уж и не бывает, да ты сам сейчас отрубишься, а для нас это позор – валяться на улице под забором.
– Ну почему валяться – отдыхаю… перед встречей с женой после удачного…
– А что, так трудно с женой?
– У крымчака никогда не бывает трудно с женой, вот ты, Бохор, маешь трудности с собственной?
– Нет, только с чужой…
– Тогда зачем она тебе?
– Ну нужно же, чтобы была… чужая..
– Дурак, давай лучше еще вмажем.
И Нысым наклонил прозрачный кувшин с качавшейся на широком дне массой дымчато-красного домашнего вина, нацедив ровно по краешки стаканчиков.
– Знатно наливаешь, не промахнешься, словно буфетчиком работал всю жизнь.
– Нехитрое это дело, попей с мое, Бохорчик… Ну что, пошли еще чекулдыкнем где-нибудь, на людях, крымчак любит веселье на людях, ну там сделать вид, что он в стельку пьян, ну там поскандалит тихонечко, а на самом деле он трезв и не ругается, так, мандит понемногу, но не зло, сразу уступит, если што…
– Что если «што»?
– Ну там дракой запахнет или еще чем…
– А чем еще?
– Ну там чужой муж, ну муж чужой жены встретит и начнет родному, тьфу, чужому мужу своей… тьфу ты, жены… в общем, ты понимаешь?
– Или если она его встретит?
– Где? В кабаке? У крымчака жена в кабак не ходит. Даже одна.
– А у меня ходит. Меня ищет…
– Зачем? Крымчак никогда не бывает пьяным.
– Вот поэтому и не бывает, что жена находит и ведет домой. Знаешь, у нас ведь муж должен быть всегда… при хозяйстве, ну, дома…
– А ты сейчас где, Нысым?
– Ну, это сейчас, а вообще всегда дома…
– Так, ты уже напился, у тебя раздвоение личности – ты и здесь, ты и дома…
– Принеси нам чего-нибудь, официант, может, по коньячку?
– Чтоб ты свалился тут и опозорил весь… Ну ладно, давай еще по полтинничку и – по домам…
– И по домам…
И только они опрокинули, только плеснули в свои горла на свои застарелые гланды горячего напитка, как в кофейню ввалился совсем пьяный Юсуф с диким возгласом:
– А, это вы, крымчаки, которые никогда не бывают пьяными? Я угощаю, маю на то право, ще по сотке коньяку – и баста, и по домам…
Все трое уткнулись лбами друг в друга над столом и продолжили ударять по коньячку.
И только и слышалось – еще и еще… С возгласами «крымчак никогда не бывает пьяным» они выбросились на мостовую тихой улочки и прямо из греческой кофейни пошли в обнимку неведомо куда…
– Ну и что? И где твоя жена, которая найдет всех нас и избавит от позора? – спросил Бохорчик Нысыма.
– Ходит где-то по пятам, она хорошо чувствует мою кондицию и занятость, крымчак никогда не пьет просто так, он всегда пьет по делу…
– А какое у нас с тобой дело?
– Пить, разговаривать, это и есть дело, Бохорчик. А ты что молчишь, Юсуф?
– Я вижу, что мы уже выходим из нашего города…
– И что, идем в другой?
– Дурак, мы зайдем в наш с другой стороны. Земля, говорят, еще пока круглая…
И в этот момент они все вместе зацепились за трубу, которую еще не успели уложить в канаву, и через секунду уже лежали на ее дне.
– Ну вот, а ты, Юсуф, сказал, что земля круглая! Она – как сундук с углами…
– Ну ладно, давай помолчим, полежим, подумаем…
– Да и уснем, а утром стыда не оберешься, весь город будет знать, что мы стали пьяницами подзаборными, валяемся, как чушки.
– Да никто не узнает, утром нас закопают вместе с трубами и – привет семье. А ты говоришь, Нысым, крымчак никогда не бывает пьяным, всегда ночует дома…
– Посмотрите на небо, который час? – спросил кто-то рядом с ними чужим голосом. – И не мешайте спать…
– Здесь кто-то есть, ребята, мне страшно, – прошипел Юсуф.
– Не бойтесь, это я, сын аптекаря. Я скоро уже буду трезвым и выведу вас назад в город, мы пойдем на «пьяный» угол и примем еще водочки, кто будет ставить?
– Слушай, зачем притворяешься? Что, в нашем городе сегодня напились все крымчаки, чтобы доказать, что крымчаки никогда не бывают пьяными?
– Да, и еще не спят с чужими женами и не ночуют под забором, – продолжил сын аптекаря.
– Слушай, откуда ты знаешь про мою чужую жену?
– Так весь город говорит об этом.
– Ты посмотри, у меня еще ее нет, я только подумал о ней, а уже весь город знает.
– Да, – сказал сын аптекаря, – наш город весь в мыслях об этом.
– О чем об этом?
– Ну, про чужих жен… Вы же все пьете и спите по канавам, а о них уже кто-то подумал…
– Послушай, ты, сын термометра и клизмы, не расстраивай нас, дай хоть немного отдохнуть, вот сейчас моя придет, она тебе даст..
– Зачем это мне нужно, мне свою жену окучивать надо.
– Да? И где же она?
– Ищет меня. Вот сейчас она придет и уж точно вам даст, пьяницы несчастные, подзаборные…
– Да мы не возьмем, нам своих нужно отоваривать…
– Да я не об этом, идиёты, у вас только чоче на уме…
– Не говори за всех, – Нысым попытался встать, но снова упал… Сверчки и цикады делали свое летнее дело, убаюкивали четверых смельчаков, ночевавших за городом, да еще в канаве.
А в это время четыре жены искали своих пропавших мужей, заглядывая в кофейни, простаивая и подглядывая в окна богатых ресторанов. Но их нигде не было.
– Ну где они могут быть, причем все вместе, вчетвером?
– Я знаю весь наш город, каждый закоулочек, у других женщин одновременно они не могут быть, да и не принято у нас следить за мужьями, много чести, – сказала самая гордая из них Балабан Стер, жена Нысыма.
– Ой, меня это вообще не трогает, лишь бы был здоровеньким, – сказала самая тихая жена сына аптекаря.
– Что же у нас в городе новенького, такого, на что они могли клюнуть? Они же знают каждый камешек на улицах. Стоп, дядя Кинап, – крикнула Балабан Стер через дорогу, – ты не видел наших мужиков?
– Нет, не видел, спроси у проезжей цыганки, у нее незамыленный глаз на наш город и наших мужчин. Она гадает у трамвайной остановки.
Цыганка смерила их незамыленным глазом и сказала:
– А позолотите ручку – скажу все про ваших му…
– Нет, все говорить не надо, только где они? Денег не дадим, а вот семечек жареных – два кармана.
– И то дело, – сказала цыганка… И начала что-то нашептывать себе под нос и в ладони.
– Я посоветовалась сама с собой и вот что скажу: я видела полчаса назад, как четверо мужчин, сильно качаясь, выходили из города. Шли они в другой город, но вдруг сначала один, а затем трое исчезли под землей…
– Я все поняла, – воскликнула Балабан Стер, – там прокладывают водопроводные трубы и сегодня рыли канаву…
Вскоре они стояли над своими мужьями и смеялись, глядя на то, как они лежали рядком в совсем неглубокой канаве, соображая, куда же они попали, и рассуждая о том, где еще могут выпить.
– Да эти все «соичмес» наши (крымчаки воды не пьют), – с облегчением сказала Балабан Стер.
– Ну вот, я же сказал, что моя меня найдет и не даст повода говорить, что крымчак валяется под забором, – сказал Назим.
– Нет, моя нашла, – начал было ныть Бохорчик.
– Кузгуны къайда олсанъ ол, ахшан эвынъдэ ол (днем будь, где хочешь, вечером в своем доме будь), – рассмеялась Балабан Стер.
– Ну и что, если цыганка видела, то весь город будет знать о вас, непутевых, что опозорили наши семьи. Вставайте и пошли по домам.
– Э, нет, – сказал Нысым. – Я приглашаю всех в гости к нам, у нас есть в подвале бутылка виноградной водки, такое дело надо отметить – мы подтвердим наши традиции.
– Какие традиции?
– Крымчак никогда не бывает пьяным, и жена крымчака никогда не позволит ему валяться под забором…
– А сам он что? Притворяется или ограничитель поставил? Или это тайна, уходящая с нами? Все пьют и мы пьем, – опять начал ныть Бохорчик, опираясь все же на жену…
И они пошли по ночному городу, отряхиваясь от пыли, умирая от жажды. На Фонтанной улице они один за другим хватали сухими ртами упругий фонтанчик холодной ночной воды, звонко цокая языками от удовольствия. Они уже почти дошли до дома Нысыма, как Бохор вдруг сказал:
– А что, может, завтра разопьем твою водку, Нысымчик?
– И вправду, – поддержали другие. – Если сегодня добавим, то утром дыхание будет тяжелым, голова тоже, даже катык не спасет… Хозяин будет недоволен, еще уволит…
Они шли по ночному городу на свою улицу Фруктовую, где они прожили всю свою жизнь, за исключением недолгих отъездов. Юсуф, шатаясь все время, причитал:
– Кем я был, кем я был, я был старшим приказчиком, ездил по разным городам, подбирал товары для нашего магазина. А потом? Потом всё, мы разорились. Кем я был, кем я был…
Бохорчик же спотыкался и тоже постанывал:
– Куда мы идем, где наше место в истории и кто мы такие? Мы и по-русски, и по-татарски, и по-крымчакски, а кто мы такие, куда мы идем?…
– Ладно, хватит причитать, возьми себя в руки, пока я тебя не взяла на руки, – тихо пропела его жена, молодая еще, но рыхлая Сме… – Смотри на дорогу, там что-то белеет…
– О, черт, да это же белый ослик, это к чему-то хорошему…
– Значит, рядом где-то плохое. Видишь – луна, а ее перекрывает наполовину черное облако, не к добру это, сглаз неба, – сказал Нысым, и тут же все увидели конец своей улицы. Там, по обе стороны, с четной и нечетной стороны, горел свет в обоих домах всеми окнами, несмотря на то, что было часа три ночи…
Они медленно подошли к домам соседей и услышали сдержанный плач из одного и сдержанные радостные всхлипы из другого.
– Что случилось? – громко спросил Нысым.
– Старый Мангупли помер, – послышалось в наступившей тишине.
– У Ломброзо девочка родилась, – откликнулись тут же.
– Да, – сказал Нысым, – мужчины мрут, а рождаются все девочки да девочки… Ну, пошли все ко мне.
Они сели в саду за деревянный стол и откупорили бутылку виноградной водки. И выпили за упокой и за здоровье…
Крымчакское имя
Дети всегда заболевают неожиданно. Крымчакские тоже. Но надо знать, как любят своих детей те люди, которых мало на земле, как они берегут каждую капельку, каждую кровиночку свою. То ли общая идея единения немногих в них заговаривает с особенной силой, то ли древнее родство укрепляется в душах и умах. Но главное – боязнь потерять… Хотя у кого это не так? Но у каждого по-своему. И вот лежит это чадо, обложенное одеялами и горчичниками, рецептами и банками с медом, напоенное микстурами и чаями, и чахнет, чахнет… И вот уже доктор дважды или трижды приходил и успокаивал. А все не поправляется маленький Михай – то зарывается под одеяло, то сбрасывает его…
– Доктор, что у него? Корь? Скарлатина? Воспаление легких? Режутся зубки? Ветрянка? Так это пройдет, это было и у меня.
– Нет, это похуже, но тоже пройдет.
– Доктор, но он же горит!
– Ничего, так должно быть. Организм борется, это хорошо.
– Что хорошего, когда ему плохо, доктор?
– Ладно, компресс на лоб: марлечку смочите водой с уксусом и побольше питья. Как мальчика зовут? Михай? Ладно, завтра зайду. Чай с малиной на ночь… Главное – чтоб пропотел…
И он пропотел, вся постель и рубашка насквозь мокрые – и ничего. Все равно плохо…
– Ну что, Михай, как дела? – назавтра спрашивает док тор…
– Его не Михай зовут, а Исаак, доктор…
– Как это? Вчера был Михай, а сегодня… Может, я ошибся?
– Да нет, все правильно…
А ребенок лежит, и ему все равно, как его зовут, ему просто плохо… В руках держит глиняную свистульку и не свистит в нее, потом пластилиновый самолет, но и он у него не летает…
– Эх, всех в доме предупредили, что имя Михаю поменяли, а доктору забыли сказать…
А имя уже не звучало в доме, улетало от больного мальчика, отвыкало от него и уносило с собой в неизвестность все его вирусы и недомогания… И ребенок от него отвыкал, от его непонятной темной ауры, принесшей ему такое тяжелое испытание. Два не подошедших друг другу живых создания расставались навсегда и забывались один в другом, пряча навсегда болезнь в самые потаенные уголки земного существования, пока кто-то уже другой не напорется на нее и не постарается справиться с ее неотвратимостью.
– Подождем еще несколько дней… Имя выстраивает тело и дух, это мне еще бабушка говорила. В имени скрыты и сила, и слабость, и вся судьба, – скажет крымчацкий муж и тут же пожалеет.
– Да уж, вот назовешь сыночка Жорой, и вырастет босяком. А вон Исаак колесо велосипедное катает по улице целый день – и хоть бы хны… – вздохнет крымчакская жена.
– Да что ты знаешь про имя Жора? У меня друг Георгий был в годы войны – такой здоровый был, до сих пор где-то болтается по армиям, ох, дай ему Бог здоровья… Главное, чтобы за именем не волочилась беда какая, черная сила. Главное – в благоприятном совпадении…
Так они сидели вечерами на крыльце в палисаднике, скрывшись за сиренью, и время от времени заходили в комнату, где лежал сын. А мальчик все не выздоравливал, таял на глазах. Муж и жена уже и от сглаза давали ему мочу пить, и бабка приходила, бабка Язве с Продольной улицы, и крутила тарелки с водой и желтком яичным над головой… Ничего. Доктор пришел. Молчком выписал какую-то бумажку и ушел.
– Что он там написал? Сходи к соседям, пусть прочитают…
Жена пришла расстроенная, села у кровати сына, потрогала губами лоб, дала попить и, выйдя на кухню, сказала мужу:
– Там написано, что нужно поменять имя еще пять раз, только на седьмой может случиться чудо, два у него уже было. Главное – чтобы он выдержал эти перемены, это очень тяжелое испытание для нашего агланчика.
– Правда, Жора? – спросила она сына.
– Меня что, уже Жора зовут? Мама, я боюсь этого имени… Он что, Жора-обжора?
– Не бойся, это папин друг. Потерпи еще немного, и по другому тебя назовем…
Они открыли окна и двери, укутав сына в теплое одеяло, и начали простынями выгонять воздух, проветривать комнату. Мальчику стало легче.
– А лекарство надо пить? – спросила жена, встретив доктора в дверях.
– Да, пить, все делать… Как он?
– Уже пять имен сменили, осталось два…
– Пусть муж узнает, нет ли больных на вашей улице с такими именами. И зовите его последние четыре дня тем именем, на котором ему станет совсем хорошо. Оставьте его как родное навсегда, оно будет охранять его всю жизнь.
На последнем имени Эгдем мальчик стал совершенно здоровым, а проснувшись, попросился на улицу погулять. Он носился по дворам целый день и прибежал под вечер, с аппетитом съев домашний ужин.
Доктор пришел назавтра и радовался вместе с родителя ми.
– Откуда вы знаете наши обычаи, доктор? Вы ведь учились на простого врача… А про смену имен у больных детей знают только крымчаки от своих предков. Вы, к примеру, знаете, что даже неблагоприятная буква в имени может повлиять на выздоровление ребенка. Допустим, буква «н», если болит нога, есть в имени, то уже его нельзя давать ребенку …
– Главное в учености – это наблюдение. Когда вы назвали Михая Эгдемом, я увидел, как посветлела вода в стакане с чаем, и Эгдем впервые проглотил мою микстуру без отвращения… Еще семь звезд горели в небе, когда я в первый раз пришел к вам… Самое главное было направить кровь мальчика вращаться в сторону той реки, у которой он родился. На магничивание… В общем, помогли лекарства, хотя на самом деле спасли Эгдема ваша вера и магическая сила поколений в прошлом.
Родители, едва окончившие четыре класса, с изумлением смотрели на доктора и сейчас понимали только одно: что их мальчик был совершенно здоров, а доктор просто умничал, чтобы очаровать тетку Эгдема.
Когда прошло немного времени, Эгдем стал совсем крепким, однажды ночью он проснулся от яркого мерцанья и шевеления звезд в небе. Он напряг свое тело, почувствовал силу от ступней до шеи и порадовался за себя. Уже засыпая, он попробовал вспомнить имена, которыми его называли во время болезни. Да так и не смог. И уснул с единственным своим именем на губах – Эгдем…
На углу Караимской и Субхи
Парикмахер дядя Леня летом носил сшитые на заказ кожаные туфли с узорчатым верхом бежевого цвета, широкие брюки с манжетами и тонким поясом поверх большого живота. Он приходил рано, часам так к восьми, раскладывал свои инструменты, доставая их из небольшого саквояжа, который на улице делал его похожим на доктора. Первым делом он доставал, предварительно постелив на стол перед большим зеркалом белую свежую салфетку, ручную машинку для стрижки с мощной и сильной пружиной меж двух изогнутых рычажков, соединенных подвижным болтом близ головки самой машинки. Каждая ручка рычажка заканчивалась тонкими острыми зубчиками. Через болт они притягивались друг к другу. Когда дядя Леня нажимал на ручки одновременно большим и указательным пальцами, то зубчики, или еще их называли ножами, превращались в ножницы, вернее, в большое количество ножничек. Таким образом, при быстрой работе ладони машинка работала и стригла волосы, где нужно, и даже добиралась до самого черепа.
Это был самый главный инструмент парикмахера вообще и дяди Лени в частности. Еще, конечно, опасная бритва и кожаный ремень для заточки бритвы. Точнее, чтобы она стала острой и мягкой одновременно… Далее: ножницы для стрижки, еще одни, филировочные – ножницы для прореживания волос, обязательно одеколон с большой резиновой грушей в мелкой сетке для выдувания распыленной ароматной жидкости, камень с йодом для прижигания мелких порезов, стаканчик для пены, помазок и еще десяток-два мелочей… И конечно, салфетки и белый большой, на весь живот дяди Лени, халат. Он и называл весь процесс стрижки и бритья операцией – чуть ли не хирургической. Был он мастером мужским и женским. У него стриглась вся округа: мужчины и женщины, мальчишки и девчонки. Не до модных женских укладок было тогда, но все были аккуратистами. Сам дядя Леня носил полубокс с чубчиком в пол-лба, и его один глаз смотрел несимметрично куда-то в потолок из-за небольшого бельма, появившегося неизвестно когда… Вообще-то он слыл бабником, но что это такое, по-настоящему никто не понимал. Ну, допустим, если к нему в салон, где он работал вместе с хромой уборщицей Изольдой, заходила женщина и просила подстричь в долг, то это же не значит, что он стриг совсем бесплатно…
– Ну, будешь должна один раз, – говорил он, смеясь.
Что один раз, чего один раз, никто не знал. Подумывали о чем-то фривольном, но в конце-то концов успокаивались. Его знали все, и он был всем как близкий родственник… И сомневались. А дядя просто сажал клиентку в кресло, затем проводил руками по волосам и приговаривал:
– Красотуля! Ну чистый шелк!
Затем гладил еще раз, и руки его скользили ниже по грудям и еще ниже… Там он останавливался, мгновенно отрывал руки и бросал:
– Изольда, компресс.
– Кому, дядя Ленечка?
– Ну не ей же… Мне… Что-то в голову ударило.
И действительно, он был не молод, но добр. И если иногда он уходил с клиенткой за ширму, отослав хромую Изольду за пудрой в аптеку, и переворачивал табличку «Открыто» на другую сторону, где было написано: «Ушел за ассортиментом», то никто не знал, что он там делал с ней – массаж ли воротниковой зоны, или же клиентка делала дяде Лене искусственное дыхание рот в рот после массажа… Но все его любили, кроме мужчин, которые завидовали ему и разводили свои бритвенные возможности на дому с теми же ремня ми для правки бритв, пенами и помазками, гордо высматривая свои лица в маленьких зеркальцах, начиная затем драть кожу. На это дядя Леня всегда им говорил:
– Вы же варвары! Вам надо брить свиней на бойне! Если намазали кожу пеной, подождите, пока она размягчится под ней, ну, две-три минуты, и потом уже… А вы – ну, как блох ловите… Спешите…
Но все равно все делали по-своему, чтобы досадить дяде Лене…
Его парикмахерская находилась в старом районе города, где жили его небогатые соплеменники, в большинстве крымчаки, которых он стриг зачастую бесплатно, чаще всего в долг…
– Потом отдашь, когда разбогатеешь… Или: когда замуж выйдешь… Или еще: передай маме привет, мы с ней вместе учились в одном классе…
Философия его была проста – лучше пусть будут должны ему, чем он кому-то. Клиенты любили его, а должники обходили немного стороной – долг есть долг, тем более что его левый глаз с бельмом посматривал иногда как-то хитро и с ехидцей: мол, я вас всех знаю наперечет…
На перекрестке Караимской и Субхи он стоял как-то в минуты, когда не было клиентов, и потягивал свою папироску «Казбек», греясь на солнце. И тут два жлоба зашли за его спиной в его заведение, выгнав через заднюю дверь хромую Изольду, взяли в руки его опасную бритву и ножницы и сказали:
– Ленчик, тебе хана, отдавай выручку – и мы уйдем.
Дядя Леня среагировал быстро.
– Хорошо, – сказал он, – но я должен достать деньги из моего сейфа. А вы пока, вернее ты, с бритвой, закрой ее, а то порежешься…
И тот закрыл, не зная свойства бритвы: если сделаешь это резко, то, укладываясь в свое ложе, лезвие может порезать руку едва не по локоть. Так и случилось. Кровищи было и крику на весь квартал. Второй, с ножницами, бросив и кореша, и ножницы, бежал, а дядя Леня, наложив жгут на руку гопстопника, ждал врачей скорой, уставившись в потолок своим бельмом…
С тех пор его авторитет вырос во всех сферах. Но однажды все-таки его слегка подожгли. Говорили разное: мол, один из ревнивых мужей, другие – мол, дружки тех грабителей. Но когда на заднем дворике его мастерской задымило, он был спокоен, и пока не приехала пожарка, его друзья-должники пожар потушили. Ущерб был небольшим. Ну, две рамы от окон, две половые доски и полдвери черного хода, да полностью сгоревшая швабра хромой Изольды. Но что тут началось! Все, кто был ему должен, решили отдать ему долг не деньгами, коих не было, а натурой. Измерли за три полубокса принес почти новую раму, спертую со двора школы. Токатлы, мальчик, за бритый бокс приволок вытащенное из веранды прямоугольное стекло, а девочка Валит – из дома совершенно новый замок для входной двери. И так далее… Дядя Леня сидел и всхлипывал, морщась от гари еще не выветрившегося пожара и умиляясь любви своих клиентов. Наконец перед закрытием, когда хромая Изольда сказала: «Ну, я пошла, а то подумают дома, что сгорела», – в дверь постучалась, дядя Леня увидел это в четвертушное стекло двери, самая красивая его должница, от которой он ничего никогда не требовал: пухленькая, но с тонкой талией Зина Леви, его очень-очень дальняя родственница, и то по слухам.
– Дядя Леня, я понимаю, у вас трудные дни… Задвиньте щеколду на вашей двери и идите ко мне. Я хочу именно сегодня отдать свой долг… – и гордо села в кресло клиента, положив нога на ногу так, что у дяди Лени сердце заколотилось аж в горле.
– Слышь, шмакодявка, я не живу на долги родственников, даже очень-очень далеких, и не изменяю этим принципам никогда. И потом – это не самые трудные дни, которые я испытал. Уходи…
Зина посмотрела на него удивленно и, опустив глазки, стала тихонечко выходить из мастерской, унося свои прелести навсегда. Вдруг дядя Леня как взвился:
– Постой, тебе повезло! Я решил именно сегодня изменить своему принципу… – и, задвинув щеколду на двери, перевернул табличку с «Открыто» на «Ушел за ассортиментом».
Торговля воздухом
Чипче на Ташхане слыл чудаком. Абсолютно безобидным, смешным и почти нищим. Знавшие его говорили:
– Чипче, свадьба спасет тебя, хорошее приданое – и ты в порядке. Ты ведь хорош собой и работаешь много, только вот – мимо денег…
А он и правда работал, время от времени и на случайных работах. То на базаре разгрузит подводу с дынями, то подметет несколько проходов на рынке между рядами…
– Положения нет у тебя, Чипче. Любимый, но неуважаемый человек, ну кто за тебя отдаст свою дочь, э?
Но на Ташхане он был узнаваемым и своим человеком, потому что выкидывал всякие необычные коленца, ставившие в нелепое положение по большей части знатных, но не местных людей. Так сидел он однажды в тени на камешке, а перед ним стояли старые аптекарские весы.
– Весы продаешь? – обратился к нему высокий приезжий татарин.
– Нет, не весы. Пыльцу для опыления цветов.
– Сколько стоит?
– Видишь, насыпаю полную ладонь? Два алтына…
– И зачем? – спросил татарин.
– Приедешь домой, мало ли чего случится, положишь в сарай, достанешь, выйдешь в поле, рассыплешь, весной как все зацветет!
– И вправду: зацветет – не зацветет – куплю на всякий случай… Давай две ладони…
Больше никто не подходил за весь день. Эту его «мульку» знали все местные. И Чипче придумывал каждый раз что-то новое…
Как-то всем на радость и удивление на площади, недалеко от дома композитора Спендиарова, на столбе повесили большие часы. Все местные знали про это, а вот приезжие…
Так вот, сел опять Чипче прямо напротив часов через площадь, но так, чтобы стрелки издалека были видны. И поставил прямо перед собой ишака. Подходит приезжий и спрашивает:
– Что, ишака продаешь?
– Нет, время сообщаю.
– Как это?
– Ну вот, спроси за пол-алтына…
– Ну спросил… Который час?
Чипче бил по заднице ишака рукой, и тот отходит вперед на метр или чуть больше и тут же возвращается…
– Три часа пополудни, уважаемый…
– И правда! – восхищается приезжий, сверяясь со свои ми карманными часами и бросая пол-алтына Чипче. – Как это ты без часов, при помощи осла? А ну-ка еще раз…
И Чипче повторял фокус. Пораженный человек не отходил от Чипче, все пытаясь разгадать, при чем тут осел, при чем тут удар по заднице осла. Но каждый раз Чипче точно сообщал:
– Три часа тридцать пять минут, уважаемый… Наконец приезжий, заплативший уже достаточно денег для удовлетворения своего любопытства, сказал:
– Плачу вот сколько, – и достал две крупные бумажки, – скажи секрет.
– Не могу, уважаемый, за такие деньги осел не сдвинется с места, ведь это и его тайна. Заплати за две тайны…
И приезжий достал еще две бумажки. У Чипче запела душа, для него это было целое состояние. Он спрятал деньги в кошелек, кошелек спрятал под кушак и сказал приезжему:
– Иди сюда, уважаемый, встань на мое место, я спрошу тебя. Приезжий встал на место Чипче, и Чипче спросил:
– Уважаемый, скажи, сколько сейчас времени?
«Уважаемый» ударил ишака по заднице, но тот не сдвинулся с места и только заорал: «Иа, иа, иа»…
– Ну и что, уважаемый, сколько времени?
– Без моих часов не могу сказать.
– Не нужно мне твое время, добавь еще денег…
– На, ты меня уже на сегодня разорил.
– Ничего, я тебе одолжу на дорогу, – разыгрался Чипче. – Смотри, уважаемый. Во-первых, нужно сидеть на камне, во вторых, бить не сильно, а нежно, ладошкой, и смотреть через площадь. Понял, уважаемый?
«Уважаемый» сел на камень, шлепнул ишака по заднице, ишак отошел, и в это время он увидел напротив часы, на которых стрелки показывали время…
– Э, парень, да ты меня надул..
– Нет, я был честен с тобой. Этот фокус придумал я сам. Ты откуда?
– Из Инкермана…
– Ну вот, поезжай домой, поставь так же ишака, только своего, на площади и за день вернешь деньги…
– Э, парень, э, аглан. Мне, уважаемому человеку, стоять с ишаком на площади – позор… А поехали со мной?
– Нет, уважаемый, мне этих денег хватит, чтобы жениться. Я тут нашел одну красивую, с нашей улицы…
И Чипче пошел свататься. Красивой он тоже понравился, но она была не так уж богата и сказала: «Если ты купишь самые красивые туфли, то пойду за тебя, Чипче». И отец красивой то же самое сказал.
Шел Чипче домой и думал: «Эти деньги на большую свадьбу. А где взять для приданого и для самых красивых туфель? Надо думать».
Неделю Чипче не появлялся на Ташхане. И вот в воскресный день он снова появился на своем месте и тут же негромко сказал в толпе всяких разных гуляющих и промышляющих:
– Поднимаю белую скалу указательным пальцем за алтын, повторяю – поднимаю, не сходя с места, белую скалу указательным пальцем на два сантиметра и научу каждого, кто захочет…
Это заявление всколыхнуло не только пришлых, но и местных. Как это, гордость Карасубазара, знаменитую белую скалу, на которой генералиссимус Суворов подписал бумаги о мире с турками, на которую ходили, чтобы оттуда увидеть весь Крым – и поднять указательным пальцем? Быть такого не может…
– Чипче, ты что, с ума сошел? – закричали все. – Это тебе не шутки с ишаком… Это наша белая скала…
– Да плевать, что ваша… Белая скала! Подходите и смотрите! Куру, собирай деньги… Первым подошел приезжий грек из Сурожи.
– Вот смотри, – сказал он греку, – смотри на мой палец.
Грек изумленно посмотрел на обыкновенный указательный палец Чипче.
– И веди глаз за ним…
Грек повел. Палец Чипче медленно приближался к основанию белой скалы. И в тот момент, как линия пальца и линия основания скалы совпали, Чипче произнес заклинательно: «Поднимаю!»
И действительно: скала, стоявшая зрительно на пальце, стала подниматься, потому что Чипче стал двигать палец в сторону…
– Ну что, видел?
Грек словно ополоумел, упал на землю, начал кричать:
– Не может быть! Смотрите все – Чипче поднял скалу…
Все бросились в очередь. И каждый раз Чипче повторял этот фокус. И каждый был потрясен и с радостью расставался с половиной алтына… К вечеру, когда стемнело и белую скалу стало почти не видно, у Чипче уже оказалась полная пазуха настоящих бумажных денег. Он зашел в обувную лавку, купил самые красивые туфли для своей красивой и сыграл красивую свадьбу. На свадьбе друзья Чипче пытали его:
– Чипче, ну расскажи, как это ты делал с белой скалой?
– Нет-нет, еще рано, мне нужно еще заработать на дом, а потом уже…
Самое удивительное – и на дом он заработал для своей красивой, и еще немного… Но однажды друзья все-таки прижали Чипче к стенке и упросили раскрыть секрет.
И Чипче поведал: «Чтобы сделать что-то невозможное, нужно отвлечь внимание… Ведь все смотрели через палец на белую скалу, а я поднимал песчинку на пальце. А песчинка перед глазом становится величиной с белую скалу… Вот и все».
Назавтра же на Ташхане Чипче увидел мальчишек, которые пытались поднять белую скалу указательным пальцем по способу Чипче… Но ни у кого ничего не получалось.
– И не получится, я ведь не все рассказал тогда на свадьбе и не расскажу. Я кое-что узнал о мерцании звезд и о том, как летают птицы, – произнес Чипче и удалился на свою крымчацкую улицу.
Портные
Работа портного напоминала Куру работу настоящего художника. Все, весь его образ и метод. Этот взгляд, измеряющий с ног до головы, в руках мелок для разметки и вечно свисающий через шею по обе стороны сантиметр. Ну и вообще образ мышления, жизни… Некая медлительность и почти барственная походка в черных туфлях, поверх которых красовались манжеты широких от пояса брюк из дорогого шевиотового материала.
Куру завидовал этим двум мастерам, которые с утра до вечера крутились возле большого стола, где у каждого был свой большой угол, своя гладильная доска с паровыми тяжелыми утюгами, большие острые и тяжелые ножницы, лекала и медный чайник, который они все время подогревали на печке…. И, конечно, жилетки, у каждого своего цвета. Со спины они были шелковыми, а спереди из того же материала, что и пиджак, который висел аккуратно на плечиках в прихожей.
Мастерская находилась в самом центре Карасубазара и пользовалась успехом, поскольку мастера были то, что надо. Да и люди они были хоть и заносчивые, но добрые и покладистые.
– Мы, портные, – говорил Боти, – с человеком всегда. И на свадьбу оденем, и в гроб. Без нас никуда… Мы и работать начинаем с первыми петухами, часы не надо проверять.
Это всегда передергивало Куру, потому что он всегда представлял себя молодым в гробу, в красивом костюме.
– А чего ты боишься? – продолжал Боти. – Представь, через сотню лет тебя откопают, а ты там голый лежишь, Куру. И скажут твои родственники: вот, мол, жил, но не то чтобы добра нажил, на костюм не смог заработать… И закопают назад, ха-ха, Куру…
Куру опять вздергивался и ныл:
– Ну хватит, дядя Боти…
– Да, Боти, хватит пугать мальчика, а то и до свадьбы не дотянет. Или жениться пойдет голым… Ха-ха… Работать надо, Куру, а ты вот сидишь у нас полдня, а потом что? На постоялый двор чемоданы таскать? Давай, становись рядом с нами, мы тебя научим. Хотя это умение нам передано отцами нашими, но мы тебе поможем. Мы знали твоего отца, уважали…
Куру очень хотелось, но он уже дал обещание пойти в ученики к жестянщику. А что? Тоже кроить и резать, да еще на воздухе, не то что портные – от петухов до ночи и строчат, и строчат, и примеривают, и примеривают… И все то в пару, то в мелу…
– Да, на вашу фигуру маловато материалу будет, да еще с жилеткой, – услышал Куру, когда в очередной раз пришел к портным поболтать…
Это говорил другой портной, Чанчих, моложавый мужчина, молчаливый. Его жилет был утыкан еще и булавками, и всякими иголками. Как раз в это время он обматывал куском коричневой материи большого Атара, соседа Куру, чья дочка очень ему нравилась, и он не знал, как к ней подойти.
– А, это ты, Куру, пойди погуляй, пока я тут меряюсь на костюм.
– Но не выходит же, – сказал Куру.
– Уйди, сопляк, не твоего ума дело, портной знает свое…
– А дело такое, Атар, надо худеть, меньше есть ушки, кубэте, рулет с картошкой…
– А как же жить? Ведь питание – это смысл моей жизни после шести часов. Не голод же сейчас! А жена для чего готовит все это…
– Ну тогда надо купить еще материала такого, ну, с метр… Или будем шить без жилетки…
– Э, куда без жилетки… Если я сниму пиджак в жару и все увидят меня в рубашке, то скажут, что я пожалел, что я жадный! Что скажут о моей дочке, что у нее папа жадина, что пожалеет ей приданое, что все мои родственники тоже скупердяи, если не могли мне собрать… Уходи, сопляк, на улицу.
Куру покорно вышел.
– Правду буду говорить, что этот отрез пролежал со времен моего отца. Папа не любил жилеток и поэтому купил себе именно такой отрез и завещал мне. Но долго не умирал, лет тридцать, – всхлипнул Атар.
– Ладно, Атар. Успокойся, приходи завтра, что-нибудь придумаем.
– Правда? Хорошие чаевые дам…
– Ладно, приходи завтра, – опять сказали портные и начали строчить, намечать мелком пунктирные линии будущих швов, мягко, с каким-то сладостным звуком, рассекать материю ножницами, лепить, ладить новую одежду для человека, который ждал, надеялся, приходил к ним на примерку, боясь, что не получится…
Но проходило время, и все получалось. И подкладка становилась на место, и плечи, и заглаженный шов на штанах точно попадал по центру ботинок… И он цокал языком и портные, довольные работой, тоже цокали языками и говорили:
– Клиент, хоть и прав, а с тебя магарыч причитается! Материал был так себе, но мы, сам знаешь…
Шили они все, но самое трудное, как считали все, это было пошить брюки. Надо, чтобы они от самого пояса до подошвы с каблуком не висели, а стояли, и в этом был весь фокус. И когда в карманы мужчина укладывал пачку «Беломорканала», портмоне, носовой платок, да еще связку ключей – чтобы они не оттопыривались. И они не оттопыривались. Но работали портные от петухов и до самой темноты. Тут же и обедали в мастерской, разворачивая большие свертки с домашней едой. Иногда перепадало и Куру. Они любили его и жалели: безотцовщина.
– Так ты выбирай, – шутили они, – что ты хочешь резать: железо или материю? Материю никогда не отменят, а я вот слышал, что все кровельное железо скоро поменяют на черепицу. Что тогда будешь делать, а? Садись, Куру, не стесняйся, ешь, мы же шутим…
На следующий день пришел Атар и первое, что сказал:
– Слушай, может, перемеряем, может, пойдет, а? Я вчера не ужинал…
– Ну, давай, давай, – и они повторили уже вдвоем процедуру обмера. – Не выходит, – сказали, – на твою фигуру…
– А это у нас в Карасубазаре он фигура, – почти из-под стола брякнул Куру и, получив подзатыльник, убежал из мастерской.
– Ладно, приходи через два дня, Атар. Есть у меня тут один вариант… Только материал будет чуть-чуть светлее. Ничего?
– Ничего, ничего… Посмотрим…
Через месяц, после долгих примерок и колебаний, причмокиваний и переговоров о длине, ширине и цвете шелковой спинки жилетки, после нескольких случайных уколов английской булавкой в зад Атара костюм был сдан в эксплуатацию. Атар был доволен. Портные тоже. Магарыч был шумно распит, и чаевые были, но не такие большие, как думалось портным.
– Ладно, Атар, приходи на свадьбу нашего хорошего знакомого, еще раз обмоем твой костюм, а? Нравится?
– Еще бы, – сказал Атар и удалился.
По пути на свадьбу Атар встретил похоронную процессию. Хоронили его давнего, но не близкого знакомого. Когда гроб проносили мимо него, Атар с ужасом увидел, что на покойном был костюм из его материала, и что самое главное – он был на покойном без жилетки. И покойный был таким же грузным, как и он. Сначала Атара охватил ужас, но потом он успокоился и дошел до ворот дома, где была свадьбы. Он увидел портных и жениха. Жених был худ, и темный новый костюм с жилеткой был ему точь-в-точь…
– Это ваши дела, – прошипел Атар на ухо Чанчиху…
– Наши, наши, – ответил Чанчих. – Все довольны, особенно покойный, он тоже не любил, когда жилетка жмет. Мы объяснили это родственникам. Они нас поняли, а мы их – пошили бесплатно. Мы портные – мы кроим, иначе как с вами со всеми? А нашему другу видишь как хорошо – сияет! Да и ты… Заходи…
На следующее утро Куру слишком рано, когда все еще спали и петухи не кукарекали, но солнце уже светило почти вовсю, проходил мимо мастерской портных. Ему стало обидно, что он всю ночь кроил железо у своего мастера и что он вообще, наверное, выбрал не то дело.
– Вот видишь, – сказал он себе, – спят, как домашние коты. – И от жалости к себе прокукарекал пару раз под окнами его старших друзей-портных.
Тут же в мастерской загорелся свет, и можно было через пару минут различить двух склоненных над своей работой людей. Куру, довольный, побежал спать. Когда же прокричали часа через полтора настоящие петухи, портные бросили шить, сели друг напротив друга и спросили себя:
– А что же было часа полтора назад?
Но так и не поняв ничего, продолжили свою работу.
Разорванный круг
Маме моей Ольге и ее сестрам Жене и Симе.
Мама с самого утра готовила кубэтэ. Днем должны были прийти гости – наши родственники. Было воскресенье. Я садился рядом, играя с кусочком теста, лепил из него всякие фигурки.
– Оставь в покое тесто, это тебе не игрушка, – говорила мама. – Самое главное в кубэтэ – это тесто. Как раскатаешь, так и получится.
И она ловко месила нарезанные куски теста на большой фанере, служившей ей столом. Затем скалкой раскатывала почти до просветов, такое тонкое тесто получалось, поднимала на ладонях и крутила, и растягивала еще больше, потом укладывала на стол и начинала промазывать бараньим жиром или маргарином. И таких больших, почти прозрачных простыней делала несколько штук. Затем укладывала один на один, неожиданно для меня смешивала в большой кусок и опять начинала месить.
– Ма, ты зачем делала, делала, и опять все в кучу?
– Это уже и будет слоеное тесто. В этом и секрет, я же тебе сказала: как замесишь тесто, таким и получится кубэтэ.
Затем она уже руками вылепливала не совсем тонкие, большие, почти прямоугольные части кубэтэ. После этого она брала противень с высокими краями или большую сковородку и укладывала тесто так, что получалась форма для мяса, провернутого через мясорубку, или нарезанного с картофелем. Иногда мясо и картофель были нарезаны кусочками. Мясо было обязательно бараньим. После этого мама все это месиво солила, перчила, перемешивала и аккуратно укладывала руками на тесто, распределяя ложкой всю начинку равномерно. Теперь наставал черед крышке. Она делалась из того же теста, и ею покрывалась начинка. По краям мама ловко соединяла пальцами крышку с нижней частью, закручивая так красиво, что я любовался. Потом она по центру проделывала круглое отверстие шириною примерно в моих два пальца, заравнивая и укрепляя его, приговаривая:
– Для водички, для воды, чтобы не задохнулось кубэтэ, – и заливала все это из чайника теплой водой, пока вода не шла назад.
Затем открывала духовку хорошо горевшей печки. Перед этим она вокруг отверстия делала кружочек из теста, но не соединяла его, а оставляла его разорванным, с хвостиком, уходящим в сторону, как бы ввысь.
– Почему не завершила второй кружок? – требовательно спрашивал я.
– Это, парень, узор на кубэтэ, незавершенная линия показывает путь наверх, к Богу Тенгри, прошение к нему, чтобы все было у нас хорошо. Это – линия в космос, к звездам, понял?.. Мы не знаем, откуда пришли, и куда уйдем, тоже не знаем, по этому и обращаемся к небу… Кубэтэ мы любим не потому, что это просто пирог с мясом, а потому, что вокруг него мы соединяемся, думаем об одном и том же, переживаем. Мы с твоим папой познакомились в гостях у Фиркиных, когда ели кубэтэ… Знаешь Фиркиных? Они сегодня будут…
Проговорив все это, мама задвигала кубэтэ в духовку, закрывала ее и начинала делать второе, круглое, в тяжелой чугунной большой сковородке…
– Ты все так делаешь, словно дом строишь с трубой, и видишь, как пар идет, когда достаешь его посмотреть… Как это все называется? Стены, крыша, и все остальное?…
– Так, ничего сложного, вот посмотри, я сейчас буду делать маленькое кубэтэ – пастэль, так вот, нижняя часть называется на нашем крымчакском «тэбы». Боковые части, самые вкусные, – «кинари». Верхняя часть, как ты правильно заметил, крыша. На самом деле это дверь в то же самое небо, потому что им закрывается кубэтэ. Дверь на нашем языке – «капу»… Дверь закрывается, а через отверстие кубэтэ дышит, с небом разговаривает, и линия указывает, к кому оно обращается, понял?
Мама прошептала мне что-то еле слышимое:
– Гильсен… Гильсен… приходи, кубэтэ, приходи…
Наконец мама доставала кубэтэ из духовки, медленно вываливала его из противня и сковородки, с помощью лопаточки укладывала на ту же фанеру и начинала убирать со стола, накрывая его для гостей.
– Мама, а что самое главное, чтобы кубэтэ получилось?
– Этого никто не знает, но думаю, что какое-то состояние внутри, словно я пляшу и хочется петь. Словом, кураж какой то. Есть у меня подруги, которые делают все правильно, а выходит… Ну что-то не то…
Я, удивленный тем, что еще оставалось достаточно много мяса, спрашивал маму:
– Послушай, но тут же еще на одно большое кубэтэ!
– Э, сынок, это мясо я отнесу на базар, отдам Казахчи Бохору Акаю, тому, кто так прекрасно нарезал мясо. А вообще, чтобы ты знал: кубэтэ – значит «коб», много, а «эты» – мясо. Получается – много мяса. «О» превратилось в «У» наверное от восклицания, восторга: «У, как вкусно…» У нас ещё и та кой обычай: мы должны его благодарить. Все должны хорошо есть, понял, агланчик?
– Мама, ну расскажи мне ту историю про солдата и кубэтэ, ну, – начинал канючить я, потому что мне нравилась эта история…
– Ты должен сам это уже рассказывать своим друзьям. Так вот, когда сын возвращался домой с фронта, то он так со скучился по домашней еде и особенно по кубэтэ, что вышел на стоянке поезда в Джанкое – это ровно час езды от нашего города, – побежал на почту и послал телеграмму своей маме: «Так соскучился тчк уже в Джанкое тчк приготовь пастэль тчк – целую»… Когда он убежал от телеграфистки за отходящим поездом, то она долго сидела, задумавшись, убирая слезу со щеки, думая про себя: как же люди измучались на фронте, как они устали и как хотят спать, что просят еще с дороги телеграммой постелить им постель…
Я смеялся, жалел телеграфистку, того солдата и, конечно, себя… Потом пришли гости. Пиршество было шумным, но довольно быстрым. Все хвалили маму, а она скромно отводила лестные слова.
– А я плохо делать ничего не умею, особенно кубэтэ, мы же крымчаки…
– Мама, – опять заныл я, – почему так получилось? Ты долго его делала, ходила за ним, приговаривала, каталарас катывала почти полдня. Потом пришли все и быстро его съели… Надо бы медленней, с рассказом: что, где, как, чего, ну, как ты мне рассказывала…
– Э, парень, это значит, что кубэтэ получилось настоящим…
История одной любви
Ал Яшах Бохор, Бозак Ешва, Джырых Сах, Зырзоп Шолом полюбили Гюзель Сарапай. И сказал ей как-то Ал Яшах:
– Буду каждый день лицо белить зубным порошком и сидеть под холодной водой, лицо не будет красным, если пойдешь за меня…
– Нет, ты мне не нравишься…
Бозак Ешва, в оливах прячась, шептал издалека ей:
– Буду голодать, не есть кубэтэ и ушки кастрюлями, буду бегать вокруг Карасубазара, и даже в праздники пить только воду. И стану стройным, без большого пуза, если пойдешь за меня…
– Нет, ты мне не нравишься…
Джырых Сах, зайдя как родственник к родителям, сказал в саду ей:
– Я перестану плакать и слезы по лицу размазывать, смеяться буду целыми днями, как минимум – улыбка, если ты пойдешь за меня.
– Нет, ты мне не нравишься…
Зырзоп Шалом в дни праздника на площади успел с ней перемолвиться:
– Я буду жонглировать тарелками и грушами, попадать в корзину и стану ловким и подвижным, если ты пойдешь за меня…
– Мне жаль тарелок твоей семьи… Но ты мне не нравишься…
Затем Гюзель Сарапай пошла к подружке и сказала:
– В меня влюбились сразу четверо: краснощекий Бохор, пузатый Ешва, плакса Джырых и неуклюжий Шолом… Что делать, я не знаю…
– Да гони ты их всех, – сказала Балабан баш Незер, потому что рассчитывала на каждого из них, – пойди за Юрганджи Пнас, всегда под одеялами из шелка спать будешь, или за Комырджи Аронокая, всегда с углем будешь и дровами…
– Нет, мне не нравятся ни одеяльщик Пнас, ни угольщик Аронокай…
И пошла Гюзель Сарапай к отцу и матери и рассказала все как есть. Отец сказал:
– Ты за того пойдешь, кто побогаче…
А мать сказала:
– Кого полюбишь, за того пойдешь, – и посмотрела мельком на отца.
– Он завтра свататься придет, – промолвила Гюзель и убежала.
Назавтра в дом Гюзели Сарапай пришли сваты. Затем был представлен жених. Он был пузатый, краснощекий, с плаксивым выражением лица, да и к тому же за столом разбил бокал из тонкого стекла …
Звали его Каракаш Насан.
И все воскликнули:
– Но он же…
– Я его люблю и выйду за него…
И была свадьба, и за одним столом сидели краснощекий Бохор, пузатый Ешва, плакса Сах, неуклюжий Шолом и большая голова Незер, отец и мать, а во главе стола красивая Сарапай и чернобровый Насан.
И было весело и грустно.
Свадьба
В нашем дворе стоял большой дом с тремя комнатами, кухней, ванной, где жили папа, мама, мои старшие брат и сестра и, конечно же, я… Напротив дома, на расстоянии метров пятидесяти, прислонившись к забору соседского дома, стояла так называемая времянка: домик с верандой, которые отец построил после войны непонятно для чего. Там жили куры и гуси, два поросенка, потому что полов там не успели постелить: все собирались, да так и не собрались… Отец много работал, некогда было. Я был тогда маленьким, ну лет девяти, и это было мое хозяйство вместе с огромным царством сада, который располагался за домом и времянкой. В саду были еще сарай с углем и дровами и большая деревянная уборная, похожая на скворешню. Сад был немолодой и плодоносящий, и все лето с веток падали то груши, то яблоки и сливы. Я чувствовал себя героем, потому что соседские пацаны пробирались ко мне под тень больших ореховых деревьев для фруктовых пиров.
Но пришло время, и моему царствованию стал приходить конец. Как-то на нашем дворе появились три или четыре человека, которых встретила моя мама. Они начали разговаривать на непонятном мне языке. На этом языке мама говорила только с бабушкой и сестрами. Потом они ушли, но снова вернулись. К вечеру появился отец, и они сели в саду за деревянным столом и стали разговаривать уже по-русски.
В итоге я все понял и страшно расстроился, потому что люди эти были крымчаками, и жить им было негде. Они просили отца, чтобы он дал им пожить год или два во времянке. Оказалось, что это были дальние родственники мамы. Вскоре все разошлись. Ну а мне мать сказала, что в пристройках будут жить эти люди и чтобы я хорошо к ним относился. В общем, так оно и получилось. Только прожили они у нас во времянке не год-два, а до того самого момента, пока мы сами лет через десять не съехали из этого, по моим тогдашним представлениям роскошного дома… Многое стерлось из памяти, но никогда не забуду, как я впервые увидел большой праздник, в котором по большому счету ничего не понимал.
Это была крымчакская свадьба. Года через два после того, как у нас во дворе появились новые жильцы, Ламброзы, как я их называл. Они пришли к моему папе и опять попросили его о чем-то таком, о чем мама и папа долго и тайно потом шептались, а затем объявили и мне, и брату с сестрой, что у нас во дворе, и в нашем доме, и в саду будет свадьба. Женится сын наших Ламброзов, так я тогда сказал друзьям на улице.
Помню, в воскресенье со всех столов в доме были убраны наши вещи и книги, и какие-то непонятные, но приветливые люди таскали тарелки, вилки, ножи. Во дворе происходило то же самое. Кроме того, к вечеру стали подходить музыканты. Кларнет, бубен, труба, аккордеон, что-то с натянутыми струнами – и потихонечку все это заиграло, задвигалось, калитка двора открывалась и закрывалась, во дворе становилось все больше людей, и я начинал теряться среди них. Стало темнеть, несмотря на лето, и вдруг во дворе зажглись цветные лампочки, снятые с проходной консервного завода и оповещавшие, что это был консервный завод имени Первого мая. Мне стало смешно: какое Первое мая в июле? Но никто на это не обращал внимания, главное, что было светло, и стали говорить: «Кто хочет посмотреть приданое невесты, могут пройти в дом невесты». Опять смешно, это же мой дом, но все пошли, а я слушал музыкантов и смотрел на бегущее «Первое мая». «Джеиз кормек – то, что надо, – слышалось вокруг меня. – Надо посмотреть, какой «бэ» достался невесте, когда ее сватали».
– Мама, что это такое «бэ»?
– Ну, подарок невесте, обычно это золотое украшение.
– Ух ты, золотое…
Потом я уснул, а наутро никого не было, и я подумал, что свадьба кончилась, и обрадовался. Но потом увидел, что все на своих местах, и мама мне сказала, что завтра будет продолжение.
– А какое?
– Ну посмотришь, жених наш Марк и его друзья будут сидеть в одной комнате весь вечер, а его невеста Куюна – со своими подругами, и как они будут прощаться с холостяцкой жизнью, так принято.
По двору все время бегал туда-сюда суетливый толстячок Моня. Оказалось, что он был распорядителем («игитлер ага сы») и все время торопил всех:
– Так как у нас там назавтра с баней? Так что у нас с продуктами, я имею в виду, когда начнете тесто замешивать?
– Ой, Моня, не смеши, тебе бы только замешивать, ты посмотри, какой курдюк наел, своего-то не найдешь, – смеялись над ним женщины.
Чего своего, какого своего – я так и не понял. В четверг вечером я впервые за эти дни увидел отца, он все это время был на работе. Он спросил у меня:
– Ну что, колорадский жук (я был черным от летнего загара), тебя тоже так будем женить?
– Нет, по-крымчакски долго очень.
– Ну тогда по-нашему: штамп, стол и айда по жизни…
– Ну что, Петро, – обратились к моему отцу, – пойдем к баньке, там, пока молодых готовят, выпьем молодого винца.
И все двинулись туда, в конец моего сада, где стояла наша старая банька, которую разделили на две половины простынями, и вскоре оттуда вывели молодых. Марк был подстрижен, а Куюна была красиво причесана, и под пиликанье оркестрика они двинулись по своим половинам. Дело в том, что, поскольку наши молодожены были не так богаты и у них не было своих домов, то невесту повели в наш дом для одевания, а жениха в его, то есть в нашу времянку. Когда из нашего дома вышла невеста, у нее был белый головной убор.
– Видишь, у невесты на голове белое со стеклярусом, падающим на глаза? Это «пыл бурунчих», что-то вроде фаты, а на груди монисто из золота, их три – «юзлик алтын» (золотая монета николаевка, в 10 р.), «эллик алтын» (золотая монета, в 5 р.), «мамадьялар» (золотые мелкие разменные монеты), а папа ее сейчас опояшет невесту, свою дочь, и передаст жениху…
Затем пришел на двор ребе, и вся свадьба без гостей по ехала в каал, как объяснила мне мама.
– Там жениха и невесту поставят под балдахин, и ребе обвенчает молодых. Пятничную ночь они проведут вместе, а в субботу уже молодая жена будет принимать подарки, в то время как жених поедет в каал и будет читать тору. А вот затем начнется гулянье всех гостей, начнется все с половины жены и перейдет на половину мужа, так по нашему обычаю происходит, – заключила мама.
– Значит, опять все начнется в моей комнате, а потом перейдет к Марку во времянку, – подытожил я.
– Ну пусть будет так, сынок…
В субботу где-то к полудню, когда собрался полный двор гостей, все началось, как я и думал. Ударили бубны, заиграли два кларнета и труба, и начали играть «хайтарму», как мне потом объяснили – праздничный танец, и все пустились в пляс. Столы вынесли во двор и заставили кубэтэ, белой халвой (ахалва), соте, рулетами с вареньем (сарых), икрой из кабачков, лакме, пончиками на меду, вином и водкой. Как я с утра ни поливал лейкой двор, пыль поднялась до веток сада, но никто этого не замечал. Появился толстый Моня и начал произносить тосты и поздравления, да все в рифму и так ловко, что я удивлялся, как много родственников и знакомых у крымчаков по всему миру.
– Дорогих Куюму и Марка поздравляют из Лондона и Женевы. И подписи: король, королева, Дора, Изя и ваша Ева!
– Ура!
– Мариуполь, Одесса и малый Торжок поздравляют, но, Марк, за тобою должок!
– Ура!
Гости рукоплескали и поднимали стаканчики с вином и водкой.
– Вот, мальчик, видишь, какие мы известные. Весь мир гуляет с нами, слышал, какие телеграммы зачитывает Монечка…
– Моня, давай!
И Моня давал.
– Жить вам жить лет и двести и триста. Телеграмма из Интуриста!
Наконец, на круг вышел еще один тамада с серебряным подносом и объявил:
– Это для тех, кто играет для нас и поет весь день и всю ночь. Музыканты – Саша Берман, Володя Бакши, Еся Кокуш, Мойша Чубар и Сафар.
На поднос полетели бумажные деньги. Скоро он заполнился, и деньги, как листья, стали опадать на землю. По ним танцевали, шаркали кожаными подошвами черных лакированных узорчатых мужских туфель, их драли в клочья каблуки-бутылочки женских… Наконец, в центр вышел Колпакчи, наш сосед, все замолкли и музыка смолкла. Он бросил сотню на землю, стал оседать корпусом на икры ног и в какой-то миг перегнулся и стал головой наклоняться к низу. Он старался достать губами эту сотню. Дважды он чуть не упал от тяжести живота, но все же сумел, не касаясь земли, поднять деньги. Музыка грянула вновь, и свадьба загудела еще сильней…
Вдруг из глубины сада донесся крик:
– Ой, что случилось, ой, беда, ой, какой стыд и позор! Моня провалился в уборную, представляете, сел на дырку, и под ним лопнула дощечка, и Моничка провалился в говно. Ой, что будет, зовите хозяина, надо доставать Моничку, он же по шею в говне, видно, давно не вывозили…
Прибежали мужчины и начали тащить толстого Моню, а он все причитал:
– Говорили же мне: не ходи, не ходи на эту дурацкую свадьбу, всего за сто рублей вступишь в какую-нибудь историю, и вот вляпался, да как! Теперь всю жизнь вонять буду!
– Ничего, Моня, – сказал мой папа, – это к деньгам.
– Это если снится, а я наяву.
– А кто тебе сказал, что нам все это не снится, а, Моничка? Мы тебе заплатим за костюм и отмоем в баньке сейчас же.
И Моню потащили под кран. А свадьба гудела, Монин провал оказался незначительным эпизодом. К двенадцати часам ночи неожиданно небо раскололось, и начался небывалый фейерверк – залпами из нескольких орудий салют осветил весь город золотым, зеленым, малиновым цветом.
– Вот это свадьба, вот это жених и невеста! – и каждый подмигивал: мол, это я, это моя работа!
Жених и невеста, уже изрядно уставшие от такой длинной процедуры, еле-еле сидели за столом, а гости все подходили ко мне и говорили:
– Ой, какой хорошенький мальчик, выпей сухого вина стаканчик! – и подносили, учитывая, что мне было десять лет, стограммовый граненый стаканчик…
Утром мама нашла меня спящим на половых тряпках между стеной и шкафом в обнимку с дворовым псом Жуликом и домашним котом Персом. Так я впервые напился. Гостей уже никого не было, все остывало. Свадьба кончилась. Я услышал только, как мама спросила папу:
– А кто же все-таки заказал вчера такой грандиозный салют в честь молодых?
– Кто заказал… – ответил отец. – Ты разве ничего не знаешь? Вчера вышло постановление Правительства СССР о присоединении Крыма к Украине. Поэтому и салют был.
Я только услышал, как отец и мать рассмеялись. На следующий день я увидел, что Марк и Куюна с утра пораньше куда-то ушли. Я начал пытать мать, куда это они делись, потому что рассчитывал на какую-нибудь игрушку в подарок от них.
– Ой, сынок, да они пошли на кладбище, договариваться, чтобы им оставили места рядом. Я был потрясен.
– Это что же такое, только поженились – и сразу умирать?
– Да это обычай такой у нас, крымчаков, глупенький, говорящий о том, что муж и жена теперь до гроба вместе.
– Не хочу до гроба, почему до гроба? А вы что, с папой не до гроба? Что за обычаи… Вот то, что толстый Моня упал в уборную, так это обычай что надо! А это что за обычай – до гроба, – долго возмущался я, а мама с папой смотрели на меня и смеялись, смеялись…
Яркое платье
Сах ходил по главной улице, высматривая красоток. Это было его любимым занятием. Если он вдруг выхватывал глазом что-то яркое из толпы, то останавливался и, делая вид, что смотрит вперед, смотрел назад. В прямом смысле – на зад дамочки, которая вихляла им так, что Сах чуть не приседал от восхищения и разыгравшегося воображения, рисовавшего ему яркие картины… Вот так и сейчас: он увидел нечто в красной шляпе и ярком цветастом крепдешиновом платье, которое шуршало и скрипело каждой строчечкой и ниточкой, слегка просвечиваясь, являя еще более восхитительные картины, если закрыть глаза. Сах не успел насладиться этим видом, как вдруг к яркому пятну подошли два милиционера, остановили женщину, взяли под руки. Дама, естественно, начала визжать. Сах сразу подошел и на слово «свидетель» тут же откликнулся:
– Я свидетель, я все видел.
– Что ты видел, идиёт, что ты видел?
– То, что надо, то и видел, – сказал, улыбаясь, Сах даме, намекая, что он на ее стороне.
Милиционеры потащили ее в отделение. Потащился за ними и Сах. В отделении сидела другая дама, конечно, не такая красивая, но тоже ничего, отметил про себя Сах.
– Так, откуда у вас это платье? Вот эта женщина говорит, что вы его у нее украли. Верно?
– Да вы что! Я купила платье на толчке.
– Ну, что ты на это скажешь, Сах? Ты же сказал, что все видел.
– Конечно, видел. Видел, как эта вот… пришла на толчок в одном платье, а потом к ней подошли двое – мужчина и женщина – и предложили купить это самое платье.
– Не слушайте вы его, он из той же компашки, – расплакалась обворованная.
– Нет, – сказали милиционеры, – мы знаем Cаха, он целыми днями болтается по улицам, но ни в чем плохом замечен не был. Ну продолжай, Сах.
– Еще чего! Я видел, как она переодевалась.
– У тебя, придурок, – только одно на уме, – сказала арестованная. – Ну и что ты увидел?
– Я увидел… Я увидел, как она сняла старое платье и положила его в эту сумочку. А в новом ушла.
– Та это же одна компашка, они так одевают друг друга, а потом…
– Та не, – заговорила задержанная, – я вышла пройтись в новом платье, такая погода, аж выпирает все наружу, иду, а этот пялится на меня, а тут вы… Я не воровка!
– Да, – сказал Сах, – не воровка.
– Так, откройте сумочку, дама, – приказали милиционеры. Она открыла и высыпала все. Платья там не было.
– Вот видите, видите, это одна компашка, ну житья от них нет, только сшила себе платье, а эта профура уже напялила на свой зад…
– Так, а где же платье старое?
– У портного… Платье немного мне мало было, и я зашла к нему, а он как начал бегать вокруг меня: мол, все сделаем, да еще приговаривает: «Складка, складка… подожди – сзади газ будем пускать» – ну, мол, газовую материю, а я ему: «Зачем газ? Просто отпустите немного сзади», а он: «О, отпустить – это мы можем» и… Ну, тут я и выбежала, и платье свое забыла.
– Ну вот, я же говорила, еще и портной, это целая банда.
– Ну хорошо. Ты, Сах, тех, кого на толчке видел, описать можешь?
– А как же, – соврал Сах, – оба такие высокие, в пальто…
– Что ты мелешь, Сах, какие пальто, жара на дворе, какие двое? Ты же сказал – мужчина и женщина…
– Тьфу, сначала были двое, а потом пришла женщина, а пальто…
– Так сходи к портному, на Ильинку, и приведи его сюда, да попроси, чтоб платье захватил.
– Вот видите, еще и ушил платье, мое, а я худенькая, а эта корова, воровка…
– Я не воровка, я пошла с утра на толчок, там на улице Футболистов…
Вскоре вошел портной со свертком и заговорил быстро-быстро:
– Я не снимал с нее, она сама говорит – отпустите сзади, а я говорю – зачем сзади, так красиво, лучше газ будем пускать… шторка, шторка делать, ну и коснулся нечаянно, а она… вот…
– Так, стоп! – закричал милиционер, – сверток мне! Сейчас будем методом дедукции действовать. Какое платье, чье? Какого цвета будет, если разверну?
– Ну, зеленое в черную полоску, – сказала красавица.
– Какие еще приметы имеются?
– На левой стороне под вырезом приколота розочка искусственная…
– Так, вскрываем…
Под взглядами, наверное, восьми человек капитан развернул сверток, но там было платье другого цвета… Все ахнули, даже потерпевшая:
– Ну вот, я же говорила…
Даже Сах чуть не заплакал и сказал себе под нос: «Воровка, а с таким задом…»
– Ну что же, все свободны, будем сажать, мало тебе не покажется. Так, фамилии, адреса подельников…
И красавица заревела так, что хозяйка платья начала ее успокаивать:
– Да ладно успокойся, много не дадут, я дам хорошие показания…
И тут портной достал из-за спины другой сверток.
– Вот оно, зеленое в черную полоску, это она оставила, я боялся, меня обвинять будут, что я сзади дотронулся, чтобы газ пускать, ну там шторка-шторка…
– Так, сумасшедший дом, всем сесть! Дамочка, вспоминайте людей, которые вам продали это платье, сейчас пойдем на толчок, и вы поищете их в толпе, остальные по домам, завтра вызовем, платье новое пока не снимать… шторка-шторка… газ будем пускать…
Сах пытался пойти с ними, но его быстро отшили.
– Завтра придешь, ты и так все время здесь ошиваешься.
На толчке, где можно было купить все что угодно, было еще много народу, хотя уже был почти полдень. Зина, так звали красавицу, понимала, что это был ее шанс, и, как всегда в таких случаях, уже на пределе возможного заметила мужчину, правда без женщины, которые и продали ей ворованное платье. Она долго шла за мужчиной, а он как почувствовал, и уже на самом выходе вдруг повернулся к ней и гнусавым голосом прошипел:
– Счас попишу, падла, лица не узнаешь, писочку видишь? Но Зинка не струсила и заорала на весь толчок:
– А вот этого ты не хочешь, сволочь! – повернулась задом к вору и задрала подол нового платья, да так, что оно треснуло по шву… Вор стушевался, согнулся и попытался убежать, но его уже держали за руки.
Назавтра все собрались в милиции, составили протоколы, расписались, и мадам, которую обокрали, подошла к Зинке и сказала:
– Слушай, возьми себе это платье, я не смогу ходить в нем после всего.
– А я смогу, что ли? – ответила Зина.
Тут подошел портной с виноватой улыбкой.
– Пойдемте ко мне в мастерскую, я все перелицую и перешью, никто и не заметит.
Так Сах познакомился с очаровательной женщиной, с которой они долго ходили вместе по центральной улице, пока не поженились.
Крылья бабочки
Коэна забрали в армию перед самой войной с Германией. Еще в первую империалистическую. А так не хотелось! Не потому, что Коэн боялся грубых армейских шуточек, издевок по поводу его не особенно крепкого телосложения или непонятной для других парней национальности… Крымчак – это что такое? Еврей, караим, татарин? Или, может, вообще грек или армянин? А объяснять долго, и все равно не поймут. Тем более что Коэн был музыкантом, точнее трубачом. Еще в школе у него обнаружился музыкальный слух. Часто он закрывался в садовой уборной и громко пел песни. Всякие, какие знал. Все говорили, что талант. Но чаще жестко шутили, особенно сверстники:
– Коэн, с таким голосом, как у тебя, только и сидеть на толчке и кричать: «Занято».
Но Коэн не обижался. Он знал только, что будет музыкантом. Но не певцом, потому что голос его начал ломаться со временем. И вот однажды отец позвал его и сказал:
– Слушай, сынок, я всю жизнь катаю эти проклятые одеяла, руки горят. Хочу, чтобы ты выучился другой профессии, но такой же нужной, как и моя. Одеяла нужны всем, во все времена. Так вот все соседи говорят, что у тебя есть способность к музыке, а это тоже, знаешь, как одеяла – без нее никуда: ни на свадьбу, ни на… сам понимаешь. Сходим-ка к Бохору, он скрипач, может, что подскажет?
И пошли они к Бохору. Тот принял их, велеречиво рассказав о достоинствах своего инструмента и том, как скрипка нужна людям. Даже сыграл что-то очень мелодичное и жалостливое.
– Так что, пойдешь ко мне в ученики за небольшую плату, а?
Отец подозрительно посмотрел на Бохора и сказал:
– Это ты будешь учить? И чему? Чтоб над столом пьяным в кабаке играть «Глаза твои карие»? Э, не для этого я сына привел к тебе.
– Хорошо, – сказал Бохор, – тогда вези его в Ак-Мечеть, там музыкальная школа, они его прослушают, проверят на слух.
– Да, слышит он хорошо, правда, сынок? Ну-ка отойди на десять шагов, а я шепну…
– Ты вот прерываешь меня, а я не о том слухе, я о музыкальном слухе. Ладно, поезжай, я дам тебе адрес одного моего знакомого, заодно он тебе поможет, если что.
И Коэн один поехал в Ак-Мечеть. Когда он вошел в музыкальную школу, то был поражен обилием звуков, издаваемых роялями, скрипками, флейтами и кларнетами, тонкими мальчишескими голосами… И вдруг он услышал мягкий, но и сочный пронзительный звук трубы. Она выводила знакомую мелодию, но Коэн не мог вспомнить, откуда. Он стоял под дверью и наслаждался переходами трубача с одной мелодии на другую. И все это закончилось маршевой призывной, да так прозвучавшей, что ему захотелось шагать и идти, куда позовет труба. И он вспомнил, что однажды, когда был еще маленьким, в Ак-Мечети, на улице он увидел, как военные шли строем. Впереди шел трубач, а за ним барабанщики, и все подчинялись стройному маршевому ритму, поддерживаемому дробью маленьких и гулом большого барабана… Он заглянул в класс, и его ослепила небольшая, ярко-золотого цвета вещь. Он, никогда не видевший настоящей трубы вблизи, понял сразу – это и есть труба, и сердце его навсегда влюбилось в нее.
– Ты кого ищешь? – спросил преподаватель.
– Да никого, я слушал… Я хочу играть… На ней.
– Ого, сразу играть! Это тебе не дудочка, учиться надо.
– Я буду…
– О, господи, ты откуда такой свалился?
– Из Карасубазара.
– А слух у тебя… Хотя да, а ну-ка повтори, – и напел что-то. Коэн повторил точь-в-точь… Преподаватель удивился и опять сказал:
– А вот повтори это, – и настучал сложную композицию пальцами на двери.
Коэн воспроизвел все в точности.
Преподаватель сел за рояль и по полной программе проверил Коэна. Оказалось, что тот обладал абсолютным слухом. В тот день домой, в Карасубазар, Коэн вернулся счастливым.
– Папа, я поступил, буду учиться играть на трубе…
– На трубе играют только трубочисты, – пошутил папа.
– Меня прослушали и сказали, что у меня талант к этому инструменту, но надо учиться три года и каждый день ездить в Ак-Мечеть на занятия. И потом… самое главное, папа, надо купить мне трубу, сказали, какой-то «корнет»…
– Что? Купить трубу? «Корнет»? А ну пошли к Бохорчику…
И Бохорчик все им объяснил, что труба нужна не сразу, а жить он сможет у его родных.
– Да у нас и своих там хватает, – обиделся папа.
– Ну и хорошо.
– Что хорошо?
– Хорошо, что приняли, а то могли бы и обмануть, вот как меня… Я так выучился у нашего Мошекая, что до сих пор гармонией не владею…
– Какой еще гармонией? Я с трудом на трубу наскребу, а тут еще и гармонь?
– Да нет, старик, ты как катал одеяла, так и катай! А у твоего сына уже другая судьба… Будет в оркестре играть, в черном костюме с бабочкой… А ну, жена, налей-ка нам по стаканчику, выпьем за Коэна….
И Коэн стал ездить каждый день в Ак-Мечеть на занятия, возвращаясь домой поздно. То его подвозили подводы, то грузовики, а когда доходил до школы когда и пешком. Учителя его хвалили, время шло, и он уже жил у родственников на правах талантливого музыканта. Уставал бешено, потому что занимался много… Три года прошли почти незаметно, и вот уже его предупредили, что скоро заберут в армию. «Ну ничего, – думал Коэн, – после армии буду учиться дальше. А, кстати, трубачи нужны и в армии… Трубач всегда впереди, а уже за ним стрелки и артиллерия, конница…»
Призыв и военные действия совпали. Более того, он сразу попал на передовую. Корнет он взял с собою. На первом же построении одетым в форму солдатам вручали винтовки, и, когда дошла очередь до Коэна, он предстал перед командиром с трубой под мышкой, медным альтом, с тремя помповыми клавишами…
– Это еще что такое, солдат?
– Труба, Ваше благородие…
– Эка штучка, выбросить немедленно, скоро в атаку! Взять ружье…
– Никак нет, Ваше благородие, не могу, я музыкант… Я могу только на трубе…
– Что? На трубе?.. Я тебе сейчас такую трубу…
– Я могу идти впереди всех и играть так, что германцы разбегутся.
– Да ты трус, солдат! Разоружить… то бишь забрать трубу.
Двое подбежали и скрутили Коэну руки. Труба выпала…
– Я не могу стрелять, я могу только играть, Ваше благородие…
Воцарилось молчанье. Только грохот орудий совсем невдалеке говорил о том, что пора…
– Ах ты, гадина! Царь и Россия в опасности, а он играть… Бери винтовку или…
– Никак нет, Ваше благородие, я музыкант, я могу только…
– Что ты можешь, я знаю… Если не возьмешь – расстреляю…
– Не возьму, – ответил Коэн, – я могу только звать вперед призывным маршем, а убивать…
– Расстрелять в связи с военным положением!
И три солдата повели Коэна в лесочек недалеко от построения солдат. В строю воцарилась тишина. Все онемели.
– Так, кто еще хочет играть на трубе?
Коэн повернулся на окрики. Последнее, что он увидел отчетливо, ярко – цвело всеми красками жаркое лето, марево немного слезило глаза. Но все же он успел запечатлеть перед смертью, как бабочка села на мушку одного ружья и взмахнула большими яркими крыльями. Затем он услышал два выстрела и увидел, как вместе с хлопком разлетелись в пух и прах крылья бабочки.
– А я не успел, – сказал не выстреливший солдат. И все трое, заревев, упали на землю.
Дядя Акива
1
21 ноября 1920 г.
«Акива, прошу тебя, уезжай! Ни красные, ни белые не дадут этой земле ничего хорошего. Человеку между этих двух сил выжить невозможно. Можно будет только быть рабом их желаний. Никогда я не любила тебя так сильно! Никогда я не желала тебя так сильно! Но уезжай, Акива, уходи, как можешь и на чем хочешь.
Я буду каждую секунду думать о тебе, жить тобой. Люблю твои тонкие пальцы, когда ты зажимаешь в них мундштук со своей любимой сигаретой, люблю запах дыма и пота твоего тела… Дети наши будут такими же красивыми. Если ты не уедешь – их всех убьют эти недоноски… Уезжай, Акива. Как только мама поправится или умрет, я приеду к тебе, переплыву море на любом пароходе. Ты меня встретишь в Стамбуле на причале и будешь так же держать сигарету с мундштуком в своих тонких пальцах, ласкавших меня еще прошлой ночью… Акива, уезжай… Крым – это райское место, но в нем навсегда поселились черти. Что они сделали с Анжело, как они поступили с Зенгиным. Отняли все, да еще и убили. Знаю, что тебе ничего не жаль из того, что ты заработал. Знаю, что самое дорогое у тебя – это я. Но я знаю, что самое дорогое у тебя – это ты сам, твоя жизнь. Ты сможешь жить где угодно: в Стамбуле, Нью-Йорке, Париже… Тебе тридцать пять лет. Как я люблю тебя! С тех пор, как мы увиделись в доме у наших Ачкинази, помню – ты опоздал, тебя все ждали, а я думала: какой он, этот Акива? Видишь, оказалось, что я до сих пор не знаю, какой ты, Акива. Я просто люблю тебя, но прошу – уезжай ради меня. Я буду знать, что ты жив, что за тобой не гоняются эти уроды с кривыми револьверами. Да они не то что жить не умеют, они убивать не могут по-человечески. Сначала пытают, бьют, чтобы человек, уходя из жизни, уносил с собой самое худшее впечатление, даже о самом последнем дне своем… Акива, уезжай… Я приеду, как только маме станет полегче, и, может, мы вместе сможем добраться до парохода.
Акива, уезжай…
Твоя Эстер».
2
Акива рванул не в Севастополь, не в Ялту, не в Феодосию, где его могли перехватить красные, а незаметно с одним саквояжем самого необходимого двинулся в сторону Тарханкута. Он хорошо знал эти плохо обжитые места в Крыму. Чертов угол был мысом, выдающимся в Черное море, с небольшой деревней в центре. На самом краю мыса еще с прошлого века стоял знаменитый Тарханкутский маяк, имевший большое значение для людей, живших от моря. Корабли, лодки – все видели в ночи его подмигивающий красный глаз, а днем его белый фаллический знак, символ все для тех же обитателей… Акива был знаком со смотрителем маяка, а также знал несколько человек в небольшом селении Оленевка, прямо под Тарханкутским маяком. Знал он также, что в Оленевке были мужики, занимавшиеся контрабандой. Ходили и каботажем, за кордон вдоль берега до Румынии, Болгарии и обратно. Акива точно не знал, что было предметом их контрабанды, но знал только одно – это была связь с другим, теперь уже другим миром.
3
Смотрителя маяка поставили еще при царе Николае указом военного ведомства и платили неплохое жалованье. Он был в чине морского капитана, интеллигентный, лет пятидесяти холостяк, решивший доживать свое в отшельничестве. Тем не менее он нашел себе домохозяйку из местных, которая была не так образована, но умна от природы, да и внешне симпатична. Они сошлись. Акива надеялся, что поселится у Антоныча, так все называли смотрителя, и не ошибся. Как только Акива постучал в дверь Антоныча, тот тут же ответил:
– Акива, проходи, мне уже доложили, что ты на нашей забытой даже чертями земле…
– Это кто же так быстро?
– Сам знаешь, шептуны и слухи работают быстрее любого телеграфа. Ты как здесь оказался? Последний раз я тебя видел, когда ваша светлость подарила нашему маяку шесть дуговых ламп, чем, собственно, и сохранила свет в ночи. Спасибо, братец! А сейчас что тебя привело? Ириша, завари нам чаю с чабрецом и лимонником, гость у нас.
– Хорошо, – донеслось из глубины просторных, но низких комнат.
– Я все понял, когда увидел твой саквояж. Но с нашими мужиками рискованно.
– А где сейчас не рискованно, мне уйти через таможню вообще невозможно. Тут же задержат и расстреляют.
– Акива, я поговорю сегодня же. И цену скажу. И еще – куда?
– До Констанцы, а там… Я уже сам.
4
На следующую ночь Акива вместе с тремя здоровыми парнями вышел в море на небольшом парусном шлюпе. Ветра не было, поэтому двое гребли, а третий правил рулем.
– Пойдем вдоль берега ночами, а днем будем ховаться в тайных бухточках, – сказал Акиве один из парней.
Первая ночь прошла спокойно, потому что, как объясни ли Акиве, одна власть ушла, а другая еще не пришла. Акива понял, что основные сложности будут при пересечении румынской морской границы. Но и там больших трудностей не было. Видно, дорожка была обкатанной, и пришлось только выдать контрабандистам еще два золотых кольца сверх оплаты, чем они и рассчитались. И вот через полдня его высади ли на берег в четверть мили хода до порта Констанца. Акива увидел экипаж, остановил его и по-французски попросил довезти до центра города. Он поселился в отеле и пошел на почту спросить на свое имя корреспонденцию. Они договорились, что Эстер будет посылать ему небольшие письма в Софию, Констанцу и Стамбул. Однако письма не было. Может, что случилось?
«Буду ждать здесь, пока не получу письма. В Стамбул не поеду», – подумал Акива и тут же остановился от сильного чувства любви к Эстер.
Он вспомнил всю ее: чуть неточно, смазанно, она вдруг предстала в его сознание в платье, обтягивающем ее тонкую и одновременно пухлую фигурку, он как бы увидел ее лицо, окруженное длинными черными волосами, серо-голубые глаза с непонятным светом, нос, прямой с небольшой горбинкой, чуть обиженные губки… Наконец, он увидел ее голой. Что же она делала с ним, такая скромница! И не подумаешь, сколько в ней страсти…
«Вот это наши женщины-крымчачки! Думаю, все они такие: никогда и виду не подадут, но если уже… Любовь их так красит и раскрывает. Они отдают все своему возлюбленному… мужу», – подумал Акива.
Он ринулся на пристань и купил билет на отходивший до Стамбула пароход. Перед этим он снова добрался до почты и получил все-таки письмо от Эстер…
5
20 июня 1921 г.
«Акива, Акива, ты где?
Где твои реснички, хлопающие по моим любимым глазкам? Что видят эти глазки сквозь слезы? Акива, Акива, как я скучаю по тебе, как я хочу тебя… Видеть, трогать, целовать твою рубашку, пальцы с перстнем, дышать твоими запахами, стричь твои ногти и мыть голову с мылом, а потом поливать горячей водой… Акива, Акива… Мама пока плоха. Приходил доктор, назначил пиявки на шею, бром, но этого так мало, чтобы помочь ей. Она страдает болезнями возраста, а это не излечимо, Акива, надо жить с этим. После твоего отъезда никто не приходил за тобой. Видимо, поняли, что ты исчез незаметно. Меня не трогают. У меня ничего нет, кроме необходимого. Нам помогают Ачкинази и Токатлы… Акива, Акива, я как представлю, что ты там один, – так сердце останавливается. Где ты сейчас читаешь мое письмо: в Стамбуле, Софии или Констанце? Целую твои ладони и венку вдоль руки от запястья, ты так любишь это… В Крыму все цветет, море пахнет надрезанным арбузом и йодом. Это раскрылась рана зимы, но скоро все затянется под нашим тягучим и ленивым солнцем. Акива, ты знаешь, по-моему, в Крыму начинается голод. За продукты берут много денег и даже требуют золото. Много бедных на улицах, все просят милостыню. Каждый день хожу на базар, и, слава Богу, наш крымчак, мясник, сын Леви, достает мне из-под прилавка хороший кусок баранины, лопатку, ты любишь, Акива, вареную лопатку… Но что будет дальше – не знаю… Если ты в порядке, то не пиши мне, чтобы они не узнали, где ты. Хотя бы там они тебя не тронут… Я посылаю письма из другого города, через знакомых… Сам понимаешь, как нужно беречься. И ты береги себя там, не ходи по темным улицам, питайся в хороших ресторанах. Твоя кожа должна быть такой же нежной, мягкой и пахучей, как бумажный ранет… Целую, люблю, люблю.
Акива, Акива, Акива…»
6
Акива шел по узкой старинной и знаменитой улочке Стамбула – Истикляль. Она была длинной, и по ней, кроме трамвая и людей, не ходили ни машины, ни экипажи. Трамвай ходил медленно в одну сторону по одноколейному пути. В конце Истикляль его ждал другой, чтобы так же медленно ползти в обратную сторону. Огромное количество магазинов и лавок с золотыми и серебряными украшениями, меха, кожа, особенно в фешенебельных магазинах, хотя кожа не такой выделки продавалась и на базарах, но это было совсем другое качество… Хозяева магазинов сразу сажали покупателя или просто интересовавшегося за армуды, грушевидной формы стаканчики со свежим чаем и начинали выкладывать свой товар и торговаться, приговаривая «мой сами лучи»… Это была улица праздно шатавшихся стамбульцев и гостей города. Рестораны, роскошь одних и нищета других уравнивались единством места действия и времени. Много русских. Их можно было отличить по форме офицеров и солдат царской армии, ушедшей от натиска большевиков. Они ходили, оглядывая весь этот праздник жизни, и не находили себя места. Акива подал милостыню двум раненным солдатам, и они сказали ему:
– Собираем на дорогу домой. Слух прошел, что можно вернуться… Солдатам… И, посмотрев на прилично одетого господина, спросили:
– А вы русский?
– Считай, да, коль говорю по-русски. Я из Крыма, я – крымчак.
– Мы о таких и не слыхивали…
– Могу и по-турецки разговаривать, наши языки очень похожи.
– А мы здесь не можем… Чужой язык, чужая земля, нам бы хоть умереть на своей земле…
– Зачем умирать – живите, – как-то легкомысленно ответил Акива, да так, что самому стало стыдно. Он сам не знает, что делать…
– Земля, всюду земля, – пробормотал он и пошел от солдат неверным шагом, мгновенно вспомнив в сознании Эстер, ее последнее письмо. – И что же, разве эти русские не правы?
Он шел медленно вдоль парада страстей и мусульманской кротости. Было странно видеть турок без ярко-красных фесок, их национального головного убора. Дело в том, что именно тогда, в начале двадцатых, Ататюрк запретил носить фески своему народу, чтобы немного европеизировать Турцию, придать ей характер светского государства.
«Но разве дело только в фесках?» – подумал Акива.
В районе Таксима, на улице Шишли, тоже богатой улице, продолжении Истикляль, к нему подошел невысокий турок и спросил на ломаном русском:
– Жэнщина хочешь?
– Отстань…
– Нэт, ти толко посмотрю…
Акива прошел мимо и подумал: «А правда, хочет ли он женщину?» И понял, что хочет, очень, но какую? И сразу вспомнил Эстер… «Господи, что я делаю здесь, когда она там. Может, умирает с голоду уже, со своей больной матерью… Я хочу ее просто видеть, говорить с ней, болтать ни о чем, купаться в теплых волнах ее непонятно что приговаривающего голоса… В свои тридцать пять я стал успешным коммерсантом, меня принимают в доме Стамболи… Вот и сейчас у меня все пошло неплохо, обстряпал несколько продаж зерна из Голландии… Предлагают хорошие сделки по аргентинскому мясу. Деньги из Крыма успели прийти в стамбульский банк.
Но зачем, зачем все это, если я здесь один, а она там одна, нищая и голодная, и надеется только на мясника Леви… Боже, может, все это скоро кончится и все вернется назад на круги своя? Ведь не может то, что создавалось веками, рухнуть навсегда за один или два года… Какой-то порядок, устои…»
Вдруг он понял, что может. Именно в этом смысл разрушения – за один день все, что накапливалось годами, летит вниз, под ноги, как красивый дорогой сервиз и – вдребезги… Акива испугался этой мысли и пошел в свой отель «Империал», где упал лицом в прохладную и чистую подушку, разревевшись, как мальчик… Он действительно не мог понять, кто он здесь без своей Эстер и зачем он здесь…
7
15 июля 1921 г.
«Акива, Акива, мой любимый, дорогой мальчик!
Как ты там, в Стамбуле? Я сейчас особенно люблю носить колечко, которое ты привез мне три года назад оттуда. Я смотрю на него, целую его. Оно когда-то лежало в твоем кармане, потом ты держал его в своих пальцах. Акива, маме становится все хуже, она почти не встает. В Крыму начался настоящий голод. Люди ходят за город, срывают еще зеленые абрикосы и просто траву, едят, болеют… У нас в доме есть запасы муки, еще от тебя остались, тем и спасаемся… Сколько это продлится – не знаю. Хотят слухи о чуме и холере – но это могут быть только слухи. Они всегда сопутствуют голоду. Нашего Леви на базаре нет. Видимо, нет мяса. Из-за чего голод, все понимают. Большевики забрали все зерно, чтобы продать его за границу. Да еще и две армии, красная и белая, они-то и съели все запасы, которые были у людей… Магазины пусты, окна их заколочены, рынки тоже. В деревнях, я слышала, мрут сотнями. На улицы нашего Акме нельзя выйти. Толпы беспризорных и голодающих беженцев из деревень, и все просят: «Дай хлеба, дай хлебца». Мы хоть как-то выживаем. Особенно мрут татары: они не едят свинины, а весь остальной скот забили. Потихоньку продаем или меняем золотые вещи на хлеб. Есть немного овощей, варю тощие супы с мукой…
Акива, Акива, но ты не приезжай все равно! Мы выживем, а вот тебя они могут просто убить, хотя никого из этих кожаных курток не видно. Им тоже трудно, потому что отбирать нечего. Руки у людей пусты.
Акива, думаю, что все это кончится, и мы сможем быть вместе. Я мечтаю об этом. Я хочу обнять тебя всем телом, прижаться и лежать тихо и смирно, слушать биение твоего сердца и течение твоей крови. Ты отпустил бороду? Такую же, как когда мы увиделись в первый раз? Она тебя делает очень серьезным, а я люблю тебя мальчиком, юношей, безусым и безбородым. Конечно, тебе же надо пугать своих конкурентов…
Акива, Акива… Люблю, целую, люблю… Твоя Эстер».
8
Стояло лето двадцать первого года. Акива уже больше полугода жил в Стамбуле. Получал письма от Эстер, читал, плакал, и ему все больше становилось стыдно за свое турецкое благополучие. Тем более, что в последнем письме Эстер сообщила ему, что ее мама умерла, и теперь она осталась одна, и хоть родственники ее навещают, ей невозможно так жить. И самое страшное, что она все больше и больше любит его, но уехать к нему в Стамбул не хочет.
«Я слишком приросла к этим, пусть грязным зимой и пыльным летом улицам, к этим акациям и ивам вдоль Салгира. Моя душа не такая большая, чтобы вместить в себя огромный город. Я ребенок, я до сих пор маленькая девочка. И как же я уеду от своей мамочки, даже если она лежит под землей? Акива, у меня никого нет и быть не может. Ты дан мне навсегда, но есть еще и тайная память босых ступней, мокрых от глаз, приросших к моему и твоему городу. Думаю, что и ты такой же и мечтаешь вернуться домой, но я не знаю, что ты будешь делать здесь. Все изменилось. Другая жизнь. Хотя вчера приходили твои и говорили о каком-то НЭПе: что можно будет опять свободно торговать и открывать лавочки и рестораны… Акива, что это? Может, это последний капкан для тех, кто еще хоть что-то может? Акива, все равно не приезжай, пока все не вернется к тому, как было…»
«Ну разве можно это читать спокойно?» – думал Акива и все бродил по огромному миру Стамбула, стоял на мосту между Европой и Азией, рядом с рыбаками, пытавшимися поймать в Гибралтаре рыбу и тут же продать ее туристам или просто показать. Он смотрел на воду, видел на глубине сравнительно больших рыб, и они напоминали ему его мысли, уходившие еще глубже и глубже… «Отчего это в Турции рыбы больше, чем у нас? Вода, что ли, теплее? А может, и она эмигрировала? И что же, я – всего лишь рыба? И не могу ничего сделать… Эстер пишет о памяти. Я такой же, как и она, мы с ней из одного и того же куска теста. Нас разорвало, она же погибнет без меня, а я…»
И здесь Акива увидел над собой высокие платаны. Он незаметно ушел с моста и двигался по парку, ведшему к железнодорожному вокзалу Сиркеджи…
– Один на Бухарест.
– Класс?
– Первый…
И тут же подумал, что он уже сломался. Почему он не может прямо пароходом до Севастополя или Феодосии? Страх? И вдруг нашел оправдательную мысль – нужно же привезти с собой что-то из ценностей, потому что деньги там уже не имеют цены. По крайней мере деньги, которые есть у него. Опять контрабандой? А вдруг уже не существует пути через Тарканхут? И он подумал о том, как там сейчас жарко, как воду развозят по домам в бочках, чтобы напиться или искупать детей и сварить еду… Все это еще раз кольнуло его воображение, и он, получив билет, возвратился в свой «Империал»…
9
Теперь Акива стал считать не дни, а часы. Ведь Эстер могла умереть от голода каждую минуту. Он никогда еще не переживал голода и не знал, что это такое. А вот Эстер уже испытала и это. Наши не оставят ее умирать одну, помогут, пока я не приеду. О каком НЭПе она пишет? В стамбульских газетах пишут, что террор продолжается, и что этот НЭП – всего лишь временная мера, чтобы хоть как-то встряхнуть экономику. Хотя все уже отобрали и отдали государству, а оно ведь не может управлять ростом яблонь и груш, мыть в банях людей и поить их квасом на улицах, это же бред! Что, коммунистический капитализм? Трудно поверить. А сейчас еще и голод, о котором пишут как о катастрофическом, мол, даже людоедство процветает. И это в Крыму, где и камни рождают персики и виноград… «Но что бы там ни было – я должен пережить это с Эстер…»
В Бухаресте на почте ему выдали еще одно письмо от Эстер, оно лежало там еще с прошлой зимы. «Господи, я же могу, как по камешкам, по письмам Эстер перейти Черное море».
Он надрезал тонким стилетом конверт и оттуда полилось нечто подобное заклинанию…
12 сентября 1921 г.
«Акива, Акива, Акива… Надеюсь, что ты получишь когда-нибудь это письмо. Сейчас я живу тобой больше, чем всегда, потому что чувствую: мама уходит и остаешься ты, только один ты. И что бы с тобой ни случилось, кем бы ты ни стал, я буду тебя любить еще больше. Знаешь, бедного любить всегда легче, он беспомощный и весь принадлежит тебе. Богатого любить трудно – он принадлежит делам, деньгам, славе и только потом тебе. Хотя ты не такой, Акива, ты редкий, можешь все одновременно. У тебя и получается все потому, что ты любишь. Ты создатель, а не разрушитель. Я не знаю, был ли у тебя когда-нибудь в делах человек, которого бы ты обделил, обидел, наконец, разорил. Думаю, что нет. Хотя не знаю всех твоих тайных штучек. У крымчацких жен не принято влезать в дела мужей, прости, это я любя – сказать, какой ты у меня необычайный. Акива, Акива, неужели и мы когда-нибудь умрем? И что потом? Как я тебя буду любить? Дуть на твои пушистые реснички, как я сейчас дую на них через расстояние целого моря?..»
Акива читал письмо, и дрожь бежала по его телу. Он представлял, как постучит в окно или позвонит в колокольчик над дверью дома Эстер, и ноги несли его на станцию Констанцы. Приехав туда с двумя большими кожаными чемоданами и все тем же старым и любимым саквояжем, он взял авто и поехал на то место, куда приплыл почти год назад – на берег моря за городом. Отпустив авто, он спустился к морю и стал вглядываться в него. Потом понял, что нужно дожидаться ночи. Контрабанда – дело темное. Двое суток он прождал, прячась в прибрежных камнях, пока не увидел под утро знакомый парус.
– Неужели они? – Акива стал махать им желтой соломенной шляпой…
10
В дверь смотрителя Тарханкутского маяка постучали. Был вечер, и Антоныч не разглядел гостя. Потом узнал и рассмеялся:
– Акива, ты? Словно и не исчезал… Ну, заноси свою поклажу, сейчас будем чай пить из чабреца, лаванды, без чая – голод добьет нас… Люди мрут пачками. Их даже в городах не убирают с улиц… Ириша, – закричал Антоныч.
Но у него не получилось крика, и Акива вдруг увидел, как похудел смотритель… Он подумал об Эстер – она, на верное, тоже. А ведь мы думали, что так и будет. Не могут ничего эти поганцы, только стрелять и вешать… Он зашел за ширмочку и достал из широкого пояса золотые монеты и колечко с камешком.
– Антоныч, возьми, это поможет, надо выжить…
Антоныч улыбнулся и ничего не сказал.
– Как же мне добраться до Акме?
– Пуще всего ценится хлеб… Или золото.
– Пойдем, как-то надо договариваться. Надо ехать, хоть бы не ограбили по дороге…
– Вот поэтому надо ехать днем и с людьми. Наймешь охранника, которому я доверяю, дашь ему пару монет – и он тебе поможет. Он хорошо знает дорогу и все, что на ней может случиться… Нужна подвода до Евпатории, а там может, попадется авто… Но знай: ничего нет, а в то же время у кого-то есть все. Если хочешь увидеть жену – плати продуктами… Я тут в селе кое-что раздобуду для тебя по нормальной цене…
Акиве так захотелось домой, чтобы увидеть и спасти Эстер. Он даже не представлял, что такое может быть на его земле, где все цвело, рожало и светилось.
Он даже почувствовал под рукой в кармане ключи от дома. Они были холодными и ничем не напоминали. Акива даже испугался, но стал рассказывать Антонычу о своих днях в Стамбуле и о своих переживаниях.
– Знаешь, Антоныч, маячок твой я видел, когда мы подходили со стороны моря, но видел я его и из Стамбула. Все-таки, хоть и оторванная земля, но своя, и люди сильнее страха.
– А чего бояться, они уже не лютуют так. Голод работает вместо них, сил нет ни у кого, в крайнем случае откупишься… Как жена-то, что знаешь о ней?
– Всё. Она писала мне…
– Ну, так ты поживешь у меня или сразу поедешь?
– Сразу поеду…
Антоныч, еле двигаясь, пошел с Акивой договариваться на счет подводы, которая должна была довезти до Евпатории, а уже оттуда можно было взять что-то и побыстрее.
За дорогу и фураж для двух лошадей Акива рассчитался золотом. Две николаевские монеты – и путь более суток.
– Хозяин, и на водку…
Но охранник Антоныча, крепкий мужик, зло посмотрел на возницу:
– Будет тебе водка, – Акива достал из глубины саквояжа бутылку турецкой водки ракии, – только ее надо пить, разбавляя водой.
– Что, такая крепкая?
– Нет, противная, – улыбнулся Акива.
– Э, нет, хозяин, такой водки не бывает, тем более сейчас.
И бутылка исчезла у него в кармане широких парусиновых штанов.
11
По пути Акива видел ужасающую картину голода. Люди стояли вдоль дороги и выпрашивали хоть что-нибудь поесть. Он залег на дне подводы, чтобы никто не видел его пока еще сытого лица без синюшных подглазин. При въезде в свой родной Акме он видел десятки трупов, сложенных в степи вместе с дровами для сожжения. Ужас охватил его душу. Что они сделали с Крымом, с его прекрасными людьми, его друзьями татарами, крымчаками, караимами, греками, русскими, армянами, украинцами?.. Уже отъехав на машине от Евпатории, он прочитал в газете, что особенно страдают Карасубазар и Бахчисарай… «Бедные, бедные крымчаки, как они там мучаются». И он подумал о родственниках оттуда. И еще – надо будет поехать к ним и помочь. Это что – месть Крыму за поддержку Белой армии? Он приближался к дому в районе старого города. Дом был пуст. Никого. Ни людей, ни полиции. Отдельные машины и телеги. Жара и пустота. «Где моя Эстер?»
Он открыл своим ключом дверь и тихо вошел в свой собственный дом. Был вечер, и в доме никого не было. Вдруг навстречу вышла какая-то женщина. Но это была не Эстер. В глубине дома Акива услышал плач ребенка.
– Акива, Боже, это вы! Не бойтесь, я служанка, я помогаю Эстер с мальчиком.
– Где Эстер? С каким мальчиком?
– Не беспокойтесь, она пошла в каал, а мальчик… Это ваш сын…
– Как? Я…
И тут вошла Эстер. Увидев Акиву, она упала в обморок. Когда пришла в себя, сказала:
– Акива, любимый, ты приехал! Но ты же видишь, что здесь творится.
– Поэтому я и приехал! Сын…
– Я специально не писала тебе, чтобы не заманивать тебя. Я хотела, чтобы ты остался жив, понимаешь?.. Помнишь ту нашу последнюю ночь? Чуть больше года назад… Вот, ему сейчас четыре месяца… Я назвала его Акивой… Такой маленький Акива…
Акива смотрел на Эстер и не узнавал ее красоты. Она так осунулась, похудела, под глазами были коричневые круги, а синие глаза выцвели, поблекли…
– Все, я вернулся, теперь все будет в порядке, Эстер! Мы будем говорить с тобой часами… Обо всем! Я снова налажу дом и… Что нужно сейчас? Я все достану: и продукты, и то, что нужно маленькому. Какая же ты молодец, взяла и родила, в голод, в этом кошмаре, взяла и родила, я как чувствовал…
11
На следующий день в дом Акивы и Эстер постучали.
– Ну вот, я так и знала! Они пришли за тобой, чтобы опять отобрать все и убить…
Вошли двое в гражданском и попросили Акиву проехать с ними. Эстер начала плакать и рыдать.
– Не волнуйтесь, Акива Моисеевич вернется через пару часов. И они уехали на какой-то большой иностранной машине… Два часа Эстер сходила с ума, металась по квартире, маленький Акива ревел и срыгивал подслащенную воду… Наконец, вошел Акива и сел за стол.
– Буду работать в американской миссии помощи голодающим. Они, видите ли, нуждаются в специалистах. Еще бы, стольких поубивали…
Не за горами море
Дом Анджело
1
Сандер подошел к французскому броненосцу «Мирабеу», стоявшему на причале в бухте Стрелецкой, ровно к двум часам, прямо к деревянному мостику, перекинутому от земли в самое чрево большого военного трехтрубного корабля. В его правой руке был сверток со свежепостиранным и выглаженным бельем капитана корабля колонеля Клансье. Дело в том, что вот уже несколько месяцев его мама, Бетя Мангупли, с десятилетним Сандером и его семилетним братом Вениамином жила в Севастополе у родственников, и она вынуждена была стирать белье на стороне, чтобы как-то прокормить себя и двоих мальчиков. Иногда ей везло, и поскольку она была аккуратна и исполнительна, то друзья и знакомые все время рекомендовали ее другим. Вот и сейчас она получила хороший заказ для капитана французского броненосца, и хоть было это хлопотно и весьма необычно, но приносило неплохие деньги. Обычно она сама приносила сверток с бельем к кораблю, и капитан Клансье либо спускался лично, либо присылал кого-то из помощников. Но в этот раз что-то не сложилось.
И вот Сандер, десятилетний, но высокий и крепкий мальчик, стоял и ждал, пока заберут у него постиранное мамой белье. Броненосец грузно стоял у самого берега, посипывал паром, попыхивал дымом, попахивал углем, машинным маслом. С высоты палуб раздавались свистки, потом команды на французском. Сандер вглядывался в недра плавающего мамонта, и ему оттуда сверкали какие-то медные блестящие ручки, вертикальные лестницы, шланги, ведра, топорики… В общем – другой, чужой и в то же время влекущий мир не изведанного, пугающий и в то же время достаточно дружелюбный. Вот и капитан Клансье вышел: высокий, стройный, в белом кителе с начищенными медными пуговицами, усами на вытянутом голубоглазом улыбчатом лице – и сразу сказал, принимая пакет с бельем у Сандера из рук:
– Пойдем, мальчик, тебя наш кок накормит, еще есть немного времени. А это потом передашь маме со словами благодарности за работу, – и он протянул мальчику конверт с деньгами, который тот сразу же спрятал в карман штанов…
Над городом что-то громыхало и со свистом пролетало в сторону моря. Белая армия теснилась к морю, и несколько кораблей, груженных артиллерией, солдатами и офицерами так, что оседали по самую ватерлинию, уже отходили в сторону Стамбула. Стоял холодный ветреный март 1920-го года. Но никто не верил, что конец так близок… Сандер, которого на камбузе каким-то образом разговорил кок, накладывая ему в металлические тарелки настоящий флотский обед с супом и кусками мяса, забылся и разомлел от теплоты морской столовой и разговора при помощи пальцев и ломаных слов, словом, засиделся в гостях. А в это время по броненосцу начали бить пушки почти прямой наводкой, и он был вынужден отойти от причала и взять курс в открытое море. И когда Сандер, испуганный, выскочил на палубу, он увидел, что броненосец тяжело набирает ход, оставляя позади Севастополь. Он закричал: «Мамочка! Мамочка!»… И заплакал среди этих стальных промасленных и продымленных чудищ орудий, не услышанный никем, кроме растерянного кока…
2
Все знали, что в центре города между старой Ак-Мечетью и новым Акме, в самом начале Екатерининской улицы, стоял большой трехэтажный торговый дом Анджело. Он был по строен из белого инкерманского камня и отделан розовым итальянским туфом. Сам хозяин, Лазарь Анджело, сын выходцев из Италии, уже давно управлял большим хозяйством и преуспел в делах. Настала пора ему жениться, и он взял себе в жены красавицу из небогатой семьи, Бетю Мангупли. Бетя помимо красоты обладала природным здоровьем. Это выражалось скорей не в физических данных, а исходило от цвета ее кожи, особенной статности, в уверенности движений, не слишком свойственных молодой женщине. Ей было шестнадцать, когда они поженились. Три года прожили вместе, и все было в полном порядке, кроме одного – не было детей. Лазарь очень хотел наследников, да и сама Бетя… И вообще – в какой крымчакской семье не хотят детей? К каким врачам ни ходили, каким знахарям и какие деньги ни давали… Ничего. Лазарь все равно любил Бетю, а она, конечно, переживала. И вот однажды на пороге их дома слуга нашел довольно большой тряпичный сверток. Там был ребенок. Оставленный кем-то ребенок. В пеленках была бумажка, на которой было написано: «Его зовут Александер, Сандер». Сандер был усыновлен и рос на радость здоровым и веселым ребенком. Более того, то ли под воздействием вируса блаженства, которое испытывали родители, то ли от энергетики упругого и всегда улыбающегося Сандера, через три года Бетя родила мальчика… И семья зажила еще счастливей, несмотря на все бытийные и исторические трудности, происходившие за окном. Лазарь много работал, Бетя цвела и занималась детьми, гости всегда заполняли их дом, да и сами они много ходили по гостям с подарками, как водится…
Когда Белая армия вошла в Крым и началась последняя часть драмы под названием Гражданская война, естественно, Лазарь Анджело помогал офицерам царской армии. За это и был расстрелян большевиками в двадцатом году. Торговый дом был переделан в какие-то конюшни, а семейный дом Анджело забрали для нужд красных военных. Бетя с детьми вынуждена была уйти с десятилетним Сандером и семилетним Веничкой к родственникам, жившим в старом городе, в районе Одесской улицы.
Это была комната, где они кое-как помещались втроем, но главное было не в этом. Родственники были бедны, и надо было как-то выживать. С работой было трудно, поэтому Бетя решила переехать в Севастополь к своим сестрам и брату, откуда, собственно, ее и забрал почти пятнадцать лет назад Лазарь Анджело.
3
Французский броненосец набирал и набирал ход, держа курс прямо на Стамбул, чтобы оттуда, пополнив запасы топлива, идти на Марсель, повинуясь своей огромной стальной массе, воле капитана и мышцам кочегаров. А на камбузе на руках у потрясенного кока плакал и плакал Сандер, понимая, что ему уже никогда не придется вернуться домой и обнять свою мамочку. Наконец мальчика позвали в капитанскую каюту, и месье Клансье стал успокаивать его, убеждая в непреднамеренности такого случая, с переводчиком, конечно же.
– А как же теперь мне быть? – спросил Сандер всех, кто был в каюте.
– Сейчас ты успокойся и пойди выспись. Я беру на себя ответственность за тебя, – ответил капитан. – В Марселе попробуем связаться с твоим домом, а пока отнесись к этому как к путешествию по жизни…
Сандер почти так и воспринял это, но все время думал о маме, о расстрелянном отце и родном городе, где вырос, об улице, где стояла колонка с горной холодной водой, которой они обливались с мальчишками. Кстати, в десять лет он был не по годам хорошо физически сложен, от природы тело было скульптурным и упругим, а ноги подвижными. Он запросто выжимал матросские гири и штанги на палубе. И вот, когда броненосец причалил в Стамбуле, капитан Клансье и помощники вышли в город прогуляться, взяв с собой и Сандера. Сандер был потрясен огромностью базаров, мечетей, рыб, длиною улиц и количеством людей, запахами жарившейся и парившейся еды, невиданностью фруктов и особенно большим движеньем всего вокруг всех. Дилижансы и автомобили, трамваи и кареты, старики и дети – все куда-то двигались, что-то просили, брали или давали… «Да, не то что у нас…»
На одной из улиц под тенистым деревом стояла толпа людей, а в кольце толпы, на пыльном ковре шла борьба турецких мальчиков. Нужно было уложить противника на лопатки и подождать, пока судья не вскинет платок… Клансье глазами показал Сандеру: «Может быть, и ты?» Сандер кивнул головой и вошел в круг. Взрослые ставили деньги и часть отдавали победителю. После первой легкой победы все стали ставить на него, и он выиграл около десяти поединков, при чем легко и быстро. Все были поражены. И больше всех капитан Клансье.
– В Марселе отдадим тебя в гимнастическую школу, – сказал капитан, передавая ему пачку выигранных, конечно же, небольших денег. – Это первый твой заработок? – спросил он через переводчика.
– Нет, уже выигрывал дома бои, но боксерские, без правил, – усмехнулся Сандер. И Клансье усмехнулся тоже, вспомнив свое жаркое марсельское детство.
Когда все вернулись на броненосец, то он был уже накормлен турецким углем и дровами, и снова рванулся через Босфорский пролив, через Мраморное море к своему Средиземному, увозя навстречу неизвестному в своем неуклюжем и безразличном теле маленькую болящую нервную клеточку – Сандера…
4
В Севастополе Бетя, не дождавшись к вечеру Сандера, по шла в Стрелецкую бухту и к ужасу своему не увидела французского броненосца у причала. Она поняла, что корабль ушел, вероятно, в другую бухту. Она обошла все причалы, не смотря на разговоры о том, что броненосец ушел в открытое море через буновые ворота. Где же Сандер? Она вернулась в Стрелецкую бухту, ни одного солдата или офицера русской армии там уже не было, и простояла всю ночь. Но так ничего не поняв и не дождавшись, пошла домой, где проплакала несколько дней и ночей, решив, что его убили при артобстреле или утопили в море. Она попыталась обратиться в городскую управу, в полицейский участок, но все было разбито и заколочено. В городе шла смена власти. Бетя поняла, что потеряла сына.
Прожив несколько месяцев в Севастополе, она вернулась с младшим сыном назад, в Акме, и поселилась с позволения дальних родственников там же, на Одесской улице. Благо, что там стала налаживаться хоть какая-то жизнь. Она пошла работать швеей, чему ее учили с детства родители. Со стороны оставшихся в живых родственников ее мужа, Анджело, иногда приходила небольшая помощь, но Бетя суеверно откладывала деньги, не тратя, надеясь на возвращение и Лазаря, и Сандера…
Время двигалось вперед, Вениамин рос и стал почти забывать о брате. И советская жизнь с пионерством, комбригадами, копеечными заработками захлестнула и Веничку, и Бетю, знавшую совсем другую жизнь и, кстати, не кичившуюся никогда жизнью жены богатейшего в Крыму человека… Захлестнула по самую макушку ее еще красивой женской головки, хотевшей только одного: чтобы о ней все забыли и дали отдаться любви к Веничке и пропавшему Сандеру. К ней приходили свататься, но не крымчаки, понимавшие, что она никогда не выйдет замуж за другого. Потому что сразу после свадьбы с Лазарем Анджело они пошли на кладбище и заказали две могилы, по обычаю крымчаков. Бетя часто приходила туда, смотрела на надгробные плиты, под которыми никого не было. Ее, потому что она была еще жива, а Лазаря – потому что Бетя не знала, где он был похоронен после расстрела.
5
В Марселе Сандер был принят в семью капитана Клансье. Они сразу же вместе пошли туда, откуда можно было послать весточку на родину, в Крым: на почту, даже в морской порт, откуда Клансье послал радиограмму в Севастополь. Они отправили письмо в посольство России во Франции… Никогда, ниоткуда не получили ответа. Советская система обрубила все концы и связи с Европой. Особенно на человеческом уровне.
Сандер ходил по Марселю, чем-то напоминавшему ему Севастополь и Ялту, и думал только о матери… Детей у Клансье было двое: сын лет пятнадцати и дочь лет восьми. Жена, милая француженка, сразу как-то упростила все, по-хорошему назвав Сандера малышом, и больше проблем не было. Сандера поселили в отдельной комнате и вручили французско-русский словарь. Ему велели пойти в гимнастический зал недалеко от порта. Но Сандер пошел в секцию не борьбы, а бокса. На первой же тренировке к нему подошел тренер и сказал: будешь драться вот с этим. Напротив Сандера стоял парень старше его года на три, и он, не успев прикрыть нос левой в перчатке, неожиданно получил сногсшибающий удар в лоб. Сандер оказался на полу и, поднявшись, отошел и сел на скамейку. К нему подошел тренер и спросил:
– Ну что, придешь в следующий раз?
– Обязательно, – ответил Сандер и пошел в душевую.
Итак, на удивление капитану Клансье, Сандер стал через некоторое время подающим большие надежды боксером. Он был быстр и ловок, хорошо уходил от ударов, быстро работал ногами и у него хорошо шел хук с правой. Корпус тоже был легок и пластичен. В общем, года через два им уже гордились как тренер, так и капитан Клансье, который ушел с военно-морской службы, стал водить грузовые суда и редко бывал дома. Сандер учился в школе, быстро освоил французский, был в чудных отношениях с приемными братом и сестрой. Но все время думал о маме, о брате Вениамине. О том, что у него где-то далеко есть своя родина – дом, где он жил, улица, по которой ходил, и воздух, которым дышал. Нет, Марсель был прекрасным городом, новые родители замечательными, но от этого еще мучительней было вспоминать бедную маму в последнее время и то, как она стирала горы белья, не привыкшая к этому. Однажды месье Клансье при шел какой-то таинственный и грустный и позвал Сандера на улицу:
– Слушай, у меня есть небольшое письмо от твоей матери. Сандера едва не подкосило, он взял листок в руки и прочитал:
«Сандер, мальчик мой, где ты, отзовись? Я живу в Акме у тети Розы вместе с Веничкой. Я помню пальчики твои на ножках и на руках, как я их целовала. Каждый день я плачу по тебе. Я искала тебя во всех бухтах, вот уже скоро восемь лет…»
Сандер не мог дальше читать и заплакал.
– Откуда оно у вас?
– Моряки передали через другие корабли…
– Спасибо, я могу ей ответить?
– Нет, не можешь, ей достанется от властей. Они читают все письма. Если узнают, что ты во Франции, – я не знаю, что может с ней случиться. Я могу только сообщить, что ты жив, но не могу дать адреса…
Сандер заплакал еще сильней.
– Держись! Главное, что она жива и ты жив, мальчик мой… Клансье отвел глаза и оставил Сандера одного.
6
В начале тридцатых годов Сандер стал чемпионом Франции в категории старших юношей. Месье Клансье старел, его дети стремительно взрослели. Сандер учился и боксировал, обращался в Международный Красный Крест в поисках возможности связаться с мамой Бетей. Но безуспешно. Конечно, он уже немного привык, потому что время шло и как-то успокаивало. Но смириться с тем, что он никогда больше не увидит мамы, Сандер не мог.
Немцы вошли во Францию, в Париж. Сандер к этому времени уже стал чемпионом, полновесным, а не юношеским чемпионом по классическому боксу. Имя его было на устах у всех и, конечно, в газетах. И вдруг без его ведома немецкие власти объявляют, что в Париже в ближайшее время состоится бой двух чемпионов – французского Сандера Анджело и немецкого Брюгге Хайншмитта.
Сандер не скрывал своей ненависти к фашистам, но подумал, что боксер ведь немец, а не фашист, и согласился. Когда он приехал в Париж, то поселился в хорошем отеле, недалеко от Монмартра. Он не знал, как парижане, но сам ощущал какое-то напряжение в атмосфере города, и какое-то нехорошее чувство холодило его позвоночник. Бой был афиширован, расписан в газетах, пройти он должен был в зале «Олимпия». И вот, накануне, в его номер постучали. Они сидели с тренером и обсуждали тактику завтрашнего боя. В номер вошли трое в черных кожаных плащах с крыльями и широкополых шляпах, тоже черных. Они попросили удалиться тренера и начали сразу в лоб:
– Мы знаем все о вас.
– И что же? – вздрогнул Сандер.
– Мы знаем, что вы еврей.
– Я – крымчак по фамилии Анджело.
– Крымчаки – те же евреи, скрывающиеся под разными фамилиями. Вы – итальянский еврей.
– Я крымчак. И мать моя, и отец мой были крымчаками.
– Вы еврей итальянского происхождения, но для нас это все равно. Главное, чтобы еврей не победил в поединке. Этого не может быть по определению…
– Если так – то да, я еврей, а сдаваться я не буду, – ответил Сандер.
– Если Вы победите, вас расстреляют, а если победит Брюгге – мы дадим вам возможность уехать в Америку, понятно?
И трое в черных плащах удалились. Сандер был подавлен, потрясен.
«Что же это? Знает ли об этом Брюгге? И как он будет драться со мной? Ведь это же спорт! Ах да, я же еврей, только поэтому… Да к черту, причем здесь моя национальность, я чемпион Франции», – хотел закричать Сандер, но в это время вошел тренер.
– Так, продолжим, я все знаю… Надо драться. В крайнем случае будем уходить, я тут кое-что придумал…
«Ох, эти марсельские припортовые люди, они способны на многое, с ними можно быть спокойным», – подумал Сандер и кое-как заснул перед завтрашним боем.
7
Зал «Олимпия» был заполнен, но особого ажиотажа не было. Зрители – в основном офицеры бундесвера. Парижане расположились вдалеке от сцены, оборудованной под ринг, и их было мало. Когда боксеры вышли на ринг, то зал встал и по команде приветствовал традиционным «Хайль Гитлер!» каких-то высших начальников, усаженных в ложи. Сандер увидел, что возле обеих лож были установлены портреты фюрера… Он начал традиционную разминку перед боем, хотя уже хорошо размялся в одной из актерских уборных. Затем исподлобья взглянул в противоположный угол и увидел немецкого чемпиона. Тот был примерно в его весе же и рыжеват. Сандеру показалось, что немец нервничал: все время примеривал капу, которая, видимо, плохо садилась ему на зубы. Тренер Сандера шептал ему на ухо:
– Не бросайся сразу, дай ему проявиться. Танцуй и уходи, танцуй и уходи. Пусть он полезет. Те, кто его видел, говорят, что он горяч, но тягуч, смотри удар снизу…
Судьей был бельгиец, хорошо известный в Париже, но это ничего не означало. Бой начался. Поначалу Сандер подумал, что Брюгге не так уж силен, потому что двигался медленно и тяжело раскачивал две свои хорошо накачанные руки. Но когда Сандер получил под одобрительные аплодисменты мощный удар по корпусу, то понял, что надо быть осторожней, и начал свой коронный танец с отходами и атаками, всегда выматывающими противника. Все-таки Брюгге был тяжеловат. Сандер начал хорошо потеть, а это означало, что организм заработал вовсю. Ему удалось ответить таким же ударом, и первый раунд закончился.
– Так, теперь все ясно! Он сырой, понял? Рыхлый, выматывай его, загоняй в угол и атакуй, атакуй, Сандер…
И вправду, Сандер почувствовал легкость и начал молотить на полную. Но, к чести Брюгге, он хорошо защищался и переходил в тяжелую для Сандера контратаку. Каждый удар, даже в блок, был ощутим.
Начался третий раунд. Сандер понимал, что пока по очкам ничья, а это значит – победу присудят Брюгге.
«Только нокаут, только нокаут», – замелькало в разгоряченной голове Сандера.
Он продолжил свой танец, заметив, что Брюгге в какой то момент зацепил ковер своей опорной ногой и чуть покачнулся, а это означало, что он подустал. В четвертом раунде произошло неожиданное. Кто-то из зала крикнул на немецком:
– Убей этого еврея!
Крики повторились. Брюгге начал инстинктивно спешить и прибавил движения – и это стало губительным для него. В конце раунда, вымотавшись, он раскрылся, и Сандер нанес ему свой коронный хук справа. Немецкий чемпион завалился на канаты, а потом упал на ковер. В мертвой тишине судья бельгиец отсчитал девять секунд… Совет судей не хотел объявлять победителя. Закончили скомканно, офицеры молча стали расходиться, а Сандер с тренером скользнул за кулисы… Там никого не было – и вдруг какая-то девушка бросилась к Сандеру со словами:
– Спасите меня, они меня ловят! Я еврейка, они хотят меня убить… Вы такой сильный!
Сандер опешил, но сработала реакция боксера: «Бегите за мной!». Издалека он увидел, что возле его уборной черно от нацистских вояк – и в этом момент его чуть не сбил с ног тренер:
– Поворачивай налево!
– И она тоже с нами, – сказал Сандер…
И они втроем оказались у черного входа. Но он был тоже в оцеплении. Тогда они ломанулись в первую попавшуюся дверь. Это была комната, в которой раздевался немецкий чемпион. Окно было раскрыто настежь. Немец глубоко дышал после нокаута. Когда он увидел Сандера, еще в форме, но без перчаток, тренера и какую-то женщину, он отошел от окна и показал на раскрытое окно жестами:
– Прыгайте, уходите, это первый этаж.
К счастью, под окном не было солдат. После проигрыша интерес к Брюгге был потерян, и никто его не охранял. Втроем они пересекли улочку между театром и запутанными кварталами Парижа и бросились в первое же попавшееся такси. Тренер сказал:
– На Лионский вокзал, поедем на север.
В такси Сандер нацепил на себя захваченные тренером брюки и куртку… Уже в поезде девушка представилась:
– Меня зовут Молли Польская.
– Ого, еще и Польская, такая красивая не может быть не Польской, – пошутил Сандер.
На одной из станций они сошли. Там их ждали друзья тренера и, посадив в машину, долго вывозили из опасных, занятых фашистами мест. Через два месяца они оказались в Канаде.
8
Они поселились все втроем во французской Канаде, в Монреале. Здесь было не до классического бокса с его танцами и уходами, ложными замахами. Канадцев больше привлекал американский тяжелый профессиональный бокс, с дракой до победы, без определенного количества раундов. Это было не для Сандера. И он, обсудив с тренером ситуацию, принял решение закончить свою спортивную карьеру. Сам тренер взялся за юношескую школу, и дела его пошли более-менее… И вот настала пора разъезжаться. Но Молли и Сандер поняли, что не могут расстаться, начался роман, вскоре закончившийся браком. Молли была влюблена в Сандера всю жизнь, с первого момента, когда оценила его поступок в зале «Олимпия» – и в поединке с Брюгге, и в мгновенной спасительной реакции: «Она пойдет с нами». Сандер же угадал в ней женщину, которая внешне чем-то была схожа с мамой, его мамочкой Бетей, и это решило все. И закрутилась новая жизнь. Они начали заниматься бизнесом, связанным с медицинскими препаратами для американской армии, готовившейся открыть второй фронт. Все у них шло успешно, они даже могли помогать бывшему тренеру, но вот климат для южанина Сандера не подходил. Канада хороша для канадцев, остальным надо долго привыкать. Но Сандер и Молли не стали делать этого и приняли решение переехать в Бразилию, в Рио. Там они устроились неплохо, занимаясь теми же делами, что и в Канаде. Все это время Сандер не забывал маму и через Красный Крест пытался найти возможность связаться с ней. Но война перерезала все пути, тем более из Бразилии. Постоянно он переписывался только с семьей Клансье, которая за эти годы стала ему родной. Капитан был уже на пенсии, как и его жена, дети выросли. Дочь работала, а сын по примеру отца стал моряком и ходил на больших пароходах по всем морям и океанам, которые в эти годы были опасны. И вот однажды Сандер получил сообщение от Клансье, что сын его погиб. Их транспортник затопили советские подлодки при подходе к Стамбулу… Сандер понял, что его надежды на связь с мамой становятся все призрачней. Ведь даже сын капитана Клансье, который мог каким-то образом нащупать ее в этом взбесившемся и разорванном мире, погиб…
Сандер не мог смириться с этим. Поскольку дела его шли очень хорошо и он становился состоятельным человеком, он надеялся, что после окончания войны все же сможет добраться до своей родной улицы, до своей родной мамочки, которая, по его внутреннему ощущению, была все еще жива.
9
Бетя действительно была жива, и всю войну прожила все там же, у родственников, на Одесской. В самом начале войны ее Вениамина забрали на фронт, и где-то через год Бетя получила извещение, что он погиб на передовой, будучи простым пехотинцем. Горе ее было безутешным, несмотря на то, что соседские женщины получали такие же скупые бумажки о смерти своих сыновей. Она работала уборщицей в одном из открывшихся магазинов оккупированного города, чтобы как-то прокормиться, и начинала побаливать чем-то непонятным. Пойти к доктору возможности не было. В конце сорок первого, когда немцы расстреливали евреев и крымчаков, к ним в дом пришли солдаты и спросили у соседки-татарки, есть ли в доме евреи и крымчаки. Та сказала, что нет.
– А это кто лежит на постели в другой комнате?
– Это моя двоюродная сестра, у нее тиф, и еще она немая.
Немцы спросили что-то через переводчика у Бети, но та лежала, не шелохнувшись, и они быстро ушли. Так она спаслась. Вообще немцы не любили ходить в старый город, который казался им рассадником болезней и таинственных смертей.
Уже после войны к ней зашел один из бывших знакомых ее мужа, Лазаря. Бетя знала, что он работал где-то следователем – не то в милиции, не то в КГБ. Да это одно и то же, подумала Бетя, но зачем он пришел? А знакомый чуть ли не шепотом сказал ей:
– Вот лежишь тут и бедствуешь, а я знаю от одних людей, что сын твой Сандер в Бразилии, да к тому же разбогател, миллионщик… Все, больше ничего не спрашивай и молчи, не то худо будет…
Он ушел. А Бетя переполошилась, встала и пошла по городу, не замечая прохожих, никого…
– Да что же это за жизнь такая, что за люди – и тогда худо было: и при немцах, и при наших… Да какие и они наши, – сказала про себя Бетя.
Она вспомнила про то, как расстреляли ее Лазаря, забрали дом, и всю жизнь ее перемесили, раскатали и заставили скитаться – без детей, без своего угла… Сандер, Сандер жив, мальчик мой, деточка… Как же мне жить с этим молча? Хочется кричать и бежать туда, к нему…
Она пошла на кладбище и долго стояла у пустой могилы мужа и разговаривала с ним. И даже улыбалась, говоря: «Сандер все-таки жив, тебе это понравится…»
Время шло, и как-то снова зашел к ней тот самый знакомый следователь. Сел, достал бутылку, попросил стакан. Бетя принесла и закуску.
– Так вот, уволили меня, значит… За то, что я тебе рассказал о твоем Сандере… Ты не бойся, я знаю, что ты не виновата… Просто народ у нас сволочной, или время такое… Но скажу тебе, что пишет и пишет твой сын повсюду… Добивается встречи… Но не пускают его… Все… Опять ушел… Дай допью… И молчать, – проговорил бывший следак и ушел в темноту.
Бетя не выдержала этого. Она поняла, что ей нужно сделать. Утром в воскресенье она села на попутную машину до Севастополя, пришла к своим дальним и уже старым родственникам и написала Сандеру письмо. Короткое. В конце приписала, что болеет почками и очень хочет увидеть его. На конверте поставила адрес: «Франция, Париж, морскому капитану Клансье». И обратный адрес… Затем пошла в торговый порт, подходила к большим кораблям:
– Деточка, брось письмо, сына ищу…
Целый день проходила – никто не взял, побоялись. С отчаяния она пошла в Стрелецкую бухту. Было уже темновато. У причала не было кораблей. Она вспомнила все, что произошло здесь тридцать лет назад, и конечно всплакнула. Вдруг она увидела небольшую фелюгу и без всякой надежды подошла к ней.
– Чего тебе, мать? – спросил немолодой мужчина и спустился к ней.
– Да вот письмо переправить надо, сына ищу.
– Денег дашь хоть немного – помогу.
– Да все, что есть, отдам, только оставлю на дорогу.
– Ну давай. Письмо-то куда?
– Во Францию.
– Ладно, сделаем… Не говори никому только…
10
Уж не знаю как, но старые мореманы слово держат, уж не знаю как, но письмо дошло до Парижа и попало в военно-морское ведомство, где, конечно же, знали, что был такой капитан броненосца Клансье. И семья покойного теперь уже Клансье получила это письмо, которое было переправлено его сестрой в Рио Сандеру…
Сандер блаженствовал. Он держал в руках настоящее письмо в настоящем конверте, который запечатывала его мамочка. На конверте был напечатан солдат с мечом, спасающий мир. И это наивное милое мамино – «Франция, Париж, морскому капитану Клансье»…
Из письма он понял, что мать больна, и нужно как-то переправить лекарства, которых, как понимал Сандер, нет ни какой возможности получить в аптеке. Вообще никак… Он узнал о смерти брата и понял, что мама совсем одна. Сандер сразу же связался с Международным Красным Крестом, тем паче, что точный адрес у него был. Подобрав лекарства для почек и написав, что нужно их принимать только после разговора с врачом, вскоре отправил большой пакет в Крым, на Одесскую улицу.
Через несколько месяцев после того, как Бетя отправила письмо, ей неожиданно пришла повестка. Это был уже конец пятидесятых. Ей нужно было явиться в горисполком, в комнату такую-то… Бетя пришла, долго сидела в очереди. На двери была табличка «Медицинский отдел». Люди ходили туда сюда… Наконец позвали и ее.
В кабинете сидела женщина средних лет, перед ней лежал пакет, почему-то неаккуратно вскрытый. Ее спросили:
– Как же это вы надоумили сына прислать лекарства из Бразилии? Наша медицина не хуже, а лучше… Вы хоть в больницу обращались? А то сразу в Красный Крест. Ну ладно, распишитесь здесь.
Бетя молча расписалась и спросила:
– А почему вскрыто? Это же лично мне.
– Так надо… Это же оттуда! Хорошо, что вообще принято решение отдать вам пакет… Если бы ваш сын не помогал нашим, точнее американцам, вы бы вообще… Да, кстати, я изучила немного все лекарства. Если не возражаете, я возьму одну упаковочку вот этого… А вам еще пришлют… Но сначала к врачу… Да, вот тут еще письмо. Его тоже вскрыли, сами знаете где. Но там ничего нет такого, так, слезы одни…
– Слезы? Да что вы об этом знаете? – громко сказала Бетя.
– Знаю, у меня тоже сын за границей. Только не в Бразилии, а там, под Берлином, в земле…
Бетя ушла и долго сидела в городском саду на скамейке напротив городской управы и, обезумевшая от счастья, читала и перечитывала письмо от Сандера… На следующий день по протекции старых крымчаков она посетила частным образом доктора, который помог ей разобраться с лекарствами. Она начала принимать полноценное лечение и, хотя болезнь почек была немного запущена, ей становилось легче. Оказалось, что у нее был пиелонефрит, переходящий в нефрит. И тем не менее, ей становилось легче еще и потому, что психологическое воздействие было безотказным – лекарство от Сандера, от самого Сандера, от сына, которого она мечтала увидеть…
11
Наступал конец шестидесятых, заканчивалась пора первой оттепели. Сандер наконец получил разрешение приехать в качестве туриста в Крым. Чего это стоило (не в материальном смысле, а в моральном) можно себе представить: после пятидесяти лет вернуться домой, увидеть мать. Казалось, что все уже забыто – и город, и улицы, и запахи…
Сандер полетел через весь мир, вместе с Молли. Летели через Нью-Йорк, Вашингтон, канадский Гандер, шотландский Шеннон и наконец Москву, в которой ни Молли, ни Сандер сроду не были. Письма, которые стал получать от мамы Сандер, тревожили его, ибо, как она сообщала, наступило ухудшение. И даже его спасительные таблетки не помогали. Много раз Сандер писал маме в письмах, что хочет забрать ее к себе навсегда, что у него большой дом и… Но Бетя отвечала категорически: нет.
«Здесь покоится мой муж, Лазарь Анджело. И я, Бетя Анджело, должна лечь в эту землю. Знаешь, как говорят крымчаки? «Къапудан кырыб, пенчъередэн чыхма»: в дверь входя – в окно не выходи. У тебя, Сандер, получилось два окна. Так получилось, но я…»
И вот после короткой остановки в Москве Молли и Сандер оказались в Акме. Их повезли сразу в гостиницу «Украина» и поселили в огромном неуклюжем люксе. Тут же дали переводчицу, которая не отходила от них ни на секунду, хотя Сандер неплохо говорил по-русски. Наконец Сандер не выдержал после того, как понял, что в его номере рылись гэбэшники в поисках неизвестно чего. Он заявил, что покинет страну, если его не перестанут преследовать. Он – гражданин Бразилии и направит заявление в Организацию Объединенных Наций. Конечно, он сказал так, чтобы напугать непуганых. И это сработало. Их оставили в покое, и к вечеру они с Молли собрались к маме Бете… Конечно, куча подарков маме и соседям, всем далеким родственникам и знакомым. Сандер загрузил такси и попросил таксиста приехать по маминому адресу на Одесскую через час-полтора…
– Я хочу пройтись по родному городу… Хотя бы только по нему: в Севастополь нам запретили ехать.
Молли взяла его под руку, здорового красивого шестидесятилетнего мужчину, и они пошли туда, куда вели ноги. Сначала они вышли на середину бывшей Екатерининской улицы и пошли по ней в сторону того места, где когда-то был торговый дом его отца – Анджело. Но на этом месте стоял большой, безвкусно построенный «Детский мир». Сандер внимательно осмотрелся И вдруг на стене, к ко торой был пристроен «Детский мир», он увидел нечеткие две латинские большие буквы LО… «Господи, это же от нашего дома», – подумал Сандер, и они еще быстрее по шли в район старого города. Ноги сами вели их. Соборная, вот Пожарная площадь, вот Кантарная улица, Кондукторская, и вот…
– Здравствуй, Сандер, ты меня не помнишь? А я тебя сразу узнала. Вот лет пятьдесят не видела, а узнала. А ты меня вспомнишь? Я тетя Хиля, соседка ваша, была молодая, а сейчас…
– Рахиль… Тетя Хиля, конечно, я вспомнил вас… Вы меня как-то помоями окатили, ох и смеху было.
– Где ты пропадал? Иди скорее домой, наша Бетечка со всем плохая…
И Сандер в ту же минуту был на Одесской и постучался в дверь двора, укрытого сиренью, диким виноградом, окруженного невысокими кипарисами. Он вошел во двор со многочисленными соседями, которые все вышли посмотреть на него. Но Сандер, поздоровавшись, пошел с Молли на свет открытой веранды, где на большой аккуратной постели лежала его мать, мама, мамочка… Бетя привстала и сказала:
– Сандер, это ты! Наконец, я умираю…
Она лежала в белой рубашке, у которой немного задрался подол. Она инстинктивно поправила его и затем попросила:
– Сандер, сядь ко мне сюда на край, дай руку. Ты совсем не изменился, мальчик. А это кто? Да, понимаю, жена… Красивая… Ты надолго? Как я счастлива, что умираю, увидев тебя. Хоть ты у меня остался…
– Мама, мама, мамочка… Как же так получилось?
– Не плачь, Сандер, я счастлива, и никто мне уже не поможет…
Бетя потеряла сознание и через день умерла. Сандер и Молли сидели подле нее до конца. Через два дня ее хоронили все соседи и те, кто знал ее еще с давних пор. Хоронили ее уже не по-крымчакски, а провезя на машине с открытыми бортами через весь город с оркестром и венками. Вслед за машиной шли Сандер и Молли, а за ними небольшая процессия в основном старых женщин и мужчин. Военные снесли к этому времени старое кладбище. Мраморные плиты с именами мужа и жены Анджело были давно украдены, поэтому и поставили на время обыкновенное каменное надгробие с фотографией молодой Бети. И только через два года появился мраморный памятник с резной надписью: «Маме, мамочке Бете от сына Сандера».
P.S. Дня за два до отъезда под дверь номера люкс, в котором остановились супруги Молли Польская и Сандер Анджело, был подсунут конверт, на котором было написано «Александру, Сандеру». Молли и Сандер, вернувшись вечером с Одесской улицы, где они прощались с соседями и дальними родственниками, нашли конверт. Они вскрыли его, на листе бумаги было написано:
«Дорогой Александр, Сандер! Я настоящая твоя мать. Я была вынуждена оставить тебя в 1909 году десятимесячным ребенком на пороге богатого дома. Настоящая твоя фамилия Конфино. Ты – Александр Конфино, родился в Италии, в Полермо. Потом мы оказались в Крыму. Я до сих пор жива.
Если тебя интересуют подробности, позвони мне по номеру телефона…»
Сандер закричал:
– Чертова земля, чертово пространство, здесь так все запутано! Словно вечное проклятие висит над полуостровом… Я не могу, не могу… У меня не может быть другой матери и другого отца… Молли, Молли, мы уезжаем отсюда сейчас же! На чем угодно, как угодно и навсегда…
Последним самолетом этим же вечером они вылетели в Москву, а оттуда начался долгий полет в Рио.
Жена крымчака
Шамаш вошел в квартиру, в которой его ждали жена и трое детей. Все сидели за столом и пили чай. На столе стояли вазочка с кизиловым вареньем и тарелка с мучной халвой. Детям было не так много лет. Двум сыновьям где-то до десяти и двенадцати, дочке лет шесть-семь…Шамаш, не раздеваясь, начал говорить, обращаясь к жене.
– Так, сейчас около одиннадцати утра… Я прямо с работы. Собирай детей, собирай вещи. Вечером мы уезжаем в Сухуми, билеты я возьму сам. Года два мы поживем в Сухуми. Квартиру пока закроем, попросим мою двоюродную сестру присмотреть за ней. Поезд в девять на Керчь, там на паром и через Адлер на Сухуми.
Тишина, стоявшая над столом, стала еще более резкой, до боли в ушах и затылках. Дети опустили головы, но не хотели ничего спрашивать. Жена только вздохнула, поджала губы, поднялась и подошла к комоду. Первое, что она начала укладывать, – это документы: метрики детей, свой паспорт, жировки на оплату света, воды и прочее…
Шамаш был цеховиком, он шил кожаную обувь. Тогда, в конце пятидесятых, импортной почти не было, а отечественная была плохого качества. Поэтому было постановление правительства, – касавшееся, кстати, не только обувщиков, – о разрешении частникам официально заниматься своим ремеслом, объединяясь в цеха совершенно законно. Обувь была качественная, шилась на заказ по индивидуальной мерке. По желанию клиента подбирались и цвет, и форма… Обычно это были серые или бежевые туфли-сандалии с узорчатым верхом для воздуха и металлической пряжкой слева и справа. Кожаный невысокий каблук, завершавший подошву, – со швом из белой суровой нитки. Обладатель таких «шкар», как их тогда называли, ходил, шумно поскрипывая, демонстрируя натуральность и уровень жизни. И это было неким шиком. Собственно, почти все цеховики занимались ширпотребом и слегка разнообразили скучную убогую советскую действительность…
В те годы прогремело уголовное дело Савелия Эпштейна. Он был прекрасным организатором и создал целый промкомбинат такого направления. Человек он был видный, высокого роста, с рыжей шевелюрой, довольно щедрый. Жил с раз махом. Мог, например, слетать с женой в Москву на один день, чтобы посмотреть спектакль в Большом театре или игру в Лужниках «Спартака» и «ЦСКА», что было по тем временам вызывающе, ибо было не по карману, и не соответствовало образу жизни соотечественников… Естественно, его сразу взяли на карандаш. Несмотря на его дружбу со многими сильными мира сего и самоуверенность, его могли взять в любую минуту, что, собственно, и произошло. Насколько было известно уже после суда, основные деньги, а речь шла о наличных, он делал на самой простой вещи, хотя и не совсем примитивной. Все помнят, что в начале пятидесятых в квартиры совграждан пришли черно-белые телевизоры, и рекомендовалось, дабы электронно-лучевая трубка не выгорала от света, покрывать экран телевизора какой-нибудь тканью. У Савелия Семеновича Энштейна работал химик, доктор наук, который открыл способ напыления искусственного волокна на ткань с различными рисунками. Они вместе и организовали производство таких ковриков. Они были небольшими, яркими, недорогими, и все с удовольствием покупали этот невиданный доселе и такой необходимый предмет обихода. Выпускали коврики в количествах невероятных и распространяли через магазины и лавки на рынках по всей стране. Вот тут-то и потекли огромные деньги. На суде речь шла о пяти миллионах рублей. Это были тогда огроменные деньги. Говорят, что у самого Савелия Семеновича в гараже нашли два длинных шланга, забитых червонцами, и две или три трехлитровых бутыли, набитых сотенными… В общем, он охватил тогда наличностью и связями всю местную партийную и советскую элиту, МВД и КГБ и был уверен, что неуязвим. Однако органы, друзья из МВД, КГБ… Ну, собственно, какие там могли быть друзья?
Рассказывали, что накануне ареста он в компании всех этих людей был весел, как всегда общителен, пользовался успехом у женщин… А двое из компании вышли на балкон и один сказал другому:
– Эх, Сава веселится, а не знает, что завтра его будут брать…
Так оно и случилось. Был суд, на суде он все признал и просил дать ему возможность исправиться и вернуть ущерб, нанесенный государству. А он был настолько талантлив, что мог бы это сделать легко. Но его приговорили к расстрелу. Это был 61 год, после денежной реформы… Так что деньги были конкретными, но и приговор тоже…
Шамаш к этому делу не имел никакого отношения. Он был одним из честных мастеров, зарабатывавших своим трудом на жизнь семьи. Естественно, человеком он был не бедным. И он понял, что сейчас начнут трясти всех цеховиков. Он представил себе, как будут ходить к нему домой, разговаривать с его женой, в школе начнут шептаться за спиной его детей… И он принял решение: пока все не уляжется и не успокоится, пожить в другом городе, чтобы сохранить покой в доме, дать возможность достойно жить и детям, и жене…
«Да буду работать хоть грузчиком на вокзале, друзья помогут с любой работой… Семья не должна страдать», – думал он, стоял в очереди в кассу за билетами…
Вдруг кто-то тронул его за рукав. Перед ним стоял один из знакомых оперов, которому он шил когда-то туфли…
– О, Шамаш, спасибо тебе, до сих пор благодарен тебе за туфли, то ли колодка хорошая, то ли руки у тебя золотые, но хожу и не нарадуюсь, мягко так…
– И особенно хорошо, что тихо, – не удержался Шамаш.
– Не понял юмора, ты куда это собрался?..
– Да вот, жену с детьми надо отправить к родственникам на праздники в Херсон…
– А, ну давай, давай, – ухмыльнулся опер и исчез так же, как и появился. «Вот, уже начинается, – подумал Шамаш, – хотя, может быть, это и случайность». И, когда подошла очередь, он сказал кассирше:
– Четыре билета до Сухуми, три детских, один взрослый… Мысль сработала мгновенно: «На всякий случай надо сделать так, чтобы они увидели, что я остался здесь…»
Шамаш пришел домой часов в шесть. Жена и дети сидели, как говорят, на чемоданах.
– Все собрала?
– Все, особенно для детей, и учебники и все…
– Две курицы отварила в дорогу?
– Спрашиваешь… На вокзал когда едем?
– Через час за нами заедет Ермек…
На вокзале Шамаш начал переносить со своим другом вещи в вагон и шепнул на ухо жене:
– Я посажу вас, а сам подсяду в Джанкое…
Жена глазами показала, что поняла.
– Пусть дети молчат, не разговаривают, скажи им. Жена опять показала глазами, что поняла. Перед отходом поезда они все попрощались, и Шамаш демонстративно пошел с перрона в сторону города. В толпе он заметил своего клиента, опера. Тот мельком кивнул ему одобрительно и не стал приставать с расспросами. Когда поезд тронулся, Шамаш повернул на Фельдшерскую улицу, где на подержанной «Победе» с заведенным мотором его ждал Ермек. Шамаш бросился на сиденье и сказал:
– Ну, Ермек, а теперь гони до Джанкоя. Обгоним поезд?
– А куда он денется, – бросил Ермек и нажал на газ…
В Джанкое он купил себе билет в соседнее купе, переплатив кассирше, и под полные слез взгляды жены и детей поднялся в вагон.
Через два года Шамаш с семьей вернулся в родной город и занялся своим прежним делом. Но долго еще, когда он возвращался домой после работы, жена преданно смотрела ему прямо в глаза, ожидая неожиданных новостей. Но так и не дождалась. Она поняла: время сделало свое дело, тревожные дни ушли…
Песня потерянного человека
Паровоз сначала стоял под парами, потом тихо подполз к составу и дотронулся своими буферами до первого вагона, дрожь пробежала по всему поезду, наконец все успокоилось, и скрипучий металлический голос сообщил: поезд номер пятьдесят восемь до Одессы стоит на третьем пути, до конца посадки осталось пятнадцать минут. Раиса под руку с довольно молодым офицером шла быстрым шагом к вагону СВ, а перед ними носильщик катил тележку с большим количеством всяких сумок, саквояжей и чемоданов. По всему было видно, что это была влюбленная пара. Они, не стесняясь, шли в обнимку, заглядывали друг другу в лицо и целовались на ходу. Проводник девятого вагона впустил их, не проверяя билетов, а затем уже носильщик быстро перенес все вещи вслед за ними, сложив отдельно в другом купе. В вагоне никого не было, кроме Раисы и молодого офицера. Дело в том, что остальные билеты в купе были скуплены заранее, чтобы никто не мешал уединению этой довольно странной и вызывающей по тем временам влюбленной пары, ведь только августовская жара и всеобщее ослепление белыми одеждами и яркими цветами Крыма, немного сглаживали эту непохожесть. Проводник затворил дверь, затихли и влюбленные в одном из купе на двоих, ожидая отхода поезда.
– А ты не будешь жалеть? Назад возврата нет. Нам этого никто не простит. А потом ты же певица, тебе надо петь…
– Все лучшее я уже спела, а петь можно всюду, даже за границей. Вон Лещенко, если бы его не расстреляли, пел бы в Бухаресте, и как… А Вертинский? Главное – это ты, любовь моя, ведь это может быть в последний раз, такое чувство…
– Я добьюсь перевода в Германию или хотя бы в Польшу.
– Главное не в этом, главное в нашем чувстве, за это время я поняла, что могу бросить все ради тебя, понимаешь… Все, что было раньше, – это было то ли от чувства нехватки отцовского тепла, то ли из чувства благодарности… А сейчас, с тобой, все просто, как природа – вот светит солнце, или идет дождь, и я во всем этом, и никуда не деться, и неважно, что ты младше меня на десять лет…
– Ты младше меня на все двадцать по духу, но когда ты поёшь, то я слышу в тебе столько голосов, такую глубину, что кажусь ребенком…
– Мы уже полгода с тобой мотаемся по стране, и кажется, что это длится всю жизнь, и я все забыла, всю свою прежнюю жизнь, даже детей, хотя тоскую по ним страшно. Мы заберем их, когда все уладится.
– Да-да, конечно, заберем. Как же я тебя люблю, и как же тебя любят твои земляки, твои крымчаки, ты бы видела, как они тебя слушали, особенно когда ты пела эту… ну как ее… «Анам десэм, анам – ёх», песню обреченного одинокого человека. Ты бы видела…
И он напел: «В больницу я больной попал, никто не спросит – как ты себя чувствуешь?»
В это время в дверь вагона кто-то резко постучал, хотя до отхода поезда оставались считанные минуты. Затем еще резче постучали в купе и, не дождавшись, открыли дверь ключом проводника. Это были два эмвэдэшных опера, а кто другие – было не ясно, из какого ведомства.
– Так, они здесь, – по-деловому начали они, – срывай стоп-кран! – Затем послышался приказ: – Задержать поезд на десять минут. – Офицеру скрутили руки за спиной и увели из вагона, больше Раиса его никогда не видела.
Раиса, ошеломленная таким ходом событий, упала в обморок и очнулась только, когда поезд, плавно покачиваясь, набирал ход мимо высоких, родных с детства тополей. Двое сидели напротив, а она лежала с мокрым платком на лбу, и в купе пахло нашатырем и валерьянкой.
– Успокойтесь, мы едем в Одессу, вам ничего не угрожает, мы ваши друзья, мы действуем по поручению вашего мужа, директора театра. Вы нужны ему, нужны искусству.
Шел конец пятидесятых, и были уже не те времена, но у Раисы не было сил, чтобы подняться и что-то делать, тем более, что она была одна и понимала, что ее молодой офицер остался на перроне, и его уже, наверное, ведут в комендатуру.
– А где он? – спросила Раиса.
– Он будет служить далеко-далеко от Москвы, с ним ничего не сделают, но больше он вас не побеспокоит.
– Господи, откуда вы знаете, кто кого беспокоит? Его не расстреляют?
– Сейчас не те времена, вы сами знаете, просто он так и останется майором, если не разжалуют, это уже не наше дело.
– Да, свое дело вы уже сделали и сейчас…
– Ну зачем вы так… Если бы не ваш муж… Кстати, он едет в вашем же вагоне, и скоро к вам зайдет.
Раиса родилась в семье сапожника-крымчака и лет с десяти ходила в крымчакский клуб, слушала на репетициях песни, которые знала с детства. Затем стала петь их сама. И вот, когда ее попросили исполнить одну из них, она спела все сразу, да так, что все были потрясены. Голос был глубокий, сочный, она легко переходила с высокого на низкий регистр, при этом, дыша глубоко, от низа живота…
– Не случайно говорят, что мягкий климат Италии влияет на появление великих талантов, вероятно, и наш крымский воздух тоже содержит что-то подобное, – сказал кто-то после ее исполнения.
Вскоре дядя увозит ее в Москву, там она учится в консерватории. Война, конечно, все перебивает, Раиса выходит в первый раз замуж, рожает первого ребенка. Всю войну она в эвакуации в Ташкенте. Там она, конечно, занимается пением, а после возвращения в Москву ее принимают в цыганский театр. Ей строго-настрого запрещают говорить о своей национальности. В цыганском театре все цыгане. Ясно? А куда деваться… И вскоре восходит звезда Раисы Жемчужной, покорявшей своим пением два десятилетия тысячи и тысячи людей…
Где-то в пятьдесят восьмом году Раиса Жемчужная приехала в концертами в Крым, особенно запомнился один, самый большой, в Доме офицеров Симферополя. Крымчаки закупили все первые ряды и плакали, слушая ее. Потом попросили исполнить крымчакские песни. И она пела их… Пожалуй, в первый раз в родном городе, среди своих она дала волю полузабытым чувствам. Особенно просили исполнить песню о человеке, потерявшем все: «Анам десэм, анам – ёх». Она спела ее несколько раз на бис. Крымчаки ходили за ней по городу, приходили к ней в гостиницу, но она помнила о запрете цыган открыто проявлять свои национальные чувства и поэтому вела себя немного отстраненно. Здесь-то она и по знакомилась с молодым офицером, в которого влюбилась до беспамятства. Собственно, как и он…
Поезд шел уже по таврическим степям, Сиваш остался позади. Раиса немного отошла и, отвернувшись от оперов, плакала. В это время в купе постучали. Это был ее муж… Все исчезли. Муж, человек, который создал ее как певицу, с которым она стала знаменитой и объездила даже в те времена полмира, который обожал ее и детей, очень повелительно и спокойно сказал:
– Так, Раиса, возвращайся к себе и ко мне. Я все понимаю… На сцену больше выходить не будешь. Может быть, когда я тебя прощу… А детей наших я сделаю великими артистами.
С тех пор Жемчужная уже не пела со сцены. Дети ее действительно стали известными артистами. Уже незадолго до смерти она отправила письмо в Крым своей подруге детства Рите Мизрахи. И впервые подписалась: «Навсегда твоя Рива Пурим».
По мотивам песни потерянного человека
Игровой Зяма
Зяма появлялся у Черной аптеки с утра, часам к одиннадцати. Он становился спиной к черным зеркалам, облокотившись на железные трубы перил, при этом согнув правую или левую ногу, зацепив каблук за невысокий парапет. Зяма слов но зависал. Глаза его смотрели прямо перед собой, и только изредка он реагировал на проходивших знакомых, едва кивая им головой. Вскоре к нему подходили его приятели Гунявый и Армян. Постояв с полчаса, они перемещались в более скромное место, и начиналось…
Это были известные всему городу «игровые». Играли они во все игры и только на деньги. Иногда на большие и даже на очень большие. Бильярд, домино, лошадиные бега и, конечно же, карты. Но самой простой и популярной в те времена была игра в «чмень». Или, как ее еще называли, «московка», или «девятка». Нужно было, зажав в ладони купюру, сказать, на какую сумму идешь, назвать две цифры из номера на купюре. Цифры складывались, а затем отбрасывались десятки. Остаток был твой. У другого играющего, считавшего по твоему заказу, тоже складывались и отбрасывались десятки. Смотрели – у кого было больше, тот и побеждал. Если сразу набиралось девять единиц, то они и побеждали. Если набиралось по девять у обоих, то продолжали увеличивать ставку. Иногда звучало слово «бак». Это означало ноль. К примеру, десять, двадцать… Ноль. Бак. Тот, кто проигрывал, отдавал ту сумму, которую назвал перед началом. Чаще всего играли просто на купюру. Поэтому для разминки, допустим, Гунявый, подходил к Зяме с зажатой десяткой в руке и про сил:
– Скажи…
Зяма щурил свои хитрые черные крымчакские глазки и, потянув немного, цедил:
– Третья и пятая, остальные твои…
«Девятка» имела различные вариации. И тот, кто «говорил», мог сказать, как он хочет, чтобы играли. Но потом играющие менялись и порядок заказывал другой. «Чмень» была очень азартной игрой и, конечно же, по тем временам запрещенной. А у игровых была одна задача: поймать какого-нибудь лоха и «раздеть» максимально. Из этого складывалась прибыль, и поэтому по закону она считалась азартной, ведущей к нетрудовым доходам и тунеядству игрой. Между собой игровые играли в девятку – так, для поддержания формы, хотя иногда и между ними были большие бои, и деньги ходили там немалые, особенно когда играли с игровыми из других городов. Или когда Зяма, Гунявый и Армян ехали сами куда-нибудь поиграть по дороге в поезде, «обувая отпускного чайника» по полной программе…
Зяма был королем «чменя» и карт.
– Бандитка – там кровь. Это не для меня. Чутье, звериное чутье и больше ничего. У вас деньги пахнут потом, а у меня будут пахнуть духами, – любил изрекать Зяма.
Он не был ни злым, ни жадным, даже пальцем никого никогда не тронул. Он был просто профессионалом до мозга костей. И если кто-нибудь попадался ему, то раздевал он его до трусов. Безжалостно. И друзей по игре не жалел. Простить мог. Но чтобы с отдачей потом… Однако внешне он выглядел зловеще, и не привыкшие к его виду обходили его стороной. Косая челочка и бритый бокс, три или четыре золотых верхних зуба, шрамы на щеке и подбородке, следы еще юношеских драк делали свое дело. Да и лицо его было явно монголоидного происхождения: смуглое, с густыми бровями, нависающими над всегда немного прищуренными глазами. Еще он иногда пугал даже своих корефанов, проговариваясь неожиданно незнакомыми басурманскими фразами типа «сыхмаса джанымы», не томи душу… Да, еще наколочки и там, и тут… В общем, портретик. Хотя был он хорошим семьянином. У него было даже двое детей, которых он неплохо содержал вместе с женой Айдой. Но эту сторону жизни Зямы мало кто знал. Жил он в старом городе, рядом с Петровской балкой. Было ему так лет под пятьдесят. Где он приобрел такой видок – никто не знал, но догадывались, что в местах, не столь отдаленных, хотя он никогда не сидел… Он был профессионалом и умел уходить, почуяв опасность. Одевался просто – белый верх, черный низ, но всегда был чисто выбрит и выглажен.
– Противника нужно усыплять аккуратностью, – выговаривал он Гунявому и Армяну, приоткрывая им свои золотые залежи во рту. В противоположность Зяме те не отличались интеллигентным видом.
Вот так и в этот понедельник или вторник он пристроился к перилам Черной аптеки, и подваливший к нему Гунявый начал по-тихому сообщать:
– Слышь, Зяма, тут один бакинец объявился. Говорит, что хочет с тобой скатать.
– Как? Просто так?..
– Нет, бакинец с бабками! И в девяточку хочет, и в картишки перекинуться…
– Что за бакинец? Катала? Лох? Залетный или наш, местный?
– Сам понимаешь, у нашего местного таких бабок нет. Ставки называл, начиная с «кати», потом «пятихатку» и «тонну» объявлял…
– Блефует, тварь… Ну хорошо… Молодой или старый?
– Ну, твоего возраста… Я поспрашивал тут и там, говорят, на рынке поднялся… Верняк, Зяма.
– Надо посмотреть на него. Зови в ресторан, увидим, что за селезень.
Назавтра в «Астории» состоялся ужин. Бакинец был щедр и выставил шикарный стол. Сказал, что хочет поиграть, что много слышал о Зяме. Одет был по-южному франтовато: клетчатый пиджак, рубашка с пестрым галстуком. Называл несколько имен известных катал.
– Ну скажи, – зажав четвертак в руке, обратился Зяма к бакинцу… И тот, не думая, ответил:
– Вторая, шестая, остальное твое.
Зяма посмотрел купюру.
– Твое, бакинец. Завтра в семь у «Подковы».
И разошлись.
– Ну и как он тебе? – спросил Гунявый одновременно с Армяном.
– Бабки бросает не тощие, но думаю, что непрофессионал, если согласился встретиться и еще стол выкатить. Так, хочет прокатиться на фуфу. Но заводной. Одно нехорошо: сидел, по-моему, а оттуда приходят нашпигованными. Кто знает, что у него в калгане. У таких и пушка может быть припрятана. Ладно, завтра начнем и посмотрим. Случай чего – свалим из города да месяцок покатаемся, родина у нас большая…
Назавтра они все встретились у бара «Подкова» с медлительной барменшей Зосей. А назывался бар так из-за того, что стол для выпивки был высоким и в форме подковы. Долго у него не застаивались. Выпивали, потом стояли и толковали. Уходили и возвращались. Так вот, обошлось без всего этого. Просто встретились и пошли за старую баню на баскетбольную площадку «Буревестника». Там-то и начали игру…
– Во что будем играть? – спросил бакинец.
– Чмень… Так, Гунявый и Армян, смотрите по сторонам, чтоб никого… И начали.
– По сколько ставим?
– Начнем с пятихатки… Да чего там, давай с тонны…
– Ваша воля, вы у нас в гостях, сэр.
– Играем на всех купюрах?
– На всех…
– Скажи…
– Вторая, пятая…
– У меня четыре, – сказал бакинец.
– У меня три… Считаем вместе. Одна штука.
– Одна.
– Скажи.
– Первая, пятая.
– У меня бак.
– У меня… По нолям.
И пошло-поехало. Сначала бакинец влетел на десять тысяч, но потом отыгрался вчистую. Его глаз горел и прыгал, он подкуривал сигаретку и снова начинал:
– Скажи…
И Зяма сказал, потом еще сказал, и еще, и попал на восемь штук.
– Ну что, дашь отыграться?
– Конечно, что за деньги, Зяма, для нас с тобой.
Бакинца повело. Он стал выигрывать, но к четвертому часу игры он уже попал на двадцать пять штук. Гунявый и Армян стояли на стреме, смотрели по сторонам, но друг другу иногда подмигивали: мол, «Зяма тянет бакинца на канифас», что означало – Зяма его обыгрывает. И вот уже к вечеру сам бакинец дал заяву:
– Все, я попал на полтинник, с собой больше нет, может…
– Нет, – твердо сказал Зяма, – играю только на наличные, без всяких понтов. Рассчитывайся.
Бакинец стал доставать из карманов своей куртки и пиджака пачки с сотенными, переклеенными крест-накрест белой бумажной лентой с красной полоской посередине. В каждой пачке по сто листов, то есть десять тысяч рублей. Всего Бакинец подзалетел на пятьдесят тысяч. Это при том, что «Жигуленок» тогда стоил пять шестьсот официально. Это были сумасшедшие деньги для обывателя. Но только не для игровых.
– Пересчитывать не будешь? – спросил бакинец и как то молча и тихо ушел, исчез, растворился…
Зяма, Гунявый и Армян тронулись в сторону центра города, тоже тихие, отработавшие на нервах почти целый день, и, приняв в «Подкове» по сотке коньяку, разошлись. Зяма взял такси.
– На Петровскую балку. Червонец.
Неделю никто из них не появлялся на местном бродвее. Не видно было и бакинца. Но в первый же день, как только Зяма вернулся к перилам у Черной аптеки, к нему подошли Гунявый и Армян, и в тот же миг моментально появился и агрессивный бакинец.
– Ну что, сука, раздел меня? Доволен? Я тебя все равно сделаю! В карты будем играть, только не здесь – здесь у тебя семь тузов в колоде, здесь у тебя все схвачено, вся масть крапленая…
– Слушай ты, фраер, маразна ёл, иди к черту! Не я тебе навязывался, ты сам прикатил с булганака. Давай сыграем во что хочешь, я тебя все равно обыграю – хоть в абдрашик, хоть в костяшки, в карты… Фраер, ну давай! Может, ты блатной? Так у нас это не проходит… У меня самого было две ходки, при Сталине и после. Так что не политический я. Я играю, понял, в картишки, в чмень… А ты…
– Тише, тише, уже лягавые идут…
– Хочешь играть, козы чисхан, чтоб твои глаза лопнули, да я тебя и в твоем Баку раздену! С кем хочешь играть, баран, с Зямой? Да, Зяма Колупата тянул в Москве, Хама в Киеве и Костю Котика в Одессе, а он мне: я тебя… Что, попал на полтинник? Тоже мне бабки, я за жизнь проиграл полстраны и столько же выиграл. И прикупа никогда не знал, а ты один раз завалился и уже обосрался… – попер на бакинца Зяма.
Бакинец притих, потоптался и стал уходить.
– Завтра поговорим…
Назавтра, успокоившись, они договорились через месяц сыграть в Баку, на родине бакинца…
– Причем карты купим новые, в том магазине, который ты сам выберешь, колоду вскроем при мне, но из десяти я выберу одну, а то еще зарядишь…
На прощанье Зяма спросил:
– Эй, бакинец, может, тебе денег дать? Пока домой доберешься, жить как-то надо…
– Опять обижаешь.
И они разбежались. А Гунявый и Армян потащили Зяму в кабак.
Через месяц они втроем приехали в Баку, поселились в привокзальной гостинице, дозвонились бакинцу. Сидели в номере, потому что жара была невероятная, хуже, чем в Крыму.
Наконец, они встретились. И сразу приступили к делу. Бакинец начал водить их по улицам вокруг вокзала.
– Что водишь кругами? Покупаем колоду, где хочешь, хоть в Шихово поехали…
– Именно в Шихово и не поедем, ты меня не заводи! Где ты хочешь, там и купим, хоть здесь. Вот лавка сувенирная, там есть колоды.
И они подошли, попросили продавца показать десять колод, и Зяма выбрал одну, да еще две на всякий случай. Пошли в гостиницу.
– Ну, вскрывай новенькую, бакинец, и давай я сдам…
– Нет, я, потом ты… Во что катим?.. По штуке на кон?
– Идет… По штуке…
Играли в буру, в очко, в чмень….
Армян и Гунявый сидели притихшие на своих койках и только шевелили губами, подсчитывая то убытки, то прибыль. К середине ночи все было кончено. Бакинец влетел еще на пятьдесят тысяч. Молча рассчитался и ушел навсегда. Зяма, Гунявый и Армян сдали номер и на такси поехали в аэропорт. Там они купили три билета в первый попавшийся город, но так, чтобы быстрей улететь. Это был Минск. В десять утра они уже были в столице Белоруссии, а оттуда улетели в Ригу. Прожили скромненько в Юрмале около месяца, а затем вернулись в Крым.
Зяма опять начал стоять у Черной аптеки, и к нему подходили Гунявый и Армян. Подворачивались какие-то мелкие игрочишки, и они их делали нараз: легко, без напряга…
Но совсем неожиданно теплой осенью пронеслась весть по всему городу: Зяму нашли мертвого с пробитой башкой на берегу моря. И действительно, привыкшие видеть у Черной аптеки колоритную и заметную фигуру Зямы, не находя ее на обычном месте, поверили в эту неприятную новость. Какой-никакой, а наш человек, а когда наши люди уходят, всегда становится грустно, будь они игровыми или большими чиновниками. Особенно переживали крымчаки. Они знали, что их человек стоял высоко, хоть он стоял у Черной аптеки. А что он и кто он… Не убийца же. Но его действительно убили. Говорят, что какие-то бандюки из Баку пытали его за городом, а потом пробили голову кастетом и утопили. Конечно, это были люди бакинца. Слухи ходили еще и о том, что, когда Зяма поехал играть в Баку, то за неделю до этого кто-то из его друзей завез в этот славный и сладкий город тысяч пять новых карточных колод и распихал во все точки по городу, особенно в районе вокзала. И что все они были отпечатаны в одной из крымских типографий и, конечно же, были краплеными. Как узнал об этом бакинец? Баку его родной город и, конечно же, кто-то сдал Зяму. Вероятно, тот, кто взялся помочь, чтобы крапленые карты тихо залегли в магазины и сувенирные лавки, как мины замедленного действия. И они взорвались. Гунявый и Армян снова появились в городе примерно через год, но уже без куража и видимой спеси, и постаивали одиноко где угодно, но только не у Черной аптеки.
Первые бутсы
Сапожник сидел на низком стуле и крепко сжимал коленями железную сапожную лапку. В его левой руке вертелся женский туфель, а правой, молотком он выравнивал каблук. Между его губами торчали мелкие гвоздики, и он время от времени доставал один из них и лихо вколачивал в потертую кожу каблука. И что-то напевал непонятное без слов: получалась только заунывная слышимая до конца только ему мелодия. Он увидел меня в своей стоявшей на бугре деревянной будке, зажатой со всех сторон старыми сырыми небольшими домами. Эта будка и была, собственно, его мастерской. Сапожник был с нашей улицы, но ему приносили ремонтировать обувь и с соседних. Так вот, он увидел меня, кивнул головой: мол, садись и показывай, что у тебя. Я достал из свертка почти новые ботинки с оторванными каблуками и набитыми на всю подошву кожаными шипами, как полагается у бутс, два сзади и четыре на подошве, два у носка и два наискосок: поперек и под серединой ступни.
– Что, мать прислала?
– Да, попросила, чтобы вы починили…
– Как же ты прибивал шипы, ммммм, прямо гвоздями на сквозь, а потом загибал их внутри, ммммм, – пел он. – Ноги поранил? Кто же так делает? И потом, чем же ты обрезал кожу, тут нужен острый сапожный нож, а под шипы фибровые пластины. Их сначала размачивают в воде… А так только портить обувь и ноги… Мать права…
Я молчал, опустив руки и голову.
– Но надо же играть.
– Я не футболист, не знаю, как надо играть, но в бутсах кое-что понимаю…
Он отодрал при мне самодельные шипы, набил каблук и новую подошву. Сделал ладно, смазав сначала воском, а потом черным кремом, перед этим обточив все тонким рашпилем.
– Ну вот, ходи в школу и приходи дня через два… Я что-нибудь придумаю. Да, привет маме, с тебя два рубля…
На следующий день я с моими пацанами пошел в соседний двор биться насмерть с командой улицы Далекой. Все были в ботинках, а я в парусиновых тапочках с резиновой тонкой подошвой… Надо мной все смеялись, специально наступали на ноги, и я корчился от боли. Но именно это заставило меня вертеться и не подпускать к себе тех, кто «костылялся», как мы тогда говорили. К радости, и мяч я чувствовал лучше, чем в грубых ботинках. Тогда-то я понял, что играть по-настоящему может тот, кто взвешивает мяч на подъеме, поднимает его с земли без помощи рук, держит на весу и подбивает, не опуская ногу на землю… Не помню, как мы сыграли. Вечером я зашел к крымчаку, и он спросил меня:
– А ты что, играешь на зеленом поле? Ведь только там нужны шипы.
– А для угрозы, а для жесткости? – басовито ответил я.
– А ты не сталкивайся, ты уходи с мячом.
– А вы что, играли?
– Нет, мой отец играл, но мы, крымчаки, плохие футболисты, нерослые, нежестокие. Запомни: ты крымчак, и только техника спасет тебя.
– А при чем здесь национальность?
– Потом поймешь… А вообще самые лучшие футболисты – это англичане. Я читал, у них характер бойцов, и они играют хорошо головой. Они большие, а мы маленький народ, невысокий, хотя бывают исключения.
Крымчак чем-то обидел меня. Я пошел на наш двор и стал еще сильней бить в стенку мячом. Потом подвесил мяч за шнуровку к ветке дерева, старался достать головой или пробить по нему лбом… Назавтра крымчак сам пришел к нам на двор и позвал маму.
– Вот, Ольга, твоему сыну. Знаю, что он играет в футбол. Я нашел дома старые, еще отцовские… Мокшаны… Они латаные-перелатаные, но он еще поиграет, я набил ему настоящие шипы. Но скажи, чтобы не увлекался: это игра не для нас, крымчаков. Мы маленький народ…
Мать цвела в улыбке, я слышал этот разговор из сада.
– Спасибо, спасибо, а то мой изодрал все ботинки, и в школу не в чем ходить…
Я тут же прибежал, вырвал у мамы из рук бутсы и стал пялить их на ноги.
– Только не играй в них во дворе, развалятся. Только на поле, или зеленом или песчаном, а так…
Мокшаны, у меня были настоящие мокшаны! Они отличались тем, что поверх кожи самой бутсы по бокам были накладные, выходящие из соединения кожаного верха и подошвы своеобразные кожаные ушки, которые при помощи шнурка стягивали ногу, еще больше укрепляя подъем. Шипы были филигранно выточены маленькими пирамидками на фибровых прямоугольных пластинках. Я заглянул вовнутрь. Там была мягкая стелька, и когда я надел бутсы, я не чувство вал подошвами ног ничего: ни бугорка, ни гвоздочка, даже загнутого. Я ликовал.
– Только не играй во дворе с пацанами, украдут. Только на поле, иначе сотрешь кожу о камни, – сказал крымчак и ушел со двора…
Для меня в тот день все сапожники стали самыми любимыми людьми.
– Он хороший, – сказала мама, – я знаю его с детства… Он когда-то ухаживал за мною…
Я ничего этого не услышал и побежал, конечно же, хвастаться. Все начали натягивать мои бутсы на свои ноги, и я понимал: сейчас разорвут. Я забрал обувку и ушел домой, долго ходил в них из комнаты в комнату, надев гетры и почти всю футбольную амуницию…
Я играл за младшую группу, и когда пришел на тренировку, то надел бутсы. Тренер посмотрел и сказал:
– Сними, ты же передавишь всех.
И действительно, бутсы были тогда редкостью, и мы играли в кедах. Только средние и старшие юноши, так их тогда делили по возрастам, играли и даже тренировались в бутсах.
– После тренировки побьешь нашему вратарю…
Боже, какое же это было наслаждение – удар шел сильный и точный, нога сама по себе была целой крепостью и цепляла в сторону ворот любой мяч, который раньше проходил мимо. Да и бегать в шипах стало легче, а уж останавливаться или рвать вперед…
«Вот оно что, – думал я и, сняв их, прятал в глубину сумки, заворачивая в тренировочную футболку. – Сколько еще ждать? Год до средних юношей!»
Но я решил сам тренироваться в бутсах, уходя за город на зеленые поляны, ставя камни, как символических игроков, обводил их и бил, бил в пустое пространство и бежал за мячом. И опять бил и бил, и опять бежал вперед, потому что не было конца этому древнему и свежему полю и моему счастью.
В ближайшее воскресенье наши средние юноши играли в финале первенства города. Я пришел, как всегда, смотреть игру прямо после тренировки. Шел мерзкий дробный дождь, поле раскисло, и обе команды, как говорили мы, месили говно. Особенно наш центрфорвард, от которого много зависело. Но он играл в кедах. Бутс у него не было, порвались. В перерыве тренер подошел ко мне.
– Слушай, ты взял свои мокшаны?
– Да, они со мной, – не смог соврать я.
– Ну-ка давай сюда, команда горит, а ты сидишь на золоте. Лишь бы подошли…
– Нет, – сказал я, – он же порвет их, растянет…
– Не порвет, не боись, один тайм, у него твой размер.
– Нет, – сказал я, – бутсы никому не дам, они только мне по ноге.
– Ты сначала играть научись, – сказал презрительно тренер, и вся команда посмотрела на меня с таким же презрением.
И я бросил на пол мое счастье. Центр нападения еле-еле натянул их на свои, как мне показалось, корявые ноги, радостно загикал, запрыгал и побежал на мокрое, ничуть не зеле ное, гаревое поле… Наши средние победили, и именно в моих бутсах этот Картавый, как его все звали, забил два гола, при чем силовые, пробивая издалека…
– Вот так мокшаны, вот так бутсышки! – радовался он. На, малый, не жадничай ради нашей победы. Они, правда, малость полезли, – отводя глаза, сказал он и бросил мне раз битое в пух и прах, развороченное черт знает что…
Я сложил их в сумку, завернув, как всегда, в тренировочную футболку, и пошел домой один. Тренер бросил мне вдогонку:
– Вот видишь, спас команду, если бы не твои бутсы…
Я уже не слышал его, потому что слезы душили меня. Я шел и плакал, думая о том, что я маленький, как сказал сапожник, и мне никогда не быть большим футболистом, что я маленький крымчак, и что мы и народ маленький, и что только англичане играют хорошо в футбол, и что сапожник ухаживал за моей мамой и вот подарил мне старые бутсы, которые тут же развалились, что я маленький и что у меня можно все отобрать и обидеть, что сначала научись играть, что я головой не дотянусь до мяча, если надо будет… Я шел и рыдал, а солнце уже разорвало тучи и безразлично посматривало на меня, но потом изо всей силы ударило по моим заплаканным глазам. И я, вытерев сопли и слезы, встряхнулся, оглянулся вокруг, но никому не было никакого дела до моей беды…
Люди шли навстречу мне и сквозь меня, и, чему-то улыбаясь, смеясь, иногда одобрительно подмигивали мне.
Камзол красный, лошадь серая…
На улице Ипподромной, почти за городом, по субботам и воскресеньям проходили городские скачки. Вполне серьезные. С денежными ставками, с разливным шампанским в буфете, с главной трибуной, где рассаживались зрители согласно купленным билетам. В самом центре была ложа для особо почетных гостей и, конечно, для начальства. Там, за ширмочками, был свой буфет, куда время от времени удалялись гости. В ложе всегда сидели самые красивые женщины города рука об руку со своими кавалерами – всем известными персонами определенного толка. Вот Зиночка по кличке Роземунда, висящая на плече у местного авторитета Шипа. А вот и актриса местного драматического театра Щекатунская с ухажером из мира подпольного бизнеса Засандаловым. Далее два чиновника, щелкающих семечки прямо на деревянный щелистый пол. И так далее… Сидевшие внизу время от времени поворачивали свои головы в сторону центральной ложи, на которую пройти было практически невозможно, и посматривали как бы невзначай на городскую элиту, на самом деле – ревностно и завистливо. На входе стоял невысокого роста, высушенный кисляком, басовитый мужичок, бывший наездник, который откликался только на имя своей лошадки: «Шабаш». Это говорило о том, что окликнувший знал его, и между ними могло возникнуть доверие. Но пройти в ложу Шабаш все равно не давал:
– Не положено, сам знаешь… Верхи не любят… – и посылал неудачника вниз по лестнице.
Проходили только те, кто показывал какое-то удостоверение со штампом ипподрома или разворачивал некую красную книжечку. Тогда Шабаш вытягивался во весь свой невысокий рост, почему-то произносил:
– Паапрашу в стойло… на свободные седла, – и открывал небольшую дверцу с нарисованной на ней головой лошади.
Над ипподромом кружилось облачко трансляционной музыки, дыма от папирос и шашлыков, жарившихся за трибуной, витали испарения из стойл, напитавшихся запахом опилок, конской мочой и известкой… Но все равно было радостно, и приподнятость царила даже меж тополей и кипарисов, окружавших скаковую дорожку. Кураж охватывал всех, особенно когда музыка обрывалась и знакомый голос ипподромного диктора перечислял участников скачек. Диктор был знаменит тем, что работал здесь чуть ли не с начала века, когда и микрофонов-то не было, и он пользовался рупором, но самое главное – он чудовищно картавил. Но этого никто уже не замечал: привыкли. «Камзол касный, лошадь сеаая по имени Зойка, певая доожка, наездник Аон Фишэ». Это означало, что по первой дорожке будет ехать в красном камзоле на серой лошади по имени Зорька наездник Арон Фишер. Успевшие сделать ставки, взбегали на трибуну, смотрели, как под удар колокола лошади рвались вперед и наездники, отпуская вожжи, упирались им головами чуть ли не под хвосты… Скачки, или как еще говорили бега, начинались…
– Слушай, Мошекай, а Арончик – наш человек, крымчак? Ты говорил с ним вчера о нашем с тобой деле? – спросил Тольчик.
– Не просто говорил, а зарядил ему пятихатку, сказал, если все срастется, еще столько же получит… И поставил условие: на финише он «пидержит Зойку», и «сиеневый камзол» будет «певым»… А ты-то с другими договорился? – глянул внимательно на собеседника Мошекай.
Тольчик Сизарь, голубятник и мелкий шулер, шедший в этот раз на крупную махинацию, явно нервничал в своей руководящей роли.
– Договорился со всеми, кроме дохлой Булочки, тоже мне франзолька, она и так не доползет до финиша.
– Ну ладно, сейчас посмотрим…
Лошади пошли на второй круг, наездники сидели, откинувшись в своих качалках, все шли кучно, и только Булочка вываливалась в конце.
– Впееди Аон Фишэ… Камзол каасный, лошадь сеаая, Зойка, – торжественно объявил диктор. И продолжил: – Втоым идет Семен Неовный, камзол сиеневый, лошадь ченая… Каат.
– Все в порядке мы сорвем куш, я все наши червонцы поставил на Сему Неровного. Представляешь, а фаворит-то Франциска.
И действительно, лошадь Франциска, породистая скаковая лошадка, шла голова в голову с Зорькой и Каратом. И вдруг на третьем круге неожиданно начала доставать всех и даже врезалась в толпу Булочка, камзол зеленый, лошадь белая, наездник Артур Хомчик…
– Ты посмотри, посмотри, Мошекай, что делает эта сдыхля, а, Мошекай, как же ты не договорился с Артуром, казнить тебя буду, сука, – зло сказал Тольчик Сизарь.
– Я ж не знал, что Артур накачает Булочку в задницу каким-то пироксилином. Но Арончик пообещал все сделать.
– Еще бы за такие бабки, пусть попробует не сделать, казнить вас буду, казнить… суки нерусские, – сказал Тольчик и показал Мошекаю кулак с наколкой «Сиделец по жизни».
А в это время на трассе происходило следующее: Булочка шла уже третьей, Франциска затерялась в толпе, Зорька и Карат шли голова в голову… И Булочка за полкруга до финиша стала выходить вперед. На трибуне творилось черт знает что, потому что летели Булочке под хвост ставки, деловые отношения, а в кулаках сжимались кастеты. Стоял дикий ор.
Ударил гонг. И в это время случилось то, что заставило замолчать всех. В тот момент, когда Булочка уже начала обходить и Карата, и Зорьку, Арончик, «камзол каасный, лошадь сеаая», привстав в своей качалке, повернул свою «Зойку» назад, пересекая путь Булочке. Булочка шарахнулась и стала отставать, а Карат финишировал первым. Зорька же, как ни в чем ни бывало, побежала назад к старту…
– Победил наездник Семен Неовный, камзол сиеневый, лошадь Каат, – прозвучало в тишине ипподрома. Что тут началось! Один из важных людей в черном пальто и в черной шляпе, со сверкающими калошами поверх туфлей отвернулся от ипподрома и говорил что-то грубое в лицо директору. Засандалов и Шип схватили друг друга за грудки, но потом руки убрали и, отойдя в сторонку, стали тихо, но напряженно переговариваться короткими фразами: «Курвячий рот!» – «Пиндыка!» – «А ты как сюда попал?» – «А ты?» – «Папишу» – «Расскажи что-нибудь поновей, как вас е… у фонарей»… Роземунда и Щекатунская боялись подойти к своим ухажерам, курили, потом щелкали семечки, терлись у стенки ипподромовского туалета, рискуя быть смытыми тугими мужскими струями мочи, накопившейся от пива, водки, массандровского портвейна, крем-соды и мороженого…
А Мошекай и Тольчик скромно стояли у кассы, уже сполна отоварившись денежной массой.
– Ну что я тебе говорил? А, Тольчик? Давай долю!
– Не здесь, не здесь. Ты видишь, что сделал Арончик, а? Надо будет его отмазывать. Поговорю с Шипом.
Под трибуной, там, где наездники раздевались, Арончик стоял в окружении наездников, и они насыпали ему полную пазуху «ласковых» слов.
– Ты что, Арон, ну ладно, деньги взял, видно, немалые, но мог же сам убиться, и всех нас убить!
– Да «Зойка» с ума сошла, не видели, что ли, как она повернула? Такого никогда не бывало.
– Да? А кто ее туда бросил, влево? С ума сошла…. Она тебе человек что ли, а, Арончик?
– А што, што… лошади тоже люди… нервы у всех, нервы подвели… пристрелить бы ее…
– Тебя, Арончик, скорее пристрелят, а из твоей Зорьки конскую колбасу сделают, ух какая будет дорогая колбаса… Кто-то же влетел по-крупному на твоем финте влево…
– Да с ума она сошла, говорю же вам, нервы!
– Это ты с ума сошел, падла!
На улице Скаковой Арончика поджидали Мошекай и Тольчик.
– Ну что, Арончик, получай свою долю, мы и не думали, что ты так верен своему слову…
– Нет, ребята, оставьте меня в покое, и денег мне не надо. Она и правда с ума сошла. Я ведь хотел пропустить Булочку и вожжи натянул вправо, чтобы Карата притормозить, а она… с ума сошла, нервы… Вы лучше ей деньги… на лечение… Она ведь тоже человек, все понимает, – сказал Арончик и начал уходить.
– Ах вот ты что хотел сделать! – завопил Сизарь. – Тебя, сучонок, перекупили?
И тут Арончик подошел к Тольчику и взял его за нос.
– Слушай ты, блатной или кто ты там, Булочка шла в свой последний заезд, на днях ее хотели отвезти на мясокомбинат. Понял, сучий потрох? А так она еще побегает, тебе этого не понять, потому что ты всегда ползал… Пошли, Мошекай…
– Аа, поцарики, договорились за моей спиной, я вам еще устрою бега… Завтра пойду к Шипу с Засандаловым!
– Идиёт, – сказал Арончик, – меня попросили люди оттуда.
– Откуда? – спросил непонятливый Тольчик.
– Оттуда, – сказал Арончик Фишер и показал пальцем вверх. На небо.
На следующий день он подал заявление об уходе с работы и перестал быть наездником.
Светокопия
Люции
Юра, Юрчик, Юрик Пурим среди друзей – крымчаков всегда ерничал:
– Вы со мной не шутите, я выходец из Вавилонии! А от чего рухнул Вавилон?.. То-то же… Не знаете… Трындеть надо меньше.
– А может, ты нам еще и про свои ассирийские корни споешь? – смеялись друзья. – Ладно, про палестинские будем молчать, а то еще с работы уволят…
– Скоро за это не увольнять, а награждать будут, – отшучивался Юрий Михайлович, голубоглазый, невысокого роста крепыш с действительно ассирийским, слегка крючковатым носом и модным тогда, в начале шестидесятых, коком – чубом, нависающим надо лбом, но взбитым наверх…
Кокоз, настоящий кокоз, каким, наверное, и был настоящий воин древней цивилизации вавилонян. Находчивый, подвижный и смекалистый, он своей энергетикой мог завести все конструкторское бюро, где в свои двадцать пять работал уже начальником отдела. Как его древние предки добрались до крымских гор и долин – ума не приложу. Наверное, как и все остальные, такими странными путями, не похожими ни на чьи другие способами жизни.
Жизнь холостяка в тогдашнем Симферополе не была слишком разнообразной. После работы все приятели и Юра ударяли по коньячку с черным кофе, затем совершали коронные проходы по Пушкинской, раз в неделю ходили на футбол. После игры Юрчик медленно шел вместе с болельщиками, чему-то радуясь и огорчаясь, и в конце бульвара все упирались в маленький деревянный мостик через Салгир. Мост был подвесной и раскачивался, пока прижатые друг к другу болельщики проходили по нему на другой берег, выводивший к центру города. На это уходило много времени, иногда кто-то не выдерживал и прыгал с моста прямо в речку, благо она была мелкой, и счастливец выбредал оттуда на сушу, весело отфыркиваясь…
Юра всегда выделялся среди всех на работе исполнительностью, точностью и какой-то грустинкой в глазах, несмотря на фонтанирующий иногда юмор и любовь к анекдотам. Причиной грусти был пережитый примерно в десятилетнем возрасте драматический отъезд в эвакуацию из Керчи с дедушкой, матерью и бабушкой, когда началась война и немцы уже вошли в Крым. Только случай спас семью от гибели: за несколько секунд до отхода парома, они успели заскочить на него и переправиться на ту сторону, где была еще не оккупированная Кубань. Уже высаживаясь на кубанскую землю, они узнали о том, что следующий паром, на котором они должны были плыть, был потоплен бомбардировщиками. Видимо, поэтому, когда Юра шел в сдавливающей со всех сторон толпе с футбола, он вспоминал ту переправу, чувствовал, как задыхается, и остро ощущал, что мост вот-вот рухнет… Потом он стал переходить через другие мосты, которые были подальше, – там было спокойнее. Вскоре ближний мост действительно рухнул, но, слава Богу, на нем было мало людей и никто не пострадал… Поэтому Юра ощущал свою интуитивную правоту, и глаза его становились порой еще глубже и грустней…
Он холостяковал, вел жизнь, как и все его друзья, вольную, по возможности знакомился с красавицами на танцах или в компаниях, но никто не затрагивал его душу и сердце… Так часто бывает: самое главное и лучшее ищешь черт знает где, а находишь возле себя.
Под ним был в КБ целый копировальный отдел. В основном – молодые девицы. И, конечно же, холостой начальник не мог не вызывать у них интереса. И всегда, надо – не надо, кто-то за ходил к нему в кабинет и спрашивал о том, что все давно знали.
– Юрий Михайлович, а вот с этих чертежей сколько надо светокопий?
– Тут же в углу написано – десять…
– А я подумала сто…
– Сто? Да сотни хватит, чтобы «Войну и мир» перевести в синьку, – улыбался Юра. – Давай-давай, заходи, если что…
– Вот я и зашла.
– Только по делу, поняла?
– А я по делу, – тихо роняла сотрудница и разочарованно уходила.
А Юра думал:
«Ничего девушка, но чего-то не хватает». – И тут же забывал об этом, не продолжая выискивать, чего именно не хватает…
Только одна не заходила. Новенькая. У нее было редкое имя – Люция. Говорили, что приехала она откуда-то издалека. Но имя-то какое – Люция, завораживающее… Кто она? Украинка? Полячка?
Люция все не заходила и не заходила. А другие заходили. И вот однажды Юра сам зашел в копировальный отдел и громко спросил:
– Кто у нас тут Люция?
Из-за стола в самом углу поднялась высокая, красивая с ярко-голубыми глазами девушка. У Юры сразу пронеслось в голове:
«Ну и длинная! Хотя нет, не такая уж…»
– Люция, у вас ко мне вопросов нет?
– Да вроде бы нет, Юрий Михайлович…
– А то я подумал: у всех есть, а у вас нет, непорядок… Если будут – заходите, не стесняйтесь… Все заходите…
И, смешавшись, ушел. И тут же начал говорить про себя:
«Вот дурак, зачем сунулся? Ну, девица как девица! Крупновата… Но глаза-то, глаза…»
Начал вспоминать он глаза и не вспомнил. Даже к вечеру не вспомнил.
На следующий день утром он стоял в вестибюле, рассматривая витрину с передовиками производства, как будто ему это было нужно, а то он не знает, кто чего стоит… И вдруг услышал сзади смешливый голос:
– Что, Юрий Михайлович, местечко себе подбираете? Мы – за.
Он обернулся и увидел двух копировальщиц. Одна из них была Люция, но она молчала и только улыбалась.
– Да вот, хочу портрет самой красивой повесить из нашего отдела, место ищу…
– Кто же это будет?
– Да вот, какую найду, та и будет, – застеснялся он опять и ушел к себе в кабинет.
«Так, что за черт, опять не могу вспомнить цвет глаз – не то серый, не то голубой, не то синий… Вызвать, что ли, к себе? А зачем? Вопросов нет… Просто так – все начнут шу-шу-шу… Попросить главного инженера? Тьфу, глупость какая… Все заходят с дурацкими вопросами, а эта нет. Наверное, кто-то у нее есть… Еще бы! Такая… Такие глаза… – И не мог вспомнить, какие. – Серые… Точно… Это она просто у окна стояла, и показалось, что голубые».
Прошла неделя, другая… И вдруг в субботу – поездка на море, профсоюзная, на целый день, в Евпаторию! Все пришли, а ее нет… Отскучал целый день с коллективом, обгорел немного, малость поддали… А вообще – скука.
В понедельник с утра Юрий Михайлович начал действовать решительно.
– Пригласите ко мне в кабинет эту, как ее… Ну, новенькую… Люцию, что ли, – нарочито грубовато сказал он в трубку одной из копировальщиц.
– Да, знаем, Юрий Михайлович, сейчас позовем, – услужливо-вежливо, но с издевочкой ответила одна из них.
– Что вы знаете, что знаете? Знают они… Как аппарат не работает и надо починить – так этого вы не знаете…
– Юрий Михайлович, у нас все работает.
Все знали, что Юра, хоть и начальник отдела, но всерьез злиться не может.
Через минуту в кабинет вошла Люция. И здесь у вавилонянина и ассирийца произошло смешение языков, а все его воинские построения рухнули под обломками башни.
– Так, вы почему нарушаете жизненный уклад коллектива? Отдыхать надо всем вместе… По субботам… В море… Это сближает… Производительность… Какого цвета у тебя глаза? Меня это мучает… Вы можете мне… Ты мне сделаешь кальку… Тьфу, синьку… Ах да, голубые… Нет, черного цвета… Люция, пойдем вечером в кино…
– Юрий Михайлович, у вас все?
– Да, все…
– Я подумаю и завтра скажу…
Люция поднялась, и Юра тоже. У Юры в голове промелькнуло:
«Да нет, не такая высокая, бровь в бровь».
У Люции же в мозгу неожиданно пронеслось другое, поразившее ее: «Прощай, любимый каблук-шпилька! Значит, я уже согласилась». Назавтра Люция не вышла на работу. Но к вечеру на столе у Юры зазвонил телефон.
– Юрий Михайлович, я неожиданно уехала к родственникам на Украину. Заявление я оставила у девочек, два дня за свой счет. Тут неприятности семейные. А вообще нам будет трудно с вами, у меня столько намешано: и поляки, и русские, и украинцы, да еще, происхождение…
– А ты знаешь, сколько у меня? – прервал ее Юра. – Вся передняя и задняя Азия. А происхождение… Я тоже не под кальку сделанный… Ты где сейчас?
– В Богодухове… Буду через два дня.
Два дня Юра не находил себе места. Все думал о Люции и о том, что она сказала ему о трудностях, которые будут. «Значит, она уже согласилась? А я что, влюбился? Почему я все ее принимаю, как свое? И как-то легко с ней, все понимает… Да, собственно, что понимать… Вот приедет…»
И Люция приехала. Они пошли в кино. Конечно же, не только в кино… Сначала весь вечер гуляли по городу. Юра, выросший в Керчи, знал наизусть и Симферополь: все улицы, переулки и переулочки, все тупики от Большого Коммунистического до Малого Известкового. Тем более, что город был в то время уютный, располагался весь на трех-четырех пересекающихся улицах с центральным бродвеем: Пушкинской, Пушкарем, Пушкой, как его называли тогда все гуляки.
Новые районы только начинали строиться, и поэтому в уютном центре с парком, ресторанами, кинотеатрами и магазинами можно было кружить, сколько хочешь, и в итоге где-нибудь в районе Семинарского сквера или Ноябрьского бульвара найти полускрытую деревьями скамейку, на которой целовалось не одно поколение симферопольцев.
Люция поведала, что родом она из Богодухова, городка недалеко от Харькова, из семьи кулаков, которую в тридцатом раскулачили и сослали за Урал, под город Серов, в поселок Сосьва. Помнит, что голодали в войну, и холодно было ужасно… Потом, после смерти Сталина, им разрешили вернуться. А в Богодухове в их доме был полный разор, и восстанавливать было некому. Дед вернулся из лагерей совсем больным и вскоре умер. Они с мамой и отцом приняли решение переехать к родственникам в Крым…
Юра тоже рассказал ей историю своих бедствий. В общем, встретились два молодых красивых человека. Впереди была большая неизвестная жизнь, а внутри уже была заложена еще с детства такая боль, такая печаль, особенно в том еще социалистическом обществе, где дети кулаков и подкулачников, евреи или «какие-то крымчаки» были изгоями. Конечно, в первую оттепель, на которую и пришелся роман Юры и Люции, стало немного полегче, но все же, все же… Им было сложнее, чем людям с простой биографией. Хотя в сущности таких было мало. Почти все были чем-то замазаны. У одних было одно, у других…
Кстати, это сильно объединяло. И когда Юра и Люция садились на работе за свои столы, оба сознавали, что есть теперь рядом человек понимающий и знающий тебя до конца, и именно поэтому уважающий. Это стало их тайной, так сблизившей их, что они и не заметили, как по-настоящему влюбились друг в друга…
Когда появились сыновья, сначала Дима, а потом через несколько лет Костя, они жили такой же южной приветливой и дружелюбной жизнью. Масса друзей, посиделки допоздна, дети все время с ними, таскали их маленькими на руках, на закорках…
Однажды, когда Дима уже вырос и его забирали в армию – из Москвы, где он учился, и было известно, что служить он будет под Калининградом, – вдруг раздался звонок, что его неожиданно перевели в другой отряд, отправлявшийся сначала на подготовку в Самарканд, а потом на границу. И что сделать ни чего уже нельзя, потому что на станцию приехала жена очень известного на всю страну кинорежиссера и попросила оставить своего сына служить здесь, в европейской части. Ну, Диму и поменяли на сына советского кинематографиста. Юрий Михайлович, приехавший вместе с Костей и Люцией в Москву проститься с Димой, посадил всех в машину и сказал:
– Нам надо увидеть Диму еще раз перед отъездом.
Они мчались на такси под все светофоры, Юра гнал и гнал таксиста и все говорил:
– Успеем, успеем, однажды я успел… Тогда, на переправе… И сейчас успеем.
И действительно они успели…
Как-то в часть, где служил Дима, пришло письмо от отца. Оно было без знаков препинания. Отец подробно описывал жизнь без Димы, как мама тоскует, как Костик, как папа… Какие перемены в городе. Все-все. В конце письма, после «Целую, твой папа», было выставлено несколько знаков препинания – точки, запятые, тире, многоточия, точка с запятой, кавычки… Далее шла приписка:
«Дима, если есть желание – расставь знаки препинания сам: там, где захочешь. У нас, крымчаков, так было принято когда-то… Это чтоб ты там не скучал…»
Хохмач Ташик
Таш слыл среди своих хохмачом. Это было всегда забавно. В компании не надо было напрягаться, строить из себя серьезного или остроумного человека. Нужно было быть самим собой, и Таш делал свое дело… Перед девушками, особенно новенькими. То анекдотики, то шуточки, то экспромты летали в воздухе, все только и взрывались от смеха… А Таш был неиссякаем на веселые глупости и серьезные подначки и приколы. Глазки его сверкали, он ловил кураж и под конец вечера обязательно уводил одну из девиц под звездный зонтик вечернего крымского неба. Мы не знали, что он с ними там делал, но назавтра он снова появлялся в компании и первым, что он произносил, причем подражая голосу Левитана, было следующее:
– Вчера в одиннадцать тридцать по московскому времени на скамейке городского парка еще одна из красавиц города стала жертвой самых дурных наклонностей нашего многоуважаемого Таша…
Дальше наш Каменный – его имя на крымчакском означало камень, поэтому его так и дразнили – замолкал, и для всех становилось загадкой, каких же таких дурных наклонностей? Хотя загадки никакой не было – он больше говорил, чем делал.
Или на вечеринках с его языка всегда слетала какая-нибудь глупость, вроде:
– Вчера покончил жизнь самоубийством еще один Гитлер… На сцене драматического театра в спектакле «Спички для Евы Браун». Это уже восемнадцатый Шикльгрубер в текущем году. Труппа театра работает в счет плана 1945 года…
Иногда он так надоедал, что все кричали:
– Пошел вон, Таш! Замучил своими идиотскими шуточками, все старо…
И он замолкал, затихал, садился на кухне, долго и серьезно говорил о сущности понимания софизма с хозяйкой дома, которая жалела его, поила кофе, что заканчивалось поцелуями и тем, что он у нее оставался на ночь. Он отучился на философском факультете, но работал юрисконсультом на зеркальной фабрике. После одного из таких ночлегов он пришел в дом друзей и произнес тираду о том, что вчера одна из красавиц… стала… на кухне жертвой его самых дурных наклонностей. Все, как всегда, рассмеялись, но Таш помолчал и добавил:
– Завтра мы идем с ней в ЗАГС…
– Послушай, Таш, это самая грандиозная хохма!
– Нет, я всерьез женюсь… На ней… У нас уже даже ребе нок есть… Не от меня…
И все опять рассмеялись. Однако свадьба была. Настоящая. Но идти на кладбище заказывать места на будущее Таш отказался, сказав:
– А вдруг она умрет раньше меня? Я что, тоже должен вслед за ней? Будем думать над нашими обычаями… Что-то здесь не так…
Вообще у него были коронные хохмы, когда он мог неожиданно подойти на Пушкинской улице к девице в слишком короткой мини-юбке и, на мгновенье сверкнув какой-нибудь красной книжицей, сказать:
– Пройдемте…сь…
Говорил он это так уверенно и даже нагло, что ни у кого не было сомнений: нужно действительно «пройтись». Вот это «сь» мало кто слышал, особенно девицы, так напуганные своими короткими мини-юбками, что тут же покорно шли рядом с Ташем, начинавшим примерно так:
– Как вы понимаете, в период легитимного и повсеместного трансмутагенного периода породистой самости самок и самцов особенно опасным становится подъем околопельменных вод беременных на девятом месяце… Милиция…
И вот здесь девушка замирала и слушала, слушала его ахинею и все больше приходила в ужас от своей «некомпетентности в вопросах правоохранительного пользования молодым женским органом, прав проходящих мужских особей, которые становятся агрессивными, злыми, наукоебкими. Бывают войны».
Так однажды он три часа проходил с одной из самых красивых девиц нашего города. Она дрожала, краснела и смущалась, клялась удлинить юбку, но в конце серьезного разговора Таш вдруг проговорился, что она ему очень нравится, и тут же получил смачную пощечину.
– Болван, я из-за вас пропустила последнюю серию Штирлица: я решила, что мне грозит штраф, а вы просто издевались, использовали свое…
– Что? – спросил Таш, – служебное положение? Так у меня его нет, так что берите назад пощечину…
Или он мог ходить по городу с портфелем, в котором всегда были мочалка и мыло.
– Если заберут в вытрезвитель, попрошу, чтобы вымыли как следует.
Кто-то из друзей сказал тогда:
– Ташик, носи с собой еще и хорошие лекарства: если попадешь в больницу, попроси, чтобы получше подлечили.
В общем, все это было мило, безобидно, до тех пор, пока он не стал перегибать палку, почувствовав себя на коне среди тех, кто ценил его подначки. Его друг, серьезный ученый, собрался в командировку и устроил отвальную у себя в лаборатории Института минеральных ресурсов. Это было старинное здание с массой вещей антикварного вида. Выпили не так много, но перед самым отходом поезда Таш сказал, что он хочет положить отъезжающему в его сумку пару бутылок коньяка и закуску. Кто откажется? И под одобрительный гул провожающего народа Ташик впихнул в солидный кожаный портфель увесистый сверток. Командировочный взял в руки портфель и сказал:
– Ценю тяжесть звездочек, спасибо.
И поезд его поплыл в какой-то Экибастуз. С трудом добравшись до гостиницы, греша на недавний ужин с возлиянием, друг Таша выспался в пронумерованных простынях гостиницы коммунального хозяйства «Домколхозника» и к вечеру уже был готов для подвигов. Уже через полчаса приглашенная в номер командировочная из номера наискосок расставляла на столе коньячные рюмки, а наш герой доставал сверток с выпивкой и закуской. С трудом вскрыв мощный пакет, обещанного коньяка он не обнаружил, а с воплем достал из бумаг и картона огромные старые советского образца настольные часы, вставленные в мраморную тяжелую оправу. Вот оно что! Вот почему так было тяжело… Но наш брат не теряется никогда, и дружеский ужин прошел на высоте. Даже и бежать не пришлось никуда. У соседки наискосок, главного винодела винсовхоза «Ливадия», прибывшей в Экибастуз на другую конференцию, конечно же, было все, что надо, с собой. И она утешила земляка…
Через дня два Ташу позвонили из почтового отделения:
– Зайдите срочно, вам телеграфный перевод.
Таш начал лихорадочно вспоминать, откуда и кто мог при слать деньги, да еще телеграфным переводом. И вдруг вспомнил, что месяц назад он читал лекцию по защите зеркал от боя в периоды транспортировок в одном НИИ города Павлова-на-Оке. Он обрадовался.
«Уж не меньше рублей ста, а может, и более того», – думал он, стоя в очереди на почте. Наконец ему выдали квиток, в котором была указана его фамилия и сумма – 18 копеек.
– Заполните, – грубо сказали в окошечке.
– Это какая-то ошибка! Быть не может – телеграфом 18 копеек. Это 180 рублей из Павлова-на-Оке…
– Так, заполняйте и получайте, – бросили Ташику в окошечко. – И еще прочтите сообщение… Из Экибастуза.
«Милый друг зпт я потратил рубль двадцать тчк ты получил телеграфом восемнадцать копеек тчк ровно стакан сухого вина выпей зпт подумай тчк высылаю часы посылкой счет получателя замучаешься получать тчк Зверобоев».
И действительно, месть наступила неотвратимо. Месяца через два пришло извещение. Ташик пошел на почту. Оттуда его послали на грузопассажирскую станцию за городом. Там он заплатил какую-то пошлину, стоимость посылки и страховочную стоимость. Прождал почти целый день, пока в завалах мешков и бандеролей нашли именно ее. Наконец, когда двое рабочих вынесли посылку, Таш понял, что он сможет до везти ее до минералогического института только на такси за червонец. Так он и сделал.
– Спасибо, Таш, за подарок! У нас в институте никогда не было таких красивых часов, да еще с автографом нашего коллеги академика Ферсмана, – долго тряс руку Ташику директор института под серьезными взорами сотрудников. Они и забыли, что такие часы у них когда-то были.
Когда Таш постарел, то стал носить с собой в кармане камешек со своего двора. Возвращаясь домой, он бросал его вперед и шел к нему, поднимал и опять бросал… И так добирался домой. Он говорил:
– Я Таш, камень, по камешку и хожу… Вот как не найду, так и не приду домой, на Фонтанную улицу…
Но ходил он долго и долго устраивал мелкие пакости своим друзьям, конечно же, безобидные. Уже когда Таш был в преклонном возрасте, он послал телеграмму своему другу, жившему напротив: «Приходи завтра на ужин – твой Таш». Когда они сели за стол, друг спросил:
– Зачем ты послал телеграмму? Мог бы просто крикнуть через дорогу…
– Я мог не докричаться, у меня сорван голос, а ты мог не услышать, у тебя плохо с ушами… А телеграмма идет не более суток…
– Тогда наливай, только не промахнись, у тебя что-то с глазами…
– Это слезы, я раньше много смеялся, а сейчас… слезятся…
Когда однажды он просто взял и умер, то все посчитали это самой великой хохмой Ташика. И никто из друзей не простил ему этого номера.
Фотография на память
Моисей ходил по пустыням Евпаторийского городского пляжа. Была уже осень, и отдыхавших почти не было. Хотя ленивое солнце еще пригревало хорошо, и только противный ветерок, вырывавший из-под камней одежды лежавших на песке двух девиц явно не местного разлива, мешал им полностью расслабиться. Моисей ходил меж выброшенных на берег моря жителей Москвы, Ленинграда, Днепропетровска или еще какого-нибудь совсем уж холодного города со старой лейкой и треногой в руках, с прикрепленными к ней фотографиями на картонке. Моисей не вызывал никакого участия, сожаления, или даже простого внимания…
«Время проходит зря… Сегодня я приду домой без копейки…»
Одна из девиц подняла голову, глянула из-под шляпки и с издевочкой обратилась к Моисею:
– А вы можете меня снять «ню»?
– Девочка, милая, и даже когда этого слова «ню» не было в природе, я снимал голых в моей мастерской, скорее обнаженных, голые бывают в бане. Вы знаете, кто такой Модильяни? Так это художник такой… У него это получалось лучше всех. Кистью. А у меня фотоаппаратом, так что если не шутите…
– Нет-нет, я шучу…
– А я вот не шучу, я же партийный, я вам гарантирую, хотя мне снимать не только обнаженных, мне даже в бикини официально… с квитанцией, – добавил он, – нельзя. Хотя ради вас, вашей фигуры…
И Моисей сознательно пошел на другой конец пляжа. Медленно, вальяжно. Там к нему подошла пожилая пара. Он долго ставил их у ступеней муляжной античной колонны, потом отходил, вздыхал, опять смотрел на небо – мол, свет не тот, сейчас солнце выйдет, затем все-таки просил:
– Улыбочка! Птичка вылетает, замрите… Все, вы у меня в порядке. Завтра в это же время, здесь же, без опоздания, брак не считается, на выбор… Три фотографии, с вас три рубля, сейчас…
– Но…
– Ви что, мне не доверяете? Спросите каждого, и он ответит, что даже если никто не приходит на пляж в снег, дождь, слякоть, Моисей стоит здесь, у колонны, словно кариатида, каждый день…
Услышав такое умное и культурное слово, отдыхающие верили Моисею и отдавали трешку, спрятав поглубже в кошелек квитанцию…
Моисей стал уличным фотографом почти случайно. Увлечение детства стало профессией. Родители, а потом и жена укоряли его:
– Моисей, надо что-то посерьезней, ты же так и умрешь под танком в ожидании клиентов…
Имелся в виду танк, который вошел первым в Крым и был поставлен на постамент в центре города. Хотя в каждом городе был свой танк, возле него охотно фотографировались приезжие. Сначала дела у Моисея шли неважно, но скорость, с которой Моисей двигался по местам боевой славы и пляжам, где он успевал запечатлеть несметное количество своей клиентуры, хорошее качество и честность в расчетах делали свое дело. Он стал преуспевающим фотографом. Его стали приглашать на свадьбы, похороны, последние звонки в школы, на спортивные соревнования. Знакомые, приятели знакомых и наконец просто друзья говорили:
– О, наш Моисей, он же Анри Картье, – забывая при этом самое главное, фамилию Брюсон, – только наш уличный, рекомендуем…
Семья была довольна, и никто уже не сомневался, что он выбрал профессию ту, что надо.
В партию он вступил на фронте, как и все нефанатичные коммуняки. И особенно этим не тяготился. Напротив, когда стал зрелым мастером фотоателье его стали приглашать первые партийные лица, чтобы запечатлеть себя на фоне портрета Ленина, или с гостившим высшим партийным чином, или с семьей. И, конечно же, иногда он получал более деликатные просьбы… Например, снять за городом с красоткой, которая выпархивала из служебной машины и в полуобнимочку замирала с тайным любовником. Затем выходил Моисей, быстро, по-оперативному щелкал, и все вместе исчезали с места происшествия. Потом, когда Моисей вручал фотографии, его спрашивали:
– Негативы уничтожил? Маладец!
– Съел, – шутил Моисей, и его опять хвалили.
– Маладец, настоящий коммунист, даже реактивов не боишься…
И приставляли палец к сжатым губам: мол, молчи, мы свои, понял? Но денег никто из них никогда не давал. «Халява, сэр», – думал Моисей, но прощал. Ему важнее было другое – он был накоротке с властьимущими, и в принципе они все у него были на крючке. Так, на всякий случай, хотя внутренне он не презирал их, но и не восхищался, просто отслеживал ситуацию…
Однажды в воскресенье его пригласили такие вот бонзы на пикник за город. Покупаться, попить вина. И надо же, вышло так, что в жаркий день мужчины, удалившись к скалам, стали купаться голыми и, естественно, Моисей щелкнул два-три раза… Потом спокойно вроде уехали: накупавшись, навеселившись… Однако не тут-то было. Как-то вечером к нему постучали. Он увидел двух своих клиентов из горкома.
– Моисей, выходи.
Тот вышел.
– Фотографии делал в скалах, помнишь? Отдавай все. С негативами. И не приходи больше… И это еще не все. Будем тебе выговор по партийной линии делать, а там…
– А что случилось?
– Ничего не понимаешь? Дурак, да? Мы в американские газеты попали…
– Я не посылал.
– Еще бы… Если бы ты, убили бы. Наши враги отправили, а скоро партийная конференция. Там было написано, что снимали со спутника. Откуда у тебя спутник, а, Моисей?…И подпись: «Так развлекается партийная элита». Мы тебе покажем элиту! Завтра же сделаешь наши портреты при всех наградах у танка и отправишь…
– Куда? У меня нет адреса.
Их не сняли с работы. Оказывается, что при всей разрешающей способности спутниковой техники лица не получились… И они отбрехались. Но доверие к Моисею, базирующееся на смутном классовом чутье, было подорвано. С тех пор его карьера пошла немного вниз, низводя его снова до городского пляжа.
И вот он сидит на песке, а две девицы что-то болтают ему о «ню», ему – тончайшему маэстро, пострадавшему на этой почве даже политически… Вдруг что-то екнуло:
«А почему бы и нет? Поведу на дальний пляж, и там щелкну… Холодно ведь, долго нельзя, простудятся».
Так и договорились. И вот только девицы встали по щиколотки в море, обнаженные и хорошенькие, и только Моисей прицелился, как вдруг сзади раздался басовитый знакомый голос:
– Опять вы, Моисей Юрьевич, за старое! И не стыдно? Ведь давно уже не мальчик, а все туда же… Снова у вас голые…
Моисей отвернулся и увидел прогуливающегося партийного секретаря с супругой. Девицы шлепнулись с испуга в воду и начали кричать: «Холодно, холодно…»
– Еще и людей мучаете! Завтра у меня в кабинете, в девять…
На следующий день ровно в девять Моисей пришел и разговор получился не из приятных.
– Партбилет на стол и фотоаппарат вдребезги за такие художества!
– Сейчас не те времена, – начал было Моисей.
– Для кого не те, а для тебя в самый раз! И ты у меня не в Израиль поедешь, а в Сибирь…
– Как, опять в Сибирь? Но ведь сейчас за это не в Сибирь…
– Это кого-то не в Сибирь, а тебя – точно в Сибирь! Будешь там голых медведей снимать.
– А как же семья? Кормить надо, трое детей…
– А ты о чем думал, когда на виду у всего города голых баб снимал?
– Не голых, а обнаженных, Анри Картье Брюсон…
– Какой там Анри… Картье… Массон… Партбилет на стол… А это орудие производства можешь забрать…
– Партийная комис… – начал опять Моисей.
– Какая там партийная комиссия, вон!..
И тут Моисей выдал домашнюю заготовку.
– Хорошо, хорошо, я сдам партбилет, но перед уходом я оставлю вам на память одну фотографию…
В кабинете повисла гнетущая, как говорят в такие моменты, тишина. Партийный секретарь вспоминал лихорадочно, что же за фотографию может подарить ему Моисей…
И ничего не вспомнив, тихо спросил:
– Опять порно? Я не интересуюсь…
– А вы тут ни при чем… Там интересуются…
– Это где там?
– Ну там, где вы уже печатались, и партбилет придется сдавать нам вместе… И Сибирь, Анри Картье Брюсон вашу мать, мне не страшна, я там уже был, а вот…
– Ну ладно, – уже совсем тихо сказал секретарь райкома, – ты мне как коммунист коммунисту скажи…
– А вот это уже другой разговор. Хотите увидеть? Я уже отправил, только если на почте свои есть…
– Ну, конечно, есть…
И секретарь увидел на выложенной фотографии двух вчерашних голых девиц и сбоку себя, да так отчетливо…
– Как же ты своей сраной лейкой так захватил?
– А у меня новый, широкофокусный. Знаете, как берет…
– Да я не об этом…
– А я об этом…
– Негативы где?
– Так, дом не обыскивать, детей и семью не трогать, сам уеду в командировку в Сибирь на пару месяцев, пока вы все забудете. Негатив в надежном месте. Товарищи, если что – отправят снова туда же… А это вам на память, в одном экземпляре. Честно как коммунист коммунисту говорю: в одном… Или вернее – честное крымчацкое…
Моисей ушел. Уехал в Сибирь, и вернулся назад через два месяца с огромным циклом фотографий и репортажей о сибиряках и сибирячках. Все газеты напечатали. Моисей снова встал на свое рабочее место. На пляже. У танка. У античной колонны. Иногда встречал на прогулке в пустынной части набережной бывшего первого секретаря райкома. Он пошел на повышение. Позвали третьим в горком. И третий всегда почтительно спрашивал:
– Ну как творческие успехи, Моисей Юрьевич?
– Да ничего, не жалуюсь, все живы-здоровы, это главное.
– Ну добре, добре, работайте…
На свободной волне
Волна уплывала и возвращалась. Арбен все ниже и ниже склонял свою голову к светящейся шкале небольшого немецкого радиоприемника «Телефункен», доставшегося ему от отца, сумевшего вывезти его из Германии в качестве трофея. Тогда, в начале пятидесятых, радиоприемник был большой редкостью. Советский – брал только средние и длинные волны, а короткие – начиная с 31 метра и выше. Поймать ничего нельзя было, кроме музыки. Поймать – в смысле информации на русском языке, отличной от той, что дозированно отпускалось советским гражданам из черных воронок репродукторов между шестичасовым утренним и двенадцатичасовым ночным исполнением гимна. «Телефункен» обладал способностью брать не только средние волны с европейскими станциями и длинные в основном с румынской речью и музыкальной передачей «Музика ушваре», переложенной стихами великого дадаиста Тристана Тцара. Он брал короткие волны, начиная с 16 метров, на которых в основном и «висели» вражьи голоса, такие, как «Голос Америки», «Свобода»…
И вот ночью Арбен, закрывшись в своей комнатке под голубятней на окраине города, где он жил со своей стареющей матерью в старом сыплющемся доме, начинал ползать по эфиру.
– Вот глушилка работает, а рядом…
И вдруг чисто вырывалось на какое-то время:
– Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона, с вами ведущая политических новостей Людмила Фостер.
Арбен Перич сливался с «Телефункеном», и в его клеточки впивалась вся, как ему казалось, правда репродуктора:
– Состояние Сталина ухудшилось…
Арбена это потрясало. Не состояние Сталина, а то, как говорила ведущая, словно он ее кореш, а не генералиссимус, победивший фашизм. Сам Арбен не служил в армии и не воевал из-за перенесенного в детстве полиомиелита: у него были трудности с правой ногой. Но к победам и главнокомандующему относился с восхищением, а слушал «голоса» только потому, что хотел знать больше, чем все. Так вот… Вот эта ее, фостеровская, слегка развязная, немного холодная, независимая интонация одновременно и раздражала, и нравилась Арбену.
«Ишь ты, сучка, – уважительно думал он, – не товарища Сталина, не состояние великого Сталина, а просто, как бы невзначай, между других новостей, бац и все тут: «состояние Сталина ухудшилось»… Во прет на буфет, во стерва! Ухудшилось… Разве ему дадут помереть…»
Было, конечно, страшно. По доносу, за прослушивание западных радиостанций, ему могли дать лет десять. Но он слушал. Для себя. «На машинке ведь не размножаю, никому ничего не рассказываю», – успокаивал он сам себя… Правда частенько судили именно таких, как он. Обычно это были закрытые суды, без адвокатов и всякой такой мутотени.
– Зачем вы слушали «Голос Америки»?
– Я не слушал.
– Но свидетель пишет…
– Я должен знать, как они клевещут, чтобы еще осознанней бороться…
– С кем? Где? У нас?
– Ну, я же не могу поехать туда.
– Вот вы и проговорились… Значит, хотите туда?
– Да я не об этом.
– Об этом, об этом… советскую Родину не любите…
Так примерно выглядела схема разговора на суде – не более получаса. И – десятка. Арбен слышал о таких судах, но, как всегда в подобных случаях, каждый думает, что его это не коснется. Ему уже было лет под тридцать. Он занимался голубями по тогдашней моде, и именно внутри голубятни была незаметно протянута проволока: антенна.
«Да еще на окраине города, в нашем засранном районе… Кому это нужно меня проверять?» – думал Арбен. И успокаивался, и снова настраивался на раздражающий, но и сладкий голос Людмилы Фостер: «Состояние Сталина ухудшилось, дело врачей набирает обороты, уже арестованы… «Голос Америки» из Вашингтона начинает свои передачи, слушайте нас на коротких волнах в диапазоне…»
Арбен Перич был не такой уж заядлый голубятник, и поэтому кореша подарили ему в шутку попугая. Говорящего. Ну, какого, к черту, говорящего. Просто произносящего одну-две фразы, и то с трудом. Попка сидел в клетке, спал, мало двигался, попивал водичку. Арбен даже и не догадывался о роковой роли попугая в его судьбе. Однажды друзья целой компанией зашли распить бутылку-другую водки в его сарайчике. Был среди них незнакомый парень, такой угловатый, молчаливый и смурной… Кто-то попросил Арбена:
– А покажи своего попугая, открой его, пусть проснется. Посмотрим, как он у тебя тут, среди наших засранцев…
Арбен снял старую наволочку с клетки, и попугай тут же, был атакован командами:
– Скажи: Арбен дурак.
Попка четко произнес:
– Арбен дурак.
«Конечно, с помехами, но классно», – подумал Арбен, зарабатывая очки перед компанией.
– Ну-ка скажи: хочу двести грамм.
Попка точно повторил на удивление собравшимся. Сеанс уже заканчивался, и вдруг в паузе без всяких просьб попугай взял да и сказал:
– Состояние Сталина ухудшилось.
Да так четко, что все аж присели.
– Что это он у тебя, Бен, дурак дураком, а такой антисоветский?
Все рассмеялись. Не рассмеялся только один, молчаливый, угловатый и смурной… Вскоре все ушли, а в душу Арбена закралась пугливая мысль: «Скоро придут за мной. Этот малый, такой пришибленный, по-моему, был оттуда…»
И Арбен закопал на огороде свой «Телефункен», срезал антенну. Через пару дней за ним действительно пришли. Вели себя бесцеремонно.
– Арбен Перич, вы арестованы согласно постановлению: …слушал «Голос Америки», распространял антисоветскую пропаганду, статья УК СССР 58… Проедем с нами. И попугай тоже проедет с нами. А вот и главный аргумент – «Телефункен», отрытый на вашем огороде, – и они поставили на стол завернутый в старую клеенку аппарат.
В комнате следователя, кроме него самого, сидели Арбен и попугай в клетке. После формальных вопросов следователь попытался разговорить попугая.
– Ну, повтори: попка дурак, хочу двести грамм.
Попугай молчал.
– Ну, повтори: Ара и его жена Сара.
– Не учите его глупостям, товарищ следователь…
– Молчать, сволочь антисоветская! Как развращать животное, тьфу, птицу, так можно. Пусть лучше он скажет то, что слышал по твоему радио.
– Спрашивайте сами…
Но попугай молчал. Следователь говорил все больше какие-то нескладухи, а произнести: «Состояние Сталина ухудшилось» не решался, и вынужден был в конце третьего часа допроса заорать на попугая:
– Да говори же, сука…
Но попугай молчал. Тогда следователя осенило, и он произнес: «Состояние… ухудшилось». И попугай произнес: «Состояние ухудшилось». У следака загорелись глаза, но полностью всю фразу он произнести боялся… Ему нужно было, чтобы попугай повторил то, что слышал по «Голосу Америки», дабы отмерить Арбену побольше. Но тот молчал. Тогда следователь спросил Арбена:
– Значит, распространяете пропаганду? И попугая научили?
– Так он же птица, а не советский гражданин…
– В Советском Союзе – все советское. И птица тоже, это я тебе говорю, следователь МГБ Гордеев. Понял? – добил Арбена следак. – У нас так: если больше двух знают, уже срок за распространение.
Арбен рассмеялся.
– Так он же птица, и к тому же не знает. А вот вы знаете и пытаетесь при мне растлить попугая…
– Зря смеешься, Перич, ты мне это брось. Глазами я все вижу, но не говорю, – начал оправдываться следак… – Да что это я. Где взял говорящего попугая? Вместе с «Телефункеном» подарили?
– Да нет, от отца, с фронта…
– Значит, попугайчик тоже с фронта, тоже трофейный, немецкий значит? Значит, немец?
Арбен вдруг подумал, что следак, вероятно, хочет посадить и попугая, внутренне улыбнулся и сказал ему это. И следователь неожиданно рассмеялся. И вдруг попугай четко и громко произнес:
– Состояние Сталина ухудшилось. Зря смеешься, Гордеев!
Следователь побледнел, забегал по комнате и вдруг открыл форточку, затем достал попугая из клетки и выпустил в окно на мороз…
– Улетел, падла… Никому теперь не скажет, язык свой фрицовский отморозит… А ты…
В общем, дали Арбену Перичу восемь лет за то, что слушал «Голос Америки». Без попугая посадили. Попугай действительно замерз, утром его нашли недалеко от следственного изолятора.
Арбен отсидел только два года, потому что состояние Сталина ухудшилось еще больше. Вернулся он к своим голубям, а они почти все разлетелись. Но больше всего Арбен грустил по попугаю. Где-то через полгода, это уже было примерно в начале пятьдесят пятого, под дверью он нашел повестку в КГБ.
«Опять начинается? Что теперь? Вроде – все чисто. Наверное, не досидел. Решили, что надо весь срок до конца дотянуть…»
Несколько дней мучался и ночей не спал до десяти утра того дня, что был указан в повестке. Ровно в десять он постучал в кабинет к старшему следователю Гордееву.
Арбен первый спросил:
– Что опять?
– Да нет, я вызвал, чтобы сообщить: вы реабилитированы…
– Ну и шуточки у вас, – сказал Арбен и двинулся на выход, но вернулся назад, приоткрыл дверь.
– А попугая тоже?
– Да, но только посмертно, – серьезно ответил Гордеев и уткнулся в бумаги.
Из глубины кларнета
Из безымянной джонки: дом крымчака, город Ак-Мечеть, осень 44го…
Деньги в долг – пусть проветрятся
Вчера разлилась Карасу унесло два небольших мостка для полоскания белья вода подступила совсем близко к домам словно ком к горлу унесло вороного коня он бил копытами по воде но потом заржал в последний раз сверкнув черным мокрым крупом на солнце скрылся под водой цыгане найдут в океане плакали мальчишки ходили возле воды и вылавливали не тонущих целлулоидных кукол но уже без рук они пристают к земле и уходят домой прыгая с камешка на камешек вода сойдет но до следующей весны оставит полоску у самых окон домов обращенных к реке Карасу оставляющей черные следы на известке домов
Плач по умершей жене
Топчу у ворот уголь-орешек
Одинокая лодка
Хафуз увидел, как к воротам римской дачи, стоявшей на берегу моря, подъехала карета, запряженная медленным, известным на всю Балаклаву конем по кличке Смельчак. Римская дача называлась римской потому, что в ней обосновались выходцы из Италии крымчаки Пьястро, а конь был известен как единственный на всю балаклавскую бухту фронтовик – он достался извозчику чуть ли не после англо-французской войны с Россией. Конь был стар, глух и поэтому сильно не разгонялся, однако слушался вожжей хорошо. На нем обычно привозили знатных особ с инкерманской станции – ну не брать же бричку без рессор, не встряхивать же свое тело на каждом камне! Карета была лакированной, однако скособоченной и вся, если присмотреться, в трещинках. Из кареты вышла легкая изящная девушка в ярко-белых, накрахмаленных летних одеждах – юбка едва не касалась земли, и девушка придерживала ее одной рукой, а другой крепко держала шляпку, которая касалась неба. Конечно девушка была длинненькой. Но не настолько. Просто дул бриз и мог снести ее шляпку в море. За ней тяжело, прямо через ступеньку шагнул хозяин римской дачи Пьястро, толстый, но поворотливый мужчина лет пятидесяти на вид, и они вдвоем двинулись к калитке дачи. Хафуз стоял недалеко и наблюдал сию картину, отнюдь не претендуя на внимание. Вдруг шляпка вырвалась из-под руки девушки, и ее понесло, как и предполагалось, к морю…
– Ну все, – сказала девушка, – теперь напечет голову, опять буду мучиться…
Хафуз тут же рванул за шляпкой, в пять-шесть прыжков догнал ее и тут же вернулся.
– Вот, – сказал он, передавая шляпку приезжей.
– Да вы герой, – сказала она.
– Нет, я не герой, я лодочник, работаю с парусами, а там знаете как надо управляться…
– Кстати, Франческа, познакомься, это Хафуз, – прервал начавшийся разговор Пьястро, – наш сосед, музыкант. А это Франческа, моя племянница из Акмечети, недавно вернулась из Италии, потому вся в белом. Светская девушка, она не особенно признает наших, ну… ты сам понимаешь, правила у них такие, что ли, и поэтому вся в белом, шляпка… Надеюсь, ты нам сыграешь как-нибудь, а, Хафуз?
А Хафуз смотрел на ее тонкие подвижные брови и губы, тонкую талию, светлые глаза и какую-то надменно-ласковую улыбку, – всё это начинало увлекать Хафуза. Франческе на вид было лет двадцать, ну, может, чуть постарше, Хафузу двадцать пять. Он был опрятен, черноволос, смугл на лицо, брови его были ярко-черные и густые, да и ростом он был почти с длинненькую Франческу, особенно если учитывать ярко-красную феску на голове. Игре на кларнете его начали учить еще маленьким мальчиком, и со временем он стал прекрасным кларнетистом. А музыкант, как известно, нужен всюду: и на свадьбах, и на похоронах, и на дружеских посиделках с вином или граппой. Его знали и любили все в узенькой, но уютной балаклавской бухте. Даже когда он оставался один, то садился на стул посреди комнаты и играл для себя тонкие мелодии, временами басистые, грустные, временами визгливые, радостные. Он любил извлекать из этого незатейливого черного с серебряными клапанами инструмента то голоса больших пароходов на рейде, то чуть ли не разговорную речь соплеменников: быструю, горячую, добрую – все эти бала ала буюн хала… Еще он мог управлять лодкой, доставшейся ему от отца, с белыми тяжелыми полотняными парусами, катая время от времени местных, за бесплатно, и приезжих за небольшие деньги.
Франческа мельком взглянула на Хафуза, кажется, улыбнулась и вдруг, почти издеваясь, спросила:
– Неужели здесь кто-то на чем-то может играть? Море играет, я понимаю, ветер играет и солнце, я понимаю, но рыбак…
– Я не рыбак, я моряк, хозяин маленького корабля… с парусом. И еще играю…
– И на чем же?
– На кларнете.
– Ну да, а на чем же может еще играть крымчак, не на рояле же…
– Нет разницы на чем, была бы музыка в мышцах, настоящий музыкант играет телом, – обиженно ответил Хафуз. – Кларнет – это наш инструмент, а рояль чей – я не знаю. И потом, его тяжело таскать с собой, а кларнет взял подмышку и пошел себе куда хочешь…
– Вот как, – надменно сказала Франческа, – ну-ну… Но надо хотя бы знать, что кларнет – это французский инструмент… – и исчезла за воротами римской дачи.
– А мне все равно, какой национальности кларнет, главное, что я его люблю, – прокричал Хафуз уже вдогонку Франческе.
Балаклавская бухта сама была похожа на кларнет, если посмотреть с высоты остатков генуэзских башен, вечно сбегавших по склону горы. За склоном ритмично билось море, – такое же вытянутое черно-синее с мундштуком в начале и расширенным окончанием, а по бокам – с набережными: одной грузовой, другой с жилыми домами. Хафуз жил как раз в конце набережной, недалеко от этой дачи. Дня на два или три все смолкло вокруг этой дачи, но Хафуз не мог забыть обидных слов Франчески. «Вот какая стерва, думает, тут уже не люди, коль из Италии, а все равно приехала сюда к нам», – размышлял про себя Хафуз и понимал, что неравнодушие к Франческе просыпается в нем все больше. Ближе к выходным дням он на своей лодке катал под вечер кого-то из отдыхающих и вдруг увидел, что на балконе римской дачи, нависающей прямо над морем, появилась Франческа и помахала ему рукой. Хафуз сделал вид, что не заметил ее, и упорно правил лодкой. Уже возвращаясь домой через створ бухты после большой воды, он в темноте опять увидел балкон римской дачи: на нем было пусто. И он вдруг неожиданно достал кларнет из мягкой и чистой тряпицы, в которой его хранил, и начал играть. Штиль, да еще брошенный перед этим якорь, остановили лодку. Все погружалось во тьму южного вечера. Только мерцающие, словно слезящиеся, огоньки на склонах бухты, сверчки и цикады, да шевелящиеся звезды над головой напоминали о жизни вокруг. И еще белый свет на балконе и медузы, словно выплывавшие из глубин моря на звуки музыки… Хафуз играл, играл грустные мелодии и думал, что вот-вот Франческа выйдет на балкон… Но Франческа не выходила. А Хафуз продолжать дуть в деревянную трубку, перебирал клапаны пальцами, не переставая думать о Франческе… Наконец, так и не увидев Франческу на балконе, он умолк.
«Наверно, обиделась, что я днем не ответил на ее приветствие, вот дурень», – подумал он и неожиданно услышал, что с обеих сторон бухты начали кричать люди: – Играй, играй еще, хорошо играешь, Хафуз, сыхмаса джанымы, не томи душу…
И Хафуз играл еще и еще, но Франческа так и не выходила на звуки одинокого кларнета…
Хафуз почти каждый вечер подплывал к балкону и играл на кларнете. Каждый вечер люди с берега кричали: «Играй, играй, Хафуз, сыхмаса джанымы…» Каждый вечер он играл допоздна, и даже когда поднялась волна, он решил играть прямо перед балконом римской дачи. Было прохладно, лодку болтало, но Хафуз стоял, не поддаваясь качке, и пружинил ногами, но вода попадала в лодку, а Хафуз все играл и играл… Наконец он не увидел раскрывшиеся двери балкона. Перед ним в свете далеких молний появилась Франческа и опять помахала ему рукой. Хафуз все играл и даже не заметил, как его лодка наполнилась водой и мигом пошла ко дну вместе с выпавшим из рук кларнетом… Хафуз начал плыть к берегу, а Франческа сбежала через сад к морю и ждала его там с полотенцами. Хафуз приплыл, они обнялись, а затем исчезли в балаклавской наступившей темноте на всю ночь…
Через две недели Франческа уезжала. Она даже не зашла попрощаться в дом к Хафузу. Дядя Пьястро заглянул к нему в дом и зло, чуть ли не сбив с ног мать Хафуза, выпалил:
– Ты мерзкий и дерзкий аглан, баш балабан, акылийок. Патла калгайсын. Чтоб ты лопнул, но Франческа тебе не до станется…
Прошло лет пятнадцать. В Балаклаве ничего не изменилось. Все те же отдыхающие летом, все те же мокрые ветра со снегом зимой. И одиночество, и пустынность набережной, и слезливость сбегающих по склонам бухты огней по вечерам… Римская дача долгое время пустовала, но в одно лето туда приехала знатная семья: муж, жена и дочка лет пятнадцати… Они отдыхали незаметно, часто устраивая чаепития прямо над водой на балконе. Но неожиданно покой был нарушен. «Хозяева, хозяева!» – кто-то громко стучал в дом. Знатная дама вышла на стук. Это были рыбаки.
– Мы тут сетями чистили прибрежную воду и прямо под вашим домом выловили вот что… Возьмите…
Знатная дама дала рыбакам какую-то мелочь и через секунду держала в руках заржавленный, весь в водорослях кларнет… Она вышла на балкон и положила его на большое блюдо.
– Мама, что это? – спросила дочка, вопросительно поведя большими черными бровями.
– Это старый утонувший кларнет, он уже негоден, я думаю. Но пусть полежит здесь, просохнет на солнце.
Вечером мама с дочкой опять вышли на балкон. Кларнет имел такой же жалкий вид, но зато был сухим.
– Попробуй, дочка, ты же училась играть на кларнете.
Дочка взяла в руки кларнет, очистила от тины и начала дуть в него. И вдруг он заиграл, да так, будто и не лежал под водой много лет. Дочка играла и играла… А светская дама, пораженная, слушала, и ее глаза были полны слез.
В этот момент из темноты показался белый парус одинокой лодки и начал двигаться прямо в сторону балкона, но затем повернул к выходу из бухты и медленно проплыл мимо римской дачи.
Заточение в камне
Сары долго присматривался к двум сестрам. И младшая ему нравилась, и старшая. Ходил он к ним в гости по-соседски, но вынашивал скрытые планы – жениться на одной из них. Разница в возрасте у сестер Сме и Хоры была четыре года, но не это Сары волновало. Он не мог понять, какая ему нравится больше. Сме вся светилась тайной страстью, интересом к жизни улицы и томилась домом. Ей было шестнадцать. Хора, как говорили родственники за ее спиной, уже перезрела. Она была внешне уже женщиной, красивой, правда, немного грубоватой в чертах: не в мать пошла, а в отца. Но в ней уже жила готовность стать женой, настоящей женой. Она была готова к этому новому состоянию, и ухаживания Сары воспринимала с ожиданием, не так, как младшая, Сме… Сары был уже не юношей – около тридцати… Но ему не везло с невестами. Одна, которую он выбрал в своем районе, неожиданно переехала с семьей на север Крыма, аж на Арабатскую стрелку. Другая вышла замуж, так и не дождавшись решительного слова Сары…
Он работал резчиком по камню, хотя отец его был разрубщиком туш на базаре и научил своему ремеслу сына. Но потом Сары почему-то стал заниматься камнем. Он работал в мастерской, где принимались любые заказы: надгробия, орнаменты для украшения домов, надписи… Через несколько лет работы он уже мог вырубить из камня небольшую голову на заказ. Почти как скульптор. Он нигде не учился, просто находил подходящий камень, кусок мрамора или гранита, туф, песчаник, белый камень, прикидывал на глаз и начинал рубить. Молоток и долото не выскальзывали у него из рук. Потом шли более мелкие инструменты, доводка более твердым камнем или наждаком – крупным, затем мелким…
Заказы шли постоянно. Он хорошо зарабатывал и готов был построить дом для семьи. Но вот с женитьбой… Он приходил по-соседски к Сме и Хоре, они сидели в беседке, увитой виноградником и хмелем, разговаривали ни о чем, потом, вздыхая, расходились… Отец девочек подходил к Сары и подмигивал:
– Ну что ты тянешь! Бери, мне все равно какую, обеих люблю. Парень ты что надо, все в дом. Да с любой из них у вас будут золотые пороги, лишь бы не было войны: нэ эльдэ, нэ бельдэ – ни в руках, ни в пояснице…
Но Сары тянул – и та ему нравилась, и эта. И решил он послушаться камня. Нашел в горах два куска розового туфа и начал вырубать две женские головки. Камень для портрета Сме шел покорно, мягко. Она получилась за несколько дней, с доброжелательным выражением лица. Камень Хоры был жёсток, сопротивлялся – Сары даже в кровь изодрал руку. Он работал недели две. Поставил потом на подоконник обе головки и стал рассматривать. Ничего не скажешь, обе были хороши. Сме – легка и смешлива. Хора – с характером, но в лице вдруг проявилась мягкость… И Сары решил, что коль камень Сме так хорошо ложился под руку, то, значит, будет она ему ладной, верной и не занозистой женой…
Но однажды ночью он увидел на каменной щеке Хоры слезу. Она медленно стекала из глаза, и Сары понял, что она так страдает, так любит его, что даже камню это передалось. Он тут же решил свататься к Хоре… Опять тупик…
Сары пошел к ребе. Ребе выслушал его и, открыв талмуд, начал читать примерно так:
– Если парень влюблен в двух сестер, одна из которых старше другой на четыре года, и не знает какую выбрать, то… – Ребе долго искал ответ и наконец продолжил: – надо брать молодую, старшая тоже будет при вас…
– Это как же? – спросил Сары. – А если я возьму старшую?
– Если парень влюблен в двух сестер, одна из которых старше другой на четыре года, и не знает какую выбрать, и когда ребе предложил ему взять молодую, потому что старшая и так будет при вас, и парень на это спросил: а если я возьму в жены старшую, то… – Он долго не находил в талмуде ответа и наконец произнес: – молодая все равно выйдет замуж, и парень будет переживать всю жизнь, что не ту выбрал…
– Так как же быть, ребе?
– Знаешь, я скажу тебе без этой вечной книги: возьми в жены третью.
– Но где? В этой семье? У них только две дочери, а я так привык к ним…
– Тогда иди к черту и не морочь мне голову, – сказал в сердцах ребе.
Сары пошел на работу и стал искать ответ на свой вопрос среди тех надписей, которые заказали его клиенты. Он перевернул один камень и прочитал: «Спи спокойно…». Тьфу ты… На другом камне был орнамент для входа над дверью: «Входи и выходи спокойно – ты дома»…
Ну и к чему ему все эти народные мудрости? Вдруг Сары увидел новый заказ. Надо было вырезать на огромной цветочной вазе следующее: «Если не знаешь куда идти, стой на месте, пока ветер не наклонит дерево, куда надо…»
«Вот это да, – подумал Сары, – точно как у меня. Буду ждать, сидеть на месте, в саду Сме и Хоры, пока…»
И он продолжал ходить в гости, распивал чай с айвовым вареньем, болтал с сестрами и все ждал какого-то знака… Шло время, а ничего не менялось. Сары все так же заигрывал с сестрами, и они, каждая по-своему, отвечали ему тем же. Но как-то вечером он услышал шум подъезжавшей к дому соседей машины. Он выглянул в окно, и все остальное было для него ужасом, стыдом и кошмаром. Два брата-татарина из Бахчисарая заслали сватов к Сме и Хоре. И отец их, конечно же, согласился…
Сары больше не заходил во двор к соседям. Сестры исчезли. Говорят, были богатые свадьбы и живут они в Бахчисарае недалеко от ханского дворца… Эти новости били ножом в сердце Сары. Он еще ожесточенней резал камни и все думал о том, правильно ли он понял пророческую мысль – надо стоять на месте и ждать. На самом деле он любил все сильнее обеих сестер и готов был жениться на любой, хотя бы ради прикосновения к одной из них через другую.
Прошел год. Сары все так же тосковал, но ничего не спрашивал у отца Сме и Хоры. Но видел, что старик как-то погрустнел… Недели через две, это было ранним июнем, когда зелень в саду и вокруг прет уже вовсю, он увидел на пороге дома соседей молодую красивую женщину. Она обернулась, и он узнал Сме… «Наверное, на день-два к родителям…». Но Сме жила и жила у родителей неделю, вторую, потом месяц… Как-то невзначай, гуляя по своему саду, он обратился через изгородь к отцу Сме, который покуривал у цветущей вишни.
– Что это Сме вернулась? Болеет?
– Да нет, Сары, что-то не заладилось у них там с Ахметжаном… Вот приехала, плачет, не хочу, говорит, не могу… А что не могу – не выспросить. Сам знаешь, наши женщины не очень любят говорить на эти темы, особенно с родителями… Зашел бы…
Еще через неделю Сары пришел в гости к соседям. Позвал Сме в сад за деревянный столик и вытащил из шерстяного платка вырезанную когда-то головку Сме.
– Видишь, Сме, это ты! Ты здесь такая веселая и счастливая! Этот камень имеет свойство исправлять лицо, если будешь долго смотреть на него. Возьми и поставь напротив своей постели…
Каждый день, уходя в мастерскую, Сары посматривал в сторону крыльца соседей. Наконец он увидел, что Сме стала выходить по утрам в сад, слушать игривое пение птиц и подставлять свое красивое лицо солнцу, иногда чему-то улыбаться, срывать, подпрыгивая, то персик, то грушу и съедать их без остатка, выбросив косточки в его огород. И если раньше ему этот последний жест не очень нравился, то сейчас он был счастлив: пусть Сме хотя бы так тянется к нему…
Прошло еще с полгода, и Сары заговорил с отцом Сме о свадьбе.
– Знаешь, потерпи еще немного. Ты уже взрослый мужчина и должен понимать… Она потеряла ребенка… А ты сможешь ее беречь?
Еще через некоторое время Сме сама подошла к Сары на улице и сказала:
– Сары, забери к себе мою каменную голову! Я уже излечилась, и мне страшно смотреть на нее, словно теперь я погружаюсь в нее. А еще лучше, если не жаль, – разбей ее вдребезги, верни природе камень, и тогда равновесие полностью придет ко мне.
Сары так и сделал. И он начинал замечать, что Сме стала чаще появляться среди людей, потом на улице, и даже секретничать о чем-то с подругами. Вскоре он увидел ее улыбку навстречу солнцу и такое ленивое и нежное потягивание, словно это была счастливая кошка с человеческими глазами. И Сары понял, что она становится прежней его соседкой, шестнадцатилетней Сме, которая ему безумно нравилась. Сары и все его существо выгнулось и напряглось в ее сторону. Он понял наконец, что такова судьба, что Сме…
Но как-то вечером в их районе прошло небольшое землетрясение. Ну, балла два… Сары на следующий день утром вошел в свою мастерскую и увидел разбросанные по полу осколки каменного изображения старшей сестры Сме, Хоры…
А через две – три недели Хора сама появилась в родительском саду и долго о чем-то шепталась со Сме. После этого она тоже осталась в родном доме, и все словно вернулось на свои места…
По вечерам после работы Сары приходил в соседский сад, сидел в беседке и слушал, как птицы сверлили небо. Потом появлялась Сме, затем Хора с подносом, на котором были чашки с чаем и вазочка с вареньем. Они болтали ни о чем, и Сары снова не знал, какая из них ему нравилась больше… Наконец Сары решил засылать сватов, чтоб жениться на младшей, Сме…
Но майским утром его неожиданно забрали на военные сборы, и он даже не успел сказать соседям, куда он едет… Потом был июнь сорок первого, и Сары оказался сразу на фронте. Четыре года он был на передней линии в пехоте, и только удачливость спасла его. Когда он вернулся домой, то первое, что он начал делать, это высматривать соседей и, конечно же, Сме и Хору. Но, к своему удивлению, в доме соседей он увидел других людей, незнакомых ему ни по образу жизни, ни по внешнему виду его соплеменников. Это были переселенцы с Украины или из России. Сары ничего не имел против них, однако…
Наконец ему рассказали, что в декабре сорок первого года все крымчаки, кто не уехал в эвакуацию, были расстреляны немцами…
Глядя в потолок, он пролежал в своей комнате с верандой трое суток. Он ничего не понимал. Четыре года он воевал с немцами, но если бы знал про это, то бросил бы все и примчался, чтобы спасти его двух прекрасных подружек, Сме и Хору, на одной из которых он хотел жениться…
Через несколько дней он вошел в свою мастерскую и вдруг увидел, что на его рабочем столе стоят две целые, нетронутые головки, вырезанные им когда-то из розового туфа, словно он не разбивал одну и землетрясение не било об пол другую…
Сары постарел неожиданно и бесповоротно, хотя ему не было еще и сорока.
«Я догоняю своих, – думал он, – нельзя быть слишком молодым среди расстрелянного народа. И почему я так долго не мог выбрать невесту? Может, они бы сейчас были живы, вернулись из эвакуации. Это была бы моя семья… Я виноват во всем…»
Сары выходил в сад и гладил ствол сливы-ренглота, который набухал смолой, гнал смолу вниз на корявые корни, уходившие глубоко в землю. Он шептал про себя:
– Простите, сестрички, это я когда-то заточил вас в камень, и вы так и не вырвались из него. Простите…
Ремесло Якуба
– Так ты из Крыма? Крымчак? Еврей, значит… Как же ты оказался здесь? Тебя должны были убить еще в сорок первом и забросать землей в противотанковом рву, а? Скольких ты предал, чтобы выжить, признавайся! Не хочешь…Тогда сиди, Якуб… Как тебя? Бакшиш или Бакши?
– Да какая вам разница… Якуб отправился в свой барак, лег на спину, закрыл глаза и стал прокручивать картину памяти назад.
Ему было двадцать три года. И почему он должен был погибнуть еще в сорок первом? Что этот особист несет? Какой противотанковый ров? Его забрали на фронт в девятнадцать, летом сорок первого…
Якуб родился в Керчи. Отец был сапожником, шил в основном кожаные тапочки и этим кормил семью. Потом воевал на Халхин-Голе. Осколок перебил ему большой и указательные пальцы. После этого Якуб начал шить тапочки, а отец продавал их на рынке и по всему городу.
Якуба сразу послали на передовую. Даже оружия не дали. Построили колонной и сказали: «Оружия нет, вот видите вы сотку, там за ней склад с винтовками, пробьетесь, вооружайтесь, и будет чем воевать. Вперед!» К складу в рукопашной схватке пробились единицы, в том числе и Якуб, всех остальных убили. Когда сбили замки, то увидели: в козлах стоят винтовки образца 1893 года с примкнутыми штыками. Тяжелые, неуклюжие, и пули были большие, словно косточки от слив. Винтовки били в цель плохо. С ними и пришлось пробиваться уже из окружения к своим. Месяца два. Но попали в плен к фашистам, и все кончилось. Это уже было где-то на Украине. Рядом татарин, тоже из Керчи. Земеля… Татарин сказал Якубу:
– Слушай, Якуб, давай я научу тебя, как молиться по-мусульмански, я слышал, что немцы не расстреливают нас, а? Язык ты наш знаешь, точнее – понимаешь, может, пройдет, а? И фамилию назовешь не Бакши, а Бакшиш… А то ведь шмальнут, на хрен, а там разбирайся.
Разговор состоялся пока они шли к месту, где их загоняли за колючую проволоку. Якуб поверил земляку и стал молиться с Рахимом вместе, как полагается. Немцы на допросе так и записали – татарин, Якуб Бакшиш…
Потом начались расстрелы, разбирали по партийности, национальностям, по месту службы… Оставались редкие, даже Рахима почему-то расстреляли. Якуб был высокого роста, силен, видно, что работать сможет, и сначала его поставили в отряд для отправки… Куда? Непонятно… Но потом вдруг передумали и снова сбили всех в кучу. И вот тут-то начали выкрикивать пофамильно, и стало ясно, жизнь разделяет их кому куда: кому в расход, а кому на работу. Что подтолкнуло Якуба, он не знал. Помнил только: выкрикнули чью-то фамилию, а тот почему-то не вышел. И он, Якуб, надвинув шапку поглубже на глаза, шагнул в сторону рабочего отряда, встал в строй, и, странно, никто не остановил его… Он стоял в шеренге, и секунды тянулись вечностью. Наконец им скомандовали идти вперед, к машинам. Уже уезжая, они слышали крики и автоматные очереди. Это расстреляли оставшихся…
Якуб был отправлен в лагерь на территорию Западной Украины. Там ему опять повезло. Как-то он починил сбитый каблук простым камнем немецкому конвоиру, и тот понял, что Якуб – сапожник. С тех пор и до конца войны, до освобождения он работал сапожником в лагере. Подбивал каблуки, набойки, ставил латки на протертые сапоги, даже шил тапочки тому, кто просил, из остатков военных сапог, из голенищ. В общем, как говорится, пристроился. А что было делать? Всех заставляли работать на строительстве бункера, таскать тележки с бутом, месить раствор. Якуб сидел в закутке, в бараке и медленно делал свое дело.
Но все-таки кто-то его заложил. Кто – непонятно. Пришли из канцелярии и забрали. В конторе просто спросили: «Юдэ?»
Якуб покачал головой: мол, нет… Пригласили доктора. Это была женщина, и ее никто никогда не видел, потому что она обслуживала немцев. Она пришла, попросила всех отвернуться к стене и жестом приказала Якубу приспустить штаны вместе с трусами. И взглянула. И твердо сказала: «Юдэ».
– Обычаи у нас одинаковые, в детстве праздник такой Ораза, посвящение в мальчики и у мусульман, и у…
– Вот ты и проговорился! Сапожник ты хороший, но еврей. Посадить пока в камеру. – И ушла, исполнив свой профессиональный долг: молодая, надменная.
Якуб остался один в камере-одиночке. И вот тут-то вспомнил уроки Рахима по совершению намаза. Он вдруг почувствовал, что за ним кто-то наблюдает. И стал молиться с утра, днем и вечером, как подобает мусульманину, сидя на коленях и припадая лбом к полу, снимая перед этим ботинки. Отец когда-то научил его древней молитве крымчаков, в которой было обращение к Аллаху, это-то его и спасло. Через несколько дней его выпустили и, ничего не сказав, отвели в каморку, сказали: «Работай».
Примерно через неделю его снова привели к доктору. Она долго осматривала его. Слушала сердце, заставляла дышать и пыталась поймать хрипы в легких, затем заставила показать язык и обнажить зубы, надавливала пальцами в резиновых перчатках на десны и наконец сказала: «Чертовски здоров». Ей было на вид лет тридцать, на немку она не была похожа. Черные волосы, лучистые серые глаза выдавали в ней южанку. Осмотр продолжался более часа. Уже темнело, и когда по коридорам все стихло, она вдруг неожиданно сказала:
– А теперь раздевайся совсем… Я еще тогда поняла, что ты хороший мужчина.
Якуб, не привыкший к таким отношениям, да практически и не успевший до войны прикоснуться к женским прелестям, был потрясен и, естественно, в первый раз оплошал. Но Лиана, так звали врача, успокоила его и сказала, что скоро все наладится. В следующий его приход она уже не отпускала Якуба часа два, да он и не хотел уходить. Так начался роман заключенного Якуба Бакшиша и медсестры Лианы, румынского, происхождения. В концлагере она считалась врачом, хотя была на самом деле медсестрой. Уже кончался сорок четвертый год. Со слов Лианы Якуб понимал, что войне скоро конец. Их встречи были не очень частыми, но все равно были замечены. Якуба отправили в общий барак, и он стал работать вместе со всеми на строительстве бункера. Лагерь их находился недалеко от города Станислава, вблизи Карпатских гор. Особого значения, как думал Якуб, лагерь не имел, потому что не было сильной охраны, и большое начальство появлялось редко. Примерно через месяц он опять увидел Лиану. Та успела сообщить: скоро их будут переводить в Германию, и она постарается, чтобы они с Якубом попали в одно и то же место.
Вскоре, это уже было весной следующего года, часть военнопленных погрузили в вагоны, и они поплыли неведомо куда. Якуба увезли тоже. В пути началась бомбежка. Состав из пяти полных вагонов был разгромлен. Якуб помнит только, что он увидел Лиану, которая знала, в каком вагоне он ехал. Все заключенные, кто остался жив, практически разбежались. Лиана и Якуб тоже пошли в сторону гор и вскоре оказались далеко от железной дороги, взрывов, реальностей войны. Сосновый прикарпатский воздух, весна делали свое дело. Они стояли посреди небольшой поляны и могли идти в любую сторону. Солнце и цветы уложили их на траву, и они долго лежали, глядя в прозрачное небо, потом начали целоваться как безумные… Неужели конец всему ужасу? И что дальше?
Лиана прихватила с собой немецкий альпийский ранец, в котором было все на первое время, даже бритье для Якуба, и у ручья она выбрила ему лицо и вновь была поражена его красотой. Несколько дней они жили как первобытные люди, медленно углубляясь в горы…
Однако нельзя быть в мире посреди войны, нельзя быть в счастье посреди стольких несчастий. После почти трехнедельного скитания в предгорьях Карпат они проснулись утром от того, что кто-то на них смотрел. Это были четыре бандэровские рожи, небритые, вооруженные чем попало… Они привязали Якуба к дереву кожаными ремнями, раздели догола Лиану и начали по очереди насиловать. Лиана молила о пощаде, плакала, кричала, но никто не слышал ее, кроме Якуба, который только плакал… Наконец, когда все закончилось, они собрались уходить, забирая с собой связанную Лиану.
– Она нам еще пригодится, а ты… ты так и оставайся, тебя или медведи сожрут, или пчелы выедят до беленьких костей…
И ушли, одетые в советско-немецко-румынскую форму. Лиана не могла и слова сказать, рот ее был забит кляпом. «Где-то недалеко люди, – подумал Якуб, – коль боятся криков и рот ей все время зажимали…» Но на душе было гадко, отвратительно, он чувствовал себя животным, будто принимал участие в этом омерзительном действии.
Он остался один, привязанный кожаными ремнями к дереву. Его, сапожника, оставили наедине с деревом и кожей? Это то, что он впитал в свои поры с детства. Уже через пару часов он освободился, умело растягивая кожаные ремни. И пошел по следу бандитов.
К вечеру он настиг их и из-за скальных камней увидел, что расположились они на берегу небольшой, но быстрой, и уже по-весеннему разливающейся горной речки. Лиана сидела связанной по ногам, рот ее был свободен. Бандиты трапезничали, пили, хохотали, издевались над Лианой, называя ее проституткой, сучкой… Наконец они утихли, отползли от воды, от ее разлива, связав Лиану еще и по рукам и заткнув ей рот. Они были слишком пьяны и быстро уснули. Якуб спустился, сделал рукой Лиане знак молчать, быстро собрал оружие и теми же ремнями связал всех по рукам и ногам, да так крепко, как может только сапожник. Они стали просыпаться и кричать, когда поняли, что Якуб тащил их к воде. Лиана помогала ему.
– Ну, сволочи, зверье, теперь кричите – не кричите, через час-полтора вода снесет вас в реку, и вы сдохнете…
Никакой жалости к этим животным Якуб не испытывал, когда, уходя с Лианой, слышал отдаляющиеся крики с берега горной холодной карпатской реки.
Лиана молчала, потрясенная пережитым за день. Они легли спать на ельнике вместе, обнявшись, уснули молча… Утром Якуб, не найдя Лианы рядом с собой, начал лихорадочно осматриваться вокруг и увидел ее недалеко от их последнего ночлега повесившейся на нижней ветке сосны…
Еще через неделю оголодавший и словно бы ссохшийся Якуб вышел к озеру. На другом берегу он увидел красивую, сказочного вида деревеньку. Это была уже Австрия. Было тепло, и он, выспавшись в лесу, пошел к людям. Те сказали ему: война уже кончилась, и он может наняться к ним батраком. Здесь он и прожил года два, работая сапожником, и вся округа носила ему чинить обувь. Якуб грустил по дому и, конечно, по Лиане. Два раза он добирался до того места, где похоронил ее. Во второй свой приход он прикатил небольшой камень, отрубив его от скалы, и установил как надгробие, выбив долотом и молоточком: «Лиана, прости Якуба. 1946 год».
В 1947 году он вернулся в Крым, имея на руках только справку от деревенского австрийского старосты, где было написано, что с сорок второго по сорок пятый он был в концлагере у немцев, бежал, а по сорок седьмой работал в деревне Ватсбург (Австрия) сапожником.
Долго крутили в руках эту нелепую справку следователи и отправили все-таки на пять лет работать за Урал, на лесоповал. Там начальник лагеря, прочитав в деле, что Якуб сапожник, позвал его к себе и приказал:
– А ну покажи руки, знаю я таких сапожников…
Но, увидев на правой руке между большим и указательным пальцами мозоль, а на всех суставах следы от дратвы и шила, помолчал и послал работать по специальности. Новых сапог и ботинок тогда было мало, а вот старые нужно было чинить и чинить.
Вернулся он в Керчь в пятьдесят втором и поставил свою сапожную будку возле вокзала. И сразу стал центром общения: к нему шли и за советом, и подзанять денег, и простой люд, и начальство. Хорошие набойки были тогда в цене, да еще если их делал сапожник, который чинил русскую, немецкую, румынскую, австрийскую обувь. А в красивых глазах мастера была такая необъяснимая печаль.
Переплыть море
Галач и его два сослуживца Семен и Артур сутки скрывались в херсонесcких развалинах. Севастополь, их любимый Ахтиар был разрушен почти до основания, до белых вывернутых из земли инкерманских камней. Почти восемь месяцев военные держали оборону, но немец бросил целую армию генерала Манштейна на Крым и особенно на Севастополь – военная бухта, подвоз морем продовольствия и горючего…
И вот последние корабли увозили последних защитников города морем в Новороссийск, прямо из-под носа вражеских танков и пехоты, прочесывавших древнюю землю греков, тюрков, славян… Но уплыть удавалось не всем: некоторые корабли из-за мощного обстрела уходили назад, оставляя людей сходить с ума, стреляться, сдаваться в плен. Но защитников Крыма в плен не брали. Фашисты сбрасывали их живыми или мертвыми прямо в море, которое лизало мраморные остатки разрушенного временем античного города, который был разрушен вот только что… Галач и его друзья чудом уцелели и видели, как снарядом был в щепки разбит торпедный катер, который должен был снять их с мыса…
Наступал вечер. Дым, трупы людей, какие-то крики на немецком и автоматные очереди вдалеке… Они понимали, что в любое время их могут найти и, конечно же, расстрелять. Только море было все тем же на редкость тихим, теплым июльским морем, с родным запахом. Да ещё… несмотря на ужас войны, сверчки и цикады делали свое природное дело, не замечая, не понимая происходившего. Кипарисы и туи чернели вдалеке на фоне неба, розового от пожаров.
Выхода не было. Они попытались пройти вдоль берега в обе стороны, чтобы обойти город, но всюду натыкались на отдаленный лай собак или немецкую речь. Возвращались на место, понимали: утром их снимут с мыса, но уже не свои. Галач всматривался в темноту моря и не находил ничего спасительного, кроме далеких ярких звезд, кажется безразличных к их судьбе. На мгновенье в лунной дорожке он увидел качнувшийся кусок деревянной палубы, составленной из скрепленных досок, разорванных рвано и торчащих остро… Друзья слили в темноте остатки воды из фляг убитых, пособирали какие-то продукты, вплавь добрались до остатков палубы и начали грести кто саперной лопаткой, кто куском фанеры. Благо, ни волны почти не было, и через пару часов они были вдалеке от берега. Устав, они просто уснули, а проснувшись, увидели тоненькую береговую полоску с едва видимым, уже разрушенным их родным городом и снова начали грести. «Вот, ребята, оторванная земля, наша оторванная земля…»
Они достали карту из единственной планшетки и начали мысленно вычерчивать путь, предполагая, как им добраться до Сухума или даже Батума. Укрываясь от жары под натянутыми подобно тентам гимнастерками, только однажды подкрепившись хлебом и кусочками шоколада, они гребли и гребли до тех пор, пока не оказались совершенно одни посреди моря и горячего неба с ослепительным солнцем. Теперь они ждали только одного – вечера, темноты и звезд…
Нет, они никогда не ходили, как древние греки, по звездам в Черном море, но все-таки кое-что соображали и, найдя точку отсчета, Полярную звезду, определились с востоком и западом, югом и севером. Ни один корабль не виделся им на горизонте, ни один самолет в небе. «Это хорошо, – думали они. – Сегодня непонятно, кто это может быть – свои или чужие». Они гребли и гребли по ночам, а днем отдыхали, прячась от жары в воде под плотом, пробитым осколками и пулями. Наконец, изголодавшие умирающие от жары и жажды, примерно на пятый день они увидели очертания гор вдалеке.
– Все, мы спасены, – сказал Галач, – это Кавказские горы… – Собрав остатки сил, они добрались до берега.
Когда высадились, никого вокруг не было. Песчаный берег, тишина, но горы были не такими высокими, и на них не было, как на Кавказских, снега, может где-то далеко-далеко… И тут они услышали турецкую речь. Они вдруг поняли, что оказались в Турции, и в тот же миг их окружили турецкие полицейские. Начали спрашивать по-турецки.
– Кто вы такие и откуда?
Галач, знавший крымчакский язык, понимал и турецкий. Он ответил:
– Мы приплыли на плоту из Крыма, немецкие войска взяли крепость Ахтиар.
– Поехали с нами, там разберутся, – сказали полицейские и замкнули на их запястьях наручники.
– А где мы? Куда приплыли?
– Трабзон, мыс Трабзон, Турция, понятно?
– Мне понятно, а им нет, – кивнул Галач на своих друзей.
– А ты откуда знаешь турецкий?
– Я крымчак, наши языки родственные, тюркские.
– Татары, что ли?
– Да, что-то похожее.
– Ладно, в участке поговорим.
Пока их трясло в старом полицейском автомобиле, Галач думал: «Трабзон, Трабзон, это мы промахнулись километров на триста южнее Батуми. Видно, течение… А дальше что по карте? По-моему, Синоп… Это примерно еще километров сто пятьдесят. Да, промахнулись. Турки не воюют на стороне Германии, объявив нейтралитет в сорок первом, но к нам относятся не ахти как. Посмотрим, что будет…»
Обращались с ними не слишком вежливо, особенно когда добрались до Синопа. Там полиция передала их военным, их бросили в местную тюрьму, причем в одиночные камеры.
Тюрьма находилась на склоне горы, в камере были щели, в которые можно было увидеть огромный спуск, заваленный камнями и ведущий в ущелье белых, поросшими деревьями гор. Город, наверное, находился недалеко. Оттуда слышались призывы муэдзинов на молитвы. Но самих мечетей не было видно. Прошли день, ночь, а потом по подсчетам Галача и вся неделя. Раз в день им приносили какую-то непонятную по хлебку и раз в день кружку воды, открывая для этого маленькое окошечко в двери камеры. Сама камера была маленькой, едва можно было сделать два-три шага, каменной, без кровати. На полу лежал тростниковый коврик. На нем можно было спать, скрутившись калачиком. В одном из углов стоял тазик для туалета, который чистили раз в два или три дня. Все это тоже входило в систему наказаний, понял Галач, сроду не бывавший ни в каких тюрьмах, особенно турецких. То же самое наверняка было у Семена и Артура. И вот где-то дней через десять Галача потащили, именно потащили на допрос, взяв за воротник гимнастерки и за пояс галифе так, что они врезались между ног. В комнате сидел скорее всего военный следователь. Черная чалма на голове и китель полуевропейского образца.
– Вы говорите по-турецки, откуда знаете наш язык?
– Это не совсем так, я говорю на крымчакском языке.
– Такого языка нет, есть крымско-татарский, похожий на наш.
– Нет, есть, я учил его в крымчакской школе, он похож на крымско-татарский, поскольку мы жили много веков совсем рядом. Есть и похожие обычаи…
– Это я понимаю, однако признайтесь: в какой разведшколе вы учили наш язык? Так хорошо учат только разведчиков.
– Я учился в обычной школе и закончил почти три курса медицинского института, а затем попал в армию. Когда началась война, меня назначили командиром взвода и послали оборонять Севастополь.
– Я знаю, что у Советов идет война с Германией, но зачем и с какой целью вас заслали к нам? Да еще таким способом, на плоту?
– Нас не засылали, немцы взяли Севастополь, восемь месяцев мы держались, но все напрасно… В общем, еле выбрались.
– А что же свои не помогли, есть же корабли…
– Ваши полицейские видели: мы приплыли на обломке палубы разбитого корабля, а по карте, которую вы у нас взяли, видно, что намечали путь к Батуму, а не к вам, но нас снесло…
– Так, цель заброски к нам, настоящие имена, фамилии, звания, наименование организации… НКВД? Армейская разведка?
Галач молчал. Он чуть не заплакал от этого длинного вопроса и от непонимания следователем пережитого в последние дни горя. Он мгновенно представил оставленный, разбитый Севастополь, весь ужас, пережитый им в Херсонесе, и на исходе сил чуть не закричал:
– Да поймите вы наконец, что там у нас…
– Так, – прервал его следователь, – если не будете отвечать, мы вас расстреляем, у нас есть на это полномочия. Турция занимает нейтральную позицию в этой войне, но военная разведка в любой стране воюет на своей стороне. Да и кроме того ведь вы могли утонуть в море, тем более что никто не заявлял о вашей пропаже, вас не ищут… Назад его в камеру и ведите другого, позовите переводчика, – приказал следователь.
Следователь допрашивал Семена и Артура отдельно и каждому говорил через переводчика, что все уже сознались, что они заброшены русской разведкой, что им дано задание осмотреть места высадки с моря на турецкую землю в случае поражения от немцев, и никакие доводы и уверения не давали результата.
Тогда же, уведенный в камеру после очередного допроса Галач услышал крики Семена… «Начали пытать», – пронеслось в голове у Галача. И он не ошибся. Когда крики и стоны утихли, то снова потащили к следователю и его. Галач слышал, что в турецких тюрьмах практикуют пытки для своих сограждан, а уж для подозреваемых в шпионаже… Он снова не ошибся. Каждый день придумывалось что-то новое. Удары по голеням палками, выкручивание рук за спиной, избиения, в общем, весь набор инквизиторских пыток, плюс набор самых современных механических приспособлений. Рубленый шрам через левую щеку, оставшийся на всю жизнь у красавца Галача, – след работы тупого ножа палача. Дальше стало хуже. Со временем стали пытать голодом, жаждой, зимой – холодом, летом – жарой… Так прошло около года. Требовали правды, которой ни Галач, ни Семен, ни Артур не знали. Требовали признания, что они разведчики. Хотя, пока и не требовали и оговаривать себя. Наконец однажды утром они поняли, что их повезут на расстрел. «Из камеры ничего с собой не брать», – сказали каждому и повезли всех троих в старом разболтанном грузовике неизвестно куда.
Они встретились вместе впервые после их ареста на мысе Трабзон и убедились в том, какое ужасное время они прожили порознь… Похудевшие, ослабевшие, со следами пыток, не знавшие, что происходит на родине, а шел уже сорок третий год, они посмотрели друг на друга и расплакались. Даже охранники отвернулись, чтобы не видеть этого. И еще – они утвердились в мысли: их везут расстреливать. Впервые, оказавшись вне стен тюрьмы, они дышали и дышали морским воздухом, хватая его большими глотками. Это был все тот же воздух их родного Черного моря, только чуть резче, насыщеней, горячей. Их долго везли вдоль моря, с остановками, даже кормили, давали воды, наконец они увидели вдали огромный город с мечетями и одним большим куполом церкви Айя-София.
– Стамбул! – воскликнул Галач. Охранники одобрительно кивнули. Они проехали через весь Стамбул, через мост, соединяющий Азию и Европу, и медленно стали выбираться из этого великого, чем-то родного, но в то же время и чужого города. Ехали два дня и две ночи, и вот наконец – небольшой город.
Охранник сказал:
– Это город Кыркларели.
Они остановились у небольшого здания, снова-таки похожего на тюрьму. Но это была уже не военная тюрьма, да и город располагался в невысоких горах, поросших низкорослыми деревьями, кустарником, местами соснами и, конечно же, кипарисами… Галача, Семена и Артура поместили втроем в одну камеру, и они мгновенно уснули. Назавтра их разбудили, как всегда, рано и перевели в разные общие камеры. Встретиться они могли только на прогулке. Это расстроило их, но и ободрило. Они поняли, что попали в тюрьму более мягкого режима, а это означало, что самый низкий уровень жестокого отношения к ним со стороны турецких властей они прошли. О них и в самом деле забыли почти на полгода. В камерах стали устанавливаться кое-какие отношения. Когда узнали, что Галач из тех, кто чудом уцелел, когда немцы брали Севастополь, – а в Кыркларели в основном сидели турки за незначительные преступления, – то отнеслись к нему, как показалось, с уважением. И еще его спасал крымчакский язык. Это же самое Галач передал о своих друзьях в другие камеры, туда, где сидели беглые румынские, итальянские, югославские солдаты. Война ведь не только разъединила, но и объединила простых людей в тюрьме, и они начали, противясь общему злу, помогать друг другу. Так, Галач от турок узнал о том, что произошло за это время на фронте, что русские войска уже шли по Европе, а Крым освободили. Он рассказал это на прогулке Семену и Артуру. Радости не было предела. Из рассказов же турок он узнал, что тюрьма города Кыркларели находится почти на границе с Болгарией, и отсюда рукой подать до страны, где правил тогда царь Борис третий. Он, несмотря на договор с Германией, держался почти нейтральной позиции. Они не знали, что в августе сорок третьего царь Борис умер, и правительство Болгарии сразу же после его смерти заявило о полном нейтралитете. Тогда же после нескольких допросов Галач, Семен и Артур поняли, что интерес к ним пропал, да и дела во Второй мировой войне складывались так, что они, приплывшие в Турцию на обломке палубы, не нужны были Турции, и что с ними делать, хозяева попросту не знали. По крайней мере до конца войны.
Разобраться в этом помог случай. Где-то в начале сорок пятого в тюрьме объявили карантин. Прошел слух, что в городе выявлены очаги холеры, что заболел холерой чуть ли не сам начальник тюрьмы. Галач, закончивший почти три курса мединститута и соображавший кое-что в бациллах и вибрионах, передал через охранника начальнику тюрьмы, что знает, как не дать развиться болезни. Вскоре Галача вызвали к начальнику тюрьмы. Перед ним сидел большой толстый турок, явно здоровый, но мнительный.
– Скажи, как избавиться от холеры? Мне сказали, что ты знаешь.
– Я знаю кое-что о том, как не заболеть, но если болезнь дошла до определенной стадии, я не в силах…
– Я не болен, но я боюсь заболеть.
– Есть одно препятствие, вы мусульманин и не пьете вина, а для того, чтобы не заболеть, надо пить в день пол-литра кислого молодого вина, кислая среда убивает вибрионы холеры.
– Откуда ты это знаешь?
– Учил в институте.
– Молодое вино – еще не вино, уходи.
Прошло, наверное, месяца два, и карантин сняли. Начальник тюрьмы не заболел. Но охранник, водивший Галача к нему, сказал, что каждый день их «башка» был немного навеселе. Галач понял, что тот пил тайком молодое вино весь этот месяц.
Как-то уже весной, когда даже в горах стало тепло, Галача, Семена и Артура вывели на прогулку почему-то вместе, и у самого низкого спуска стены охранник шепнул Галачу:
– Бегите, через лес, через эту гору, там не потеряетесь… Никто вас не тронет и стрелять не будет.
«Убьют, – подумали одновременно все трое, – провокация». Но Галач вспомнил хитрые и одобряющие глаза «выздоровевшего» начальника тюрьмы и, не раздумывая, махнул через стену, а за ним Семен и Артур. Ни крика, ни выстрела, ни шума не последовало. Они рванули в лес, потом долго бежали и, наконец, уже медленней и уверенней пошли в горы. Через месяц они уже были в Болгарии, в партизанском отряде имени Василя Левски. Дав правдивые показания, они ждали решения своей судьбы. Но судьба решалась долго. Они достойно сражались, а после войны пробыли в Болгарии почти два года. Вернулись на родину только в сорок седьмом. И, конечно, попали в лапы госбезопасности, где их еще долго допрашивали, проверяли. Но пребывание их сначала в турецких тюрьмах, а потом в болгарском сопротивлении сделало свое дело. Вскоре их отпустили. Особенно подействовала справка, выданная командиром партизанского отряда. Заверенная треугольной печатью, она гласила: «Артур Семен Галачов воевал сумело с партизанов отрад против гитлеров солдатов 1943–1944. Ком. Стойко»…
Так иногда распоряжается судьба. До конца дней своих Галач знал, что все, к кому он собирался в гости, спрашивали: «Это какой Галач? Юра? Тот, у которого через всю правую щеку рваный шрам? Откуда он у него?» Но Галач не распространялся насчет шрама. Знали только посвященные.
Другая сторона
На переправе творилось невообразимое. Подводы, полуторки, пешие люди с узлами и детьми на руках валом валили на пристань, от которой отходили один за одним катера, паром, даже весельные лодки… Шла эвакуация из Керчи через пролив, соединяющий Азовское и Черное моря, на полу остров Тамань, в Краснодарский край, из которого можно было добраться железной дорогой до Урала и дальше… Немцы уже полностью заняли Крым и выдавливали последних военных и беженцев… Время от времени паром и все остальное плавающее бомбили, истребители расстреливали людей с воздуха. Стоял панический крик женщин и детей, рев животных, которых пытались взять с собой…
И, как всегда, был человек, ответственный за весь этот кошмар, пытавшийся помочь каждому и одновременно всем. Это был военный интендант Михаил Мешулом, точный и исполнительный, но, к сожалению, с трудом разбиравшийся в причинах стихийного бегства и не умевший управлять паническими настроениями… Он носился от объекта к объекту, от семьи к семье, а в мозгу его сидела только одна мысль: он еще не вывез свою семью – жену с тещей и двумя детьми – не только не переправил через пролив, но даже не доставил сюда, на переправу… Было холодно, ноябрьский дождь вспарывал воздух и ветром, смешанным с дымом, криками и слезами, швырял его в разные стороны.
Сзади незаметно подобралась черная эмка, из нее вышли два человека. Это были мужчины явно начальственного и надменного вида. Было видно, что в машине сидели женщины, дети, и она забита вещами…
– Интендант, нужен отдельный катер. Ты отвезешь наши семьи на ту сторону… А мы здесь кое-что доделаем и сразу вслед за вами…
– Не могу, моя семья еще дома, уже собранная. Я сейчас их привезу и тогда вместе…
– Никаких вместе, ты перевезешь только наши семьи. А мы заберем твоих, давай адрес!
– Нет, не могу…
– По закону военного времени сможешь… Или мы не про махнемся… Понял?
Мешулом начал метаться, чтобы найти выход, просил кого-то из легко раненых солдат сходить за семьей. Но никто не слышал и не слушал, а эти двое стояли над душой и стращали.
– Еще минута – и все твое отродье будет уничтожено, понял? Сказали же тебе, мы сами остаемся, заедем за ними, встречай нас на том берегу…
И Мешулом поверил. Быстро погрузили на подошедший пароходик две семьи с пожитками, и он как сопровождающий отбыл на берег Тамани.
Почти сутки прошли после переправы, но двух мужчин, которые, как оказалось, были какими-то крупными партийцами, все не было и не было… Наконец, на воде показались огоньки, и, к радости Мешулома, к небольшому причалу стала швартоваться лодка, в которой он увидел двух мужчин, чьих жен и детей он так неожиданно опекал.
«А где же мои? Наверное в лодке, на дне…» Но двое вышли, отряхнулись и на вопрос, где же его семья, ответили легко и просто:
– Да мы не успели заехать, там такое началось, еле ноги унесли… И Мешулом заорал на них матом:
– Как же вы могли, ироды, вашу мать, меня обмануть! Как же я теперь их перевезу, сволочи?
– А никак… И вообще… Арестовать его! – кивнули они двум подошедшим солдатам в фуражках с синими околышами.
– Отпустите! Я переберусь назад и попробую…
– Все, уже поздно…
И Мешулом увидел зарево над переправой, это подожгли цистерны с бензином, и последние беженцы были сброшены в огненную керченскую воду вместе с детьми и домашним скарбом…
Дали Мешулому десять лет по закону тройки без суда и следствия. Потом заменили на штрафбат.
Когда немцы заняли Керчь, всех евреев и крымчаков расстреляли в каменоломнях. В том числе и семью Мешулома.
Михаил прошел всю войну, штрафбат обошелся ему двумя ранениями, к счастью, не слишком серьезными. И все время он думал только о доме, о том, как не пришел за своей семьей. И надеялся на чудо. Но чуда не произошло. Все домашние его были расстреляны. И две маленькие дочки – Роза и Дора, и жена, и ее мама… Он узнал об этом из писем соседей. Когда возвращался домой, на станции Водопой вышел подышать и вдруг увидел двух своих «друзей» с переправы. Они тоже заметили его и узнали. Они везли свои семьи из эвакуации и были радостно оживлены и подвыпивши. Война закончена, все остались живы… Можно было и расслабиться. Однако, их насторожило то, что Мешулом знает о незавидном по ступке, совершенном тогда, четыре года назад, на переправе. Наверно, они были осведомлены и о всем произошедшем с оставшимися в городе крымчаками.
Мешулом залег на третью полку общего вагона и стал дожидаться знакомого подрагивания вагона, который будет означать движение домой, где его уже никто не ждал.
– Пошли, поговорим…
– О чем, вы уже сказали свое еще четыре года назад.
– Не болтай, слезай и пошли… Это приказ.
– Я уже демобилизованный, гражданский я…
– А мы и работаем по гражданским… С военными, сам знаешь, не наработаешься, они сейчас победители, обнаглели… Да и ты тоже…
Втроем вышли в тамбур. Двое начали стращать Мешулома.
– Ты уедешь из нашего города! Через час мы приезжаем, даем тебе немного времени на то, чтобы сходить на место расстрела в катакомбы. И – ауфидерзейн. Мы поможем тебе убраться.
– Мне теперь уже все равно. Только пару часов дайте.
– Обещаем…
Мешулом теперь уже знал цену их обещаниям, но все равно деваться было некуда. Он пробыл в катакомбах почти полдня, потом побрел домой. Дом, как ни странно, пустовал. Он не заметил, как прошли и два, и три часа… Никто не приходил за ним, и он начал устраивать свою жизнь.
На переправе нашлось место паромщика, и он сознательно стал там работать, чтобы перед глазами стояла всегда та последняя ночь, когда у него еще была семья. Каждый раз, возвращаясь домой, он представлял, что его ждут, и будто ему откроет дверь жена и выбегут дети… Те двое все не шли, видно, опять забыли, как тогда, в сорок первом. А может, их перевели куда по работе? Срочно…
Однажды Мешулом сидел на пристани и тягал керченских бычков себе на ужин. А они были хороши, особенно обваленные в муке, поджаренные на постном масле. За его спиной выросли все те же двое. Они постарели, но в глазах были те же злые искорки.
– Ну как, бычки идут? На что? На блесну?
– Идут. Особенно на голодный желудок…
– Мы позволили тебе здесь работать, пожалели… Если бы не наши жены, узнавшие тебя и упросившие нас, все-таки ты их спас, то – пиши пропало…
– Что вам нужно сейчас от меня?
– Да есть идея прокатиться на катерочке по проливу. Как никак воскресенье…
– Да чего там, вон берите любой катер, если бензин найдете, и катайтесь… А у меня было ранение в правое плечо… Не могу править…
– Да мы и без тебя справимся, бензин возьмем из машины. Сейчас только погрузимся с семьями.
И они пошли в пакгауз и вытащили оттуда катер, в который могло поместиться только человека три. И Мешулом видел, как они сначала сели вдвоем, а затем посадили одну из жен, завели мотор и двинули против волны. Покатались с полчасика, вернулись и поменяли пассажирку. И снова начали кататься. Мешулом отвернулся и перестал интересоваться их культурным отдыхом. И вдруг неожиданный взрыв всколыхнул и причал, и море, и Мешулом увидел, что катер взлетел на воздух. И он услышал только два крика. Один с берега от оставшейся на пристани жены, другой из воды. Тоже женский. Он понял, что она тонет, а мужчин просто не стало. И он бросился в воду, доплыл до тонувшей и стал спасать ее. И спас, вытащив на берег. На пристани стояли, крик, плач. На спасенной, как ни странно, не было ни царапины. А вот на воде все увидели два трупа, вокруг которых вода была окровавлена, и они уже начали погружаться глубже и глубже…
Мешулом ничего не мог понять. Приехали военные, пожарные, милиция, начали всех допрашивать. Мешулома, конечно же, арестовали. Началось следствие. В конце концов нашли куски дерева от деревянного катера, пробитые осколками мины. Немецкой. То ли она была заложена в катере еще с войны, то ли болталась в воде с тех же пор… Мешулома отпустили. Он долго еще работал на переправе, и каждый раз почтительно здоровался с двумя пожилыми женщинами, приходившими к проливу посмотреть на воду, бросить цветы и поплакать. Но ничего в душе Мешулома не шевелилось…
Учитель физики
Наш Илья Соломоныч Хондо, непомерно толстый и совершенно седой в свои сорок с небольшим, стоял у классной доски и орал на ученицу по кличке Белогвардейщина:
– Девочка, ты же тупая! Не можешь понять третий закон Ньютона – так вызубри его…
– Я учила…
– Учила-учила, дай твою руку! – опять нервно закричал Илья Соломоныч.
Белогвардейщина протянула руку, и Илья Соломоныч, встряхнув на своей толстой пухлой ладони ее беленькую пухлую ладошку, изо всей силы ударил по ней. Белогвардейщина вскрикнула, а он радостно заорал:
– Ааа, больно?
– Даааааа, – заныла Белогвардейщина.
– Вот, что я говорил?..
– Ньютон говорил, Илья Соломоныч, – вставил хорошист Хорьков.
– Да? Встать… в угол! Да-да, – опомнился Илья Соломоныч, – Ньютон, когда яблоко ему на голову…
– Да нет же, это про всемир… – опять вставил хорошист.
– Так тебе больно, девочка?
– Да-а, – уже со слезами протянула Белогвардейщина…
– Так вот, с какой силой я ударил тебя по ладони, с такой же и ты ударила меня… Что из этого следует?
– Я учила…
– Так что следует? – грозно посмотрел на девочку Илья Соломоныч… – Девочка, ты же тупая! Так слушай внимательно: сила действия равна силе противодействия, поняла?
– Я учила…
Я сидел и слушал этот незлобный разговор ученицы и учителя, видел, как Илья Соломоныч все время полуулыбался и, конечно, не хотел ставить Белогвардейщине двойку, а хотел вытянуть из нее хотя бы троечку. Я все больше понимал, как мало мы знаем о тех, кто нас не только учит годами, но и живет рядом. И действительно, почему он такой седой? Ну, воевал… Мой отец тоже воевал, но…
В это время в класс ввели Лариску Ломброзо, ученицу, которую хотели исключить из школы за «аморалку», потому что ее поймали в подвале для стрельбы с двоечником Фуки, по слухам, чуть ли не в момент поцелуя…
В классе повисла тишина, но Илья Соломоныч прервал Ларискино виртуозное молчание и вызвал ее к доске.
– Так, девочка, тебя не было месяц, а как у тебя с электричеством?
Лариска встала из-за парты вся такая чистенькая и ладненькая и как врезала по току, синусам и косинусам:
– Ток течет в проводнике из-за разности потенциалов, движение электронов обусловлено напряжением. Сопротивление, которое испытывают электроны, обозначают буквой «Р». Отношение напряжения и сопротивления дает ток в цепи, обозначаемое «У»…
– Вот так-то, Чирков и компания, – сказал Илья Соломоныч, потирая руки. – Девочка не ходила месяц в школу, и что мы видим? Садись, Ломброзо, пять…
– В нашу школу, – пиликнул наш хохмач и троечник Чирков.
– Что? – проревел Илья Соломоныч…
В это время подо мной треснул и развалился стул, и я рухнул на пол.
– Собрать стул вне класса, – сказал мне Илья Соломоныч.
Я унес старые деревянные кости в соседний пустой класс, кое-как собрал стул и принес его назад. Стул шатался.
– Так, ты собрал стул, но сидеть на нем невозможно. Завтра принесешь новый стул или соберешь как следует старый.
Я, естественно, не сделал этого. И на каждом уроке физики Илья Соломоныч торжественно, медленно шел в конец класса, брал искореженный стул, так же медленно нес его через весь класс назад, ставил на кафедру, философски молчал и потом говорил:
– Вот! Он починил стул…
Затем нес его так же медленно в конец класса и продолжал урок. И так целый месяц. Он доконал меня. Наконец, я свистнул в другом классе похожий стул и подменил его, выбросив останки старого на мусор.
Илья Соломоныч пришел в класс на урок физики, посмотрел на стул и водрузил его, как нахохлившегося орла, на кафедру.
– Вот! Он украл стул. Но дело не в стуле, а в том, что на том, старом, еще сидели в нашем кабинете Менделеев и Курчатов, наши выдающиеся ученые… А мальчик не захотел сидеть на нем. Он не будет великим ученым…
– А на каком стуле сидели вы, Илья Соломоныч? – прервал его с ехидцей в голосе Чирик.
Илья Соломоныч как-то аж задохнулся, умолк, затем тихо сказал:
– Чирков, я сидел там, где надо было…
Но вообще-то Илья Соломоныч был добрым и незлопамятным человеком, и уже через пять минут его белые от мела руки летали по доске, выводя решение задачки. Он так увлекался, что рубашка его, расстегиваясь на нижней пуговице, открывала испачканный мелом живот. Он был фанатиком своего предмета и требовал того же от учеников. Но когда он понимал, что дело безнадежно, то просто тянул ученика, что бы тот получил проходной балл для аттестата.
Так случилось и с нашим штатным хохмачем Чирковым, когда тот, влюбившись в Лариску Ломброзо, выучил наизусть устройство трансформатора. Как-то Чирик сам попросился ответить на вопрос об устройстве этого сложного зверя.
– Ты, конечно, Чирков, ни черта в этом не соображаешь, – сказал смиренно наш учитель.
– Нет, я могу ответить. – Чирик вышел к доске и с блеском рассказал классу, как работает трансформатор.
– Я потрясен! Деточка, ты влюбился! – сказал Илья Соломоныч.
– Да, в трансформатор, – отшутился Чирик, хотя наш учитель физики попал в точку.
С тех пор Чирик стал признанным знатоком трансформаторного устройства. Но и Илья Соломоныч, зная такому знанию цену, все же тянул ученика за эту хрупкую соломинку. На выпускных экзаменах, когда Чирик взял билет, он, обращаясь к комиссии, сказал под одобрительные кивки уставших учителей и представителей гороно:
– А может, деточка, ты нам про устройство трансформа тора расскажешь?
– Трансформатор, – гордо начал Чирик…
И таким образом избежал даже тройки по физике в аттестате. Правда, когда он попробовал поступить в институт и на вступительном экзамене, где уже не было Ильи Соломоныча, попытался рассказать о трансформаторе, его оборвали:
– Абитуриент, но у вас же в билете этого нет. Двойка… Только после нескольких лет я узнал, почему Илья Соломоныч был при его молодости совершенно седым.
Мы тогда вообще не очень интересовались, кто какой национальности. Нет, уличная шпана, конечно же, дразнила нас по разному, мы обижались, но в школе… Все были равны. А особенно учителя. Это потом, когда я стал взрослым, мне почти случайно удалось узнать, что Илья Соломоныч был крымчаком итальянского происхождения. Их считали евреями, особенно после того, как Сталин в тридцатых годах сказал примерно так:
– Есть греки, Айвазян – художник-армянин, понимаю. Кто такие крымчаки, кто такие караимы – не знаю… Все евреи… одной национальности…
Это отдалило исследование вопроса о самоидентификации всех малых народов Тавриды в научном смысле на десятки лет, примерно до середины шестидесятых…
Так вот, когда началась Вторая мировая война, еще совсем молодого солдата Илью Хондо забрали в армию и отправили на флот в Севастополь. Когда немцы уже приближались к Крыму, он на полуторке приехал в Симферополь домой и сказал отцу, матери, своим младшим брату и сестре и бабушке, что приехал, чтобы отвезти всех на железнодорожную станцию для эвакуации за Урал. По сведениям военных, немцы будут расстреливать всех людей иудейской веры, как они изгоняли евреев из Германии и создавали гетто в Польше, и по всей Европе… Бедные старики, и им не хотелось никуда, не хотелось менять образ жизни. И самое главное – никто не верил. Отец уверенно сказал старшему сыну:
– Илья, я воевал в четырнадцатом году против кайзера. Они не расстреливали не только евреев, но даже пленных… Этого не может быть…
Илья Соломонович уговаривал свою семью целый день, приводил примеры из десяти последних лет германской действительности, говорил о протестах великого Эйнштейна и Чарли Чаплина. Но отец настаивал:
– Это же цивилизованная нация! А это все – наша пропаганда… Ну, в общем, к ночи Илья Соломоныч уехал назад в Севастополь.
После обороны Севастополя в сорок втором году и его сдачи он был переброшен в Новороссийск, а оттуда на Северный флот. Связи с домом прервались. После войны, в сорок пятом, он вернулся в Крым и сразу же с вокзала пришел в свой дом. Но там жили другие люди. Они рассказали ему, что всю его семью немцы расстреляли на десятом километре под Симферополем еще в декабре 41-го. Илья Соломоныч просидел в палисаднике два дня и две ночи. И все думал, думал, корил себя… Утром следующего дня он пошел ополоснуть лицо к умывальнику и увидел свое отражение в небольшом зеркале. Он стал совершенно седым.
Запах чабреца и моря
1
Авва уснула рядом со мной, так что я и не услышал. Боясь разбудить ее, я стал рассматривать ее нос с маленькими чуть-чуть опухшими ноздрями, сквозь который во сне без звучно втягивался воздух. Горбинка носа напоминала мне римских красавиц, а у подножия росла тонкая трава страстных женских усиков, переходящих в плавный персиковый шелк щек, скул и подбородка. Я затаил дыхание, она вздохнула во сне и повернула лицо ко мне. Ресницы, как пальцы рук, сошлись в разочарованном жесте навсегда вместе, и на них можно было уложить, как в детстве, полкоробка спичек… Страх, боязнь ее неслышного посапывания, сна смерти, в котором я видел ее глубокие яблоки глаз под задернутыми покрывалами век. Казалось, яблоки плавали на поверхности бездонного озера, покачиваясь, медленно вращаясь вокруг своей оси. Я закрыл глаза – она исчезла. Я открыл – она была рядом. Я боялся своего дыхания, кашля, чтобы не разбудить ее: тот, кто прерывает сон, разрушает невидимый мир, вторую жизнь, не принадлежащую нам…
2
Она была так легка и носила такие легкие одежды, что я за метил: легкость одежд – это признак роскоши. Однажды птицы унесли ее белье, которое она сушила на веревках в своем июньском саду. Ее бабушка, сидевшая целыми днями на солнышке у крыльца, видела последнюю птицу, уносившую шелковую рубашку своей внучки в клюве, сплюнув деревянную прищепку наземь. И все, кто вышел на крик старухи, видели исчезавшие в прозрачности неба лифчики, кружавчатые трусики и шелковые черные чулочки… «У меня будет легкая смерть», – сказала бабушка и тихо попросила домашних готовить ее к небытию… В конце июля начал облетать абрикос прямо на крышу, скатываясь на цементную дорожку. Уже подгнившие плоды, пуская сок, становились незаметными и скользкими. На один из таких плодов наступила бабушка, упала и мгновенно умерла…
3
Никогда я не видел такой гордой скорби на лице. Авва не плакала, не причитала, не бросалась вослед своей второй матери. Она просто молчала. Лицо ее застыло. Это была скульптурная красота. Остановившаяся. Каждую секунду можно было при этом видеть иные выражения. Лицо думало, страдало, просветлялось. Потом оно успокоилось. Она успокоилась. Я молчал, ибо глупость живых не перевесит мудрости мертвых или сострадающих им. Потом все вернулось на свое место, и я любовался ее подвижностью, движением, боясь приблизиться к ней, разбить маску, сделанную из всяких огуречных и клубничных соков, – ее можно было нюхать, ею можно было восторгаться, но прикоснуться…
4
Как-то я ладонью дотронулся до лица Аввы, и оно рассыпалось. Я видел, как начали облетать ее густые гусеничные ресницы, щеки опадать, глаза западать под самые брови, а грудь растеклась, словно песчаные холмы под дождем. И я понял, что с такой женщиной нужно жить, не трогая ее, вернее трогая, но не касаясь сущности. Я отворачивал лицо и видел еще больше – губы утончались до ненависти, зубы обнажались до боли. Она была сплошной обнаженной болью, и нужно было всегда жить с нею лицо в лицо, глаза в глаза… Я посмотрел на нее: все было на месте – губы, глаза, щеки, ресницы… Все только в твоем понимании. Старинные настенные часы можно завести только их родным ключом. Так и здесь – магическое воздействие не властно над ней, над ее лицевыми нервами и мышцами спины…
5
Часто я вздрагиваю в толпе, вдруг видя ее лицо. Авва?.. Нет, не она. Похожа, но лицо слишком обыденное. В ее лице было что-то неправильное: нос кривоват, рот немного под углом. Но в целом это все двигалось, перемещалось, светилось каждой черточкой, так что я не мог запомнить его. Все время вспоминал, оно то ускользало, то приближалось… Глаза так цеплялись за все вокруг, что оставались следы, как будто это после шальных выстрелов по стенам домов. Она всегда уходила. Я наконец понял, что несмотря на то, что знал ее много лет, я так и не смог прочитать ее тайные манускрипты, не предназначенные, возможно, никому из мужчин нашей жизни. Их семья была древнего испанского рода, из Галисии. Вероятно, бежав от инквизиции четыре столетия назад, они оказались в Крыму. Иногда Авва делала такие движения, которых я никогда не видел у других. Например, трогала лопатку дальней рукой через спину – нет, чтобы той рукой, что поближе. Откуда это у нее? От кого?
6
Наконец, по мнению всех родственников, настала пора выдавать Авву замуж. Тогда пришел маклер и сказал:
– У меня есть хороший жених для нее, он торгует мясом на базаре. А что? Девочка всегда будет сыта, по крайней мере, никто не будет в лабазе подсовывать ей хрящи и кости для веса.
Мясник пришел назавтра вечером, и она страшно понравилась ему. И он понравился родственникам. Но ей не понравился.
– Что же мы с тобой будем делать?
– А ничего, – ответила Авва и, резко раскрыв окно в сад, стала вслушиваться в шумящую глубину…
Назавтра в семействе была паника. С мясом тогда было хуже, чем с красавицами. Но они не унывали.
– Выдадим ее за сына портного.
Портной был приглашен на чай вместе с отцом. У обоих от привычки держать булавки в углу рта замечалась легкая кривизна губ.
– Так чем вы занимаетесь, девочка?
– Переводами с испанского.
– Это как?
– Ну, они пишут на родном испанском, а я перевожу на русский.
– Это как? – не понял старик портной. – Все равно, что я перелицовываю костюм?
– Нет, папа, это совсем другое. Это как художник-костюмер, он рисует то, что заказали.
– Перевод – это как я, – сказала Авва, – снаружи белая, а изнутри красная, все разное и все одинаковое.
– Ну да, подкладка, – сказал жених…
Авва усмехнулась. И портные ушли…
7
Следующим был сын банкира. Он также пришел с папой. Авва вышла в гостиную в сиреневом шелковом платье с кружевами под горло и на запястьях. Села к столу и стала прислушиваться к разговорам.
– Нет, двадцать – это мало.
– Пятьдесят – это много.
– Разделим? У меня есть дом и земля.
– Но мы банкиры, деньги сейчас превыше всего, особенно перед войной.
– Как раз наоборот, – ответил дедушка, – Деньги хорошо горят в камине, а земля, даже если дом сгорит, остается на месте.
Авва сидела и смотрела в зеркальный стол, в котором отражались только три головы. Жених даже не оглянулся в ее сторону.
– Румынских солдат уже видели на окраине города, – сказал банкир. – Мы переводим наше состояние в Чикаго. Уже перевели.
– Так зачем вам моя внучка?
– Нам нужна крымчачка испанского происхождения, сами понимаете. Она станет свидетельницей того, что мы пострадали, вернее пострадаем. Хотите в этом участвовать? Не прогадаете…
– Вон отсюда! – взбесился дед.
Сын банкира допил кофе, посмотрел удивленно на Авву и медленно ушел, поддерживая отца за локоть. Он был высок, опрятен и только все время поплевывал на пальцы правой руки, словно готовясь каждую секунду пересчитывать купюры.
8
Авва загрустила. Она надеялась на случай. Хотя никакого замужества не предполагала. Она думала, что в городе может появиться юноша или молодой мужчина, который очарует ее. Все, что было вокруг до этого, не впечатляло. Все, кого приводили родственники. Ее трясло от этих портных, банкиров, мясников, маклеров, кровельщиков. В них, на ее взгляд, не было ничего мужского, кроме штанов, кошельков и ухмылочек. Неимоверная эротическая сила исходила от нее, а не от них. Мать и отец, умершие рано, не могли повлиять на нее.
Дедушка, воспитывавший Авву, берег ее и слушался ее чувства. Только однажды Авва встрепенулась, все ее нутро поднялось и ноздри утончились от сверхглубокого дыхания. Запах овечьей шкуры, горного чабреца, вкус молодого медузного моря донесся до ее встрепенувшейся кожи. Она обернулась и увидела юношу, спустившегося в дом дедушки, чтобы при нести корзину из виноградников, наполненную разноцветными гроздьями, поверх которых лежало белое большое яблоко, бумажный ранет, и пахло тонко и жгуче. Это был один из рабочих, нанятых на сезон…
– Какая ты кривоносая и красивая. Дай напиться воды, Авва.
Она напоила его. Они стали почти каждый день скрываться в самой дальней комнате большого дома, прижатого к самому морю с одной стороны и к горе с другой… Так продолжалось месяца два, и вдруг Ашер, так звали юношу, исчез. Авва спросила у деда:
– А куда подевался этот парень, Ашер?
– Девочка, ты и не заметила от счастья, что началась война и его ночью забрали на фронт. Впереди много горя, немцы уже подошли к нашей земле.
– Куда его забрали? У меня будет от него ребенок. Дед даже не удивился и сказал:
– Война, девочка. Сейчас всех вас, детей, надо спасать. Надо уезжать, хотя уже поездом поздно, вот только если морем…
9
В мае месяце сорок четвертого Авва вернулась в дом дедушки, в их семейный дом. Он был заколочен и пуст. Соседей никого не было. В брошенных домах жили другие люди. Никто ничего не знал, никто ничего не говорил. Авва с трехлетним сыном начала приводить дом в порядок. Люди не заходили ни на огонек, ни за спичками, ни за солью. Как то ее позвали в поселковый совет и рассказали, что всех домашних расстреляли где-то под Симферополем еще в со рок первом, в декабре…
Авва проплакала всю ночь, затем и всю неделю, вспоминая всех. Дедушка успел отправить ее в Новороссийск, от куда она уехала под Оренбург, в Чкаловск, там родила, устроилась работать санитаркой. Семья, приютившая ее в эвакуации, была бедной, доброй, русской. Хозяин ушел на фронт с первых же дней. И каждый день они жили в ожидании хотя бы строчки от него. Авва уехала назад, так и не узнав, вернулся ли он. Теперь она написала им письмо с приглашением пожить у моря и поинтересовалась судьбой их отца. Но ответа не было и не было. Вернувшись домой через десятки поездов и станций, Авва пошла работать в госпиталь медсестрой, где долечивались или умирали военные летчики. Она жалела их, но ни один не перевернул ее нутра так, как это сделал обыкновенный парень, взятый на сезонную работу, Ашер. Маленький Ашер был похож на отца, но даже от него не исходил запах, такой же, как в тот день, когда Авва впервые увидела его отца, – горный чабрец, море, овечья шкура…
10
Авва налаживала быт большого выстуженного дома, ухаживала за садом. Маленький Ашер ковырялся рядом с ней, но никогда она больше не ощущала своими тонкими ноздрями того уже почти забытого ошеломления, которое внес с собой отец Ашера. Запах горного чабреца, морской соленой влажности, бумажного ранета и молодой мужской плоти, валящим с ног свежим и страстным потом. Все реже ее покалывало чувство завораживающей боли там, внизу живота. Она всеми своими клеточками поняла, что в ней поселилось живое существо, которое все больше разрасталось внутри и наконец начало вырываться наружу, чтобы навсегда привязать ее к миру.
«Неужели одно приходит, а другое уходит, – думала Авва, – и между ними даже духовная связь исчезает?»
Дом становился все уютней, сад с подбеленными от червей стволами все сильней напоминал о вернувшемся мире, а в ее душе покоя не было. Да еще пустынность их городка и проплывавшие на горизонте пароходы, ухающие сычами, навевали мысли о другом мире, где все не так скудно, не так безысходно. Боже, где все ее ухажеры, все эти мясники, банкиры и портные? Она ни о чем не жалела, просто мир сжался, стал пустынным. Война просочилась во все расщелины и взорвала их изнутри. Иногда Авва просыпалась от запахов Ашера, тревоживших память, и долго не могла уснуть, прислушиваясь к равномерным ударам прибоя, не совпадавшим с ударами ее сердца…
11
Прошло примерно года два. Приморский городок стал расти, вставать на ноги. Время бежало вслед морским волнам, уходившим вдоль берега. Авва бродила по склонам собственного сада, подбирала упавшие яблоки, груши и укладывала их на веранде для сушки. На следующий день ее потянуло в комиссионный магазин, чтобы купить себе что-нибудь на зиму. Она долго перебирала поношенные вещи на сиротливых вешалках, и вдруг в нос ударил все тот же душераздирающий запах, запах Ашера. Это было полупальто, не то женское, не то мужское, но вполне подходившее Авве по размеру. Больше всего ее поразил вернувшийся запах. Когда Авва принесла полупальто домой и примерила, вглядываясь в овал зеркального шкафа, она вдруг под подкладкой рукава нащупала что-то твердое и увесистое, тут же вспорола пальто, и из него выпал перстень. Это был золотой семейный перстень, который Авва подарила Ашеру за день или два до нежданного расставанья. Откуда и как он оказался здесь? Авва тут же вернулась в магазин подержанных вещей, и там ей объяснили, что это полупальто попало к ним еще в декабре сорок первого от немцев, расстрелявших крымчаков на десятом километре Феодосийского шоссе, – они спешили и, расстреливая людей, снимали только верхние одежды. Люди думали, что их собирали в гетто, и прятали домашние украшения и монеты в одежды, кто куда мог…
– Все, – сказала Авва, – дальше не надо, я все поняла… Ашер… Они убили его. Убили, иначе как в этом пальто оказался бы ее перстень?
Внутри все опало, она с трудом добралась домой и долго ревела – они убили, убили его. Она уткнулась лицом в ароматы горного чабреца, молодого моря, бумажного ранета и уснула под утро от холода, втягивая в себя во сне родные запахи…
12
Прошло несколько лет. Авва не переставала думать о том, что случилось. Если бы это случилось на войне, а так… что же это такое? Людей забивали, как скот… И никого нет, куда подевались все папины и мамины друзья, дедушка и его друзья, все мои родственники, все эти Дормидоры, Конорто, Мешуломы, Зенгины, Анджелы, Ломброзо? Словно целый мир ушел в никуда. Прибывшие в Крым после войны люди были из разных областей, но пришлым была чужда эта сухая, но и плодоносящая земля, они не знали, как с ней обращаться. Татар тоже не стало в один день… Однако запах горного чабреца, моря и рассыпчатых бледных яблок настаивался в доме все сильней и не давал забыть недавнее прошлое. Все, Ашер уже не вернется. Если только вместе со всеми, но вместе со всеми он уже был… Как-то поздней осенью после пятьдесят третьего года с моря понесло еще сильней запахом медуз, водорослей, а с гор, примыкавших к дому – чабрецом, дыханием чабанского костерка и, конечно же, грушами, яблоками и забродившим виноградом… Авва задвигалась по комнате, лицо ее, еще не подернутое морщинками, потянулось к свету, чтобы посмотреть через окно в сторону моря, на причал. К нему швартовался небольшой баркас с моторчиком, и в миг, когда баркас коснулся привязанных старых шин, на причал спрыгнул мужчина в сером бумазейном пиджаке и белых парусиновых брюках, придерживая на одном плече небольшой рюкзак, и тут же быстро пошел в сторону ее дома. Младший Ашер сказал:
– Папа приехал, я знал, что он сегодня приедет: птицы срывали с бельевых веревок постиранные тобой простыни, чтобы унести в небо, но не сорвали!
Авва сидела неподвижно, когда вошел Ашер…
13
– Я пролежал весь вечер среди убитых, присыпанный землей, с пробитым насквозь пулей плечом. Ночью я выбрался из могилы и уполз в лес. К счастью, всю ночь лил ледяной дождь, собаки не брали след. Оттуда к партизанам… Потом – всю войну в пехоте… Дважды не убивают. Еще тогда особисты интересовались, как это я остался жить, когда все убиты, наверное кого-то выдал немцам? Я ничего не смог доказать. И перед самым Днем Победы меня отправили в лагеря. Ну вот и все. Теперь я здесь, Авва.
– Не здесь, а дома, – сказала Авва и положила перед ним на стол перстень.
– Как ты его нашла? – вскрикнул Ашер.
– Я была все время с тобой, я все знала…
– Еле налез, пальцы огрубели.
– Это золото дважды выходило из земли, как и ты, оно тоже огрубело, но скоро все станет на место, Ашер… А пахнет от тебя… Как тогда…
11 декабря 1941 года
– Деда, куда мы идем?
– Не плачь, погулять…
– А почему все плачут вокруг?
– Им больно…
– Отчего?
– Туфли жмут, не плачь, успокойся…
– Что, жмут всем сразу?
– Да…
– А почему небо такое серое?
– Хочет укрыть нас облаками, не плачь…
– А солнышко куда подевалось?
– Его кто-то кисточкой размазал, когда рисовал этот день, не плачь.
– Плохой художник, правда?
– Не плачь, дай обниму покрепче…
– А ветер почему холодный такой?
– Он сам замерзает еще со вчера, не плачь…
– А мама почему так плачет, она что, маленькая?
– Да, очень маленькая, еще меньше тебя…
– И папа?
– И папа меньше меня…
– А он почему не плачет?
– Чтобы ты не боялась, успокойся, не плачь…
– А куда мы идем?
– На расстрел…
– А что такое «нарастрел»?
– Это такое действие, не плачь…
– Какое действие?
– Когда одни делают вид, что стреляют, а другие делают вид, что падают и умирают, не плачь…
– Это похоже на сказку, да?
– Да, похоже на сказку…
– А что будет после «нарастрела»?
– Пойдем домой, не плачь….
– А завтра что будет?
– Пойдем с тобой в парк погулять, не плачь…
– И солнце появится, небо раскроется, и ветер утихнет, и потеплеет?
– Конечно, не плачь…
– И я вырасту и стану большой как это дерево?..
– Да, только корнями вверх, не плачь…
– Как это корнями вверх? Не хочу…
– Теперь это все равно, не плачь…А то выплачешь все свои слезы и нечем будет плакать потом, после жизни…
– А как это после жизни?
– Солнце нельзя растворить, небо покрыть облаками, и вместе никто не плачет и никто никого не ведет на расстрел…
– А нас куда ведут?
– Нас никто не ведет, это мы сами гуляем, прижмись ко мне посильней и глазами смотри мне в глаза…
«Шел дождь со снегом. Крымский, нудный, беспросветный. Такой обычно бывает в декабре. Перед противотанковым рвом, выдолбленным жителями Симферополя между июлем и сентябрем 41 года, на деревянных подиумах стояли недалеко друг от друга три станковых пулемета. Они стреляли почти бесперебойно и на них выталкивали людей, раздетых почти до гола. Стоял крик, плач, проклятия, мольбы… Многие молчали, обезумевшие. Немного в стороне чернела кучка нацистского начальства. Наблюдали. Немцы были все пьяные и постоянно прикладывались к бутылкам. Даже звери не вынесли бы такого без шнапса или водки…»
Это рассказывал таксист с багровым склеротичным лицом, лет около шестидесяти.
«Мне было тогда лет десять, мы жили рядом, в деревне Мазанка и с пацанами часто выходили на Феодосийское шоссе посмотреть на немецкие «Опель-капитаны» и грузовые военные машины, на проползающие иногда танки, колонны немецких и румынских солдат… Вообще мы бегали и ползали в окрестностях нашей деревни повсюду. Жизнь наша была однообразна, и мы искали всегда чего-то, необычного что ли… Ну вот так, однажды, я один пошел к своему другу в деревню, на другую сторону дороги и скрылся от холодного дождя в кустарнике. Метрах в трехстах от шоссе вдруг увидел вереницу подъезжавших со стороны Симферополя немецких грузовиков с кузовами, покрытыми брезентом. Грузовики остановились на правой стороне дороги, против движения, и из них стали выталкивать людей и гнать ко рву… На какое-то время все стихло, а потом я услышал крики, стрельбу, пулеметные очереди. Я попытался перебежать к другим кустам поближе, но видимо меня заметили, и автоматная очередь чуть не вспорола мне брюхо… Я затаился и мне удалось по позже убежать в перелесок. Разглядеть, что происходит было трудно, но было ясно, что там расстреливали людей. Грузовики с людьми все прибывали и прибывали, возвращаясь в город пустыми… Крики и рев были слышны и отсюда. Были видны и гестаповцы, полицаи в гражданском, с повязками на руках. К вечеру я вернулся потрясенный домой, где мне рассказали, что там расстреливали евреев и крымчаков. Даже нашу соседку крымчачку забрали…
Нас не выпускали на улицу, и все ставни в домах были наглухо закрыты, но те, кто выходил на двор – слышали три дня подряд пулеметную стрельбу и крики вдалеке… Долго после этого мы боялись подойти ко рву. Взрослые рассказывали, что кто-то из деревенских подползал ко рву вечером, дня через два или три после того, как перестали слышаться выстрелы и плач, – они слышали в морозной тишине стоны, доносившиеся из-под земли… Только месяца через два, в конце января, мы, несколько мальчишек из Мазанки пошли днем туда, на ров. Там было все присыпано землей и снегом, но в некоторых местах были видны тела убитых. Мы испугались и убежали домой… Помню: в деревне говорили о том, что кое-кто спасся, отлежав раненным и присыпанным землей. А наша крымчачка, по-моему ее фамилия была Гурджи, и вовсе сбежала. Но в деревню никого не приняли – побоялись. Поэтому, куда исчезли спасшиеся – не знаю…»
Немецкие войска заняли Крым к осени сорок первого года. В это же время сразу же началась подготовка акций геноцида крымчаков и евреев. Повсюду в городах были расклеены на стенах, заборах, на афишных тумбах листовки, сообщавшие, что все крымчаки должны зарегистрироваться для отправки в Бессарабию, якобы из-за нехватки в Крыму продовольствия для мирного населения. Затем последовали новые призывы: они должны были взять с собой все самое необходимое и собраться в нескольких местах. К примеру, в Симферополе – в Семинарском сквере в центре города, на улице Студенческой в старом городе… По дворам ездили немецкие бортовые машины и собирали крымчаков по дворам. Люди чувствовали беду: плакали, прощались, провожали соседей, как родных. Женщины, старики, дети… Почти все мужчины были призваны в армию в начале войны.
Варварское уничтожение крымчаков немцами произошло недалеко от Карасубазара, на повороте дороги на Исткут. Это было одно из первых испытаний машин-душегубок. Газ поступал в кабину с людьми от работы двигателя. Свидетели рассказывали: когда душегубки поехали на большой скорости, то газ не успевал поступать в камеры, и моторы заглохли. Люди вырывались из душегубок, но их добивали из автоматов. Палачи недоуменно говорили: «Мы хотели как лучше, на скорости, чтоб скорее задохнулись…»
Массовый расстрел у рва был совершен сразу через месяц-полтора после карасубазарского. Было казнено около восьми тысяч крымчаков и около четырех тысяч евреев. Потом прошли расстрелы в Феодосии, Ялте. После июля сорок второго, когда пал Севастополь, то же самое произошло и там. Даже поступок одного из авторитетнейших крымчаков Исаака Кая из Керчи, пришедшего в гестапо и попытавшегося доказать своими опубликованными статьями тюркское происхождение крымчаков, смог вероятно только приостановить расстрелы на время. Педантичное гестапо отправило запрос чуть ли не в канцелярию Гиммлера по статьям Исаака Кая. Но ответ был неутешительным. Расстрелы возобновились. Исаак Кая посмел сказать о том, что негоже армии воевать с мирными жителями, – как евреями так и крымчаками. «Расстреливаем именно потому, что вы одной иудейской веры, а не разного происхождения», – так ответили Исааку Кая.
Кстати, он чудом уцелел и умер только через несколько лет после войны.
Из тех, кто вырвался из рва и спасся, никого конечно нет сейчас в живых. Но в разговорах крымчаки передают друг другу некоторые подробности, услышанные от переживших этот ад. Говорят, что немцы приказали раздеть девочку лет пяти перед расстрелом. Кто-то из своих крымчаков предложил все же набросить ей на плечи хотя бы платок… Холодно…
И сказала девочка
Страница молчания
Творец наш, Создатель, Бог отцов наших! Прости нам прегрешения наши, дай нам силы творить добро, сохранить наши обычаи, язык, доставшиеся нам от древних времен.
Аминь!Творец наш! В эти черные и трудные дни пусть каждая родная душа, друг или близкие, найдут в нашем крымчацком доме веру и надежду. Помоги нам обрести светлую дорогу и увидеть счастливые дни. Да будет судьба к нам благосклонна, и наши дети и внуки увидят лучшие времена.
Аминь!Вразуми нас всегда помнить об ушедших от нас в лучший мир, вспоминать в молитвах своих покойных отцов, матерей, дедушек и бабушек, братьев и сестер всех своих родных и близких. Пусть души их молятся за нас.
Аминь!Мертвым покой, живым милосердие.
Аминь!
Листая небеса
(Эпилог)
1
20 апреля 1986 года на военном аэродроме недалеко от Симферополя приземлился самолет. Из него вышли несколько человек. Судя по осанкам, походкам и озабоченности – все они были очень важными персонами. И действительно, встретившие их военные в чине генералов и полковников, немного посовещавшись недалеко от взлетно-посадочной полосы, повели их к черным «Волгам». И стаей, машин в десять, без сопровождения, разгоняя всех своими сигналами и крутыми номерами, помчались вокруг города по объездной, прямо на Феодосийское шоссе, на десятый километр от губернского города. Съехав на обочину, машины раскрылись, как черные божьи коровки, и гости пошли прямо в поле. Пройдя метров сто, они увидели ужасающую картину. Бывший противотанковый ров, на краю которого во время войны с 11 по 13 декабря 1941 года были расстреляны немцами около тринадцати тысяч человек – среди них восемь тысяч крымчаков, около четырех тысяч евреев – был в свежих ямах и раскопах…
Видно преступники ушли по домам совсем недавно, ранним утром.
Захоронения после фашистского расстрела практически не было. Убитых кое-как перезахоронили сразу после войны родственники и городские власти. Воспользовавшись доступностью к довольно глубокому рву и погребенным, гробокопатели варварски разграбили это место. И более того, было очевидно, что кощунственное глумление шло постоянно и продолжалось каждую ночь. Причем недалеко от поста автоинспекции…
Здесь добывали золото, ушедшее в землю вместе с расстрелянными людьми. Кольца, сережки, монисты, николаевские червонцы, перстни… В общем, все то семейное золото, которое отцы и матери дарили детям на свадьбы, мужья своим любимым женам, а бабушки и дедушки любимым внукам… Все то золото, которое в самые трудные времена менялось на хлеб или крупу, чтобы спасти семьи…
Орудия преступников – веревки, лестницы, кирки, лопаты валялись тут и там у глубоких лазов под землю. Человеческие кости и черепа, местами еще не истлевшие из-за низины и сырости, женские волосы… Все это было на виду, не далеко от дороги… Стояла апрельская, уже настоящая жара, и все, кто стоял и видел все это, достали носовые платки, прикрывая дыхание…
Видно, что гробокопатели работали только под покровом темноты с фонариками, всюду было пустынно, только по серой шоссейке невдалеке мелькали туда-сюда машины.
Группа московских чиновников рассматривала фотографии – как бы сравнивая то, что было запечатлено на них, с тем, что было наяву – и после этого, вернувшись к машинам, немедленно отправилась в обком партии. На три часа дня было назначено экстренное заседание бюро, на которое примчались наместники со всех точек Крыма. Затем на стол были брошены фотографии и был задан вопрос: «Что у вас здесь происходит?»
Это была комиссия из столицы. Когда в ответ начались всевозможные «мм», да «вы понимаете», то было объявлено что «мы только что с десятого километра Феодосийского шоссе и все видели своими глазами…»
2
И началось, как это бывает у нас всегда. Сняли с работы двадцать партийных и советских работников. Стрелочников. На фотографиях, которые были сделаны месяца за два до этого, увидели тех, кто по их мнению и был виноват в случившейся утечке информации, что и стало причиной их неожиданных проблем. А на раскопках были запечатлены поэт Андрей Вознесенский, адвокат Владимир Зубарев и ваш покорный слуга… Фотографировал мой друг, Аркадий Левин. И мы вместе с Вознесенским еще в начале апреля отвезли фотографии в Москву. Андрей постарался, чтобы они попали в руки Александра Николаевича Яковлева… Если бы не он, я вообще не знаю как повернулось бы дело, ибо в Москве, на Старой площади, несмотря на наступивший период горбачевской гласности, не все разделяли мнение, что надо открыто говорить о геноциде крымчаков в 1941 году, совершенного немцами, и преступлениях, совершенных гробокопателями в советское время… Но было поздно, эпоха начала перестройки грянула так, что эта история долетела и до всех ведущих американских газет. «Нью-Йорк таймс», «Бостон Глоб», «Вашингтон пост» уже напечатали статьи о преступлениях на 10 километре. И начал работать принцип домино. Я был приглашен на прием к секретарю обкома партии по идеологии, и он заявил, что я предал Родину, Крым, и вообще, почему это я не сообщил ему об этих вопиющих фактах, а донес в Москву. Страсти накалялись, дело дошло до мата и шестичасового разговора при отключенных телефонах, разговор шел мужской, хотя с его стороны во всем сквозила демагогия. «А то вы не знали? А что мы можем сделать, нужен миллион рублей, чтобы закрыть вопрос…» Надо сказать, что именно этот секретарь потом успешно с помощью Москвы решит проблему 10 километра… Но пока… Войти я никуда не мог, мне в лицо слышались оскорбления, конечно же от сторонников наказанных. За мной начали ходить по пятам кгбэшники, встречать меня на стадионе и запугивать. Чего же хотели они? Я не знал тогда, что там были убиты крымчаки, в том числе и мои родственники по линии мамы, я думал что это были евреи расстреляны… Да какая разница! И в конце концов, под трибуной тогдашнего стадиона Авангард, где я сотни раз готовился к игре за родную «Таврию», в раздевалке, чекисты сказали мне, что я могу искупить свою вину перед Родиной, если повлияю на Вознесенского, чтобы он при публикации в журнале «Юность» своей поэмы «Ров», не писал, что там были расстреляны евреи. «А кто же?» – спросил я. «Советские граждане», – тупо ответили мне. «Уже поздно, – сказал я, – да я и не хочу этого делать, надо сказать правду». «Ну, смотри…» – злобно сказали мне и как всегда тихо исчезли.
Мне было не просто трудно. Невыносимо. В Москве тому же Яковлеву стало известно, что меня «прессуют» в Крыму. После этого стало полегче. Интересно, что цензура при публикации поэмы тоже не пропускала «граждан еврейской национальности», и до подписания в печать так и стояло «советских граждан». Но в самый последний момент Андрей Вознесенский исправил как было на самом деле. Поэма шокировала даже перестроечное общество и евреев. Стала в дальнейшем своеобразным литературным памятником для сообщества крымчаков.
В это же время приезжает из Америки в Москву автор знаменитого романа «Рэгтайм», напечатанного в «Иностранной литературе», в переводе Василия Аксенова, Эдгар Лоурэнс Доктороу. Он был тогда впервые в нашей стране и, узнав из газет об истории гробокопателей, пожелал со мною встретится и прилетел в Крым. Жарким июльским вечером 86 года года я поехал в Ялту с Анатолием Домбровским, писателем и философом. И он, помню, сказал: «Оглянись Саня…». Я оглянулся. За нашей старенькой «волжанкой» ползли три черных «Волги» с номерами КГБ. Переводчиком нашей беседы был подполковник в штатском, и если бы Доктороу узнал об этом, то думаю – упал бы в обморок.
Когда я похвалил его роман «Рэгтайм» и особенно перевод Василия Аксенова, то подполковник строго и тихо заметил мне: «Такие ремарки не нужны», а я ответил: «Сейчас я по-английски скажу Доктороу, какой Ремарк вы». И он заткнулся… (Имя Вас. Аксенова было запрещено из-за лишения его гражданства в 1980 г.).
Мне заказали материал для «Огонька»: беседа с Доктороу «Мифы реальности». Но и он не был напечатан, несмотря на все старания Виталия Коротича. Даже ему, тогдашнему фавориту гласности, заявили: «Это не санкционированная беседа». Фотографии выкрали на почте, за текст меня обвинили в апартеиде из-за сказанного вместе с американцем, что «мораль современного человека сравнима с моралью неандертальца». Словно это не так… В общем, обложили со всех сторон… Да и гробокопатели не оставляли в покое, позванивали не весело. Хотя издалека.
Много было чего… Один из нынешних борцов за русскую национальную идею публично обвинил меня, что я выступаю под лозунгами Российской империи, в частности, использую для этого символ двуглавого орла. Смешно, потому что я как-то и впрямь выступал на малой сцене драмтеатра, а вверху надо мной висели за поднятыми занавесями декорации для вечернего спектакля «Белая гвардия» Булгакова…
Были и, конечно, счастливые исключения во всей этой разнузданности и нервотрепке. Как-то открываю газету «Известия», где было напечатано интервью с Валерием Лобановским накануне отъезда сборной страны на Чемпионат мира по футболу. А его авторитет тогда был повыше авторитета генсека, особенно в глазах народа. И спрашивает у него корреспондент Николай Боднарук:
– Что вы, Валерий Васильевич, можете сказать о футболистах вообще? Кто они – дураки или умные?
Ну примерно так. И Лобан, – представьте себе, что это тогда означало для меня, – Лобан отвечает:
– Да по разному бывает, вот был такой хороший футболист Александр Ткаченко, а сейчас я знаю, что он стал хорошим поэтом…
Все, это был удар в «девятку». Утром я иду в Симферополе по Пушкинской, по нашему «Броду», навстречу мне кто-то из обкомовских работничков. И ко мне. А я от него, а он опять ко мне, а я делаю вид, что не замечаю… Наконец стоим лицом к лицу, и он елейно:
– Поздравляю, только тихо… тихосенько… ладно?
Долго я потом внутренне благодарил Лобана и думал: «Ну как же это он вспомнил меня в такой момент, на пике своей славы и жизненном переполохе? Ну, было, встречались на поле, потом как-то в Киеве книжку ему свою подарил…»
Но жизнь всегда богаче и сложнее, чем мы думаем. Совсем недавно, ну лет пят назад, я вошел в одну из московских газет, если не изменяет память – в «Общую газету», и меня подзывает в баре тот самый Николай Боднарук и говорит:
– Не хочешь ли прямо сейчас поставить мне большую бутылку джина «Бифитер» за то, что я тебе расскажу?..
– Ну, – говорю, – конечно…
Так вот: оказывается, Николай Боднарук знал о моих не приятностях и, когда делал интервью с Лобановским, то спросил его:
– Вы, Валерий Васильевич, помните такого игрочка…
– Да, а что?
– Да, вот… ему сейчас трудновато там, в Крыму, и надо бы поддержать парня… Лобановский незамедлительно ответил:
– Нет вопросов, делаем сейчас же, в этом интервью.
Так что не только великим тренером был Валерий Васильевич…
3
Почему так много золота оказалось под землей на месте массовых расстрелов в 41-ом, и откуда об этом потом узнали? Ответ довольно прост. При расстрелах присутствовали полицаи из числа местных жителей, которые получили по тридцать лет лагерей за сотрудничество с фашистами. Вернувшись, они шепнули: «Копайте, там есть золото». Из истории известно, что немцы перед расстрелами полностью раздевали свои жертвы, перед этим обобрав до последнего. Здесь же, на 10 км, они почему-то спешили… Есть много версий, одна из них говорит, что вражеская разведка узнала о предстоящем керченско-феодосийском десанте. Именно здесь они расстреливали людей в исподнем, предварительно заставив снимать только верхнюю одежду. Свидетели на судах, из числа полицаев, говорили о горах пальто, тулупов, шуб, курток, которые немцы сдавали потом в комиссионки по всему Крыму. Иногда человек, купивший верхнюю одежду, чувствовал, что в рукаве что-то зашито, вскрывал и находил там золотую монету, кольцо или старинный перстень…
Но самый верный источник – люди – говорят: семейное золото пряталось только в крайних ситуациях в нижнее белье. Так вот: в этом случае перстни и кольца вероятно в спешке не снимались. Коронки и золотые мосты… Вот и получалось, что бывший полицай, после трагедии, через сорок лет, просидев ночь с молотком, отверткой и ножичком в смертельном забое среди человеческих трупов доставал золото и сдавал в скупку на 70–80 тысяч рублей. Тогда это были громадные деньги. Причем далеко не ходил, а шел в городские ювелирные магазины, и там же у него это принимали. В частности, в ювелирном магазине на улице Карла Маркса, в Симферополе… Когда я листал одно из уголовных дел о преступлениях гробокопателей, я видел эти украшения. Это были вещественные доказательства: золотые монисто, перстни, обручальные кольца, подаренные крымчачкам их мужьями, которые они с гордостью носили. Были там и сбитые золотые коронки, монеты всех времен, больше конечно царских, николаевских…
Как же это могло случиться с советскими, самыми нравственными, морально-кодексными и пионер-комсомольскими членами общества?
Говорят, что египетские пирамиды грабили с момента окончания их возведения, но прошло с тех времен более пяти тысяч лет. Неужели мораль и нравственность остались на месте и среди людей есть просто животные, которые полезут грабить мертвых, не помня ни о Боге, ни о страхе, ни о чем… Значит все они: и те, которые грабили, расстреливали в 41-ом и грабили в восьмидесятых – одни и те же недочеловеки, зверье… К ним присоединяются еще и те, кто попустительствовал этому, да потом еще и потирал руки: мол, мало их еще постреляли…
…Какое общество мы породили, что в нем смог выжить этот смертоносный ген?
4
Были ли повязаны руководители области с преступниками? Законный вопрос. Думаю что нет, не были, ибо несколько лет продолжались эти вопиющие безобразия, и никто не остановил варваров. Хотя, на первый взгляд ничего сложного: поставь охрану, если нет возможности укрыть мертвых от живых… Знали? Да, конечно… А что же тогда? Почему? А просто инертность и попустительство. Молчаливое согласие…
И еще, страх: ведь не дай бог кто-то узнал бы о тайной связи какого-нибудь ответственного работника с гробокопателями и что с ним, как теперь говорят, «делятся». Но вот ничего не делать, или делать вид, что ничего не происходит – это и есть настоящее преступление. Да еще знание того, что там были расстреляны евреи и крымчаки. Такой скрытый, внутренний антисемитизм, роднящий отдельных людей с нацистами. Хотя, честно говоря, могилы русских на военных кладбищах прибраны тоже кое-как… Это ментальность. Живи пока живется, а после смерти «хоб шо»… Безбожие и воинствующий атеизм. Моральное и нравственное уродство. Даже в заповедях Чингизхана была сентенция: «сидящий у трупа неприкосновенен», а что уже говорить о могилах и о прахе родственников? Нравственность не имеет фундаментальных корней в обществах, где интересы одной нации ставятся выше интересов другой. Особенно, если это интересы малых национальностей и народностей. Незащищенность и преследование крымчаков прослеживается на протяжении всей их истории как и евреев, их единоверцев. Они пережили вместе всю «беду»: и принцип оседлости, и погромы…
Большой народ, большая нация, на мой взгляд, должна быть ответственна как за свою сохранность, так и за сохранность любого народа, его языка и культуры, живущего в поле его политического пространства. Все человечество – это многообразие, это приток малых речек в магистральное течение и в то же время заполнение периферийных сосудов и альвеол влагой большой жизни. Все это должно работать по принципу сообщающихся сосудов… Многое мы потеряли в двадцатом веке на пути прогресса… Особенно того, что уже невосстановимо. А это целая вселенная… И дело совсем не в физических размерах больших или малых народов.
5
Это не рок, не судьба, это преступление на все времена, из которых выпал целый народ с его историей, культурой. Так уничтожались крымчаки. Прошедшие долгий путь от девяти десятков дворов в Карасубазаре в XIII–XV веках примерно до 10–12 тысяч человек к началу тысяча девятьсот сороковых. Сейчас их осталось всего несколько сотен. А было бы к настоящему времени около 25–30 тысяч человек, если бы…
История не терпит сослагательного наклонения. Так говорят. И это страшная правда. Скоро крымчаков не будет вообще. Есть такая точка в каждом небольшом народе, после которой ему уже не восстановиться биологически. Конечно он останется, растворившись в других людях, но этих и этого уже не будет…
Тогда же в 86-м я узнал от следователей, что среди гробокопателей не было ни одного симферопольца. Мародеры были отовсюду, даже с Камчатки специально прилетали… Интересно, что же остановило своих, городских? Мистический страх? Страх мести хозяина судеб? Загадка… Все больше верится, что крымчаки – мистический народ. Посмотрите как все сплетено в этом крымчакско-крымском узле. Единственная коренная нация от названия земли КРЫМчаки. Аборигены? Аборигены…
Слово Тафре древнегреческое, из него сформировалось Тавр, Таврия, что означает РОВ. Далее. Само слово Крым произошло от тюркского КЕРИМ. Века проглотили смягчающее Е. КЕРИМ – значит КРЫМ, в переводе тоже означает РОВ. И что же получается?
В 41-ом фашисты почти всех крымчаков расстреляли у рва и уложили в… ров… Судьба? Рок? Ров… Ответа нет. Никто из ученых или просто думающих людей не ответил мне на этот вопрос, вопрос о таком трагическом совпадении… Мистика? Может быть…
6
Теперь надо было все-таки как следует спрятать мертвых от живых. Встал вопрос, – как всех несчастных перезахоронить? Была создана, как всегда, комиссия. И она начала склоняться к тому, чтобы всех похоронить в одной могиле. «По-братски», – кто-то сказал… Вот это по-советски: все братья теперь после смерти, это можно объявить, этим можно гордиться. Как гордились в то же самое время героической борьбой со смертью в Чернобыле…
Слава богу – сработало благоразумие московских кураторов нового на тот момент мышления, которые рявкнули: «Люди должны быть похоронены там, где они были зверски убиты. И чтобы памятник был с точной адресностью на надгробии». Инженеры работали, архитекторы, шутка ли укрыть почти тринадцать тысяч убитых в зэт-ообразном противотанковом рву общей длиной около семи километров да так, чтобы ни одна сволочь не смогла подобраться к до сих пор не упокоенным… Стройка длилась месяца два. Оцепление. Милиция. Военные. Бедные крымчаки, бедны евреи и все остальные… Знали бы они о своей судьбе после «нарастрела»… Из Инкермана шли траки с толстенным дольменным камнем и по всем рву было устроено П-образное укрытие с углублением в самом основании рва. Под ним и были похоронены люди. Затем каменное сооружение было засыпано землей, по ней уложили бетонное покрытие и, пока еще оно не застыло, вдавили в сырую твердеющую массу толстую железную сетку. Все это было засыпано землей и разглажено. Люди посеяли траву и цветы. Маки… И назвали – «Поле памяти». Все, теперь уже никто и никогда не сможет проникнуть туда, к несчастному золоту наших предков, к несчастным, упокоившимся наконец, душам… Теперь есть место, куда можно прийти и принести цветы. И помолиться.
Каждый год 11 декабря на десятом километре Феодосийского шоссе Крымское общество «Кърымчахлар» устраивает «тъкун», день поминовения всех крымчаков, убитых немцами в декабре месяце 1941 года.
Послесловие автора
Я вырос в крымчакской среде. Папа был русским, мама крымчачкой. Папа родом с Волги, из-под Царицына, мама, Ольга Зенгина, по отцу и матери родом из Карасубазара. Естественно, что мамина половина была превалирующей в на шей большой послевоенной семье. Бабушка, две маминых сестры и дядя, двоюродные мамины братья и сестры, дядья и племянники… Конечно же, уклад быта был смешанным и не чисто крымчакским. Хотя кухня была крымчакской, а мама со своими сестрами разговаривали между собой иногда на странном тогда для меня языке. Часто смеясь и отправляя меня погулять, они говорили:
– Иди, погуляй во дворе, а то от тебя большой «аликет» в доме, шум.
Когда приезжали наши родственники издалека и всех становилось слишком много, – было великим счастьем спать вместе на полу, на расстеленных больших одеялах… Центральное место между двух улиц, где мы все жили, занимала, конечно, бабушка. Все проходило через нее. Бабушка Бася была тогда уже совсем старой и скрюченной, но хорошо все соображала и помнила.
– Царь Николай проезжал через Ак-Мечеть в Ливадию, и мы девочки бросали цветы ему на дорога. Красивая была, с бородка… И жена, он тоже красавец был…
Я смеялся и говорил бабушке:
– Не красавец, а красивая…
– А… какой разница, лишь бы красавец была.
Так она, путая падежи, говорила по-русски. Но для меня самое главное было то, что у нее всегда для меня был спрятан, как для любимого внука, помятый или сложенный в несколько раз большой дореформенный рубль, который она доставала неизвестно откуда при моем появлении и тайно от всех отдавала его мне со словами:
– Возьми рубчик. Купи себе курабье или микадо…
Она всегда была опрятна, сидела в тени дома на маленькой табуретке и покорно ждала первых, кто придет с работы или просто так… Хоронили ее, как я помню, уже не по-крымчакски, а просто, как было у всех тогда принято, вероятно, по христианским обычаям. Ее маленькое, почти кукольное ссохшееся тело в маленьком гробу поставили на так называемую тогда «линейку», упряжку с лошадью и повозкой с железными крыльями и подножками для ездока и ездоков, покрытую посередине домашним ковром. Затем повезли медленно на старое городское кладбище, где и похоронили тихо… Лет через пятнадцать кладбище снесли военные для своих нужд… И могила ее исчезла бесследно, навсегда.
Надо сказать, что тогда вообще для нас вопрос нашей национальности был далеко не на первом месте. Начиная со школы. Хотя, конечно, пацаны постарше на улице могли обозвать как угодно. И вообще, то что я был наполовину крымчаком, не было определяющим. Как всякого смуглого или черноволосого могли назвать с презрением жиденком, и это было непонятно и обидно… Но лично для меня вопрос о моей национальности закончился тогда, когда я начал играть в футбол за детскую команду – это у меня стало здорово получаться. Во всем городе стали называть меня просто «черным», и то случайно, потому что я тренировался у моего любимого тренера Василь Никитича Тихонова в черной футболке, черных гетрах и черных трусах. Да, я знал, что у меня в классе учились крымчаки: Лариса Валит, Лариса Ломброзо, Генка Дормидор… Но тогда они все между всеми не крымчаками считались просто евреями, хотя по большому счету никого это не интересовало. Мы дружили все и, повторяю, национальный вопрос не был в шестидесятых годах таким острым. Многое конечно скрывалось, сглаживалось, меня, мальчика, это не интересовало, и я думал, что кубэтэ, чоче, икру из печеных баклажанов с домашним творогом и ушки едят в каждом крымском доме. Хотя это было не так… И вообще нас настраивали, что все мы равны, национально одинаковы, и русский язык, на котором говорили тогда все, нас мирил и действительно уравнивал. О выселенном крымско-татарском народе мы, малолетки, ничего не знали, да и тема эта была практически запрещенной… Но со временем что-то стало все же происходить. В 1968 году маму, у которой в паспорте в графе национальность было написано, что она еврейка, вызвали в милицию и поменяли паспорт. В графе национальность поставили крымчачка. И объяснили: где-то какие-то ученые доказали, что есть действительно такая отдельная нация – крымчаки. А мама и не возражала, поскольку она-то точно знала, что была крымчачкой. На мне это никак не отразилось, поскольку в шестнадцать лет я получил паспорт как русский, по отцу, да и вся культура, и школьная и дальнейшая, была русской, и этого было предостаточно. Тем более, все старшее поколение помнит, какой внутренний антисемитизм был тогда, ибо он диктовался государством. Все помнят, как трудно было поступить в определенное время и в институт, и на хорошую работу… Но крымчаки-то были… Были караимы, греки, армяне, русские, украинцы, потом вернулись татары. И когда грянула история с гробокопателями в 1986 году, я уже знал, что там были расстреляны немцами в 1941 году евреи. Мама к этому времени уже умерла, я сам друзей-крымчаков почти не имел и вскоре вообще укатил жить и работать в Москву. И только потом узнал, что на 10 километре были расстреляны вместе с евреями почти все крымчаки, что фашисты совершили геноцид крымчакского народа, который уже никогда не сможет восстановить свой генофонд…
Так кто же мы такие и откуда, крымчаки? Я, хотя и наполовину крымчак, стал думать о том, как же это так? Жил народ веками и практически ничего от него не останется: ни книг, ни картин… Моя книга написана на основании элементов остаточной памяти. Все исчезает, растворяется. Сама жизнь уходит, утекает, как вода меж ладоней, но остаются те клетки памяти, выращивая которые можно восстановить прошлую жизнь. Потому что духовная составляющая, духовный опыт жив, пока остается жить хотя бы один человек той или другой уходящей народности, нации. В частности, крымчаков. Из тех капелек, которые мне накапали крымчаки, я и постарался создать простую и в то же время высокую повседневность их жизни. И конечно без претензий на всеобъемлемость и универсальность. Это только мой взгляд. Как могли бы быть и тысячи других…
Теперь я уже немного представляю, кто такие крымчаки, ибо часть крови во мне крымчакская, и я чувствую тональность людей, событий, характеров, их отношений… Понимаю, но больше чувствую.
Самое поразительное в крымчаках – это невероятная смесь тюркского происхождения и иудейской веры. Это очень добрые, смирные, трудолюбивые, слегка амбициозные, способные люди… Хотя происхождение крымчаков, на мой взгляд, поливалентно. И исходит оно от поливалентности самого Крымского полуострова и самой привходящей в него жизни.
У меня сложилось впечатление и нарисовались картины, объяснявшие появление крымчаков или племен, из которых вышли крымчаки, начиная с того момента, когда они вместе с аланами, готами, бродившими по пустынным степям, добрались до моря. В Крым приходили племена-завоеватели и, пробыв там несколько столетий, выбивались завоевателями другими. Но часть населения всегда оставалась. Эти остатки и формировали коренное население Крыма, беспечно смешиваясь, размножаясь и, как ни странно, никогда не воюя между собой. Войну и разор в Крым приносили только пришельцы. Так, в конце седьмого века в Крым ворвались хазарские племена, основав мощнейшее государство Хазарский каганат, изгнав при этом пришедших в упадок гуннов после гибели их вождя Атиллы в 455 году. Сам же Хазарский каганат пал в конце десятого века под ударами половцев и печенегов, а затем уже и россов… Все помнят с детства: «Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам». Это именно то. Затем тринадцатый век, когда Золотая орда полностью завоевала Крым, образовав Крымское ханство со столицей в Бахчисарае, навсегда привязав крымско-татарский народ к полуострову.
Собственно, люди приходили, уходили, но часть из них оседала навсегда в Крыму. Как они ассимилировались, как они этнически определяли себя и идентифицировали, сказать практически невозможно, если, конечно, не учесть основные признаки: язык, веру, место проживания, обычаи, происхождение, симпатии в конце концов… Часто я рисовал себе, особенно перед сном, картины прихода в Крым, в частности, хазар…
Полчища хазарских всадников на полном скаку остановились у тракта, рассекавшего южную таврическую степь надвое – с севера на юг. За ними, еле успевая и наезжая на задние ряды воинов, наползала целая армия обозников с женами и детьми, стадами овец, коз и коров, живыми и мертвыми предками… Над летней преющей от жары степью стояли гул, топот и храп лошадей, гортанные крики погонщиков скота, скрип и скрежет колесных телег, вопли детей и шиканье женщин… Вдруг все смолкло, солнце стало садиться, и в этой тишине послышался голос самого первого всадника, очевидно, одного из первых каганов….
– Массагеты теснят нас на запад, а я знаю, что еще три дня и три ночи такой скачки ни лошади, ни наш народ не вы держат, и мы все поляжем замертво в раскаленной жаровне этого поля. Но самое главное: впереди нас ждут горы, отделяющие восточный мир от западного. Мы никогда не преодолеем их и умрем не вершинах, как мухи на сахарных головках… Здесь есть юрты кочевников, и я спрашиваю их, держа шеи под ятаганом:
– Что ждет нас на севере, если мы повернем на север? Кочевники прохрипели:
– Россы с укреплениями от рек до морей, а главное – холод и снег. И вы, если не погибнете от пик и стрел муссагетов, то умрете от холодного степного ветра и снега…
– Что ждет нас на юге, если мы повернем на юг?
– На юге, если скакать две ночи и два дня, оторванная земля и теплое море. Но сначала вам нужно будет перейти вброд керим. Слева вы увидите гнилое море и белое от соли и справа вы увидите гнилое море и белое от соли. Но армии можно пройти через тонкую землю, паря почти над водой. И вы войдете в каменный мешок, который укроет вас… Оторванная земля… Это оторванная земля большой степи от Алтая, Гималаев и Тибета до Карпат и Балкан. Керим, Крым… Никто не знает, кроме нас, что там за рвом. Десятки греческих городов, словно лягушки, сидят по берегам моря, но в центре пусто, степь и благодатная земля. Если будете скакать прямо после рва два дня и полночи, то окажетесь у моря. Если будете скакать день налево, то тоже упретесь в море. И то же самое будет, если двинетесь направо… Оторванная земля… Вы спасете свой народ и накормите… Все, кто поворачивал свою судьбу в этот каменный мешок, оттуда не возвращался. Значит, там можно жить…
– Отрубить им головы, – приказал первый каган. – Никто не узнает, какой дорогой мы ушли, а муссагетов пустим по ложному пути… Конница Ахмадея идет одна, на запад, а все остальные за мной поворачивают на юг…
И десяток голов кочевников полетели на землю, к копытам задастых и гибких коней полководцев, сохраняя в мертвой памяти топот и гул, женские крики и плач детей, плотный храп полузагнанных лошадей, поворачивающих целой армией хазар на юг, в сторону моря, в сторону оторванной земли…
Или другой вид пришествия в Крым отдельных переселенцев из Италии, Турции, Испании, Вавилонии, которые впоследствии ассимилировались на крымчакской почве или какой другой… Почему именно крымчакской или какой другой? Большая загадка. По вере? По этнической близости? По языку? Просто по протекции знакомых семей или слухам о том, что Крым был мирным и неголодным краем? Может быть… Все может быть. Тем более, что Европа середины второго тысячелетия, начиная со средневековья, была неспокойным местом.
Максимильян Волошин определял Крым «каменным мешком, в который все приходили и никто из него не уходил». Представляю и этот другой капиллярный способ проникновения в Крым людей из разных миров через море, «шелковый путь». Близость с Италией, с генуэзцами оставила до сих пор в Феодосии, Судаке и Балаклаве развалины мощных крепостей и конечно же крымчаков итальянского происхождения. Так же близки были и поэтому рассеивали своих людей Израиль, Греция, Грузия, Испания, Турция…
Чайки вскрикивали при каждом уходе с гребня высокой волны в морскую падь большого, входящего в феодосийский порт парохода. Он простоял на рейде больше трех дней и ночей и не мог пришвартоваться из-за осеннего шторма. Наконец, с утра четвертого дня ожидания, море успокоилось, однако не настолько, чтобы пароход смог совсем спокойно подойти к причалу. Он пришел вероятно издалека, ибо его изрядно потрепало, и имел он иностранный вид: не то испанский с тяжелой неповоротливой кормой, не то пузатый, итальянский… В Феодосию довольно часто заходили не объявленные никакими сообщениями или расписаниями корабли, но порт принимал всех, кроме тех, кто грозил пушками или имел агрессивные намерения, проще говоря, грабителей или пиратов. Вскоре с земли стал различим испанский флаг на вершине небольшой мачты над капитанской рубкой. И на морском языке стало понятно, что гость пришел из Барселоны через Геную, Истанбул и был полон беженцев и пассажиров, которые перемещались в пространстве по воле судеб, желаний и неизбежностей. Когда «испанец» наконец зацепился толстыми канатами за толстенные чугунные тумбы и моряки стали медленно подтягивать его к поскрипывающему большому деревянному причалу, то стали видны лица людей на палубе. Они с тревогой всматривались всеми глазами в землю, которая должна стать им родной, если же конечно примет насовсем…
Люди всегда бежали по миру с насиженных мест в силу многих причин. Кто от пожаров, сжиравших их дома, кто от затянувшихся неурожаев, кто от погромов и войн, инквизиции, в конце концов от неудавшейся судьбы на своей бывшей родине в надежде построить другую жизнь на новой земле, дающей им приют.
Пароход после долгих стараний намертво приклеился к причалу, и по трапу стали спускаться пассажиры, изнуренные долгим путешествием по трем морям. Они были измученными, но все же довольными, поскольку достигли берега Крыма. Толпа на причале была разнородной: зеваки и полиция, возчики бричек и телег, ямщики карет и повозок, продавцы горячих чебуреков, караимских пирожков и чоче, жареных кефалей и судаков, долмы и катыка, холодной воды в кувшинах и конечно же душистых яблок и груш, винограда и бочек с вином на пробу и в розлив…
Сначала по трапу сходили женщины и дети. Детей матросы сносили на руках и ставили на деревянный причал, а они после многодневной качки сразу валились, отвыкнув от устойчивой земли. Тут же пограничный кордон и таможенники начинали обрабатывать прибывших из чужих земель. Отовсюду слышалось:
– Откуда? Где намерены жить? Постоянно? Что везете? Оружие?… Беженцы из Испании в эту комнату, из Италии беженцам ждать здесь. Из Турции ко мне, другие подождите немного…
– А это что у тебя такое тяжелое в мешке? – спросил таможенник на татарском у мужчины лет тридцати.
И тот, по всей видимости турок, с женой и двумя малыми детьми ответил ему по-турецки: «Это металлическая сапожная лапка, надеюсь, в Крыму сапоги и ботинки изнашиваются, как и у нас, в Истанбуле?»
– Давай, проходи, – рассмеялся служивый, голодать не будешь… Над пристанью стояли крики зазывал:
– Кому на Ахтиар! Кому на Карасубазар! Кому на Акме! Кому на Сурож…
И медленно, медленно к вечеру этот человеческий муравейник растащился по всем колесным причалам. И вот уже пристань опустела, и пароход выбросил несколько десятков испанских моряков, которые тут же двинулись по кабакам, кофейням и злачным местам в поисках вина, хорошей еды и женщин.
Беженцы, сбившись в компании по принципу «куда кому», а многие договорились еще в плавании, погрузив свои вещи на телеги и брички, медленно двинулись по пока еще сухим и каменистым дорогам своей новой родины…
Все было так и все не так. Никто не скажет точной правды. Но Крым был для больших государств всегда маленьким, а для маленьких большим. Отсюда и вечный вопрос о принадлежности кому-то. По-моему, неразрешимый. Одно знаю, что если бы Крыму был дан покой и относительная независимость, он был бы всегда той райской землей, какой она бывала время от времени, когда ее не теребили и не соблазняли. Целесообразность жизни всегда побеждала конструктивистские подходы пришлых народов, и Крым цвел, процветал, давал людям свои пляжи и виноградники, свое море, горы и степи… Крым всегда задавал много вопросов, но и всегда отвечал. Отвечал по сути одним очень точным важным ответом. Неважно, кто ты по национальности. Если ты чувствуешь себя жителем Крыма, ты им будешь, важно какой ты человек. Если ты ощущаешь себя крымчаком, значит ты и есть крымчак.
Детство с годами становится все ближе и ближе, и ты все больше грустишь по той забытости и запустению дома, в котором вырос, по морю, в котором обретал вселенскость.
Твое расширение, захват мира были естественными, и стеснение от собственных органичных, национальных проявлений скрывалось почти как физический врожденный изъян…
Все больше хотелось походить на всех, подражать великому и большому.
Время ставит все на свои места, и ты тянешься к истокам, корням, к тому пробелу недоразвитости врожденного чувства твоего, именно твоего колумбийства, англиканства, русскости и, конечно, крымчачества – маленького мира, но своего, малых привычек и столетних привязанностей через чувства своих соплеменников, неопределимых и может быть незамеченных со стороны, но своих, таких единственных и неповторимых.
Александр Ткаченко, поэт, прозаик. Автор 15 поэтических книг, а также книг прозы: «Футболь», «Левый полусладкий», «Женщины, которых мы не любим», «Париж – мой любимый жулик». Переводился на английский, французский, китайский, венгерский, финский и др. языки.
А. Ткаченко – вице-президент Русского ПЕН-центра.
Автор благодарит за помощь в создании книги «Сон Крымчака, или Оторванная земля» научных консультантов Давида Ильича Рэби, почетного академика Крымской академии наук и почетного председателя правления общества «Кърымчахлар», заслуженного работника культуры автономной республики Крым Юрия Моисеевича Пурима.
«Древняя молитва крымчаков» печатается в переводе с крымчацкого Давида Рэби.
Автор благодарит за помощь в создании книги крымчаков: Якова Мангупли, Дору Пиркову, Наталью Зенгин, Нину Бакши, Аркадия Ачкинази, Бориса Чолака, Марка Агатова, Галину Бакши, Якова и Зинаиду Шолом, а также сотрудниц Русского ПЕНцентра Марину Ядрову и Екатерину Турчанинову, сотрудницу Российского института культурологии Викторию Чистякову, а также заместителя генерального директора по научной работе Крымского республиканского краеведческого музея Елену Вишневскую, Крымский этнографический музей, в том числе Юлию Семеновну Вайсенгольц.
В оформлении книги использована литография Карло Боссоли (1815–1884) «Карасубазар», из фондов Крымского республиканского краеведческого музея